А.С. Канарский ДИАЛЕКТИКА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. ДИАЛЕКТИКА ЭСТЕТИЧЕСКОГО КАК ТЕОРИЯ ЧУВСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ
* * *
Считаю себя вправе сказать: это умная, серьезная и интересная книга, достойная внимания и размышлений.
Проблема, обозначенная в заглавии работы, принадлежит, несомненно, к числу фундаментальных и труднейших проблем, исследование которых требует не только серьезной теоретической подготовки, но и немалого интеллектуального мужества. Автор хорошо понимает эти трудности, умело и глубоко, с марксистских позиций вскрывает сложившиеся в нашей литературе противоречивые взгляды на феномен эстетического. Здесь убедительно показано, что сама возможность возникновения таких, казалось, несовместимых точек зрения заложена в остродиалектической природе предмета анализа, в самой сути исследуемого явления. Поэтому автор справедливо усматривает свою задачу в том, чтобы пристально проанализировать те общие условия и причины, на почве которых вообще возникает эстетический процесс как необходимый компонент и аспект человеческой культуры в целом.
Такой – предельно общий – план рассмотрения проблемы обусловил обостренный интерес автора к методологической стороне дела и потому приводит к необходимости проанализировать такие категории, как «потребность», «цель», «самоцель», «средство», «непосредственное», «образ», «целесообразное» и т.д. Может показаться, что автор уходит тут слишком далеко от предмета своего непосредственного исследования – явления эстетического как такового, слишком широко раздвигает рамки предмета эстетики. На наш взгляд, в этом проявляется как раз достоинство, как раз преимущество его подхода к проблеме. Уяснить сущность эстетического процесса невозможно, по-видимому, путем формального анализа налично данных эстетических явлений, уже сложившихся в готовом виде. Единственно верным путем является здесь поиск ответа на более содержательный вопрос: откуда и как возникает та своеобразная человеческая потребность, которая приводит позднее к появлению особой, относительно самостоятельной отрасли общественного производства, а именно – искусства? Автор убедительно и, на мой взгляд, совершенно верно показывает, что в формировании искусства следует видеть прежде всего процесс развития специфически человеческой чувственности в том широком смысле этого слова, который был придан ему в классической философской литературе, представленной именами Канта и Гегеля, Фейербаха и Чернышевского, и который отчетливо прочитывается в философских работах К. Маркса и Ф. Энгельса. Понимание активности искусства тем самым доводится до осмысления сущности человеческой восприимчивости, живого движения культуры, представленной как совокупность форм производства самого человека.
Здесь нет надобности в изложении целого ряда примечательных идей, которые читатель найдет в тексте работы. Хочу лишь отметить, что подобного рода исследования в эстетической науке крайне важны и необходимы.
Доктор философских наук
Э.В. Ильенков
ВВЕДЕНИЕ
«Размышляя о будущем, – отмечалось в докладе Л.И. Брежнева „Великий Октябрь и прогресс человечества“, – мы придаем большое значение науке. Ей предстоит внести огромный вклад в решение самых важных задач строительства коммунизма» [4, 14][1].
На данном этапе развития страны, подчеркивалось в Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду партии, потребность в дальнейшей творческой разработке теории не уменьшается, а, наоборот, становится еще большей [3, 72]. От состояния теории во многом зависит действенность практики коммунистического воспитания. А именно «здесь проходит очень важный фронт борьбы за коммунизм, и от наших побед на этом фронте будет все больше зависеть и ход экономического строительства, и социально-политическое развитие страны» [4,11].
Успешное разрешение разнообразных теоретических вопросов теснейшим образом связано с разработкой наиболее важных, фундаментальных проблем науки, составляющих методологический стержень построения специфических знаний. Каждая научная дисциплина имеет такого рода проблемы, и разработка их является очень ответственным делом. В эстетической науке одной из таких проблем, которая на протяжении уже многих лет привлекает самое пристальное внимание исследователей, является проблема эстетического, вопросы специфики эстетических отношений.
Такое внимание не случайно. В эстетике нет ни одного более-менее важного в теоретическом отношении вопроса, решение которого не упиралось бы в толкование существа эстетического, его природы и особенностей проявления. Так или иначе, любое исследование, осуществляющееся в границах эстетики как науки, не может не исходить из того или иного представления эстетического без того, чтобы не утерять специфику анализа, а тем самым и не допустить ошибки собственно методологического порядка. Это обстоятельство делает проблему эстетического одной из центральных в нашей науке, и обращение к ней всегда сопровождалось преодолением трудностей не только узкоспециального, но и общефилософского плана.
Толкованию эстетического посвящено огромное количество литературы. Объемность, многоплановость ее настолько значительна, что она сама уже нуждается в особом анализе и вполне заслуживает самостоятельного философского исследования.
Однако общий ее недостаток (при всем том, что в ней нашли освещение многие стороны проблемы, наметились точки зрения исследователей, сделано немало важных для эстетики выводов) остается все же ощутимым: бóльшая часть такой литературы крайне противоречива в специфически методологическом отношении, что не может не отражаться на понимании наиболее важных принципов подхода к эстетическому. Уже стало довольно-таки привычным сталкиваться с ситуацией, когда что ни исследователь – то своя концепция эстетического, свое толкование природы и закономерностей его проявления. Небезынтересно отметить, что даже программа по курсу основ марксистско-ленинской эстетики, учитывая, по-видимому, эту пестроту сложившихся взглядов на эстетическое, уже на протяжении многих лет не дает какого-либо однозначного толкования его сущности, а вместе с тем – и очень многих вопросов, которые так или иначе затрагивают эту сущность.
С этим, возможно, связаны и те потоки критической литературы, которые порой захлестывали существо проблемы, создавали вокруг нее ореол таинственности, вызывали не всегда необходимые и достаточно компетентные споры среди специалистов различных кругов.
Сегодня об эстетическом пишет и психолог, и кибернетик, и экономист, не говоря уже о философе или искусствоведе. И это в какой-то мере понятно. Активное вторжение прикладных областей эстетики в различные сферы жизнедеятельности людей так или иначе толкает и различных специалистов к занятию эстетической проблематикой. Однако вряд ли такое занятие может принести хорошие плоды без создания самими эстетиками единой научной теории эстетического, без выработки общих методологических основ его познания.
Разумеется, эта задача не под силу одному исследователю. Более того, уже своеобразная «популярность» проблемы и накопление литературы по ней делают самих эстетиков весьма осторожными в суждениях. И в самом деле, сегодня непредвзятому исследователю, понимающему всю сложность сложившихся обстоятельств в решении проблемы, очень трудно взять на себя смелость какого-то обобщенного толкования эстетического без угрозы быть заподозренным если не в излишнем абстрагировании, то просто в банальностях. Сложилось даже мнение, что позитивное решение нашей проблемы – это уже дело не столько самих эстетиков, сколько коллектива специалистов из самых различных областей знаний: психологов и физиологов, кибернетиков и искусствоведов и т.д.
Известная доля истины здесь есть. Однако, не отрицая роли других, в том числе и нефилософских, наук, было бы неоправданным не доверять самой эстетике в ее возможности вскрыть на должном уровне природу своего же понятия. Видимо, напротив, проблема эстетического как раз и остается той наиболее общей и специфической проблемой эстетической науки, условием решения которой является не столько узкий и частный, сколько предельно широкий к ней подход: осмысление основных понятий эстетики на категориальном уровне, раскрытие узловых моментов, принципов, законов движения эстетических знаний и обнаружение в них места и функций понятия эстетического.
Такой подход крайне необходим, и осуществить его очень важно. Конечно, известной доли абстрактности здесь не избежать. Но, с другой стороны, и имея дело с так называемым «конкретным аспектом» анализа проблемы (когда другой аспект относят на счет психолога или искусствоведа), вряд ли можно избежать интересующей нас постановки вопроса, так как на поверку всегда окажется, что определенным образом целостное, обобщенное представление эстетического уже с самого начала будет вводиться, хотя бы задним числом, в живой контекст решения задачи или во всяком случае как-то подразумеваться в ней.
С учетом этих обстоятельств определился и главный замысел данного исследования. Не стремясь к исчерпывающему анализу диалектики различных форм бытия эстетического (его проявлений в природе, обществе, искусстве), мы предприняли попытку рассмотрения его в определенной целостности, к тому же в том понимании его диалектического развития, в каком это последнее можно представить как завершенное в чувственном состоянии человека. Иными словами, задача сводилась к тому, чтобы осмыслить диалектику эстетического процесса как теорию познания феномена чувственного вообще, а тем самым – и как теорию развития, и как логику становления такого феномена. Выражаясь философским языком, представлялось важным осуществить сознательное применение известного в философии принципа совпадения диалектики, логики и теории познания к решению одного из частных, но по-своему фундаментальных вопросов эстетической науки.
Поставленная в таком виде задача исследования повлекла за собой и соответствующий способ ее решения.
Во-первых, в силу специфичности подхода уже с самого начала пришлось отказаться от деления диалектики на так называемую «объективную» и «субъективную», т.е. на диалектику эстетической вещи и диалектику восприятия (познания) этой вещи. На наш взгляд, подлинная диалектика эстетического – это естественный исторический (и практический) процесс перехода объективности чувственного явления в субъективное состояние, самочувствие человека, другими словами, – своеобразное «дооформление» бытия эстетического до уровня его завершения в человеческом переживании и утверждении.
Во-вторых, коль именно в таком переживании и утверждении эстетическое может быть понято как процесс, к тому же закономерный и действительно противоречивый, то только в такой форме его надлежало рассмотреть от начала и до конца.
Из этих соображений в исследовании опущены и всевозможные аспекты подхода к эстетическому – онтологический, гносеологический, аксиологический и др. Сохранить полноту и единое выражение диалектики в реальном эстетическом процессе можно лишь при условии сохранения ее в самой теории. Это означает, что если и можно было допускать ее какое-то деление или расчленение, то отнюдь не на пути обращения к различным сферам выявления эстетического или к различным аспектам ее описания, а на пути осмысления ее или как теории познания, или как логики, или как теории развития. Но, видимо, даже такое деление диалектики остается чисто условным. Ибо главное положено в необходимости сохранения самого принципа ее совпадения с теорией познания, теорией развития, логикой.
Насколько удалась поставленная задача – можно судить по попытке ее решения в предлагаемой части работы. Во всяком случае, практика современных исследований в эстетике настойчиво побуждает к самой постановке ее в указанном плане, с учетом того очень важного в методологическом отношении материала, который представлен философскими разработками материалистической диалектики как логики и марксистской теории познания.
ГЛАВА I. О МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧУВСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Проблема эстетического как проблема самоцельности чувственного
Сложно и многогранно человеческое чувственное состояние. Но в процессе, в живой смене этих состояний достаточно четко прослеживается и устойчивая особенность их проявления. Ни одно из таких состояний не может быть абсолютно оторванным от другого. В каждом из них отпечатывается и определенная мера небезразличия человека к предмету деятельности, и такая же мера небезразличия его к самому себе, к своему целостному представлению о жизни, смысле человеческого бытия. К тому же отношение к этому последнему всегда представлено в значении какого-то наиболее близкого и непосредственного интереса человека, так что в известном смысле можно всегда утверждать: даже в эмпирически простом акте удовлетворения потребности человека содержится выражение его утверждения во всей совокупности его сформировавшихся отношений, запросов и стремлений к жизни. И «вообще бессмысленно предполагать.., – писал К. Маркс, – что можно удовлетворить одну какую-нибудь страсть, оторванную от всех остальных, что можно удовлетворить ее, не удовлетворив вместе с тем себя, целостного живого индивида» [1, т. 3, 252].
Человек отдает предмету деятельности не только время (как это обычно фиксируется выражением «потерял время»), не только мускульную или интеллектуальную энергию, но и буквально момент жизни, как он представлен единством своего чувственного выражения – непосредственностью состояния человека.
Обнаружение этой непосредственности наиболее очевидным образом свидетельствует о крайне важных и существенных сторонах связи человека как с предметным миром вообще, так и с миром его субъективности, духовности. Чувственное состояние немыслимо без движения непосредственности.
Именно поэтому очень важно понять, что представляет собой эта жизнь «в моменте», каким образом или способом должно обнаружиться это чувственное состояние, чтобы можно было констатировать в деятельности человека проявление чего-то поистине необычайного, величественного, эстетического.
Впрочем, это важно понять не ради знаний, а – пусть это и прозвучит тривиально – ради человеческого утверждения самой жизни в любой наличной ситуации, в любом моменте бытия. Ибо даже в этом моменте, как в капле воды, может отразиться вся жизнь человека, все противоречия его реального социального состояния: трагизм или комизм, падение или возвышение и т.д., что, взятое в значении не только чужих бед или радостей, но и своих, так же поучительно и достойно соучастия, как поучительна и достойна того вся жизнь человечества.
Но, наверное, и это не все. Мы говорим здесь о соучастии как об определенной предрасположенности к подлинно практическому действию. Ибо, как это ни удивительно, именно так называемая «точка зрения практики» (и, по-видимому, не теории, где все наперед и до деталей может быть уяснено) порой толкает нас, вопреки знаемому, на совершенно иной ход размышления и действий. Мол, что проку от какого-то момента жизни, если у нас «в запасе» пятьдесят, восемьдесят, сто лет жизни и таких «моментов» в ней не перечесть? А потом: разумно ли усматривать в преходящем состоянии человека что-то необычное и сверхособое, если заведомо известно, что этим состоянием не исчерпывается жизнь, все ее величие и многообразие? Скорее, напротив, практика показывает, что зачастую надо принести в жертву времени немалую часть жизни, чтобы прозу последней сменить на торжество.
Думается, вряд ли можно опровергнуть эту «точку зрения» чисто теоретическим путем, апеллируя к сознанию, к убеждению в наивысшей ценности и момента жизни, не говоря уже обо всей жизни, как она выстрадана в человеческом идеале, – ибо такая «точка зрения» имеет еще и вполне реальные основания. В мире еще существуют предпосылки того, чтобы человек превращал момент жизни, а вместе с ним – и всю жизнь лишь в простое средство для продления бытия, в своеобразный «понедельник», до которого надо лишь «дожить». При этом все остальные проявления такой жизни уже другими и не могут быть, как только уравнительными и безликими по своей ценности. В равной мере не может быть другой и вся последующая за этим «понедельником» жизнь. Ибо хотя живой процесс, тенденция последней и приносится тут в жертву голому результату этого «дожить», достаточно приблизиться к нему не только в мыслях, но и наяву, как согласно повторяемости все тех же однообразных состояний жизни появится новый «понедельник», такой же безликий и бесцельный, как и предшествующий. И так до бесконечности.
Мы избрали объектом критики вовсе не обывательское, ходячее представление о человеческих ценностях жизни. Живучесть упомянутой «точки зрения» достаточно ощутима, чтобы не заметить ее след даже в той самой «науке о человеческих ценностях» (Ю. Борев), в эстетике, с высоты которой создаются целые теории, вырабатывается наиболее широкое представление о ценностях, формируются научные понятия. Смеем думать, что такой след вполне заметен и в небезызвестных концепциях эстетического.
Но это особый разговор. В данном же случае мы вовсе не сгущаем краски. Ведь, в сущности, именно такую метаморфозу ценностей можно наблюдать и в чисто теоретической ситуации, когда, скажем, тот же момент жизни, чувственное состояние, может представляться для эстетика чем-то случайным и не заслуживающим особого внимания, если не оформится в соответствующий «аспект» анализа, на уровне определенной терминологии, и вообще – не станет рассматриваться в русле того еще подчас модного направления мышления, которое гоняется за новизной «подходов» к объекту и необычностью изложения знаний. Ведь, оказывается, и здесь цель и средство могут быть поставлены на голову. Ибо в данном случае уже вовсе не объект начинает составлять эту цель, как она должна определиться смыслом существования эстетической науки вообще и подлинным значением исследуемого объекта в частности, а сам этот «аспект» или «подход» к объекту, процедура поиска его какой-то необычной, «новой стороны» и такое же необычное изложение ее в теории.
Но предмет разговора и в самом деле простой – непосредственность человеческого чувственного состояния. И «аспект» постижения этого состояния может быть, в сущности, один: взять его живым, необедненным, короче говоря, таким, каким оно в действительности является, неся в себе нагрузку всех определений жизни, пусть даже в одном из отдельных ее проявлений. Наконец, и ценность его такова, что подстать ценности любого движения знания или размышления. Ведь, наверное, тривиальной будет выглядеть мысль, что для того, чтобы умереть, достаточно лишиться жизни хотя бы в одном из ее моментов. По-видимому, и нет надобности обосновывать важность предмета разговора. Дело скорее за тем, чтобы это стало важным и в смысле собственно практическом: речь идет об активном изменении того прозаического движения жизни, которое, однако, тоже выступает определенной совокупностью актов чувственной деятельности человека, а потому всегда будет оставаться чем-то более сложным, чем наше рассуждение о нем.
Из сказанного вытекает и другое. По-видимому, нельзя не только опровергнуть, но и доказать какую-то «иную» точку зрения на ценность жизни и ее проявлений тем путем, каким это только и возможно в сугубо теоретическом исследовании. И если необходимость такого исследования мы все-таки отстаиваем, то делаем это не с тайной надеждой опровергнуть ту обыденную практику и прозу жизни, которой, к сожалению, еще можем руководствоваться в оценке себя и окружающего, а с глубоким убеждением, что именно этой же практикой и прозой жизни (не только одним сознанием) мы обнаруживаем и утверждаем все подлинно важное и непрозаическое для нас; что, таким образом, сознательно способствовать такому утверждению или, как сказал бы Платон, создавать предрасположенность к нему хотя бы в сознании, – вероятно, единственно правильный выход в сторону обеспечения подобного рода исследованиям их практической значимости.
Не хотелось бы начинать здесь с каких-то нравоучительных размышлений. Но, действительно, есть что-то поучительное в том, что современный экзистенциализм, спекулируя на представлении о человеческих ценностях, остается по-прежнему живучим и популярным. При всей нестрогости изложения своих общетеоретических постулатов он, тем не менее, достаточно четко фиксирует тайну обезразличивания человеческого момента жизни, взятого в проекции на ценность жизни в целом. Эту тайну, конечно, выдает не сам экзистенциалист: для него она спрятана за семью печатями. Ее выдает все однообразие бытия современного буржуазного индивида и ближайшим образом то выражение такого бытия, которое полагается им в идеале: полагается не как нечто осуществимое или способное к осуществлению, а как нечто вечно тоскующее по такому осуществлению. Экзистенциалист, пожалуй, выдает лишь тайну непосредственности (самоцельности) этой тоски. И выдает ее тем, что с поразительной легкостью, как само собой разумеющееся, превращает эту тоску в единственно возможное состояние человека и человечества, в конечную цель и средство жизни одновременно.
Если не отказывать в этой непосредственности и самому экзистенциалисту, то, по крайней мере в отношении его собственного «бунта сознания» (если уж такой «бунт» им исповедуется), это будет означать, что и момент жизни людей может быть таким же великим и значительным, как вся их жизнь; что и отдельное состояние человека (пусть это будет даже человеческая тоска) может быть таким же величественным или постылым, как и состояние жизни всего общества, в котором человек живет. Тем самым превращение, совершаемое умом экзистенциалиста, есть не просто логический прием, так сказать, возведение единичного в значение всеобщего, а отражение вполне реального факта превращения всей однообразной жизни буржуазного индивида в один по сути ничего не значащий момент существования. Вот, оказывается, во имя одной лишь непосредственности этого момента, иначе говоря, во имя возвращения ему значимости не «в принципе», не для «потом», а в «сию минуту», для «сейчас», буржуазный идеолог и распинает на кресте не только все прошлое, но и все будущее человечества.
В этом и в самом деле есть нечто поучительное. Если момент бытия, как бы он мал ни был, только тем и ценен для нас, что служит средством (и только средством) для достижения иной, скажем словами Н.Г. Чернышевского, «лучшей жизни», то, очевидно, не исключено и то, что эта «лучшая жизнь» тоже может выступить в такой же ценности: явится все тем же средством, но для достижения какого-то третьего состояния жизни; и так – до бесконечности. Мы говорим «не исключено», ибо ведь даже за возвышеннейшим проявлением жизни должна следовать та же жизнь (а не смерть) и, таким образом, вновь быть по-своему необходимой, хотя и отличной от той, к которой мы до этого стремились.
Если такой ход мысли с точки зрения логики не вызывает возражений, то, следуя уже известной нам «точке зрения практики», или «желанного понедельника», мы должны были бы согласиться и с экзистенциалистским выводом: вся жизнь – это, в сущности, лишь вечное стремление к какому-то желанному и неосуществленному состоянию, которое удаляется от нас тем дальше, чем ближе мы подходим к нему в своих мыслях, в представлении, в идеале. И ценность такой жизни измеряется не самой жизнью, не богатством непосредственно чувственной деятельности, а лишь мыслью, представлением, в лучшем случае – непосредственностью этой замкнутой в себе тоски.
Нет надобности в особом доказательстве того, что такому выводу противостоит само существо коммунистического взгляда на смысл и ценность человеческого бытия. Вся реальная история движения человека к коммунизму есть лучшее практическое (а потому – и теоретическое) доказательство того, что если этот смысл полагать лишь в вынесенном в бесконечность «результате» жизни (а фактически ведь – в боге, в призраке, неважно, как сказать), то на долю всей реальной жизни человека и человечества выпадает поистине бессмысленная «экзистенция», существование; что, с другой стороны, и весь предметный мир, втянутый в орбиту такого рода жизни, не только в общем, но и в частном будет видеться людьми не иначе как совокупность застывших, уравнительных и внешне чуждых им безликих ценностей.
Нам остается только напомнить, что даже взятый в качестве идеала, цели человека коммунизм не предполагает и не может предполагать в виде условия своего достижения превращение этого человека в средство, в бездушную машину, а предметного мира – в безликое скопление ценностей. Вообще рабский, механический, неосознанный труд исключает подлинно коммунистическое действие, а потому – и подлинно чувственный акт жизни. В этом смысле коммунизм может функционировать в качестве идеала не просто как желание «лучшего», тем более – в каком-то «результате», итоге жизни, а как осознанная, необходимая потребность человека в постоянной реализации всего общественного потенциала жизни в любом из проявлений самой жизни. Только в такой реализации может иметь место выражение свободы, а вместе с ней – и богатство выраженных чувственных отношений человека. Именно поэтому коммунистическому взгляду, с другой стороны, противна и та «точка зрения», которая связывает смысл и ценность бытия людей лишь с наличными проявлениями их жизни, без учета объективной тенденции и процесса становления этого бытия.
Логика данной «точки зрения» тоже достаточно проста в теории и не менее сложна на практике. А вся премудрость ее сводится к тому, что, дескать, если не в «идеале», не в «цели» (читай: «в призраке», «в боге») положен искомый смысл бытия, то его следует искать только в «настоящем». «Настоящее» же мыслится здесь как все тот же застывший «результат» жизни – некое состояние благополучия, до которого и после которого уже, естественно, может господствовать лишь что-то лишенное смысла. А так как любое благополучие, превращенное в единственно конечную цель или же замкнутую самоцель, рано или поздно становится постылым и грозит обернуться все той же бессмыслицей, то практическая сторона такой «точки зрения» сводится просто к тому, чтобы жить некими «благоприятными минутами» времени или же уповать на приход «благоприятного момента» жизни как на некоторое избавление от всего постылого и бессмысленного. Это упование ничем не отличается от уже известной нам «экзистенциалистской тоски». И то и другое предполагают крайнюю пассивность и бездейственность. Но если второе еще таит в себе какую-то возможность «бунта», хотя бы в виде «мук сознания» экзистенциалиста, то первое всегда довольствуется оптимизмом надежд, самоуспокоения, самоутешения.
Не можем не привести газетную выдержку, где один из литераторов небезынтересно размышлял по этому поводу: «Ах, эта наивная вера в благоприятный момент! Чуть ли не со времен достопамятного Обломова обманчиво ласкает она надежды жаждущих самоутешения. Ладно, мол, погоди, пока мы к жизни только примериваемся, а вот ужо, завтра… А что завтра? Нет, одно из основных свойств личностей незаурядных, характеров сильных состоит в постоянном убеждении, что именно сегодня, сейчас, в данную минуту и происходит главное, что этого дня, часа, мгновенья не восполнить, и если проспишь их беззаботно, то вожделенное завтра грозит обернуться бессмысленным, бесполезным ожиданием. Возможно, это прописная истина – не стану спорить. Но это истина из тех, следование которым требует от нас по крайней мере мужества» [5].
Не станем и мы спорить, насколько оправданно в строгом теоретическом исследовании столь популярно излагать противоречивость двух известных в философии тезисов: «движение – всё, цель – ничто» или «цель – всё, движение – ничто». Отметим лишь, что как та, так и другая «точки зрения» еще могут импонировать обыденному сознанию. Хотя, в сущности, это – одна «точка зрения». И касается она представления жизни как средства, и только средства. Различие лишь в том, что если в первом случае в такое средство превращается чувственное состояние (момент) жизни человека, то во втором – вся жизнь человека, выходящая за пределы такого состояния.
Особо же подчеркнем, что при любых обстоятельствах противоречия, зафиксированные в этих двух взглядах на ценность человеческого бытия, остаются противоречиями прежде всего самой жизни, практики, а потом – и противоречиями представлений, мысли, теорий. Поэтому и разрешение их должно быть выявлено прежде всего в границах практики жизни как ее непосредственно живое дело, а не только в границах самой по себе логики, в теоретических спорах и дискуссиях о ценностях. Именно живая, практическая сторона человеческого бытия составляет пункт конечного доведения всех реальных ценностей до их действительного представления и завершения в сознании и самочувствии людей. Но именно поэтому она должна найти определенное место и в самой теории ценностей, войти в нее в качестве основного аргумента доказательства истинности или неистинности той или иной ценностной ориентации человека.
Если же говорить более конкретно, то мы с самого начала стремились затронуть далеко не обычную ценность человека. Если история человеческих знаний выработала понятие эстетического (прекрасного, возвышенного, величественного и т.д.) для обозначения явления в высшей мере небезразличного[2], то вопрос о самодвижении жизни, взятой со стороны ее непосредственного, человечески чувственного выражения, может и должен стать узловым вопросом всей эстетической проблематики. Ведь в правильной, марксистской его постановке это и есть вопрос о наивысшей человеческой ценности – ценности, не сравнимой ни с какими свойствами или качествами вещей, ни с какой оценкой или самой по себе мыслью. Нам представляется, что успешное решение целого ряда проблем в эстетике будет во многом зависеть от того, насколько глубоко мы осознаем смысл такой постановки вопроса и насколько правильно разрешим его в теории.
В собственно же теоретическом отношении вопрос об эстетическом остается далеко не рядовым прежде всего в том смысле, что он теснейшим образом связан с пониманием специфичности предмета эстетики. В таком виде он не может не выполнять и большие методологические функции, значение которых должно приравниваться к значению действующих в эстетике определенных принципов и законов. Осознание же последних предполагает не только правильный ответ на вопрос о природе эстетического, о его бытии, функциях и т.д., но и создание такой специфической теории познания чувственных явлений вообще, логика которой была бы одновременно и глубоким философским обобщением всех основных положений эстетики на уровне метода материалистической диалектики. Представляется, что как своеобразный частный случай марксистской гносеологии такая теория должна составить основу для разрешения любой эстетической проблематики.
В конечном счете без осуществления этой фундаментальной задачи нельзя правильно разрешить и практические вопросы эстетики, что, в свою очередь, опять вернется в теорию своеобразным бумерангом: эмпиризмом, нагромождением «вечных проблем», мелкотой поднимаемых вопросов и т.д.
По-видимому, есть прямая связь между неразрешенностью упомянутой задачи и появлением той массы различных «ведомственных эстетик» (начиная от «эстетики быта» и кончая «эстетикой тары и упаковки»), которые, нечего греха таить, породили и изрядное количество стихийных, философски незрелых «теорий эстетического».
Не хотелось бы уже здесь накликать на себя пристрастного к таким «эстетикам» оппонента, для которого все они объяснены «потребностями жизни». Но и нельзя не остановиться на том, что почвой для возникновения таких «эстетик» является подчас упрощенное понимание смысла эстетического, нивелирование его ценностного значения, а в конечном счете – и непонимание эстетики как единой научной теории.
Не подлежит сомнению то, что с совершенствованием материально-технической базы нашего общества непрерывно совершенствуются запросы, интересы, вкусы людей. Это – естественный процесс, и о нем можно говорить только с удовлетворением. Но означает ли это, что такой процесс должен непременно венчаться эстетической формой даже там, где предметы запросов и интересов людей должны оставаться просто утилитарными? Другими словами, неужели в таком совершенствовании не нуждается и сама утилитарная потребность человека, а если нуждается, то почему ее следует видеть эстетической?
Возьмем, к примеру, современную одежду. Она, безусловно, стала более добротной и в лучших своих образцах вполне соответствует возросшим потребностям людей. Но, оказывается, это уже сигнал к тому, чтобы потребитель, а заодно с ним и сторонник «эстетики одежды», видел ее не просто одеждой, а… с «элементом красоты». В итоге и аналогичные вещи втягиваются в орбиту рассмотрения эстетикой, ибо речь якобы идет не просто о стульях, торшерах и т.п., а об эстетически оформленных стульях, торшерах и т.д.
Однако обратимся к простой логике. Если потребность в более или менее необходимой вещи возводить до уровня эстетической, то, позволительно спросить, какая потребность тогда останется не эстетической? А потом – не обернется ли все это мучительным поиском критерия всех ценностей, а одновременно и тем старым вопросом о сущности красоты и эстетического, по поводу которого мы ведем такие долгие дискуссии, но который так поспешно решаем на практике?
Логика эта достаточно серьезная. Ведь именно по причине возведения, а точнее – сведéния всех потребностей человека до уровня эстетических многие исследователи вынуждены уже сейчас ставить вопрос об эстетичности… самого эстетического, т.е. обращаться далеко не к тому смыслу последнего, какой ему может повсеместно придавать обыденная практика. Ведь, по-видимому, надо было до этого объявить эстетической чуть ли не каждую необходимую человеку вещь[3], чтобы сейчас уже из всего «эстетического» отыскивать… подлинно эстетическое. Другими словами, надо было ранее представлять эти вещи в какой-то уравнительной (пусть даже самой высокой) ценности, чтобы сейчас уже задаваться вопросом о возможной дифференциации такой ценности.
Но можно ли допустить обратное: круг тех вещей и мероприятий, с которыми подчас связывается необходимость существования «эстетики быта» или «эстетики одежды», имеет очень отдаленное отношение к эстетической науке? Речь, разумеется, идет не о том, должны или не должны совершенствоваться эти вещи, становиться качественнее с точки зрения их конечного функционального назначения. Вопрос сводится к тому, должно ли само это совершенствование предполагать эстетическую форму такого функционирования, иначе говоря, находиться в сфере компетенции эстетики как науки?
Это не праздный вопрос. Вряд ли логично, по нашему мнению, вряд ли исторически оправданно ставить знак равенства между, скажем, эстетичностью (красотой, величественностью и т.п.) сапожной щетки и эстетичностью «Сикстинской мадонны». Видимо, только недопонимание единого, научного смысла понятий «красота», «возвышенность», «величественность» и т.д. может толкать нас на приблизительно такого рода рассуждение: дескать, в одной вещи «меньше» красоты, в другой – «больше», но как в том, так и другом случае она имеет место. И в этой связи, мол, не стоит быть слишком строгим: никто не ставит знак равенства между эстетичностью предмета быта и художественностью произведений искусства, между красотой той и другой вещи. Главное в том, чтобы дать возможность выявиться этой красоте. Другими словами, можно и не отождествлять ценность той или другой вещи, но не потому, что с точки зрения подлинно научной они в принципе не отождествимы, а потому, что сама эта «научность», «принципиальность» еще позволяет нам слишком произвольно толковать понятия «прекрасное», «возвышенное» и т.д.
И это так. Думается, что именно неразработанность понятийного аппарата науки эстетики, отсутствие единого представления о содержании категорий прекрасного, возвышенного, низменного, величественного и т.п. (а ведь это содержание определяется не только задачами сегодняшнего дня) еще позволяет нам, мягко выражаясь, слишком вольготно обращаться с эстетической терминологией, а отсюда – и становиться на позиции своеобразной «эстетической всеядности».
Позитивное решение вопроса состоит, очевидно, в том, чтобы, не отрицая необходимости совершенствования любых человеческих потребностей, найти границы этого совершенствования, определить меру их значимости в контексте всеобщего формирования человеческого небезразличия к миру. Представляется в данном случае, что упомянутый круг вещей, с которым связывается необходимость существования «эстетики быта» или «эстетики одежды», должен быть отнесен к сфере компетенции особой, специфической области знания, занимающейся формированием человеческой потребности в утилитарном (назовем ее «утилитарикой» или «утилитарологией» – неважно, как сказать). Мы не имеем здесь в виду дизайн – об этом особый разговор.
Однако признание этого положения предполагает выяснение по крайней мере двух вопросов: 1) существует ли какая-то принципиальная грань между двоякого рода ценностями – утилитарными и эстетическими, если даже учитывать их относительность и теснейшую связь?; 2) если такая граница существует, то где причина их смешения в представлении людей, иначе говоря, причина возведения утилитарного до уровня эстетического?
Наверное, ответ на второй из поставленных вопросов непосредственным образом касается и ответа на первый. Видимо, только потому, что, скажем, та же обувь или одежда человека еще в силу определенных обстоятельств могут оставаться, образно выражаясь, и «не-нормальными», т.е. не в полной мере соответствующими возросшей утилитарной норме человека, появление более-менее «нормальной» обуви или одежды готово восприниматься подчас как появление чего-то особого, «эстетического». Однако за таким «эстетическим» скрывается не что иное, как то же утилитарное, но как раз такое, которое порождается развивающейся, совершенствующейся потребностью человека и которое (в условиях неудовлетворения такой потребности) само же и поднимается до выражения «идеала производства», т.е. из чего-то необходимого превращается в сверхнеобходимое – «эстетическое». Иначе говоря, «эстетичность» утилитарному придают те особые возможности общественного производства, с которыми связано полное удовлетворение людей предметами их непосредственно практического пользования. Только определенная невозможность такого удовлетворения в указанной мере превращает саму эту меру в особое идеальное требование – в «эстетический запрос». Хотя, с другой стороны, совершенно очевидно, что такое требование ничего не добавляет к сущности утилитарной нормы человека, которая и без того остается общественно значимой, а потому и не нуждается в особом приукрашивании ее «эстетическим элементом». Дело скорее за тем, чтобы правильно, научно раскрыть эту ее подлинно утилитарную сущность, без фетишизации и возведения до уровня сверхособой нормы.
Повторяем, дело сводится не к тому, чтобы ополчиться против обыденного представления «эстетики быта» или «эстетики одежды» (подчас ратуют за подведение под него «научной основы»), а к уяснению того, что не всякая потребность человека, с точки зрения той же науки эстетики, должна видеться эстетической, хотя это не исключает толкования ее как подлинно человеческой.
Выработать в себе богатство и целостность человеческих потребностей (а именно с такой выработкой К. Маркс связывал развитие всесторонне богатого в своих чувствах и утверждении человека) – процесс исключительно сложный и трудный [1, т. 42, 125]. Он не зависит непосредственно от материального богатства, совокупности вещей, пользуемых человеком. «Мы добились немалого в улучшении материального благосостояния советского народа, – отмечалось в Отчетном докладе ЦК XXV съезду КПСС. – Мы будем и дальше последовательно решать эту задачу. Необходимо, однако, чтобы рост материальных возможностей постоянно сопровождался повышением идейно-нравственного и культурного уровня людей. Иначе мы можем получить рецидивы мещанской, мелкобуржуазной психологии. Этого нельзя упускать из виду» [3, 78].
Такая психология имеет давнюю историю и была прекрасно раскрыта К. Марксом: «Частная собственность, – отмечал он, – сделала нас столь глупыми и односторонними, что какой-нибудь предмет является нашим лишь тогда, когда мы им обладаем, т.е. когда он существует для нас как капитал или когда мы им непосредственно владеем, едим его, пьем, носим на своем теле, живем в нем и т.д. …Поэтому на место всех физических и духовных чувств стало простое отчуждение всех этих чувств – чувство обладания» [1, т. 42, 120].
Нечего греха таить, чувство обладания нередко может и поныне выступать для человека критерием его интересов, своеобразной призмой, сквозь которую он преломляет все свои желания, запросы, побуждения. При этом единая человеческая потребность – потребность в коммунистическом способе производства, присвоении и утверждении окружающего – остается им совершенно не понятой. Здесь она мыслится сугубо абстрактной потребностью, оторванной от конкретных запросов, или, в лучшем случае, сведенной к простой сумме этих запросов.
Для собственно теоретической стороны дела особого внимания здесь заслуживает метаморфоза чисто эстетических ценностей. Ведь в той мере, в какой может измельчаться сама цельность действительного идеала жизни человека, в той же мере может принижаться и сама ценность эстетического предмета как определенного средства его утверждения. Другими словами, возможно, именно здесь и создается та очень важная для теории ситуация, когда содержание такого идеала, которое только и в состоянии обусловить действительную само-цельность всех потребностей человека, тем не менее может отчуждаться от самого человека, т.е. застывать в виде абстрактно выраженной ценности самих вещей: в виде их особой привлекательности и «гармонии», их «совершенства» и т.д. При этом независимо от сознания человека эти формы могут жить самостоятельной жизнью, представляться чем-то извечно данным, неизменным, «природным».
Однако в истории подобного рода отчужденные формы выражения эстетического идеала (а это именно так) означали лишь моменты идеально выраженных, но неосуществленных взаимоотношений между людьми. Обыкновенные вещи тогда и возводились в ранг особых, гармонических, совершенных по «своей» природе, когда действительная гармония жизни людей в обществе уже превращалась в дисгармонию, все совершенство их отношений – в односторонность, все богатство – в обнищание. Утилитарная ценность какого-нибудь стола только потому и становилась равнозначной эстетической ценности, что действительный эстетический идеал здесь превращался уже в идеал утилитарный, а точнее – утилитаристский.
Фактическая гибель частнособственнических интересов есть начало не только живого становления коммунистической самодеятельности, но и качественно иного чувственного мировосприятия. Именно в этом мировосприятии каждый человек, говоря словами К. Маркса, может и должен выявить богатство «собственных сущностных сил», а окружающие его вещи – «вернуть себе» свою естественную природу или свою подлинно общественную значимость [1, т. 42, 121]. «…Уничтожение частной собственности, – писал К. Маркс, – означает полную эмансипацию всех человеческих чувств и свойств; но оно является этой эмансипацией именно потому, что чувства и свойства эти стали человеческими как в субъективном, так и объективном смысле» [1, т. 42, 120].
По-видимому, лишь с такой эмансипацией может появиться и реальная предпосылка того, чтобы все вещи и явления мира стали называться своими именами, а отношения к ним людей, не взлетая к трудным вершинам собственно художественного вúдения мира или искусства как такового, стали подлинно чувственными и едиными по своему человеческому выражению и многообразию.
На наш взгляд, перед эстетикой как наукой может стоять лишь одна ее специфическая и наиболее общая задача: быть теорией чувственного освоения действительности, но чувственного не в обыденном его представлении, а в том его понимании, с которым К. Маркс связывал целостность общественного утверждения человека, а в этом утверждении – и целостность всестороннего отношения человека к окружающему вообще. Если мы признаем, что границы эстетической науки определяются именно таким пониманием чувственного, то отпадает необходимость и в простом перечислении ее задач: и наука о прекрасном, и наука об искусстве, и наука о творчестве, не говоря уже о таких тавтологических определениях ее, как наука об эстетическом освоении действительности, наука об эстетических свойствах и т.д. И это естественно. То, что в своей сущности объединяет и творческое, и художественное, и эстетическое, без обеднения перечисленных здесь компонентов может быть вполне представлено как чувственное. Это очень важно, ибо речь идет, по сути, о настоятельной необходимости вычленения единства предмета эстетики, с которым связано понимание и единой методологической основы последней.
Трудность признания за эстетикой этой единой ее задачи связана с трудностью осознания социальной природы чувственных явлений и чувственного вообще. Чувственное – это не просто безразлично созерцаемая или воспринимаемая предметность деятельности человека. Это – особая предметность, прежде всего в том смысле, что с ней связано и обнаружение определенных ценностей существующего (будь то в виде свойств, качеств или особенностей вещей) и – что очень важно – обнаружение такого состояния человека, которое в отношении не только самого человека, но и общества выступает как подлинно непосредственное или по-человечески самоцельное. Эта цельность состояния определяется не столько тем, что человек воспринимает или присваивает, сколько тем, как осуществляется такое восприятие и присвоение или каков социальный смысл данного акта деятельности вообще. Другими словами, такого рода цельность зависит не только от особенностей предмета и его свойств, которые, безусловно, диктуют способ восприятия вещи, но и от характера социального бытия человека в целом, в конечном счете, от характера общественного производства.
Чувственное всегда несет на себе печать этого производства – главного и существенного в способе жизнедеятельности и мировосприятии человека. Только в результате социального антагонизма стало возможным обезразличивание человека к целям общественного производства, а отсюда – и к целям человеческой жизнедеятельности людей. И только благодаря такому обезразличиванию стала возможной собственно не-художественная, не-творческая, не-воспринимаемая (неприемлемая) деятельность людей. Но именно такую деятельность нельзя назвать и чувственной, причем как раз по тем обстоятельствам, по которым из нее с самого же начала исключается тот по-общественному цельный способ ее выражения, в котором человек только и может проявить неслучайную, универсальную восприимчивость к миру, следовательно, и такое же универсальное утверждение своей сущности. Напротив, эстетическое, воспринимаемое, творческое, художественное и т.п. вполне представляются синонимами чувственного, если стать на точку зрения понимания необходимости превращения единства цели общественного производства в единство смысла реального осуществления коммунистического бытия людей вообще. Ибо только такая цель, концентрирующая в себе наивысший человеческий интерес, способна сцементировать все потребности человека, придать им единую направленность, а тем самым определить и единый способ их человеческого утверждения.
Таким образом, эстетика есть наука не о восприятии и воспринимаемом, как их традиционно толкует психология или физиология, а о чувственном, равном значению способа общественного утверждения человека во всем богатстве его сформировавшихся потребностей.
Каким бы поначалу ни представлялся этот способ, но с точки зрения его действительного движения нет и не может быть самостоятельных «эстетик» быта или одежды с их особыми целями и задачами. В противном случае мы должны будем признать, что и проблемы быта, и проблемы одежды должны ставиться не иначе как проблемы идеала, смысла бытия людей вообще. Ведь, по-видимому, надо низвести наивысшее стремление человека – его эстетический идеал – к простому запросу в одежде (и в самом деле, к простому – при современных-то возможностях производства), чтобы самоё одежду видеть не иначе как эстетически. Или, напротив, сам этот запрос надо поднять, вероятно, до выражения идеала, смысла бытия, чтобы вынашивать его не иначе как эстетический запрос.
Сказанным мы вовсе не снимаем вопросы эстетической деятельности человека в сфере производства, быта, поведения и т.д. Вообще было бы неразумно ограничивать проявление эстетического какими-то сферами (природными или общественными), сужать их или расширять. Что и в сфере производства возможна эстетическая деятельность человека – это не предположение, а реальный факт. Но дело здесь не в условности терминов или выражений «эстетика производства» или «вопрос об эстетической деятельности человека в сфере производства», а в принципиальности отношения к единству предмета эстетики, ее метода, принципов. В плане каких бы «эстетик» и с высоты каких бы их частных задач (именно частных – в противном случае терялся бы сам смысл существования их как «эстетик») ни была предпринята попытка уяснения сущности эстетической деятельности, это вряд ли приведет нас к желанному результату. Ибо такая деятельность определяется не характером лишь тех потребностей, которые специфичны для быта или производственного предприятия как такового, а характером уже упомянутой единой и наиболее заинтересованной потребности человека (если объективную необходимость в коммунистическом способе выражения жизни вообще можно назвать потребностью в обычном смысле слова). А поскольку исторический смысл последней, сама степень положенного в ней интереса не сводимы к простой сумме возможных интересов, связанных, скажем, со сферой быта или поведения человека, то и сама эстетика не может быть представлена как простая сумма «эстетик», так как остается наукой с едиными требованиями, принципами и законами.
Известно, какое большое внимание уделяется сейчас материальному и моральному стимулированию человека в сфере производства. И это понятно. Однако – вдумаемся! – есть что-то по-разумному осторожное в том, что мы не ставим и, вероятно, еще не можем ставить вопрос о собственно эстетическом стимулировании человека в этой сфере. Ибо хотя такое стимулирование не противостоит материальным или моральным интересам человека, но вместе с тем оно не составляет и простого единства этих интересов. Ведь с эстетической деятельностью связано удовлетворение по-своему неисчерпаемого интереса человека. Сущность его состоит в том, что человек действует с таким интересом и ради «само-действия», т.е. и ради смысла коммунистической самодеятельности как таковой – этой наивысшей «нормы» выражения всякого человеческого интереса, – а не ради зарплаты, поощрения, вознаграждения и т.д., в какой бы форме они ни представлялись.
Мы не можем сказать, что уже существуют предприятия, где человек, скажем, вообще не нуждался бы в отпуске, где лучшим отдыхом и вознаграждением для людей являются часы их непосредственно производственной деятельности, а не часы, проводимые ими вне такой деятельности. А дело как раз в том, что эстетический процесс немыслим без того, чтобы не быть движением такого интереса человека, реализация которого равнялась бы акту всестороннего воспроизводства человека, а в этом – и всестороннего удовлетворения его. Трудно сказать, какими будут заводские цеха будущего – возможно, их как таковых вообще не будет, – но, видимо, всестороннее воспроизводство человека, следовательно, реализация наиболее высокого интереса людей будет иметь место там и тогда, где и когда деятельность каждого (включая ее высокую производительность, обобществленность и т.д.) будет подниматься до выражения свободной самодеятельности, или, говоря словами К. Маркса, – до своеобразной игры физических и интеллектуальных сил человека. Понятно, что занятие такой деятельностью не нуждается в привычном для нас стимулировании, поскольку она и есть наивысшее человеческое удовольствие, а потому – и сама себе стимул, цель и средство одновременно.
Возможно, в этом будут усмотрены слишком высокие критерии, предъявляемые к существу эстетической деятельности. Но, во-первых, нет смысла называть деятельность (вещь, среду и т.д.) эстетической (т.е., опять-таки, и прекрасной, и возвышенной), если она не будет браться по мере какого-то наивысшего человеческого интереса. Эта мера все равно будет существовать, и независимо от наших желаний по ней будут измерять все наиболее значимое и небезразличное для людей. Во-вторых, от того, что мы намеренно будем принижать эту меру, руководствуясь соображениями скорейшей «эстетизации» окружающего, сфера подлинно эстетической деятельности не расширится. Скорее, поспешность объявления о таком расширении грозит обернуться новыми недоразумениями в теории.
Если же говорить более конкретно, то, на наш взгляд, вопрос о том, каким должно быть все предметное окружение человека в любой из сфер его деятельности, какими должны быть, скажем, орудия труда, рабочее место и вообще вся обстановка на предприятии – это вопрос не столько непосредственно эстетика, сколько инженера, врача, психолога, а в конечном счете – любого специалиста, более-менее знакомого с требованиями науки эстетики и заинтересованного в общественных формах осуществления деятельности.
На долю же эстетика выпадает, по-видимому, более сложная задача. Если переложить ее на практический язык, то она могла бы свестись прежде всего к тому, чтобы в любой из сфер деятельности исследовать человека во всей совокупности его общественных отношений (состояний) и на основе понимания необходимости их определенного единства (цельности) дать ответ на главный вопрос эстетики: может или не может человек в данной ситуации или обстановке воспроизводить себя всесторонним образом или во все той же совокупности исторически сформировавшихся человеческих способностей и сущностных сил? Только в зависимости от ответа на такой вопрос можно правильно ставить и решать все конкретные задачи. Какие это задачи – вероятно, всегда зависит от данных обстоятельств и данной сферы деятельности. Но какими бы они ни были и кто бы практически их ни решал – тот же инженер, врач или дизайнер, – их нельзя правильно сформулировать без учета этого главного эстетического вопроса, затрагивающего смысл утверждения человека, меру его социального небезразличия к предмету деятельности и к самой деятельности.
Типичные возражения, возникающие при этом, как правило, сводятся к сетованию на чрезмерную абстрактность такого подхода. Мол, тот же специалист в области технической эстетики должен не столько теоретизировать, сколько заниматься конкретным делом: формировать эстетическую среду, улучшать производственную обстановку, в худшем случае – хотя бы давать по этому поводу какие-то рекомендации или предложения.
Это правда. Мы и не требуем от дизайнера решать упомянутый эстетический вопрос. И уж тем более не перечеркиваем все то значительное, что создано в области художественного конструирования. Речь идет о другом. Если дизайнер хочет быть эстетиком, то представление о красоте, вообще эстетическом он должен согласовывать с научной эстетикой и в этом смысле он не может обойти интересующий нас вопрос. Если же он желает быть конструктором, так сказать, человеком, имеющим конкретное дело с вещами или совокупностью вещей и только, то, спрашивается, с каким представлением о феномене эстетического должно согласовываться это его дело?
Допустим, перед нами модельер по предметам быта. Допустим также, что ему необходимо создать не просто стул, а эстетически оформленный. Пусть будут учтены при этом всевозможные параметры: и профиль спины человека, сидящего на нем (с учетом данных физиологии и медицины), и соответствующая отделка, короче – все, что только требуется от стула. Можно согласиться, что такая вещь, безусловно, будет заметно отличаться от рядовых стульев, тем более от тех, которые мы справедливо можем называть неудобными, некрасивыми, непрактичными. Однако достаточно ли всего этого, чтобы утверждать о рождении действительно эстетической вещи? Не логичнее ли предположить, что в данном случае создана просто нормальная утилитарная вещь, если иметь в виду, что само утилитарное – это не только грубая полезность.
Мы говорим, во-первых, «нормальная вещь», ибо, право же, самим созданием ее мы лишь подтвердим то, что до сих пор могли сидеть и «не-нормально», т.е. могли довольствоваться подчас и плохими стульями (как говорят, сядем на что угодно, лишь бы не стоять). Во-вторых, мы говорим «утилитарная вещь», ибо ведь исключаем положение, что как таковой стул дан нам еще для чего-то: чтобы созерцать и наслаждаться им без практического пользования или пользования не по прямому его назначению (скажем, чтобы стоять или плясать на нем). Попросту говоря, это была бы новая «ненормальность» пользования вещью.
Если сказанное в какой-то мере справедливо, то так называемая «эстетика быта» совершенно безболезненно превращается в своеобразную «утилитарику быта» (от лат. utilitas – полезный, практичный, к тому же полезный не без удовольствия)[4].
В самом деле, утилитарное – это не просто грубая полезность, а полезность, содержащая в себе имманентное выражение удовольствия, т.е. доведенная до определенного совершенства и функционального завершения ее в самом акте присвоения. Причем само это совершенство вовсе не означает внешне пристегнутый «элемент красоты» как некое восполнение ограниченности самогó полезного, чтобы, сознавая его, требовалось уже притягивать эстетику. Оно и есть то самое полезное или истинно утилитарное, которое и ставит целью достичь наш специалист по «эстетике быта». Но так как вначале он берет утилитарное в значении грубой полезности, подразумевая под ним чуть ли не утильсырье (т.е. такую полезность, которая уже превращается едва ли не в полную бесполезность), то компенсировать такое огрубление ему приходится за счет привнесения в утилитарное «элемента» эстетического. Это пристегивание, или внешнее привязывание, последнего к существу утилитарного ведет вовсе не к правильному пониманию их возможного органического единства, а, скорее, к обедненному представлению об их подлинно ценностном содержании.
Видимо, в формировании различных «эстетик» мы наблюдаем факты отпочкования от эстетической науки самостоятельных областей знаний. И, как это часто случается, новая дисциплина становится и может весьма долго жить за счет терминологии той науки, из которой она выходит. Так, химия могла поначалу выглядеть как некая «усложненная физика», биология – как «усложненная химия» и т.д.
Нечто аналогичное складывается и в отношении «конкретных эстетик». Будучи не в состоянии вычленить в чистоте свой предмет исследования, представитель той или иной «эстетики» подчас восполняет этот пробел за счет понимания (а точнее – недопонимания) существа действительной эстетической науки, ее единых требований, принципов, законов. В итоге и выдвигается положение, скажем, той же «технической эстетики»: созданные человеком вещи должны быть не только полезными, удобными (!) и т.д., но и красивыми, «приятными для глаз», «поднимающими настроение».
Но, во-первых, если быть точным, то приятно не глазу, а человеку, обладающему глазами; важно не настроение как таковое, а чувственное состояние, зависящее, помимо прочего, не только от восприятия вещи, но и от более сложных и устойчивых факторов – от жизненной позиции человека, его мировоззрения, идеала и многого другого.
Во-вторых, правильно понятая полезность вещи, безусловно, предполагает обнаружение в ней момента эстетичности, как, впрочем, и наоборот. Но эта эстетичность есть внутреннее существо самой полезности, без которой она теряет свою подлинно человеческую форму проявления, т.е. перестает быть собственно полезностью. Никто не спорит, что, скажем, физическая структура вещи предполагает наличие в себе химической структуры. Но это вряд ли может давать нам основание для полного размывания границ предмета физики и предмета химии. Никто не спорит, что истинная полезность вещи содержит в себе возможность вызывать указанную «приятность для глаз», «хорошее настроение» и т.д. Но вряд ли всего этого достаточно, чтобы говорить об отсутствии какой бы то ни было границы между предметом эстетики и предметом той науки, которая должна раскрыть во всем объеме и полноте существо полезности вещи, и, в данном случае, той полезности, которая содержит в себе эстетическое не как инородное тело, не как созерцательное преодоление «ограниченности» самого себя, а, напротив, как органический момент своей собственной сущности. Требование же того, что, дескать, созданные человеком вещи должны быть не только полезными, но и… красивыми и т.д., – это требование с самого начала исходит из раздвоения такой сущности. Может быть, не случайно в многочисленной литературе по «технической эстетике» весьма часто можно встретить именно такого рода мысль: «Художник-конструктор небезразличен к требованиям стиля, моды, эстетического идеала. Он должен создать такую вещь, которая была бы не только полезной, но и приносила бы людям эстетическое наслаждение, доставляла им радость» [12, 253].
Безусловно, формы проявления эстетического достаточно разнообразны, и если речь идет о моде как действительном эстетическом идеале, о радости как подлинном эстетическом наслаждении, то эстетик не может обойти это стороной. Однако вряд ли при этом он должен исходить из обедненного представления о полезном и эстетическом, причем исходить как раз с тем, чтобы, разорвав их в таком виде, пытаться вновь соединить, но уже на ложной основе, в свете конгломерата «требований эстетики и техники». А логика вышеприведенной мысли именно такова: к «полезному», «удобному» и т.д. надо добавить еще нечто такое (все то же «эстетическое»), что связывалось бы главным образом не столько с непосредственно производством и потреблением вещи, сколько со свободой от этого производства и потребления – с выработкой у человека эффекта «приятного настроения», мнимого представления о том отдыхе, свободном времени, желанном состоянии и т.п., которые находятся где-то по ту сторону указанного процесса производства и потребления. Создали, к примеру, вещь, которая, помимо того что отвечает определенным требованиям полезности (хотя неизвестно, отвечает ли в полной мере), может отвечать и другим интересам человека (напоминать о чем-то приятном, о другой вещи, о значимом событии и т.д.), или благоустроили заводское помещение, создали своеобразный домашний уют – повысилась производительность труда – и… специалист по технической эстетике видит в этом решение важной эстетической задачи.
Но ведь даже с точки зрения буржуазных представлений об условиях труда, полагающих конечной целью производства добывание капитала, все это может быть само собой разумеющимся. В этих представлениях нет места самому человеку, его жизни, его самочувствию. Ничего особого нет и в том, что созданный для потребления предмет может отвечать и каким-то другим интересам человека: что-то напоминать, символизировать и т.п. Даже если этот интерес не есть утилитарный, то, с другой стороны, и само по себе напоминание о приятном, если оно сохраняет значение конечной цели, т.е. так и остается лишь напоминанием, еще не может быть представлено в значении реализации наивысшего интереса человека – интереса собственно эстетического. Ибо в конечном счете дело не только в напоминаниях о приятном, но и в активном его «приятии», утверждении и т.д., как этот процесс можно было бы представить с точки зрения участия в нем и всего богатства чувств человека, его деятельности, практики.
Конечно, уничтожение плохих условий труда человека, улучшение производственного окружения, создание вещей, отвечающих индивидуальному запросу потребителя, – все это может вызывать позитивный эмоциональный отклик, радость, переживание, приятное настроение, и мы не отказываем в этом ни производителю, ни потребителю. Но было бы неоправданным забывать, что эстетическую науку интересует не всякая радость и не всякое настроение, а объективный закон человеческого чувственного утверждения, в отношении которого факт выражения радости, наслаждения и вообще эмоционального возбуждения человека выступает уже как следствие или как своеобразная производная. Смысл же такого закона нельзя вывести из совокупности мотивов и побуждений человека, тем более если их связывать лишь со сферой быта, поведения или какой-либо другой сферой деятельности людей.
Мы понимаем, что определенное время в эстетике такие понятия, как «потребность», «мотив», «стимул» и др., не находили должного освещения и – главное – не всегда вводились в саму методологию исследования эстетических процессов. Поэтому вполне заслуживают похвалы те работы эстетиков, которые ставят задачей исправить такое положение. Но тогда тем более неоправданной выглядит другая крайность: когда все мотивы и интересы людей стремятся увидеть в ореоле эстетичности. Вроде того, что если интерес, скажем, к одежде не противопоказан человеческому интересу вообще, то его непременно следует эстетизировать. А отсюда – и «эстетика одежды».
Мы не упрощаем существо дела. Чтобы убедиться, насколько порой оказывается распространенной практика создания различных массовых «эстетик» и какие предметы попадают в поле зрения последних, достаточно привести тематику докладов одной из научных конференций, посвященных «эстетике торговли». Цитируем выборочно: «Эстетика одежды», «Эстетика трикотажных изделий», «Эстетика мебели», «Эстетические требования к обуви», «Влияние эстетических качеств швейных изделий на спрос сельского населения», «Эстетика тары и упаковки», «Об эстетике торговли электробытовыми машинами и приборами», «Эстетические требования к этикеткам мясных и рыбных товаров» и т.п. [37].
Излишне говорить, насколько важно и дальше налаживать культуру обслуживания населения высококачественными предметами потребления, совершенствовать сферу торговли. Но, просматривая приведенную тематику, нельзя не обратить внимания на, мягко выражаясь, свободное обращение с терминами «эстетика», «эстетическое», «прекрасное». И как-то уж совсем трудно отделаться от возникающей при этом мысли: если есть «эстетика торговли электробытовыми машинами и приборами», то почему не может быть, скажем, «эстетики торговли спиртными напитками»; если есть «эстетика тары и упаковки», то почему не должно быть «эстетики сапожных щеток» и т.п.? Право, не знаем, какой смысл здесь придается термину «эстетическое».
Не знаем также, какой смысл вкладывает в термин «художественное» и учебная программа для слушателей «Народного университета дизайна» (г. Горький), где в качестве важнейших тем предлагаются и такие: «Художественное конструирование сапожного инструмента», «Художественное конструирование хирургического инструмента», «Художественное конструирование оборудования для инвалидов», «Художественное конструирование упаковки», «Художественное конструирование тары», «Художественное конструирование оргтехоснастки» и т.п. [34].
Может быть, не случайно поэтому от эстетиков все чаще требуют различных «предложений» по делам портных, домохозяек, цветоводов, молодоженов, сапожников, завхозов ведомств и учреждений. Эти требования подчас настолько категоричны, что малейшие возражения по этому поводу квалифицируются как симптом к «схоластическому теоретизированию», как нежелание налаживать более «тесную связь эстетики с жизнью».
Отстаивая мысль об эстетической деятельности как способе целостного общественного утверждения человека, мы, конечно, понимаем, что эта мысль остается еще слишком абстрактной, чтобы можно было делать отсюда какие-то практические выводы или давать конкретные рекомендации. Но абстрактной только потому, что понятия «целостное», «общественное», «коммунистическое» действительно нуждаются в должном методологическом внимании, в научном доведении их до осознания ценности самого что ни на есть конкретного акта чувственного состояния, момента жизни человека.
Такое доведение – уже само по себе сложная задача, тем более, что решать ее необходимо применительно ко всем сферам деятельности человека. Она сложна тем, что в самой своей постановке предполагает глубокое знание диалектики коммунизма как способа производства не только материальных благ, но и самого человека, человечности его отношений, цельности всех его мыслей, желаний и побуждений. Социализм и коммунизм, взятые в таком их понимании, непременно предстанут тем самым историческим движением жизни людей, в котором наиболее непосредственным, чувственным образом утверждается все ценностное и небезразличное для человека. Но именно поэтому такое движение, логика его развития (и логика как непременно отрицание всего старого и отживающего, как диалектика) и должны найти свое определенное выражение в методологии исследования чувственных процессов. Другими словами, не только логика как безразличное движение мысли, понятия вообще, но и логика как самодвижение идеала жизни, становящегося моментом, состоянием жизни – этим практическим выражением всей меры заинтересованности человека в процессе бытия, – эта логика и должна составить смысл диалектики эстетического как теории чувственного познания.
Необходимость более обстоятельного рассмотрения затронутых вопросов обязывает нас еще раз коснуться существа сложившихся концепций эстетического. Хотелось бы сделать это не ради традиции. Сейчас редко какое исследование в эстетике обходит стороной взгляды «общественников» и «природников» на эстетическое. И хотя в большей части таких исследований проводится достаточно детальный анализ позиций как тех, так и других, в них, на наш взгляд, все еще не затрагивается одна очень важная и выходящая за пределы эстетики сторона дела: отношение сложившихся концепций к определенным положениям самой теории и логики познания вообще. В данном случае речь идет об использовании и действенном применении в исследовании известного положения о совпадении диалектики, логики и теории познания, об уяснении этого совпадения как наиболее важного принципа построения научных знаний об объекте.
Формально общественническую и природническую концепции эстетического разделяют по неоднозначному ответу на вопрос о существовании эстетического. Но это формально, ибо данный вопрос остается сугубо философским, и он не предполагает частного ответа на то, существует ли эстетическое в природе («природники») или в обществе («общественники»), на лужайке леса или в заводском помещении и т.д., чтобы по нему можно было судить о принципиальной позиции сторонника той или другой концепции. В своей философской постановке это вопрос о существовании эстетического вообще, безотносительно к сферам его выявления. Только через отношение к вопросу в такой его постановке можно выразить свое отношение к материализму или идеализму.
Поэтому и поныне бытующая дилемма – «природники» – материалисты, «общественники» – идеалисты [8] – остается от начала и до конца надуманной. Ибо, во-первых, никто из наших исследователей не ставил целью обосновывать на интересующий нас вопрос отрицательный ответ; во-вторых – и это главное, – решение такого вопроса связано не только с теоретическим, но и практическим его обоснованием. Не только мышлением, сознанием, но и всем движением чувственности человек подтверждает объективность и независимость существования эстетического.
Более того, в известном смысле такое существование вообще нельзя доказать или опровергнуть чисто теоретическим путем, в дискуссиях, и если некоторые эстетики все еще к этому сводят задачу, превращая ее в некую вечную проблему, то этим они обнаруживают просто непонимание существа проблемы. Смысл разногласий между концепциями, как и всех споров на эту тему, положен не в вопросе о существовании эстетического – такой вопрос решается в ежедневной эстетической практике, – а в вопросе об отношении эстетиков к путям и способам введения этой практики в саму теорию (к тому же и в качестве критерия доказательства существования эстетического, и в качестве истинности построения таких знаний, в которых отразилась бы его природа). Противоречивость концепций эстетического отражает более сложные коллизии, сложившиеся в эстетической науке, чем просто недоразумения, созданные самими эстетиками.
«Принцип онтологизма», или об отношении к диалектике как теории познания
В последние годы наблюдается активная разработка различных направлений исследования эстетического: онтологического, гносеологического, аксиологического. Поднимаются вопросы о системном, структурном, функциональном подходах, обосновывается необходимость обращения к методологическим основаниям других, в частности естественных, наук и т.д. Так, М.С. Каган считает аксиологическое направление исследования эстетического наиболее целесообразным и перспективным [24]. К этой мысли склоняется сегодня и Л.Н. Столович, ранее отдававший предпочтение гносеологическому направлению исследования. Многие эстетики поднимают вопрос о структурном, системном, функциональном аспектах анализа эстетического.
Безусловно, всякое направление анализа, давая возможность раскрыть определенную сторону объекта, уже этим заслуживает внимания. Однако в том смысле, в каком объект выступает как предмет единого научного интереса – что в полной мере касается и эстетического, – необходим и специфически целостный к нему подход. Совершается ли такой подход в области социологии или психологии, этики или эстетики – он должен быть таким же единым по своей диалектико-материалистической сущности, как и сам объект в его специфически устойчивой природе и функциях.
Всякий объект, не говоря уже об эстетическом, дается не только для знания, движения мышления или сознания человека. Уже сам факт включения и функционирования его в системе общественно-исторической практики людей говорит о том, что он не может оставаться безотносительным к этой практике, которая в конечном счете всегда должна войти в полное определение объекта исследования не как случайность, не как оговорка, а как наиболее основательное выражение его существенности. Только при условии сохранения (уже в самом начале теории) единого значения объекта, как оно было выявлено и обнаружено всем ходом общественно-исторической практики, только с кропотливым, по возможности наиболее детальным, введением этой практики в саму теорию можно сохранить и целостность подхода к объекту, а отсюда – и правильно построить систему знаний о нем.
Поэтому наблюдающаяся пестрота различных аспектов исследования эстетического отражает не только известную трудность в осмыслении самой по себе природы последнего, но и некоторую недооценку со стороны эстетиков диалектического пути построения таких системных знаний, в которых эстетическое не упрощалось бы как раз в указанном его практическом значении и функционировании. Собственно, только избежав такого упрощения, можно не допустить произвольного расщепления объекта исследования на различные его составные части, «элементы», «структуры» и т.д., а тем самым и предотвратить превращение его в случайный предмет анализа.
П.В. Копнин правильно отмечал, что «разработка теории различных аспектов единого объекта, когда она ведется на уровне познания его сущности, неизбежно вовлекает науку в область познания его как целого, как единой системы взаимодействия. Однако трудности в синтетическом изучении объекта знания, которые вызваны современной дифференциацией и специализацией наук, приводят к тому, что научные методы, вырабатываемые в условиях неизбежно искусственной изоляции предмета от его объекта как целого, оказываются формалистичными, что накладывает свой отпечаток на самую возможность создать конкретно-всеобщую содержательную теорию объекта. Эта трудность в конечном счете коренится в непонимании значения материалистической диалектики как единственно-конкретно-всеобщего метода» [38, 416].
Именно потому, что материалистическая диалектика остается этим единственно-конкретно-всеобщим методом, она не может противостоять устремлениям конкретного подхода к предмету анализа и в этом смысле не может исключать многообразие направлений исследования с их необходимой при этом формализацией знаний об отдельных сторонах объекта познания. Вместе с тем она не составляет и простое единство этих направлений, чтобы, реализуясь, они могли как-то исчерпать ее. Требование конкретной целостности и всеобщности подхода к объекту вытекает из природы самого объекта. Оставаясь в общем-то безразличным к тем или иным концепциям и направлениям исследования своей сущности, объект всегда оказывается небезразличным к своей единой научной теории, стремящейся взять его таким, каким он есть, во всех связях и опосредствованиях. Ибо еще задолго до создания такой теории объект своим практическим функционированием обнаруживает и свои законы, которые при условии создания его единой теории диктуют последней не произвольный, а специфически определенный к себе подход.
Понятно, что сама эта специфичность создается не теорией, тем более не аспектом исследования, где, к слову говоря, объект может предстать очень своеобразным и не соответствующим действительности. Только будучи вплетенными в материальные и духовные потребности людей или – применительно к науке – трансформированными через область научных знаний, в системе которых возможно создание интересующей нас теории, реальные законы объекта могут превращаться и в законы самого познания. И только с этого времени они могут быть положены в науке в виде ее определенных требований – законов, методологических принципов, особых черт познания и т.д.
В дальнейшем, если эти требования выполняются, если метод исследования остается соответствующим природе объекта как природе человеческой потребности в нем, объект, образно выражаясь, никаких претензий науке не предъявляет. И в этом состоит выражение правильного соединения теории и практики, как оно должно иметь место во всяком подлинно научном исследовании. С точки зрения самой науки, в таком соединении и будет положено выражение принципа совпадения диалектики, логики и теории познания как принципа правильного, материалистического соединения в познании субъективных и объективных закономерностей, следовательно, принципа правильного построения теории.
И напротив, если метод подхода к объекту базируется на случайном выборе аспекта исследования – а такая случайность вполне допустима, – если законы развития объекта не становятся одновременно и специфическими законами (принципами) построения исследования, а диалектика этого развития не оформляется в саму логику исследования, – неминуемо появится и расхождение между теорией и практикой, между знаниями об объекте, как они сложились эмпирически и бессистемно, и знаниями, какими их требует вывести наука и общепрактическое функционирование объекта.
К тому же осознание такого расхождения и задача устранения его весьма часто может выдаваться за новую проблему, трудности решения которой уже будут относиться не на счет неправильного толкования метода исследования, а на счет сложности… природы самого объекта. В сущности, такая картина сложилась во многих областях знаний. Скажем, в этике это проблема моральных ценностей, в социологии – вся так называемая «аксиология», в эстетике – проблема эстетического.
В самом деле, на практике, в непосредственном восприятии и утверждении эстетического мы, как правило, не задаемся вопросом об объективности существования прекрасного, возвышенного и т.п.; в теории же такой вопрос приобретает значение особой проблемы. На практике мы давно решаем (и небезуспешно) огромный круг задач, связанных с эстетическим воспитанием; в теории же вопрос о сущности такого воспитания может и поныне вызывать острые дискуссии.
Признание положения о единстве направления исследования объекта предполагает понимание не только правильного соединения в познании субъективных и объективных закономерностей вообще, применительно к теории в целом, но и правильного соединения их в самом начале теории, или, как принято говорить, в логическом начале. Ибо только при таких условиях указанный принцип совпадения может быть доведен до выражения принципа развития теории как одновременно принципа объективности отражения объекта.
Под логическим началом следует понимать вовсе не формальное начало построения теории или изложения мысли в исследовании. Речь идет о таком исходном фундаментальном положении, само вычленение которого в абстракции могло бы приравниваться к обнаружению основного принципа (закона) развития объекта как одновременно принципа построения системы знаний о нем. В строгом смысле интересующее нас начало тоже есть некоторое исходное движение знаний в исследовании. Но исходное только по форме. По содержанию же оно есть и некоторый конец, итог, вывод всей теории. Но вывод, опять-таки, в абстрактной форме, ибо теория еще остается не созданной. В этом смысле логическое начало можно было бы представить как полагание, своеобразное предвидение истины исследуемого. Причем каким бы абстрактным ни представлялось такое полагание, но, взятое не просто в значении «догадки», желанного результата, а как более-менее адекватное отражение главного и существенного в объекте, оно должно предопределять и всю направленность, логику развития знаний, а тем самым – и путь построения необходимой нам теории.
Не рассматривая здесь отношение логического начала к тому поистине формальному началу, с которого начинается всякое исследование, отметим лишь, что это не одно и то же. Ибо если первое составляет сущность развития всей системы знаний об объекте, ее своеобразную методологическую ориентацию на любом из участков построения теории, то второе – только простую «зацепку» мысли в исходном пункте построения исследования. В конечном счете и ошибочная теория исходит из какого-то начала изложения знаний и даже полагает свой принцип их развития. Но, как правило, то и другое в ней остается в чисто случайной связи, так что, скажем, ее принцип может базироваться не столько на объективной логике (диалектике, истории) развития объекта, сколько на одних формально-логических связях мысли и тем самым формироваться как бы в «хвосте» изложения знаний, в конце самой теории.
В свою очередь, и начало такой теории остается несущественным и произвольным, поскольку единственное, что определяет ее дальнейшее развитие, остается связанным лишь с процедурой этого чисто формального выведения одной мысли из другой, в лучшем случае – с упомянутым уже полаганием объекта в его абстрактной форме. Но поскольку такое полагание берется не в значении «момента истины», а просто как наперед составленное «мнение» исследователя об объекте, то и оно не выполняет каких-то принципиальных методологических функций, а скорее требует того, чтобы вся теория была направлена на его «конкретизацию», «уточнение», «объяснение» и т.д.
Однако правильно развивающаяся теория выдвигает особые требования к своему началу, так как от него зависит и движение научного анализа, и тот объективный его результат, который своей конкретностью и содержательностью характеризует само существо совпадения истины и объекта, субъективного и объективного на материалистической основе. Понятно, что такой результат может быть только выведенным, т.е. явиться следствием не просто «обволакивания» суждениями этого наперед составленного «мнения» исследователя об объекте, а действительного восхождения знаний от простого к сложному, следовательно, следствием развития теории.
Именно поэтому игнорирование логического начала приводит к разрушению принципа восхождения знаний от абстрактного к конкретному. Теория, лишенная выражения такого принципа, как правило, всегда оказывается формалистично замкнутой: из чего исходит – к тому же и приходит, т.е. каким полагает объект в начале своего формирования, точнее, в этом упрежденном, нечетком и расплывчатом его представлении, – таким оставляет его и в конце. При этом вместо того, чтобы следовать от абстрактного к конкретному, такая теория фактически следует наоборот: от более-менее конкретного (по крайней мере, в эмпирическом смысле) представления объекта на первых шагах построения системы знаний о нем – к абстрактному представлению в конечном пункте построения таких знаний. Сама система здесь не столько обогащает исходное понимание объекта, сколько обременяет его самой процедурой изложения знаний – нагромождением определений объекта, описанием ее разрозненных сторон, особенностей, отношений и т.п. «Поэтому движение, – как правильно отмечает Э.В. Ильенков, – которое эмпирику кажется движением от эмпирических фактов к их абстрактному обобщению, на самом деле есть движение от прямо и четко не выраженного абстрактно-общего представления о фактах к терминологически обработанному (и по-прежнему столь же абстрактному) представлению. С абстрактного он начинает, абстрактным же и кончает» [22, 257].
На попытках построения различных теорий эстетического все это прослеживается достаточно наглядно. Л.Н. Столович, например, в свое время исходил из представления эстетического как свойства реального мира, пытался осмыслить его как свойство и в итоге свел к свойству, несмотря на то, что строилась целая концепция. Ф.Д. Кондратенко полагал эстетическое как отношение человека и в итоге в таком его значении и оставил. А. Нуйкин предпринимал попытку истолковать его как чувство человека и фактически в таком виде рассматривал его до конца. Любопытно, строились целые концепции толкования предмета анализа, но тем не менее между полагаемым и итогом исследования не было, в сущности, никакого различия.
И в самом деле, если со всей строгостью подходить к пониманию действительного восхождения и развития теории, то даже для чисто абстрактного взгляда совершенно понятно: как нечто единое, существенное само эстетическое не может быть сведено ни к свойству, ни к чувству, ни к отношению человека, и это должно быть понятно не в формально-логическом истолковании данного положения. Ведь, скажем, капитал тоже может быть и товаром, и мерой стоимости, и даже эстетической формой сокровища. Но в своей целостной сущности это, как известно, не первое, не второе, не третье, порознь или вместе взятое, а определенное общественное отношение.
Единство направления всякого научного исследования с необходимостью предполагает 1) материалистическое понимание совпадения субъективного и объективного и доведение этого совпадения до выражения принципа объективности анализа (принципа отражения) исследуемого; 2) обнаружение логического начала теории, как его можно понять в значении развития теории или же в значении диалектического восхождения знаний от абстрактного к конкретному.
Представляется, что именно недооценка единства этих двух моментов в методе исследования и привела к тем ошибкам в анализе эстетического, которые нашли свое место в теориях «природников» и «общественников» и которые, к сожалению, еще до конца не преодолены. Эти ошибки – не узкоспециального, а общетеоретического плана и при указанных обстоятельствах неизбежны в любом из направлений исследования. Если недооценка совпадения субъективных и объективных закономерностей в целом всегда будет толкать исследователя на путь онтологизма (по крайней мере, того, кто хотя бы стихийно будет придерживаться каких-то материалистических позиций), то недооценка функций логического начала, самой необходимости логического (диалектического) развития теории всегда будет толкать его на путь гносеологизма.
Мы исходим здесь из достаточно категорической дилеммы потому, что, во-первых, какое бы направление исследования ни выдвигалось, коль оно развивается в русле процесса познания, оно не может не оставаться в сфере компетенции гносеологии (в теории нет негносеологических отклонений и ошибок), следовательно, присущие ему возможные и наиболее общие ошибки следует рассматривать как гносеологические; во-вторых, если речь идет о единстве диалектико-материалистического метода познания, то относительно строгого его применения возможны как раз такие наиболее общие ошибки, которые будут связаны прежде всего или с неправильным толкованием материализма как диалектического (онтологизм), или с неправильным толкованием диалектики как собственно материалистической (гносеологизм). Но это именно те ошибки, которые накладывают свой отпечаток на самую возможность создания конкретно-всеобщей теории объекта, в какой бы области знаний она ни создавалась.
В пределах, доступных данному исследованию, остановимся подробнее на этих ошибках, поскольку они имеют прямое отношение к нашей проблеме.
Известно, что онтологизм в его объективной разновидности (субъективную его разновидность сейчас нет необходимости затрагивать) основывается в целом на материалистическом, если не сказать – объективистском, смысле совпадения мышления и бытия, субъективного и объективного в познании. Сам онтологизм не сознает этого совпадения, как не сознает и того, что он является все же теоретико-познавательным течением со всеми присущими ему не онтологическими, а гносеологическими ошибками.
Идеал онтологизма – схватить наличное бытие объекта, к тому же без какой бы то ни было связи его с человеком, познанием, потребностями. И в этом – все положительное и все отрицательное онтологизма.
Материалистическая диалектика не расходится с последним лишь в конечных целях познания, т.е. лишь в отношении того, что исследуемый объект должен в конечном счете быть представленным таким, каким он есть, в своем собственном бытии. Но она не может не расходиться с ним уже в самом начале процесса познания объекта. Ибо вопрос о том, что собой представляет такое бытие, – вопрос, как его можно сформулировать вне отношения к познанию и практике, – является еще открытым, и это само собой понятно. Если же речь идет об определенном бытии – а таковым объект дается самому началу познания, – то это уже вопрос не онтологии как таковой, а гносеологии.
Иначе говоря, для материалистической диалектики вопрос о бытии сразу же превращается и в вопрос о познании, об отражательной сущности мышления, о его способности представить истину. А именно эту сторону дела как раз и не желает понять онтологизм.
В марксистской философии достаточно убедительно проведена мысль о том, почему онтология не может иметь самостоятельный предмет рассмотрения, отличный от предмета марксистской гносеологии. Вопрос о таком предмете был бы равносилен вопросу о том, может ли какое-либо бытие даваться сознанию, практике, потребностям людей без какой бы то ни было определенности и значимости, т.е. в так называемом чисто онтологическом виде. Двузначности суждений здесь не может быть. Не случайно В.И. Ленин связывал всю «онтологическую проблематику» с решением гносеологических вопросов. Определяя место онтологии в самой же гносеологии, он называл первую началом гносеологии, употребляя это выражение для оттенения материалистического смысла совпадения субъективного и объективного в познании. И это естественно. Противоречие между онтологическим и гносеологическим с самого начала предстает как противоречие самого познания, следовательно, как собственно гносеологическое.
Нетрудно заметить, что, как ложный принцип, онтологизм вытекает из неправильного толкования основного вопроса философии. Сосредоточивая все внимание на одной его стороне – отношении мышления к бытию, он отсекает вторую его сторону – отношение мышления к самому мышлению – и таким образом уничтожает его как теоретико-познавательный вопрос вообще. При этом весь действительный процесс познания, его богатство, тенденция и т.д. приносятся в жертву самоцельному истолкованию положения о независимости бытия от сознания и практики. Что здесь прежде всего разрушается до полного основания – так это само познание, его теория; к тому же та теория познания, которая, используя само существо отражения, выступает одновременно и логикой развития бытия, и диалектикой такого развития.
Однако выяснение отношения мышления к самому мышлению, т.е. требование рассмотрения второй стороны основного вопроса философии, не содержит в себе ничего схоластического и субъективистского. При правильно понятой теории отражения исследование мышления всегда дает выход в сторону бытия (вообще другого выхода, кроме как через мышление, в познании не существует). Более того, в требовании выяснения такого отношения содержится и выражение требования понимания самого бытия, но как раз такого, которое небезразлично человеческим устремлениям, потребностям, идеалам или каким оно дается нашему сознанию и практически. Именно поэтому недооценка второй стороны основного вопроса философии, как правило, приводит к полному непониманию социальной направленности и подлинной актуальности основного вопроса философии в целом. Онтологизм не видит, во имя чего осуществляется доказательство независимости бытия от мышления, каково методологическое значение этого доказательства.
Однако в противоположность онтологизму основной вопрос философии нуждается не просто в выработке раз и навсегда данного ответа, чтобы со временем его можно было вообще не вырабатывать, а если и вырабатывать, то уже не обращаться ни к каким проблемам мышления, сознания и т.д. Напротив, данный вопрос тем и актуален, что полагает не застывший, а всегда конкретный, исторически содержательный ответ, т.е. ответ, соответствующий уровню развития как общественного бытия, так и общественного сознания.
Непонимание этого делает онтологизм прямой противоположностью воинствующего материализма, его карикатурой. Питаясь самыми обыденными представлениями о связи мышления и бытия, он претендует на выражение философского направления только потому, что вовлекает эти представления в круг движения философских знаний и оформляет их в некий самостоятельный «принцип» подхода к миру. Но, не имея собственной методологии, он так и остается принципом «наивного реализма». К тому же не того наивного реализма, который В.И. Ленин оттенял как естественно-человеческое признание независимости существующего от сознания (в таком реализме еще есть что-то от практики, от стихийно сложившегося опыта жизни человека) [2, т. 18, 65]. Скорее, речь идет о «реализме», который саму эту «наивность» превращает в единственно возможное и конечное доказательство всякой объективности. Ведь какого-то другого пути такого доказательства онтологизм не может знать хотя бы потому, что сам же стремится взять существующее вне связи с познанием, практикой, следовательно, – и вне того самого стихийного опыта жизни, на который он тайно, не сознаваясь себе, и возлагает все надежды. Поэтому об онтологизме можно было бы хорошо сказать словами К. Маркса: здесь «мышление как мышление, выдает себя непосредственно за другое себя самого, за чувственность, действительность, жизнь…» [1, т. 42, 166]. Иначе говоря, каково бы ни было стремление онтологизма избавиться от собственно познавательной позиции, от мышления, вообще – от субъективного, он вынужден все же апеллировать к позиции познания, к мышлению, к субъективному, но уже выдавать такую позицию за позицию самой жизни и практики.
Об этих неприглядных связях онтологизма с обыденным сознанием можно было бы и не упоминать, если бы они не имели поучительную историю, а сам онтологизм с его и поныне непрекращающимся повторением своих положений не претендовал на выражение принципов марксистской философии. «Материалистической онтологией, – отмечалось, например, в учебнике по „Марксистско-ленинской философии“, – называется рассмотрение мира как он есть сам по себе, в отвлечении от способов его познания» [33, 91].
В 1910 году В.И. Ленин писал: «Чрезвычайно широкие слои тех классов, которые не могут миновать марксизма при формулировке своих задач, усвоили себе марксизм… крайне односторонне, уродливо, затвердив те или иные „лозунги“, те или иные ответы на тактические вопросы и не поняв марксистских критериев этих ответов… Повторение заученных, но непонятных, непродуманных „лозунгов“ повело к широкому распространению пустой фразы…» [2, т. 20, 88].
В 1922 году В.И. Ленин опять подчеркивает опасность поверхностного усвоения марксизма, отмечая скучные, сухие «пересказы марксизма, которые преобладают в нашей литературе и которые (нечего греха таить) часто марксизм искажают» [2, т. 45, 26].
Мы не хотим проводить прямую связь между той поверхностностью усвоения марксизма, о которой вел речь В.И. Ленин, и становлением онтологизма, хотя, вероятно, на основе такой поверхностности и происходит превращение всей стихийности онтологизма в некое выражение «принципа». Как известно, то было время, когда молодое поколение марксистов вынуждено было не столько развивать идеи марксизма, сколько защищать их от нападок буржуазной идеологии. Позднее, когда вопрос «кто – кого» уже определенным образом решался в пользу Советской власти, создавались и предпосылки для небывалого массового признания этих идей и без какого-то глубоко научного их освоения. И в этом уже заключалась опасность – возможность упрощения этих идей, сведение их к «пустой фразе», к конгломерату застывших положений, нуждающихся в простой констатации, заучивании и «пересказах».
Трудно сказать, чем могла определиться живучесть онтологизма и по сей день. Во всяком случае, не последнюю роль в этом сыграла давняя связь онтологизма со старой натурфилософией. Собственно, это и есть та же натурфилософия, только, если можно так сказать, с ее рецидивом вторжения в область человеческого духа, законов познания. Как бы то ни было, но в 30 – 50-х годах под видом критики идеализма онтологизм оформляется уже в своеобразный «правомерный аспект» материалистической диалектики, т.е. той самой диалектики, которая, по существу, упраздняет старую натурфилософию; но небезынтересно, что оформляется по мере того, как якобы основной вопрос философии теряет свою актуальность, а «повседневная практика» становится лучшим критерием разрешения всех теоретических вопросов. Что материя первична, а сознание вторично, что бытие определяет сознание и т.д. – все эти положения приобрели для онтологизма не столько методологическое значение, сколько значение «пустых фраз», нуждающихся в постоянном их повторении и заучивании.
Не все благополучно сейчас с оценкой этого ложного познавательного направления. Для эстетика свидетельство тому – почти двухдесятилетняя дискуссия по проблеме эстетического.
Вообще онтологизмом может быть заражена любая область научных знаний. Но то, что ею прежде всего оказалась эстетика, – далеко не случайно. Последняя наиболее близко стоит к рассмотрению таких особенностей предметного мира, которые предполагают осознание их связи с потребностями людей, короче говоря – с субъективным моментом. А это, в сущности, претит онтологизму, стремящемуся схватить чистую наличность бытия, «в отвлечении от способов его познания».
Как бы ни сложилась картина, но сейчас важно отметить, что в критике своего рода «эстетического онтологизма», в лице которого предстала в основном природническая концепция эстетического, и поныне допускаются определенные крайности: оценка этой концепции дается не столько по принципиальным методологическим соображениям, сколько по отдельным, подчас неудачным высказываниям ее представителей.
В противоположность сложившейся практике исследований мы не станем возобновлять в памяти историю становления этой концепции. Вероятно, это не следует делать хотя бы потому, что как бы мы ни подходили к понятиям «природники», «общественники», в них не будет просматриваться философское содержание тех принципов, по которым можно было бы определить истинность или ложность позиции исследователя.
Однако нельзя обойти стороной отчетливо сформировавшееся отношение этой концепции к марксистской теории познания, в частности к материалистическому смыслу совпадения субъективных и объективных закономерностей в познании и необходимости использования такого совпадения в теоретическом построении научных знаний. Это отношение выходит далеко за рамки взглядов самих «природников» и, независимо от того, надо ли продолжать дискуссию по вопросу об эстетическом, требует несколько иного его осмысления, чем это обычно делалось «природниками» или их критиками.
Сразу же бросается в глаза, что природнической концепции, как это характерно для онтологизма вообще, свойственно полное непонимание того, что вопрос о существовании (бытии) эстетического – не особый онтологический, а гносеологический вопрос. Иначе говоря, в своей философской постановке его нельзя правильно разрешить, не затрагивая и второй стороны основного вопроса философии. Вопрос о бытии эстетического сразу же оборачивается вопросом о познании такого бытия, о специфических способах его постижения и истинности представления в теории.
Впрочем, «природников» эта сторона дела совершенно не интересует. В каком плане что решается, каково подлинно гносеологическое содержание понятий «бытие», «объект», «объективное» и т.д. – все это с самого начала было представлено несущественным в глазах «природников». Но зато полное доверие было оказано здравому смыслу, наглядности, созерцанию, как убедительнейшим аргументам в решении упомянутого вопроса о существовании эстетического.
Однако известно, что решение вопроса о независимости бытия от сознания, предмета чувств – от самих чувств и т.п. предполагает рассмотрение очень узкой взаимосвязи субъекта и объекта: мышления субъекта и бытия объекта, субъективного и объективного. Эта связь, фиксирующая абсолютность противопоставления отражения и отражаемого, не сводима к взаимодействию субъекта и объекта как к таковому, в живом движении которого это противопоставление остается относительным, и вычленять его нет смысла. Другими словами, упомянутая связь мышления и бытия, субъективного и объективного является сугубо гносеологической, и оперировать ею можно только в очень узких пределах самой теории познания, в данном случае – в пределах решения основного вопроса философии.
Именно на это обращал внимание В.И. Ленин, когда подчеркивал, что противопоставление сознания и материи, субъективного и объективного не должно быть преувеличенным, метафизическим. «Пределы абсолютной необходимости и абсолютной истинности этого относительного противопоставления, – писал он, – суть именно те пределы, которые определяют направление гносеологических исследований. За этими пределами оперировать с противоположностью материи и духа, физического и психического, как с абсолютной противоположностью, было бы громадной ошибкой» [2, т. 18, 259]. В другом месте В.И. Ленин отмечает мысль Гегеля о том, что «превратно рассматривать субъективность и объективность как некую прочную и абстрактную противоположность. Обе вполне диалектичны» [2, т. 29, 166].
И сказанное нетрудно понять, если учесть, что в тотальном взаимодействии субъекта и объекта может иметь место как раз обратная зависимость: человек на каждом шагу подчиняет себе объект, переделывает его соответственно своим потребностям и интересам. Но эта зависимость уже от начала и до конца – практическая (а не узкогносеологическая), и признание ее совершенно не означает допущение субъективизма или беспринципности в решении основного вопроса философии. Недоразумения могут иметь место лишь при условии отождествления этой практической (предметно-деятельной, производственной) зависимости объекта от субъекта с узкогносеологическим взаимоотношением мышления и бытия, при условии сведения понятия «объект» к понятию «бытие», а понятия «субъект» – к понятиям «мышление», «сознание», «субъективное» и т.п.
Но в этом-то как раз и повинны «природники». Хотя ими было немало сказано о практике, о субъекте и объекте эстетической деятельности, поставить вопрос об их действительной связи и взаимообусловленности они не решались, потому что это якобы могло означать перенос проблемы эстетического в плоскость пресловутой «координации субъекта и объекта». Отсюда – и основная методологическая ошибка «природников».
Смешав решение основного вопроса философии с вопросом о живом, практическом взаимодействии субъекта и объекта, они вынесли понимание объективности эстетического за пределы осознания практики и законов движения познания, а тем самым – и за пределы самой гносеологии. Отныне такая объективность полагалась как само собой разумеющийся факт, который можно лишь констатировать и иллюстрировать на примерах, но никак не выводить из той же практики и познания. В действительности же такой факт имплицировался из все той же связи, если не сказать – все той же «координации», субъекта и объекта. Но выводился неосознанно, с тайной ссылкой на наглядность обыденного опыта или на все тот же «наивный реализм», закрепившийся в значении простой веры в первичность всякого бытия. Не случайно вот уже на протяжении десятилетий этот факт остается для «природников» (как, впрочем, и для «общественников») своеобразным камнем преткновения. Оказалось, что его нельзя и обосновать без того, чтобы не отказаться от так называемых «эстетических качеств» как некой однородной реальной структуры (обе концепции в этой однородности «качеств» и усматривают всю объективность эстетического), и отбросить без того, чтобы уже вполне сознательно не признать справедливость упомянутой «координации» и не оставить открытым основной вопрос философии.
И надо отдать должное представителям обеих концепций. Они сделали все возможное, чтобы преодолеть парадоксальность сложившейся ситуации. Факты, примеры, апеллирование к здравому смыслу (какие только аргументы ни приводились в разгар дискуссии!) – всего этого было предостаточно, хотя не давало и не могло дать желанных результатов.
Для «природников» же стремление осмыслить существование эстетического в так называемом онтологическом виде обернулось и другого рода трудностью: невозможностью понять специфику самой потребности в эстетическом. Чем большим было желание разорвать субъект и объект эстетической деятельности, тем более абстрактной выглядела эта потребность, а само эстетическое оказывалось чем-то внешне чуждым и безотносительным к человеку. В итоге, взятое в абсолютном отрыве от запросов и потребностей людей, т.е. фактически в обезразличенной форме, такое бытие эстетического получает название «природного» бытия, что, в сущности, очень логично. В такой форме оно, действительно, не имеет никакого отношения к человеческому бытию, ибо не является объектом каких-то реальных практических интересов человека. Здесь эти последние уже в истоке теории были отброшены «природниками» ради избежания «принципиальной координации» и сведены к акту сугубо формальному – пассивному созерцанию и восприятию эстетических свойств. Но вместе с такими интересами «природники» отбросили и ту подлинно реальную особенность предметного мира, с которой связано удовлетворение потребности в эстетическом и которую ставила целью объяснить природническая концепция.
Потребность в эстетическом есть отнюдь не безразличная для человека потребность. А потому уже сам факт низведения ее до акта пассивного созерцания и восприятия заставляет задуматься. Если под эстетическим идеалом подразумевать какое-то застывшее выражение готовых ценностей или, с другой стороны, лишь абстрактное выражение какой-то «нормы жизни», стремление «к лучшему», к «гармонии жизни вообще», к «полноте развития» и т.п., то совершенно естественно, что степени абстрактности такого «идеала» должна отвечать и степень абстрактности средств его достижения. Здесь эти средства должны будут браться лишь «в форме созерцания» (К. Маркс), т.е. в высшей мере пассивно, в виде чего-то извечно данного, абсолютного, «природного».
Иначе говоря, они должны быть такими же неизменными и вечными, как само это абстрактное стремление «к лучшему» или как сама эта природа, взятая со стороны наличия в ней постоянных «свойств», сходных с физическими, химическими и т.д.
Нетрудно заметить, что так называемые «эстетические свойства» природы, которые и поныне привлекают внимание многих эстетиков, есть лишь обратная сторона указанного «идеала», т.е. они-то и представляют собой иллюзию таких «средств», закрепившихся в виде абстракций «гармония», «совершенство», «достоинство» и т.д. и мыслимых в виде чего-то чисто онтологического.
И именно онтологического. Ибо что касается гармонии, совершенства, достоинства и т.д. как понятий или как человеческих запросов и побуждений, которым, без сомнения, отвечают определенные реальные средства их утверждения, то они в принципе не могли попасть в поле зрения «природников». Именно в принципе. Ибо в противном случае это заставило бы их начать разговор не со свойств природы, тем более не с природы «самой по себе», «онтологической», а с очеловеченной природы, практически включенной в какую-то связь с человеком. Для «природников» же эта связь оказалась просто препятствием на пути решения основного вопроса философии, а потому была отброшена с такой же легкостью, с какой им хотелось засвидетельствовать свое позитивное отношение к материалистическому ответу на указанный вопрос.
Природнической теории остался неизвестным другой эстетический объект, кроме предмета созерцания. Впрочем, это даже не предмет созерцания. «Эстетические свойства», как их представили «природники», есть просто абстракция в худшем смысле слова. Экстраполированные задним числом из факта существования эстетической оценки, точнее – из простого убеждения, что основанием такой оценки должно быть что-то вполне реальное и предметное, эти «свойства» приобретают здесь выражение объективности только потому, что перед «природниками» постоянно вставала задача возвращаться к решению основного вопроса философии. А так как в эту задачу не включалось осмысление функции практики и познания, ибо все возлагалось лишь на достоверность того, что дается в эстетической оценке, в восприятии эстетического, то и само обоснование объективности последнего здесь не шло дальше пространного описания того, что и как отражается нами в этом восприятии. Никакое действительное историческое развитие объекта здесь не могло попасть в поле зрения.
С другой стороны, онтологизм «природников» не позволил им представить и другого субъекта эстетической деятельности, кроме человека пассивной оценки и созерцания. В сущности, это человек без каких бы то ни было действенных побуждений и идеалов. Единственный его интерес – потребность в этом пассивном созерцании эстетического – неизвестно для чего дается, что удовлетворяет, на что направлен.
Если здесь нет намеренного упрощения дела со стороны «природников», то мы вынуждены будем признать, что во всем этом есть некоторое отражение и вполне реального человека. Но это – как раз тот человек, для которого цели и средства жизни слились во что-то крайне абстрактное, неопределенное, не полагающее путей своего достижения, а потому и оставляющее самого человека если не в состоянии безысходной «тоски», то в состоянии «радостного» бездеятельного созерцания – «эстетической оценки». Если эту «тоску» и «радость» не принять здесь во внимание (а они и в самом деле выполняют чисто формальную функцию в глазах «природников»: ведь «эстетическая оценка» – это лишь средство «отражения» той самоцели, коей и является «само-по-себе-существование» эстетического), то окажется, что перед нами уже известный нам человек, для которого каждый момент жизни, каждое его состояние полагается как некое средство достижения «лучшей жизни», другого состояния, за которым ничего не содержится, кроме упомянутых уже абстракций «гармония», «совершенство» и т.д. Это бессодержательное стремление человека к «гармонии», «совершенству» и т.п. и оборачивается всей пассивностью той «эстетической оценки», с которой «природники» связывали все надежды на объяснение существа эстетического.
Не случайно с такими представлениями об объекте и субъекте эстетической деятельности теория «природников» не могла не породить массу односторонних и, не в обиду будь сказано, примитивных суждений. Ряд из них хотелось бы привести из чисто методологических соображений:
«Обрабатывая камень, мрамор, – писал в свое время И. Астахов, – человек выявляет объективно присущие им эстетические качества и в соответствии с поставленной целью придает им необходимую форму» [7, 198]. (Здесь, как видим, была даже попытка представить человека как деятельное существо. Но это пустая, мнимая деятельность, ибо, спрашивается, зачем же «эстетическим качествам» придавать какую-то форму, да еще в соответствии с «поставленной целью», если они уже выявились как эстетические?)
Или мысль Г.Н. Поспелова: «Чернышевский правильно утверждает, что не все роды, даже в лучших своих представителях, сами по себе могут „достигать красоты“. Но (!) разве в тех „типах“ и „классах“, „родах“ и „видах“ растений и животных, которые вообще-то не могут „достигать красоты“, лучшие, относительно превосходные их представители не обладают тем не менее эстетическими достоинствами по сравнению с другими, „средними“ и „слабыми“ представителями тех же „родов“ и „видов“? …И разве не могут быть по-своему превосходны и лягушка, и ящерица, и ворона, хотя они и не красивы? А с кротами вообще надо быть поосторожнее! Люди видят кротов по большей части загрызенными и задавленными на поверхности земли. А каковы они в своих норах и переходах, об этом едва ли кто хорошо знает» [36, 97]. (Резонно! Но тогда не свести ли к этому и всю проблему, чтобы в итоге убедиться, что Чернышевский был неправ?)
Или, наконец, мысль П.Л. Иванова: «Природа творит, не заботясь о том, чтобы ее предметы были эстетическими, – они не оценивают себя. Функцию оценки выполняет человек». И далее: «…Природа дает и критерий для оценки своих явлений» [19, 52].
Однако достаточно. Тем более, что таких мыслей можно было бы привести очень много, а нас интересуют здесь совсем не частности.
Нетрудно убедиться, что все размышления «природников» вокруг эстетического конечной целью всегда предполагали одно и то же: не упустить из поля зрения вопрос о бытии эстетического, не сойти с позиций материализма (хотя еще не известно – лучше это или хуже, если не задаться вопросом: какого материализма), не идти дальше познания как пассивного отражения и созерцания эстетического. «Общественное сознание, в частности эстетическое, – писал П.Л. Иванов, – лишь отражает объективно существующую реальность, и общественную, и природную. Только так с точки зрения материализма (!) может решаться вопрос о гносеологических основах эстетического» [19, 51].
И вправду, на этом и исчерпывала себя вся «гносеология» в представлении «природников». Оказывается, им она была необходима только для того, чтобы констатировать бытие эстетического ссылкой на факт отражения, точнее, чтобы задним числом, тайно, бросая платформу онтологизма, можно было апеллировать к тому же познанию, к субъективному, к оценке человека, которые до этого упускались из виду.
Впрочем, такой отход от онтологизма характерен для «природников» лишь в конце их размышлений. До этого же, как правило, наблюдается процедура «чисто онтологического» подхода к существу дела, на котором есть смысл остановиться. Такой подход типичен почти для всех «природников» и достаточно отчетливо обнаруживает их подлинное отношение к марксистской гносеологии. В общих контурах он сводится к следующему. Вначале идет абстрактный (правильнее сказать – взятый на уровне чувственной видимости) анализ предмета оценки, т.е. разложение эстетического объекта на его различные «части», «виды», «классы», «подклассы». Причем все это делается якобы в собственно онтологическом плане. Затем идет сравнение этих «частей», сличение и различение «видов», «классов» и, наконец, синтез всего этого в новую единичность, но без собственно эстетического содержания анатомируемого объекта. Эта абстракция единичности как что-то «особенное», «онтологическое» – «гармония» как таковая, «совершенство», «превосходность» и т.п., – прямо или косвенно соотнесенная с оценкой, и представляется искомой сущностью эстетического. Причем, несмотря на само соотнесение с такой оценкой, она, тем не менее, мыслится независимой ни от человека, ни даже от частей анатомируемого объекта, что якобы и составляет онтологическое выражение чисто «эстетического свойства».
Этот путь не нов. Когда-то эмпирическая эстетика следовала как раз тем направлением, что отыскивала сущность красоты посредством внешнего сравнения формы эстетического предмета с формой какого-либо другого аналогичного предмета. Это внешнее сходство форм, подобие черт, признаков и т.д., оторванное от самих предметов и схваченное мыслью в абстрактном синтезе, приобретало значение «качества» и в таком виде выдавалось за красоту вообще. Названное тем или иным термином – «пропорция», «гармония», «золотая середина», «золотое сечение» и др., – это «качество» мысленно вкладывалось в ту же неповторимую форму проявления красоты предмета, но уже в значении специфически эстетического содержания.
Эту, в сущности, карикатуру на диалектический способ мышления, на путь восхождения знаний от абстрактного к конкретному можно найти у В. Хогарта, Э. Берка, Е. Фехнера и др. «В рассмотрении каких-либо сложных предметов, – писал, например, Э. Берк, – мы должны исследовать каждую составную часть в целом одну за другой и свести все к наибольшей простоте… Чем больше сравнений мы делаем, тем более общим и более определенным становится наше знание» [20, 5].
Мы не хотим отождествлять способ мышления представителей эмпирической эстетики со способом мышления всех «природников». Но, право же, подчас складывается впечатление, что старые эмпирики были более последовательны в проведении своей логики, чем некоторые из «природников», которые, по крайней мере субъективно, стремились оформить онтологический взгляд на эстетическое во что-то целостное и законченное.
Скажем, тот же Г.Н. Поспелов критиковал взгляды В. Хогарта, Э. Берка, Е. Фехнера. Но буквально через две страницы излагал следующее: «Чтобы осознать превосходность явлений определенного рода, возбуждающую положительную эстетическую оценку, необходимо соотнести их с явлениями менее превосходными и с явлениями, вовсе не обладающими родовой превосходностью, не возбуждающими поэтому активных эстетических суждений и оценок, и, наконец, с явлениями, резко и заметно ущербными в своих родовых свойствах» [36, 87]. Здесь автор, пожалуй, еще оставался последовательным в своем онтологизме, ибо в процедуре «соотнесения» одних эстетических явлений с другими отводил «оценке» роль сугубо формальную и пассивную. Но мысль автора проделывала здесь лишь полпути, ибо, следуя уже известной логике «соотнесения», анализ должен был смениться синтезом, а полученный результат не без помощи все той же «оценки» должен был предстать в значении чего-то «общего», но в отдельном проявлении: «Абсолютной родовой превосходности явлений жизни, конечно, не бывает, она всегда более или менее относительна. Речь идет именно об особенно отчетливом и активном целостном внешнем проявлении общих родовых свойств в отдельном (!) существовании, проявлении, оценке со стороны (!!). В этом и заключается собственно эстетическое достоинство явлений того или иного рода» [36, 86].
Что здесь так и остается непонятным, – это сама граница, отделяющая эстетическое явление от неэстетического, т.е. явление с «отчетливой» выраженностью родовых свойств от явления, лишенного такой выраженности. Не связывается ли эта «отчетливость» со все той же «оценкой со стороны»? Если да, то автор ни на шаг не продвинулся в обосновании онтологической природы эстетического. Если нет, то остается в силе старый вопрос: какую, скажем, лягушку (таинственных кротов оставим в стороне) необходимо находить с большей выраженностью родовых свойств, чтобы оценивать эстетически, а какую – с меньшей выраженностью таких свойств, чтобы оценивать неэстетически?
Но если Г.Н. Поспелов еще как-то стремится сохранить единую позицию и отодвигает оценку «в сторону», то В.С. Корниенко прямо связывает с ней выявление онтологических характеристик эстетического, полагая, что придерживается при этом какого-то единого взгляда [27].
По мнению В.С. Корниенко, эстетическое есть свойство целого. Какого целого? Хорошо сознавая, что целое чего-то одного уже есть и часть чего-то другого, что, скажем, ножка стула есть такое же целое, как и сам стул, и т.д., В.С. Корниенко пытается сохранить целостность эстетического и, естественно, стремится ограничить возможное расщепление эстетической вещи на кусочки «целого» до бесконечности. И ограничивает это не чем иным, как актом восприятия. Оказывается, эстетическое – это такое целое, которое может восприниматься нами, даваться в пределах достигаемости органов чувств: его можно увидеть, услышать, ощутить, короче – охватить органами восприятия. Целое же, которое только мыслится (например атом, элементарная частица и т.п.), не может быть эстетическим. В крайнем случае, оно может быть таковым при условии приближения его к восприятию хотя бы опосредованным образом (скажем, через вполне осязаемую модель атома или элементарной частицы).
Трудно сказать, почему автор усматривает в этом новый взгляд на проблему эстетического. Слишком уж этот взгляд напоминает аристотелевское толкование «меры». Но Аристотель, как известно, предъявлял к красоте требование быть не только целым, т.е. воспринимаемым вообще, а целым таких частей, «обозрение» которых отвечало бы определенной временнóй последовательности их охвата в восприятии. «…Красота, – писал он, – заключается в величине и порядке, вследствие чего ни чрезмерно малое существо не могло бы стать прекрасным, так как обозрение его, сделанное в почти незаметное время, сливается, ни чрезмерно большое, так как обозрение его совершается не сразу, но единство и целостность его теряются для обозревающих, например, если бы животное имело десять тысяч стадий длины» (курсив наш. – А.К.) [6, 1451 а].
Как видим, в понимании красоты Аристотель ставит определенное ограничение не только целому как таковому, но и самому восприятию его. У В.С. Корниенко же остается совершенно открытым положение: почему все данное для восприятия, к тому же безразлично какого, следует считать эстетическим?
По-видимому, автор размышляет просто. Если за термином «эстетическое» скрывается не что иное, как чувственное, то все то, что дается органам чувств, и есть искомое эстетическое.
В.С. Корниенко ратует за целостность подхода к эстетическому, обвиняя «общественников» в неумении провести такой взгляд. Но ведь не кто иной, как «природники» предприняли анатомическое расчленение предмета красоты с целью обнаружения в нем особых «свойств». И нашли их в виде «гармонии», «пропорции», «симметрии» и т.д. Что же касается «общественников», то они лишь продолжили этот путь. Подняв вопрос о микроструктуре такого предмета и его «атомах красоты», они довели этот путь до определенного конца, а тем самым показали и всю его бесплодность. Поэтому можно понять В.С. Корниенко, выступающего сейчас против произвольного расщепления эстетического и отгораживающегося от позиций и «природников», и «общественников».
Однако целостность, как она присуща эстетическому, и целостность, как ее истолковал сам автор, – это совершенно разные вещи. Ибо в представлении В.С. Корниенко эта целостность оказалась такой же обезразличенной и обесцененной, как и ограничивающий ее акт пассивного и абстрактного восприятия. Не случайно у автора в итоге возникла настоятельная потребность поставить вопрос об эстетичности… самого эстетического: что из всего воспринимаемого нами или из всего поддающегося нашим органам чувств может быть по-особому значимым, интересным, т.е. эстетическим? Фактически В.С. Корниенко вынужден был вернуться к самой постановке проблемы и формулировать ее так, как она практически формулировалась во всей традиционной эстетике.
Возведенные в «эстетическое» абстрактные понятия «гармония», «пропорция», «симметрия», «превосходность», «достоинство рода», «совершенство», «полнота жизни» и т.д. действительно нуждаются в возвращении им человеческого, подлинно эстетического содержания. А это невозможно сделать, абстрагируясь от процесса взаимодействия субъекта и объекта эстетической деятельности. Тем более это невозможно сделать, не используя в полной мере принципы марксистской теории познания как диалектики и логики. И именно как диалектики и логики. Ибо та «теория познания», которая сведена «природниками» к простому набору знаний об отражении человеком мира, здесь не может идти в счет.
Онтологизм в эстетике должен быть преодолен, к тому же преодолен с правильных, диалектико-материалистических позиций. Как определенное гносеологическое течение он с самого начала дезориентирует понимание процесса познания, не дает правильного представления о постановке вопроса о предмете исследования. Методологически в нем может быть сохранена лишь та, стихийным образом выраженная, конечная цель познания, которая предполагает рассмотрение предмета таким, каким он является. В такой цели, хотя бы в неосознанной форме, содержится и определенное материалистическое представление совпадения субъективного и объективного в познании. Но, опять же, взятое произвольно и стихийно, такое представление остается совершенно неприемлемым для материалистической диалектики, для которой указанная конечная цель познания, рассмотрение предмета таким, каким он является (к тому же и в его человеческом, а не только чисто онтологическом бытии), составляет выражение ее осознанного принципа, ее гносеологического идеала.
«Принцип гносеологизма», или об отношении к диалектике как логике познания
В силу сказанного для материалистической диалектики неприемлема и другого рода крайность, связанная с умалением или затушевыванием указанной конечной задачи исследования, с преувеличением роли способов познания и постижения объекта, без учета их действительного реального содержания. А факт такого затушевывания и представлен в гносеологизме.
Гносеологизм есть скорее прямая, стихийная, неразумная реакция на онтологизм, чем его позитивное преодоление. Своими путями и методами постижения действительности он представляет буквальную копию онтологизма. Различие только в том, что онтологизм вообще не сознает ни этих путей, ни их противоречивости. Гносеологизм же если и сознает, то видит их совершенно перевернутыми, так что свои собственные заблуждения и противоречия выдает за заблуждения познания вообще, за противоречия самого бытия и самой действительности. Поэтому можно сказать, что гносеологизм – это реакция на онтологизм как на свое собственное бессилие.
Если материалистическая диалектика не расходится с онтологизмом в конечных целях познания, то с гносеологизмом она не расходится в самой постановке вопроса о предмете исследования, т.е. лишь в отношении того, что, действительно, бытие предмета, каким оно дается мышлению, познанию, оценке, уже есть и мысленное, познаваемое бытие и т.д. Но она не может не расходиться с гносеологизмом в самом процессе, в тенденции, в итоге постижения предмета, потому что вопрос о том, как дается мышлению или познанию всякое бытие, есть вопрос не просто одного мышления или познания, а мыслящего, познающего субъекта, т.е. вопрос и сознающего себя бытия (человека). Ибо само по себе мышление вообще не ставит никаких вопросов и ни к чему не относится.
Перед нами, таким образом, все тот же основной вопрос философии. Но если онтологизм сосредоточивает все внимание на первой его стороне, то гносеологизм – на второй.
Нет надобности доказывать, что и в отношении мышления к бытию, т.е. в решении первой стороны основного вопроса философии, содержится выражение отношения мышления к самому себе, к своей природе и способности представлять истину. Ибо, как уже отмечалось, правильно развивающееся мышление, как закон, должно выходить своим содержанием в сферу практики человека, в сферу общественного бытия. Без такого выхода оно замыкается в себе и практически лишается возможности движения и развития, притом того самодвижения и саморазвития, которое в общем и целом должно совпадать с движением и развитием бытия. Необходимость такого совпадения – не прихоть мышления, а одно из важнейших условий его объективного истинного функционирования вообще. Поэтому упускать из поля зрения уже первую сторону основного вопроса философии – значит за субъективным движением мысли не улавливать объективное существо той логики, которую В.И. Ленин называл диалектикой и теорией познания одновременно.
Если онтологизм представляет собой извращенную форму материализма, то гносеологизм – извращенную форму диалектики, притом материалистической. И подобно тому, как первый не может «схватить» бытие без того, чтобы оно уже не оказалось мысленным бытием, так и гносеологизм не может представить бытие, чтобы фактически не омертвить его на субъективном уровне и не остаться на позициях сугубо эклектических. Это обстоятельство делает гносеологизм сходным с крайними формами софистики. Ибо в постижении явлений действительности он лишает себя возможности видеть их развитие, самодвижение; эти последние вообще не мыслятся им без того, чтобы как-то не «подтолкнуть» их со стороны самим же мышлением и не оставить зависимыми от него.
Поэтому логика гносеологизма в конечном счете поразительно рассудочна и стереотипна. Вначале идет процедура «раздвоения единого на противоположности» (причем, в отличие от онтологизма, делается это вполне сознательно, как выполнение требований «диалектики»). Затем – насильственное вычленение этих противоположностей из сферы бытия и искусственное манипулирование ими на уровне мышления, точнее – на уровне терминов, языковых структур, словесных конструкций. Наконец, все это венчается сталкиванием и полным разрушением указанных противоположностей.
Но это не все. Было бы полбеды, если бы этот «разрушительный смерч» мысли так и оставался на субъективном уровне. Но в том-то и дело, что, спроецировав эти уже омертвленные и неразрешенные на уровне терминов противоречия вовне, гносеологизм начинает видеть их такими и в самом бытии – неразрешимыми, вечными, застывшими, – хотя в действительности имел дело лишь с неразрешенными противоречиями рассудочного мышления, базирующегося на законах формальной логики. Как отмечал в свое время Гегель, именно этот рассудок, втянутый в круг таких противоположностей, «„бросается в объятие“ то одной, то другой и, сопротивляясь истине, стремится отстаивать и утверждать с помощью софистики попеременно то одно, то прямо противоположное» [13, 69].
В итоге субъективно гносеологизму еще присуща какая-то гибкость понятий, по крайней мере, в самом стремлении соотнести противоположности и довести их до выражения тождества. Но, оставаясь примененной лишь субъективно, она равна поэтому лишь эклектике и софистике. Ибо, как подчеркивал В.И. Ленин, только гибкость понятий, «примененная объективно, т.е. отражающая всесторонность материального процесса и единство его, есть диалектика, есть правильное отражение вечного развития мира» [2, т. 29, 99].
Гносеологизм удивительно заразителен для того мышления, которое не видит других противоречий, кроме чисто внешних и огрубленных. Нередко исследователи, оказавшись в плену у гносеологизма, выдают эти противоречия за единственно возможные. Но, не будучи в состоянии их разрешить, точнее, согласовать с практикой их действительного проявления и саморазрешения, они начинают сетовать на природу «понятий», на «несовершенство мышления» и «неразработанность языка науки», ополчаясь при этом на подлинное существо диалектической противоречивости. Собственно, ополчаются против своего же представления о противоречивости, но делают это так, что, как верно замечает В.А. Босенко, «сперва сводят все дело к внешним противоречиям, создают внешнюю противоречивость в отношении понятий, а потом обрушиваются на идею противоречивости в сфере мышления, т.е. сперва создают софистическую карикатуру на противоречивость, а потом, выдавая за подлинное, предлагают полюбоваться и убедиться в несостоятельности… но не такого субъективистского создания, а „диалектики противоречивости“» [11, 21].
Спекулятивное вычленение противоположностей в сфере бытия и формально-логическое их разрушение в сфере мышления, без улавливания развития, единства, разрешения этих противоположностей, – таков каждый шаг познавательного движения гносеологизма. Что здесь уничтожается до полного основания, – так это та логика, которая базируется на объективном содержании исследуемого предмета, на его развитии, истории и т.д. Позиция гносеологизма никогда не определяется «точкой зрения практики» – для него она представлена лишь в значении «термина» или «языковой конструкции», – а точкой зрения внешнего соотношения «понятий», формальной связи «суждений» и т.п.
Трудно сказать, чем объясняются «вспышки» гносеологизма в науке. По-видимому, последний всплывает на поверхность движения научных знаний тогда, когда необходимость переосмысления чего-то старого и не соответствующего уровню развития самой науки не сопровождается теоретически разумной формой. Как принцип зряшного, антидиалектического отрицания, гносеологизм оказывается очень подходящим средством для разрушения всякого рода метафизически закостенелых систем знаний, догматических положений и т.п. Но, как принцип теоретически бесплодный, он так и остается средством мысленных спекуляций, своеобразной пищей для субъективизма вообще и позитивизма в частности.
* * *
Нельзя не признать, что характерные признаки гносеологизма нашли свое выражение в общественнической концепции эстетического. Исследователям памятна история возникновения этой концепции. Что в ней было и остается важным, – так это сама попытка привнести в онтологизм «природников» некоторый релятивный момент: посмотреть на эстетическое как на явление, соотносимое и с человеком, с изменчивостью его общественных потребностей и интересов. «Общественники» не смогли провести эту мысль последовательно и до конца и – главное – не смогли согласовать ее с положением об объективности эстетического. Требование понимания этой объективности как независимой от человека, от человечества оказалось просто несовместимым с исходными устремлениями «общественников». В итоге, вынужденные постоянно защищаться от критики, они определили судьбу своей теории таким образом, что соединили свои взгляды со взглядами «природников» как раз там, где сами же наметили их различия.
И в этом нетрудно убедиться, если обратить более пристальное внимание на отношение «общественников» к самому существу диалектической логики, т.е. той логики, которая совпадала бы с теорией (историей) развития предмета анализа и одновременно с диалектикой этого развития.
Вновь-таки, это отношение выходит далеко за рамки взглядов самих «общественников», и выяснение его могло бы быть весьма важным для практики философских исследований вообще.
Прежде всего, почему «общественники», совершенно правильно поставив (и заметим – только поставив) вопрос об объективности эстетического в гносеологическом плане, в итоге разделили онтологическую платформу «природников» в отношении наличия «эстетических свойств», но с отрицанием их природного, «само-по-себе-существования»? Что понятия объективного и субъективного выступают как диалектические противоположности, что, таким образом, сама объективность эстетического небезразлична (не-без-относительна) самому человеку, – это было правильно замечено «общественниками». По существу, это была первая попытка переосмыслить переполненную крайностями теорию «природников», сблизить эстетическое с человеком не формально, а через осознание их действительной взаимосвязи, уяснить потребность в эстетическом не как неизменное созерцание, а как нечто формирующееся и становящееся в самой практике человека. И во всем этом нельзя не увидеть большой заслуги «общественников», правильности предпринятого ими шага.
Но дело в том, что все это было правильным только в смысле первого шага, начала построения теории эстетического. В дальнейшем же «общественники» не смогли увидеть противоречивости вычлененных ими же понятий «субъективное» – «объективное», «эстетическая потребность» – «эстетическое свойство» действительную противоречивость эстетической деятельности, отражение реальной эстетической практики человека, которая и разрешает указанную противоречивость. Здесь это отражение бралось не как продолжение развития эстетического в нашей же оценке, в сознании, в понятиях (не будь оно таким продолжением, мы вообще не ставили бы вопрос о бытии эстетического), а как взаимоисключающее отношение полярных терминов, взятых в чисто гносеологической их связи или же в значении функционирования их на уровне решения основного вопроса философии. Уже омертвленная и огрубленная, эта противоречивость начинает накладываться «общественниками» на реальную и вполне разрешимую противоречивость эстетического, как она обнаруживает себя в живой практике. Но делается это для того, чтобы, как и у «природников», можно было задним числом констатировать ответ на основной вопрос философии, миновав рассмотрение самого существа практического разрешения указанных противоречий. А это, естественно, повлекло за собой уяснение понятий «эстетическая оценка» – «эстетическое свойство», «субъективное» – «объективное» и т.д. не в относительной (практической) их связи, как они вначале брались, а в абсолютной, как того требует само решение основного вопроса философии.
Так гносеологическая сторона дела оказалась абсолютизированной и перенесенной на понимание реальных вещей, в данном случае – на действительную диалектику взаимодействия субъекта и объекта эстетической деятельности, что обернулось полной неразрешимостью вопроса о природе эстетического как в теории, так и в практике. Более того, последняя, оказавшись втиснутой в рамки все той же сугубо гносеологической связи «субъективного» и «объективного» (вместо представления ее в значении взаимодействия субъекта и объекта), вынуждена уже была призываться «общественниками» не столько для подтверждения существования «эстетических свойств», сколько для их фактического порождения.
Так оно и вышло. Как известно, «общественники» не отрицали существование природы как таковой до появления человека, существование же реальных «эстетических свойств» такой природы вынуждены были возвести в особый род объективности, в так называемую объективность «общественного порядка». В дальнейшем, рассудочно сталкивая понятия «природа в себе» – «природа для нас», «существование для себя» – «существование для человека» и т.д. и удерживая их на уровне все того же чисто гносеологического противопоставления, «общественники» так и не осуществили выход в сторону действительной эстетической практики, а формальный анализ первоначально затронутых ими понятий определил и все понимание ими логики как диалектики.
Мы говорим «формальный анализ», ибо хотя в понятиях «субъективное» – «объективное» и была уловлена их какая-то соотносимость и взаимообусловленность (на самом же деле она была вырвана из понятия взаимодействия субъекта и объекта), «общественники» распорядились этой справедливой мыслью отнюдь не по-диалектически: стали развивать ее не в сторону выхода в практику через понимание существа отражения в эстетическом процессе, а в направлении решения основного вопроса философии. А это, мягко выражаясь, уже было чревато идеализмом. Ибо в плоскости решения такого вопроса можно говорить не о взаимообусловленности субъективного и объективного, «эстетической оценки» и «эстетических свойств», а только об обусловленности первого вторым. Сами «общественники» избегали такого вывода только потому, что не развивали свою мысль в указанном направлении до конца.
Этот второй шаг «общественников» – нам хотелось бы видеть его просто досадной ошибкой – стоил им всей критики их оппонентов, которые часто не столько предлагали выход из создавшейся ситуации, сколько размышляли над тем, как важно не попадать в нее.
Не хотим оправдывать тех, кто в свое время поспешил этот шаг «общественников» констатировать идеалистическим. Хотя, с другой стороны, не оправдывает он и «общественников». И как раз по тем обстоятельствам, что, строго говоря, в понятия «субъективное» и «объективное» можно вкладывать только определенный смысл. Первое должно призываться для обозначения лишь круга таких явлений, которые вообще не могут быть объективными, противостоят им, исключают их. В этом смысле понятие «субъективное» не тождественно понятию «субъект», за которым, как известно, скрывается и реально действующий человек, т.е., грубо говоря, и нечто не-субъективное. В равной мере и понятие «объективное» не тождественно понятию «объект», обозначающему сферу практического, преобразуемого человеком бытия, следовательно, и определенное выявление целенаправленного, субъективного момента.
С этой точки зрения то, что скрывается за субъективным и объективным, вообще не вступает ни в какое практическое или теоретическое взаимоотношение, чтобы можно было говорить об их действительной диалектике[5] или чтобы по факту какой-то зависимости первого от второго (как это вытекает из решения основного вопроса философии) можно было бы делать вывод о зависимости существования эстетического от практики. В действительную диалектику взаимодействия вступают не субъективное и объективное, не мышление и бытие, а только субъект и объект, взятые во всем богатстве их общественных производственных связей. В этом взаимодействии само решение основного вопроса философии, равно как и обнаружение момента абсолютной зависимости субъективного от объективного, составляет лишь одну из многочисленных связей субъекта и объекта, смысл и значение которой определяются целями сугубо гносеологического порядка.
И совершенно недопустимо отождествлять эту связь с богатством всех практических отношений субъекта и объекта. Ибо за последними скрывается не только действие мысли или оценки, направленных на бытие, но и тотальная деятельность человека, его жизнь, способы производства и многое другое. Не видеть здесь никакой грани – значит ради формального признания объективности эстетического исключить из рассмотрения всю практическую сторону его обнаружения и постижения.
Двойственность, если не сказать – эклектичность, позиции «общественников» в том и проявилась, что там, где им приходилось вести речь о существовании эстетического и решать основной вопрос философии, они совершенно формально оперировали понятиями «практика», «субъект», «объект», не вводя их в само существо решения проблемы и фактически подразумевая под ними все то же «субъективное», «объективное», «сознание», «бытие» и т.д. И напротив, там, где необходимость уяснения природы эстетического толкала их на рассмотрение каких-то практических моментов связи эстетического с человеком (взаимообусловленности эстетического предмета и эстетической потребности, относительности эстетической оценки и др.), они вынуждены были заниматься обоснованием своего понимания объективности, вычленять ее некий «общественный порядок», ее «другую форму», ее «неприродность», фактически обходя стороной подлинный смысл решения основного вопроса философии.
Как это было характерно и для «природников», «общественники» не пошли дальше созерцательного толкования потребности в эстетическом и такого же толкования предмета этой потребности. Правда, в отличие от первых, они всячески оттеняли ту мысль, что стремятся вести речь не о «природе в себе», а об очеловеченной природе, т.е. включенной в систему практического ее преобразования. Но это мнимое противопоставление. О «природе в себе» вообще не надо заводить разговоры, по крайней мере до тех пор, пока она будет оставаться «в себе». Не лучше ли разобраться в той, которая уже дана «для нас», вступила в живое движение той огромной исторической практики, которую-то и следовало бы призвать в теорию для разрешения всех сомнений?
Нам представляется, что таким противопоставлением «общественники» просто подменяли свои устремления в решении двух принципиально различных вопросов: вопроса о диалектике взаимодействия субъекта и объекта и вопроса об отношении мышления к бытию, т.е. основного вопроса философии. Эта подмена давала им возможность вести речь о какой-то особой форме объективности эстетического тогда, когда требовалось обосновывать общественную природу эстетического, его связь с человеком и т.д. Но, с другой стороны, она же давала возможность толковать саму эту природу и эту связь совершенно несущественными тогда, когда требовалось выразить принципиальное отношение к пониманию объективности эстетического, точнее, к существу решения основного вопроса философии.
Но как раз со стороны правильного решения такого вопроса нет и не может быть каких-то различных форм объективности: общественного или природного порядка. Очеловеченная природа ничем существенным в своей объективности не отличается от неочеловеченной.
В этом отношении нельзя не согласиться с П.В. Копниным, который отмечал: «Хотя паровоз и создан человеком с помощью практики и на основе определенных идей, но с того момента, как любой паровоз принял объективную форму своего существования, он становится такой же объективной реальностью, существующей независимо от сознания человека, как и любой предмет природы. С помощью сознания его нельзя ни уничтожить, ни переделать, для его преобразования, как и для предмета природы, нужна материальная практическая деятельность. Со стороны решения основного вопроса философии нет различия между предметом, возникшим с помощью человека, и предметом, созданным стихийным действием сил природы. Понятие объективной реальности выработано философией только для одной цели – оно устанавливает абсолютность противопоставления материи и сознания в довольно узких пределах гносеологии. И в этом смысле нет и не может быть двух форм объективной реальности» [28, 101].
Общественническая концепция эстетического не довела свою методологию до логического завершения. И объясняется это не только тем, что так называемая «диалектика субъективного и объективного», к которой так часто апеллировали «общественники», оказалась попросту формальной логикой анализа ряда диалектических понятий, но и тем, что «общественники» в целом стремились остаться принципиальными в решении основного вопроса философии, пусть даже по-своему понятого. Этому сопутствовали, помимо прочего, и сами средства формальной логики, оперирование которыми не допускает смешения граней между объективными и субъективными характеристиками эстетического.
Во-вторых, последовательно проведенный гносеологизм, как правило, приводит к разрушению целостности предмета исследования. «Общественники» же любой ценой стремились сохранить единство структуры «эстетических свойств», ибо признание их таковыми давало им возможность подойти к пониманию объективного существования таких «свойств» и, следовательно, помогало выйти из затруднительного положения в проведении материалистического взгляда.
После общественнической теории выход из сложившихся обстоятельств в решении проблемы эстетического мог быть двояким: или действительно попытаться ввести существо практики в логику анализа эстетических процессов, или продолжить все ту же линию онтологизма и гносеологизма на окончательное смешение субъективных и объективных моментов в эстетическом и без того усложнить запутанное понимание проблемы.
Трудно сказать, но то ли потому, что второй путь создает некоторую видимость неодностороннего подхода к предмету исследования, то ли потому, что многим эстетикам хотелось как-то сгладить крайности «природников» и «общественников», – этот путь, к сожалению, предопределил направленность поисков многих исследователей. Во всяком случае, нельзя не отметить наличие все тех же ошибок в подходе к проблеме со стороны новых «компромиссных» теорий эстетического. Как правило, это теории о так называемой «субъективно-объективной» природе эстетического. Смысл их сводится к тому, что якобы вести речь о «чисто» объективной сущности эстетического так же ошибочно, как и о «чисто» субъективной его сущности.
М.С. Каган, сделавший, безусловно, очень многое для преодоления недоразумений, возникших между «природниками» и «общественниками», приводит небезынтересную в методологическом отношении мысль В.Т. Тугаринова, которую тот рассматривает в качестве определяющей в подходе к проблеме эстетического. «Мы не могли бы правильно решить вопрос о природе красоты, – писал В.Т. Тугаринов, – если попытались бы рассмотреть ее в плоскости чисто объективной, т.е. оторвав красоту от человека, или, напротив, в плоскости чисто субъективной, т.е. сведя ее к переживанию, к радости, доставляемой ей… Красота – явление природно-социальное, отраженное в душе человека» [23, 34].
В более пространном изложении ту же мысль высказывает и М.С. Каган: «…Сведение А. Нуйкиным красоты к чувству красоты и эстетической ценности к эстетической оценке, т.е. к субъективной стороне системы объектно-субъектных ценностных отношений, столь же односторонне-ошибочно, как и представления Н. Дмитриевой, Г. Поспелова или Н. Крюковского, сводящих прекрасное к одной объективной стороне этой системы, к структуре материальных носителей эстетических ценностей. Подобные метафизически-односторонние трактовки эстетического равносильны определению человека только как биологического, материального или же только как духовного и социального существа. Ибо точно так же как „человек“ есть именно противоречивое единство и взаимопроникновение биологического и социального, материального и духовного, так и „эстетическое“ есть диалектическое единство объективного и субъективного, материального и духовного, и потому оно не может быть отнесено ни к онтологическому статусу бытия, ни к психологическому статусу познания. Статус эстетического – аксиологический, что означает: прекрасное, возвышенное и т.п. суть ценности, а восприятие их – форма оценивающей деятельности человеческого сознания» [24, 88 – 89].
На первый взгляд кажется, что авторы понимают существо трудностей в решении проблемы и стремятся преодолеть крайности онтологизма и гносеологизма. Но это только кажется. Ибо, во-первых, никто никогда не решал и не мог решать теоретические вопросы в какой-то «чисто» онтологической или «чисто» психологической плоскости познания. В теории возможна только одна плоскость – гносеологическая, которая в равной мере может быть представлена и онтологизмом, и гносеологизмом, и психологизмом. Во-вторых – и это главное, – размышления о «плоскостях» познания преследовали цель сделать вывод об «эстетическом» (М.С. Каган не случайно в конце берет этот термин в кавычки, дабы переключить уже внимание на него как на понятие) как о «природно-социальном», точнее, аксиологическом явлении, которое нельзя отнести ни к принадлежности бытия, ни к принадлежности сознания, ни к объективному, ни к субъективному.
Но это, мягко выражаясь, слишком большая неточность. Ведь речь идет о принципиальном решении основного вопроса философии, т.е. таком решении, которое как раз и предполагает «отрыв» красоты от человека, если уж оперировать такими понятиями, как «субъективное» и «объективное», «сознание и бытие», «материальное» и «духовное». В каком же еще смысле будет позволительно толковать здесь эти понятия? Если, допустим, сказанное авторами касалось не существа решения основного вопроса философии, а диалектики реального взаимодействия субъекта и объекта эстетической деятельности, то к чему тогда какие-то размышления о статусах эстетического?
Разумеется, эстетическое, как и многое другое в этом мире, действительно связано с человеком; оно способно удовлетворять его определенные потребности и желания. И это не подлежит сомнению. Но не подлежит сомнению и другое. Упомянутая связь не мешает ставить и решать вопрос об объективности эстетического, если угодно, о его принципиальной независимости ни от человека, ни от человечества. Никакая аналогия с двойственной природой «человека» не может играть здесь существенной роли. В конечном счете весь мир выступает перед людьми не только как фон для созерцания или «оценивающей деятельности сознания», но и как мир для практического его преобразования и удовлетворения интересов людей. И от этого он не становится менее объективным, т.е. «субъективно-объективным». Напротив, именно этой практической связью с человеком он и обнаруживает свою подлинную объективность и независимость от сознания и оценок.
Но в том-то и дело, что надо было до этого саму практику истолковать, скажем словами М.С. Кагана, метафизически-односторонне, чтобы уже любая связь человека с миром, будь она гносеологического или психологического порядка, мыслилась авторами своеобразным «покушением» на чистоту объективности эстетического и предполагала какую-то особую «плоскость» или сторону его познания.
Критикует обе концепции эстетического и Ф.Д. Кондратенко. Можно сказать, что это типичный образец той критики, которая и поныне высказывается в адрес «общественников» и «природников». Однако нетрудно убедиться, что автор работы «Эстетическое как отношение» [26] стоит на той же методологической платформе, на которой находятся и его противники. Ф.Д. Кондратенко лишь доводит методологию последних до определенного логического конца, не сознавая того, что этим завершает и свою собственную.
Вспомним, ни один из представителей обеих концепций не допускал ликвидации в эстетической вещи самой ее эстетичности. Так или иначе, «общественники» и «природники» оставляли за этой вещью свойства – ее «эстетические свойства». У Ф.Д. Кондратенко же… «выходит, что в вещи ничего не остается, что можно было бы оценить эстетически. Вместе с тем, – признается автор, – эстетическая оценка существует, и от этого факта никуда не денешься. Остается предположить, что при эстетической оценке вещи мы оцениваем не свойства вещи, а нéчто иное» [26, 305]. Уже в конце работы мы узнаем, что это «нечто иное» есть сам человек, его творческие способности, которые проявляются «в любой сфере деятельности, способствующей прогрессивному развитию» [26, 308].
К сожалению, Ф.Д. Кондратенко не представляет другой эстетический объект, кроме того, который критикует сам. Иллюзия такого объекта особенно наглядно проступает тогда, когда автор пытается совместить представление об эстетическом как вещи и эстетическом как отношении. Здесь логика размышления автора слишком уж напоминает известную логику старых экономистов, впадавших в иллюзию при определении природы монетарных систем. «Эта иллюзия, – писал К. Маркс о таких экономистах, – прорывается у них в виде наивного изумления, когда то, что они грубо только что определили, как вещь, вдруг выступает пред ними в качестве общественного отношения, а затем то, что они едва успели зафиксировать как общественное отношение, вновь дразнит их как вещь» [1, т. 13, 21].
Ф.Д. Кондратенко остановился на эстетическом как отношении. Но, нечего греха таить, его тут же беспокоит эстетическое как вещь. И в самом деле, если в существе разговора важна не вещь, но налицо факт ее эстетического оценивания, то, спрашивается, почему такая оценка не возникает тогда, когда этой вещи нет? (Мы исключаем тот единственный случай, когда предметом эстетической оценки могут выступать и собственные мысли человека.) Короче – какую же функцию автор отводит таким вещам, как, скажем, вполне реальное художественное полотно, тот или иной предмет красоты и т.д.? Ведь наши способности и творческие возможности всегда при нас, и если именно это мы оцениваем эстетически, то, попросту говоря, к чему тогда какие-то музеи, художественные выставки, филармонии и многое другое?
Если бы, к примеру, чувство голода можно было утолять только одним отношением к желудку, а не такой вещью, как, скажем, кусок хлеба (кстати, не обладающего никакими иными, кроме физических, химических и т.п. свойств, против которых так остроумно выступает Ф.Д. Кондратенко), то мы никогда не испытывали бы потребности в пище. С другой стороны, тот же кусок хлеба пока еще нельзя сотворить из куска кирпича, как бы велик голод ни был или какое бы отношение к нему мы ни испытывали. Это означает, что с той необходимостью, с какой определенная потребность порождает специфический предмет ее удовлетворения, с той же необходимостью и сам предмет порождает соответствующую ему потребность (отношение) человека.
К. Маркс так и разрешает указанную выше иллюзию старых экономистов относительно сущности денег: «Природа не создает денег, так же как она не создает банкиров или вексельный курс. Но так как буржуазное производство должно кристаллизовать богатство как фетиш в форме единичной вещи, то золото и серебро суть соответствующее воплощение этого богатства. Золото и серебро по природе своей не деньги, но деньги по своей природе – золото и серебро» [1, т. 13, 136 – 137].
Правильно, эстетическое по своей природе есть определенное общественное отношение человека. Но это такое отношение, которое представлено и в форме вполне реальной вещи, в форме предметности явления, события и т.д. Ибо, независимо от всякой фетишизации, действительность человеческого отношения состоит в том, что оно должно не просто мниться, но и воплощаться в готовых или созданных руками человека предметных формах. Очевидно, нельзя игнорировать эту предметную, или вещную, сторону дела, ибо тем самым мы уничтожим и интересующее нас отношение. Никакое апеллирование к «человеку», к его способностям и возможностям не поможет выйти из тупика.
Скажем больше: то «индивидуально-оценочное отношение», которое Ф.Д. Кондратенко попытался истолковать в значении собственно эстетического, вряд ли может быть представлено в форме вещи или какой-то предметности вообще. Ибо, взятое в виде практически безучастной, пассивной оценки человека (а Ф.Д. Кондратенко даже равнодушие возвел в ранг эстетических оценок), оно есть порождение не действительного субъекта эстетической деятельности, а абстракции субъекта – абстракции индивидуально-оценочной деятельности вообще (как будто возможна не индивидуально-оценочная деятельность или оценка коллектива без составляющих его индивидов).
Впрочем, если высказываться до конца, то даже за этой абстракцией субъекта тоже, видимо, скрывается определенный человек, но как раз такой, который волей известных исторических обстоятельств уже давно лишился каких-то действенных общественных стимулов в жизни, оставив себе лишь потребность в «индивидуальных оценках», в созерцании мира «со стороны», в словесной активности. Смеем думать, однако, что это «индивидуально-оценочное» отношение подлежит практическому упразднению как раз во имя подлинного эстетического отношения человека.
К сожалению, требование введения существа (а не видимости) практики в логику анализа природы эстетического не нашло должного осознания даже в тех работах, которые, казалось, уже по времени должны были бы учесть ошибки «общественников» и «природников». Бросается в глаза постоянное увлечение гносеологизмом, стремление перевести проблему в плоскость методологий других наук, расчленить ее на массу второстепенных для эстетики вопросов.
Думается, что при такой открытой несогласованности представления об эстетическом, какой она все еще наблюдается в эстетической литературе, было бы слишком поспешно ставить вопросы о «моделировании эстетических явлений» или, как это отмечает Ю. Борев, пытаться «общественную концепцию (!) прекрасного выразить математически, создать ее знаковую модель» [10, 18]. Не станем спорить, может, такое моделирование и необходимо в эстетике. Что же касается самой концепции «общественников», то, прежде чем ее моделировать, следовало бы хорошо разобраться в ней даже самим «общественникам». Ибо, право же, некоторые из них уже готовы последовать своеобразно сложившемуся в эстетике штампу: использование в исследовании достижений бионики, семиотики, кибернетики и т.д. мыслится чуть ли не верхом современного подхода к эстетическому, хотя такое обращение к естественным наукам вряд ли до конца проясняет дело.
При этом далеко не лучшее, что было ранее у «общественников», может найти свое выражение в подобного рода устремлениях. Здесь нельзя не отметить все тот же односторонний анализ, расчленение эстетического объекта (разумеется, на уровне методов той же семиотики или кибернетики), тот же абстрактный синтез этих уже омертвленных его «структурных элементов», завершающийся описанием их в «субъективно-объективном» значении. Различие только в том, что если раньше в абстракцию общего представления об эстетическом возводились такие понятия, как «свойство», «качество», «отношение» и т.д., то сейчас – такие, как «ценность», «значение», «мера», «норма» и др. Тяга к оперированию такими понятиями не случайна. Согласно объяснениям самих авторов, каждое из них несет двойственную нагрузку, или, скажем по-современному, двойственную информацию, и о субъекте, и об объекте, что якобы и соответствует двойственной природе эстетического. (Как будто любое человеческое понятие не несет аналогичную нагрузку!)
Между тем существо задачи остается прежним, и замена абстракции «свойство» на абстракцию «ценность» или «мера» так же ничего не проясняет, как не проясняет замена понятия «эстетическое» на понятие «икс» или «игрек». Этим можно только оттянуть решение задачи, но не решить ее по существу.
К слову сказать, современная буржуазная эстетика весьма успешно реализует установку на исчерпание феномена эстетического с помощью почти всех перечисленных выше естественнонаучных приемов. Настолько успешно, что из этого следовало бы сделать недвусмысленный вывод: стремление всесторонне проанализировать предмет исследования – это стремление хорошее, но не увлекаемся ли мы естественнонаучной методологией хотя бы в том смысле, что восполняем ею пробелы в разработке методологии своей науки?
Герберт Франке в работе «Феномен искусства» («Естественнонаучные основы эстетики») достаточно правильно формулирует задачу: «найти средства, которые освещали бы многогранность явлений искусства» [41, 8]. Таким средством автору видится эстетика в ее «соприкосновении с естественными науками» или эстетика, которая «основывалась бы на новейших исследованиях теории происхождения, психологии отношений, неврологии, исследованиях в области мотивов и биокибернетики» [41, 8]. Автор при этом вовсе не гоняется за какими-то частными результатами. Акцент на необходимости «соприкосновения» эстетики с естественными науками делается для проведения мысли о том, что «в эстетике теперь представляются новые пути выхода, так как рядом с ее философским и историческим аспектами выступают и биологический, и технический». И далее: «Математический инструмент кибернетики – это теория информации. Только с ней стало возможным найти меру для того понятия, с помощью которого произведение искусства становится измеримым. Это понятие – информация» [41, 13].
Не заостряя ситуацию, отдадим должное и естественным наукам в вопросах эстетических. Ведь, в конце концов, важна идея, а не ее интерпретация буржуазным эстетиком. К тому же и сама практика вторжения таких наук в эстетику настолько полна достаточно красноречивыми результатами, что вряд ли можно игнорировать их.
Все это так, и мы вообще обошли бы эту идею стороной, предоставив обсуждение ее более сведущим в естествознании людям, если бы в реализации ее трезво оценивались возможности самого естествознания и не смешивались границы между естественнонаучным взглядом на вещи и взглядом собственно философским, теоретико-эстетическим.
Весьма любопытно, что цитируемый нами автор прекрасно понимает все это. Больше того, он понимает и другое, что, к сожалению, не всегда сознается нашими исследователями: хотим мы того или не хотим, но стремление к видимой «полноте» охвата эстетического явления различными естественнонаучными точками зрения ведет вовсе не к углублению в предмет исследования, не к проникновению в его сущность, а скорее к упрощению его, к своеобразному «очищению» от всего того, что требует не естественнонаучной, а философской, социальной, политической и т.д. интерпретации. Цитируемый нами эстетик последователен, по крайней мере в том смысле, что сознательно становится на точку зрения этого упрощения, ибо при этом может мыслить совершенно несущественным как раз то содержание, которое оказывается «трудным» для естественнонаучного истолкования, т.е. которое затрагивает самое сердцевину специфичности эстетического феномена, социальный смысл такой специфичности. «Выводы естественнонаучной теории искусства должны быть объективными, – предупреждает автор. – Этого можно достичь, если явление (произведение искусства. – А.К.) подавать чистым; если мы исключим полностью влияние всего того, что не является предметом (!) исследования. Однако высокая сложность материала исследования делает сложным и момент исследования. Настоящее произведение искусства редко когда отвечает требованиям чистоты. Когда появляется необходимость проверить эффект его воздействия, то обычно всплывают при этом побочные величины, которые прикрывают главное. Многие из этих величин-помех базируются на ассоциациях, воспоминаниях, традициях, социальных представлениях, выводах критиков искусства и т.п. Когда эти побочные величины добавляются к нашему восприятию произведения искусства и, таким образом, влияют на понимание его эффективности, то ими можно в конечном счете и пренебречь. Если же объект исследования не поддается эксперименту, естествоиспытатель помогает себе попытками применения моделей. …Модель произведения искусства должна отвечать двум требованиям: 1) она должна быть доступно простой, чтобы легко ею оперировать; 2) она должна заключать в себе как можно меньше побочных явлений… чтобы исключить ассоциации» [41, 10].
«Техника, – заключает Г. Франке, – позволяет нам охватить даже целые жанры искусства измерениями в моделях. Например, осциллограф катодных лучей дает возможность проанализировать беспредметную графическую игру света – связь образа с ритмом и, таким образом, ее аналогом – музыкой. Обращение с аппаратом простое… Этим аппаратом и другими, подобными ему, можно в любое время проследить созревание формы искусства от ее первого выражения до проявления в целой системе правил. Даже электронно-вычислительная машина пригодна для этого. Ею можно гипотетически обосновать стили искусства и по желанию изменять их. Осциллограф катодных лучей и электронная машина, перерабатывающая информацию, в своем значении для искусства далеко перешагнули рамки известных исследований. Они применимы как предвестники будущего искусства – искусства автоматизации и машинизации» [41, 10 – 11].
Не знаем, как читателю, но нам приятно иметь дело с откровенным противником. Уж если он считает, что все социальное в явлении искусства – это просто «величина-помеха», то так и говорит; если ассоциации, выводы критиков искусства, традиции и т.д. находит трудными для моделирования, то говорит и о вполне реальных трудностях, которые призывает просто обойти. Гораздо хуже, когда то же моделирование сопровождается безмерным оптимизмом, пышным набором категорий отнюдь не естественнонаучного порядка, призывами «учесть и социальное» в явлении и т.д., но все это – ради того, чтобы каким-то образом не принизить наши возможности в деле автоматизации или машинизации.
Гносеологизм в эстетике должен быть преодолен с диалектико-материалистических позиций. Методологически в нем может быть признана правильной лишь постановка вопроса о предмете исследования, т.е. попытка с самого начала представить эстетическое небезотносительным к человеческим потребностям и, таким образом, изменяющимся и развивающимся вместе с ними. Правда, даже в этой попытке гносеологизм остается крайне бесплодным, так как схватывает самое абстрактную связь эстетического с человеком.
ГЛАВА II. О СПЕЦИФИЧЕСКОМ ПРИНЦИПЕ И «НАЧАЛЕ» ТЕОРИИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И БЕЗРАЗЛИЧНОЕ
Единство диалектики, логики и теории познания применительно к специфике эстетических исследований. Понятие «начала» теории эстетического
Решить проблему эстетического можно только при условии, что мысль исследователя обратится к действительной истории возникновения и развития человеческих потребностей, к истории их формирования и способов удовлетворения. Такой подход к проблеме не противоречил бы конечным целям исследования – анализу объективного существа эстетического, – как это могло бы показаться стороннику онтологического направления.
Всякое бытие дается человеку через мышление, сознание, через логику и историю их развития. В равной мере и бытие эстетического может быть обнаружено и доказано не иначе как через живое движение человеческой чувственной практики. Причем для собственно теоретического исследования, не имеющего непосредственно дела с бытием объекта, вопрос о «доверии» этому историческому (и практическому) движению, иначе говоря, вопрос о действительности того, что лежит (и лежит ли?) по ту сторону мышления, сознания, чувственности, сразу же превращается в вопрос о «доверии» самому существу марксистской теории отражения. Для исследователя, строящего свою логику лишь на наглядности эмпирического опыта, такая теория фактически выполняет чисто формальную функцию, так что, скажем, положение о той же объективности эстетического, вместо того чтобы быть выводимым из самодвижения принципов отражения, может задолго до этого выводиться совершенно стихийным образом простой ссылкой на абстракцию практики. В действительности же теория отражения призвана выполнить методологическую функцию от начала и до конца исследования, составить внутренний источник логического развития знаний. В этом смысле отношение к объективности всякого бытия оборачивается для теоретика отношением к философскому смыслу процесса отражения.
Другое дело, когда надо выяснить, в какой принципиально необходимой (соответствующей природе объекта отражения) форме взять само это отражение, мышление, чувственность и т.д., чтобы довериться им, т.е. рассматривать их не только как моменты произвольно составленного представления, скажем, о существовании красоты, но и как моменты вполне существенного и конечного доказательства такого существования. Боязнь некоторых эстетиков обращаться к субъективности, недоверие к чувственному, апеллирование к абстрактной практике и т.п. – все это и есть результат непонимания формы тех субъективных процессов, осознание самоотражения в которых только и может составить предпосылку правильного уяснения природы эстетических явлений и объективности их существования одновременно.
Что же касается практики, то она действительно является критерием доказательства существования эстетического, но не в том смысле, что представляет собой чисто внешний, механический, без движения субъективности процесс (какой ее фактически и мыслит онтологизм), а в том, что она включает в себя это субъективное и как что-то подлинно непосредственное, несомненное, неоспоримое. Вероятно, и сама чувственность, взятая в значении этой непосредственности и неоспоримости, может нести в себе выражение всего богатства практики и в такой форме предстать важным инструментом анализа природы чувственных явлений.
Поэтому непременным условием правильного подхода к проблеме должно явиться признание методологической значимости одного очень важного положения. Способ движения чувственности, взятой во всем богатстве ее общественных практических определений, и способ выявления, познания и доказательства бытия эстетического есть один и тот же диалектический процесс, подчиняющийся одному и тому же закону их объективно истинного функционирования. Этот процесс, конечно, можно расчленить какими-то аспектами познания (онтологическим, аксиологическим, психологическим и т.д.), равно как и упростить закон его указанного функционирования. Но расчленить лишь в теории. Ибо на практике никакой другой способ познания, кроме способа этого живого, человеческого движения чувственности, не в состоянии обнаружить и адекватным образом отразить специфическую являемость эстетического; иными словами, никакая более достоверная «внешняя практика», кроме правильно понятого акта чувственной человеческой деятельности, не может быть конечным доказательством бытия и сущности эстетического.
Тем самым для позиции теоретика, не имеющего непосредственно дела с бытием эстетического, вопрос о таком бытии и его сущности сразу же превращается в вопрос о специфичности указанного чувственного акта и о путях «введения» его в саму теорию без возможного обеднения и произвольного расщепления.
Лишь с совершенно сознательным признанием этих положений в качестве методологически важных и необходимых для исследования можно, наконец, очертить действительные границы нашей проблемы и преодолеть крайности онтологизма и гносеологизма в ее постановке и решении. Речь идет о том, что:
1) единственно специфическим предметом исследования остается самодвижение и развитие эстетического не в каком-то особом онтологическом, или психологическом, или аксиологическом его смысле[6], а в смысле уже указанного способа его непосредственно чувственного проявления и воздействия на человека;
2) только рассмотрение эстетического в такой форме проявления, а отсюда – и объективного его существования дает возможность ввести в теорию и на деле использовать, с одной стороны, принцип совпадения субъективных и объективных закономерностей вообще и применительно к познанию эстетического в частности, с другой – принцип их действительного различия, вытекающего из существа отражения и решения основного вопроса философии;
3) лишь последовательное развертывание этих принципов в контексте или в самой логике исследования явится достаточным основанием правильного соединения в теории вопроса о природе эстетического и вопроса об объективности эстетического в один, собственно практический, вопрос проблемы; только в таком соединении диалектика эстетического процесса может быть представлена как логика (история) развития человеческой чувственной деятельности, а отсюда – и как специфическая теория его познания.
Наше намерение обратиться к субъективному, в частности чувственному, акту может быть оправдано и рядом других методологических соображений. Что анализ истории развития предмета исследования всегда по-своему необходим, – это не требует особой аргументации. Но в данном случае история не является самоцелью. Обращение к ней необходимо для правильного построения логики анализа предмета в его совершенной, законченной, действительно существующей форме. Совершенность же, или законченность, развития эстетического состоит не в том, что оно существует как нечто предметно застывшее, статичное, природное и т.д. (о каком тогда его развитии может идти речь?), а в том, что по самому смыслу своего практического функционирования оно воздействует на человека, присваивается им, в конечном счете – движется само-чувствием человека. Другими словами, действительность эстетического состоит и в том, что оно получает завершение, угасая в акте потребления, где само потребление его есть и своеобразная конечная цель, конечный смысл его существования, а потому и законченная форма совершенства.
Но если принять это во внимание, то, возвращаясь к методологической стороне, мы опять вынуждены будем констатировать необходимость обращения к субъективности, к тому же в достаточно определенной ее форме.
Кроме того, обращение к истории, как известно, в определенном смысле вообще невозможно. Если анализу подлежат, скажем, человеческие потребности и способы их удовлетворения, то именно по причине их исторической изменчивости исследователь всегда будет сталкиваться с необходимостью уяснения их в таком виде, в каком они уже не существуют. Тем самым складывается ситуация, которую Гегель образно передал словами: «Сова Минервы вылетает в полночь». Стремление схватить предмет мыслью в его совершенной форме обнаруживает себя тогда, когда фактическое становление такого предмета уже оказалось скрытым за горизонтом времени.
Это обращение познания к несуществующему может на деле означать обращение его лишь к самому себе, к своей логике, к своему развитию. Применительно к предмету нашего разговора это означает, что мысль должна быть повернута прежде всего к той логике развития человеческих чувственных процессов, которая в свернутом виде уже вобрала в себя и фактическую завершенность развития эстетического (движение его в самочувствии человека), и всю историю такого развития.
Отныне задача могла бы свестись к осуществлению своеобразного «обратного» развертывания такой логики в само представление истории развития предмета, т.е. в собственно движение или построение его теории. Эта теория и могла бы составить выражение существа совпадения диалектики и логики развития предмета, но совпадения таким образом, каким оно вытекает из отражения или из определенного различия познания и познаваемого.
Мы не останавливаемся сейчас на особенностях механизма развертывания мысли в интересующей нас теории. Важно подчеркнуть, что представление реальной истории становления предмета исследования в самой логике не должно быть упрощено мыслью, рассудком. Указанный механизм должен быть в высшей степени диалектичным, имманентным процессу отражения как становлению тождества различий логического и исторического[7].
К пониманию диалектики эстетического должна быть применена сама диалектика. Но вовсе не та «диалектика», которую можно было бы взять лишь на уровне «чистой» логики или «чистой» теории познания в виде некоторой застывшей системы понятий и категорий. Такая система, если ее мыслить к тому же как что-то внешнее и безразличное самому совпадению диалектики, логики и теории познания, неминуемо обернется шаблоном, схемой, нуждающейся в наложении ее на интересующую нас диалектику. К пониманию любого диалектического процесса должен быть применен или своеобразно задействован сам принцип материалистического понимания совпадения диалектики, логики и теории познания, принцип столь же подвижный, как и диалектика. Эта подвижность его должна определяться не столько механизмами мышления, сколько становящимся содержанием объекта.
Здесь мы сталкиваемся с определенным противоречием. Чтобы правильно понять диалектику рассматриваемого объекта, надо сознательно стать на позицию материалистического представления ее совпадения с логикой и теорией познания. Но чтобы стать на такую позицию, надо взять диалектику во всей полноте ее действительного выражения, «достроенной доверху», завершенной в самом разрешении ее возможного различия на уровне субъективном и уровне объективном.
Это противоречие кажется тавтологическим кругом и остается непонятным для рассудочного мышления. В действительности же оно есть противоречие самой диалектики или самого диалектического способа познания, требующего его содержательного применения. (Ибо ведь познать диалектику – значит и «применить» ее то ли сугубо теоретически, то ли практически.) И разрешается такое противоречие не столько за счет самих по себе категорий диалектики или категорий той области знаний, в которой мы осуществляем указанное «применение», сколько за счет того позитивного и конкретного содержания (поскольку истина всегда конкретна), которое выходит в сферу бытия и нуждается в своем раскрытии.
Если бы теория того или иного диалектического процесса состояла из одних лишь понятий или категорий (будут ли это категории самой диалектики или категории той или иной частной науки), то вопрос о построении такой теории, следовательно, о познании диалектики в этом процессе свелся бы к вопросу о построении раз и навсегда данной «системы категорий», которая требовала бы лишь простого наложения ее на содержание исследуемого.
Однако это была бы не диалектическая, а метафизическая теория. Для теории же как диалектики сами категории – это всегда своеобразные «аккумуляторы», которые начинают свое действие лишь при включении их в «сеть» актуального человеческого содержания. Здесь категории «снимают» себя, растворяются в самом содержании и этим выказывают действительность своей диалектической функции как функции методологической. Категории, не наполненные таким содержанием, остаются мертвыми, и их «систематизация», нанизывание, разложение по своеобразным ячейкам оправдывает себя разве что в отношении целей теоретико-экспериментального порядка.
На наш взгляд, исходить из совершенной формы диалектики (что, повторяем, необходимо при любых обстоятельствах правильного «применения» диалектического способа познания или деятельности) – значит исходить из того представления ее совпадения с логикой и теорией познания, которое несет в себе материалистический смысл единства субъективного и объективного, теории и практики, логики мышления и истории закономерного развития объекта исследования.
Мы подчеркиваем – материалистический смысл, ибо, в противоположность сказанному, сама идея указанного совпадения, как она подчас развивается в нашей философской литературе, чаще оборачивается идеей отыскания неких «стыковых узлов» между диалектикой, логикой и теорией познания лишь в одном мышлении, так что само «единство» их представляется в итоге как единство диалектики субъективной и диалектики объективной, логики мышления и «логики реальной», короче – как единство отражения и отражаемого.
Но при таком узкогносеологическом понимании совпадения, когда отражение и отражаемое не могут не находиться в определенной абсолютной несовместимости (не совпадении), ни о каком другом единстве диалектики с логикой и теорией познания, кроме как единстве мышления с самим мышлением, познания – с самим познанием и т.п., не может быть и речи. Ибо если быть принципиальным в решении основного вопроса философии, то совершенно неважно, под каким названием будет преподноситься такое «совпадение» или «единство» – то ли под видом «неразрывности логики и теории познания», то ли под видом их полного «тождества в методе познания», – речь будет идти, по сути, не о диалектическом совпадении диалектики с логикой и теорией познания, а о формальном тождестве субъективного выражения такой диалектики с формой ее описания (а не действия) в теории. Что при этом с самого начала отсекается или, во всяком случае, не в должной мере подразумевается, – это как раз такое выражение диалектики, которое остается по ту сторону отражения, мышления, познания, хотя и не без отражения в мышления и познании: диалектика бытия, доведенная до осознанности своего выражения, до понимания определенной активности ее вторжения в социальное бытие.
Другими словами, диалектика, взятая не в материалистическом понимании ее совпадения с логикой и теорией познания, теряет возможность выступить в значении содержательной логики и материалистической теории познания, а в конечном счете – методом революционного преобразования действительности. Ибо диалектика есть в собственном смысле слова логика лишь постольку, поскольку является одновременно историей развития человеческого сознания в его восхождении, связях, преемственности и его оформлении в главный вопрос всей философии – в ее основной вопрос. С другой стороны, диалектика есть и постольку теория познания, поскольку является одновременно содержательной логикой объективного бытия, взятого в развитии, восхождении и доведении его до уровня осознанного (т.е. постигаемого в этом же вопросе) бытия. Наконец, диалектика есть постольку логика и теория познания («не надо 3-х слов»), поскольку само разрешение указанных противоречий между сознанием и бытием практически совершается или осуществляется в формах актуальной человеческой деятельности, будь она идеальной или материальной.
Но это все может быть понятным при условии известного преодоления не только узкогносеологического, но и онтологического взгляда на диалектику.
Ибо, во-первых, деление диалектики на «объективную» и «субъективную» с целью их противопоставления имеет определенный смысл только с точки зрения сугубо гносеологической, предполагающей конечной задачей выяснение отношения отражения и отражаемого вообще. Здесь активность и полнота выражения диалектики могут еще не улавливаться, т.е. не доводиться до оформления в основной вопрос философии. Последний, как известно, своей второй стороной предполагает и выяснение отношения отражения к самому отражению, мышления – к самому мышлению, т.е. требует выяснения места и функций диалектики познания в практическом процессе осуществления самого познания.
Во-вторых, с точки зрения этого практического, реального взаимодействия субъекта и объекта указанное деление диалектики на «субъективную» и «объективную» теряет свой смысл: диалектика едина в своем проявлении, если не сказать – «действии», начиная от бытия и кончая мышлением, от своего стихийного выражения в деятельности человека и кончая ее осознанным выражением. Искусственно разрывать это единство в угоду каким бы то ни было целям познания – значит заведомо исходить из неправильного представления диалектики в самом существе ее совпадения с логикой и теорией познания, видеть ее совершенность лишь в форме мысли, субъективного.
В-третьих, взятая на уровне развития сознания или же на уровне логики понятий и категорий, диалектика является не просто отражением («отблеском») уже упомянутой «объективной» диалектики как чего-то внешнего и безотносительного к движению практики и познания, а своеобразным достраиванием, «дооформлением» стихийной диалектики до выражения познанного социального действия человека. Без такого «дооформления» диалектика не могла бы быть ни методом познания, ни тем более методом революционно-критического преобразования бытия.
Наконец, в-четвертых, только будучи взятой в форме этого познанного социального действия, или точнее – в форме свободы человеческой самодеятельности вообще, диалектика может быть представлена в необедненном виде, и только в таком виде ее можно и необходимо «применить» к самой же диалектике, т.е. методологически правильно использовать в теории, а тем самым – и в решении разнообразных актуальных вопросов теоретического или практического порядка.
Если сказанное справедливо в отношении диалектики в целом, то в еще большей мере это справедливо в отношении конкретного диалектического процесса. Поскольку для теоретической позиции эстетика существо эстетического должно быть представлено не просто через описание чувства (своего или чужого), в котором это эстетическое функционально завершается, а через логику (историю) формирования такого чувства вообще, через теорию познания человеческой чувственной деятельности в целом, то становится понятным, насколько важно сохранить эту логику и теорию познания как диалектику.
Здесь отношение к последней становится тождественным отношению к объекту исследования в его полноте, целостности, сущности. С другой стороны, ложное представление об этом объекте, неправильный подход к нему со стороны теоретической – это уже, как правило, следствие неправильного отношения к диалектике как логике и теории познания, следствие разрушения их совпадения то ли со стороны построения теории (системы знаний) объекта, то ли со стороны самой логики такого построения.
Таким образом, обращаясь к истории развития объекта исследования, теоретик не может не иметь дела с логикой становления этого объекта в понятиях, в системе знаний. Но последовательно вывести эту систему знаний, оформить ее как теорию невозможно без обращения к истории развития и становления объекта. Это идеальное движение предмета исследования по пути «логика → история → логика» отражает известный диалектический круг познания, разорвать который можно только при условии правильного вычленения исходного положения в построении системы знаний, путем сознательного обнаружения логического начала теории.
И в этом мы усматриваем второй методологически важный шаг на пути определения границ нашей проблемы и анализа ее существа.
Как уже отмечалось, выбор такого начала всегда связан с определенными трудностями. Прежде всего речь идет о вычленении такого теоретического положения (и именно теоретического, а не какой-то онтологической, реальной структуры, нуждающейся в анатомировании или приписывании ей различных определений), в котором схватывалось бы наиболее характерное, устойчивое, существенное предмета исследования.
Разумеется, такое положение – а им в принципе может быть обычное суждение или понятие – еще не в состоянии будет отразить всю полноту природы исследуемого предмета. Между тем уже в своей исходной противоречивости оно как закон должно отразить основное, внутреннее противоречие сущности этого предмета, что – при дальнейшем анализе – обеспечило бы выход пониманию имманентного развития как исследуемого, так и самого исследования. Иначе говоря, уже с первых шагов анализа противоречивости такого положения или понятия должно иметь место восхождение знаний от абстрактного к конкретному, что в целом отражало бы действительную историческую картину развития предмета исследования.
Нет надобности в особом доказательстве того, насколько важно это восхождение уже в истоках построения теории. Ибо задача сводится не к тому, чтобы отыскивать такое универсальное положение (определение предмета, высказывание о нем и т.п.), которое в дальнейшем нуждалось бы лишь в «уточнении» скрытого за ним возможного смысла (наподобие положения об «эстетических свойствах», которое, к сожалению, «уточняется» и поныне), а к тому, чтобы с первых же шагов анализа противоречивости такого положения высвободить его логику как диалектику развития самого предмета. И именно высвободить, а не навязать ее этому развитию как произвольную экстраполяцию мысли на предметность, скрытую за самим положением. Только при таком условии может иметь место восхождение знаний от абстрактного к конкретному как одновременно движение действительного совпадения логического и исторического. Только в таком совпадении сама логика развития предмета в мысли может предстать в снятом виде теорией и диалектическим методом исследования одновременно.
Хотелось бы обратить внимание исследователей на одно из достаточно обычных понятий, теоретический анализ которого (именно теоретический, а не непосредственно оценочный) мог бы послужить, на наш взгляд, искомым началом построения теории познания чувственных явлений вообще. Речь идет о понятии «безразличное». Последнее не признано категорией эстетики. Более того, первое, что всплывает в сознании при его обиходном употреблении, есть представление его как оценки, точнее – как отсутствие какой-то позитивной оценки. Отсюда – и другая мысль: мало ли какие оценки могут или же не могут иметь место, не станет же эстетика заниматься ими.
И при всем этом ни одно из собственно эстетических исследований не обходится без привлечения этого понятия именно тогда, когда появляется необходимость выделить что-то значимое, ценностное, небезразличное для человека. Так или иначе, оно незримо присутствует как раз в тех моментах исследования, в каких требуется уяснить специфику человеческого чувственного процесса, восприимчивость человека к тому, что, собственно, и называется значимым, ценностно различным или не-без-различным.
Совершенно очевидно, что «безразличное» и это «не-без-различное» есть просто противоположности. Но именно поэтому вопрос о привлечении первого из этих понятий в систему знаний эстетики оборачивается вопросом: действительно ли, что последняя имеет дело с этими небезразличными по своему чувственному выражению вещами? Если да, то вопрос о привлечении в эстетику понятия безразличного решается само собой разумеющимся образом. Если нет и такое привлечение неоправданно, то каков тогда смысл существования эстетической науки вообще? Какие ценности ее должны интересовать, чтобы их нельзя было назвать и не безразличными, т.е. такими, чтобы не противополагать их безразличному?
Видимо, никаких недоразумений здесь не будет, если учесть, что обращение к понятию безразличного должно носить сугубо теоретический, методологический смысл. Прежде всего, имеется в виду небезразличное как свойство предметного мира или, с другой стороны, как оценка, определенное субъективное состояние человека. Речь идет именно о понятии, о некотором принципе подхода к пониманию различных оценок или значимостей вещей, другими словами, о принципе вычленения и каких-то других понятий эстетики, в которых фиксировался бы самый разнообразный смысл всего небезразличного для человека. С этой точки зрения наше понятие можно было бы истолковать как наиболее общую специфическую черту теоретического выделения и осознания всего чувственного как такового, без акцента на конкретизации этого чувственного, на его определенности.
Если уместна здесь какая-то аналогия, то сначала мы сравнили бы понятие «безразличное» с гегелевским понятием «чистое бытие» (бытие без какой бы то ни было определенности и указания на такую определенность). Различие только в том, что последнее есть предельно широкое философское понятие. «Безразличное» же, на наш взгляд, есть такое же широкое понятие, но только применительно к эстетической науке.
В самом деле, уже этимологически термин «безразличное» фиксирует полную неразличимость (без-раз-лично!) всего того, что по логике обычного познания постигается нами как… необычное, небеспристрастное или что объективно можно было бы назвать одним словом – чувственное (переживаемое, значимое и т.д.). Это отсутствие определенности чувственного в самом безразличном может поначалу указывать лишь на то, что все существующее в значении такого переживаемого, значимого, не-безразличного – просто есть, является, дается или может даваться человеку в познании и чувствах (сравните это с первоначальным смыслом того же понятия «чистое бытие», за которым фактически скрывается «ничто», а в единстве своем эти понятия указывают на некоторое «становление».
Вот, пожалуй, и все, что может поначалу выделить собой «безразличное» в качестве своей противоположности. И вместе с тем в указании на это «есть» или «является» содержится нечто большее, чем абстракция простой наличности чувственного. В нем обнаруживается и некоторая логика, выход пониманию того, что там, где чувственное действительно дается человеку, т.е. проявляется, там, как закон, как внутренняя необходимость, само безразличное в качестве отрицания себя всегда выделит богатство конкретных определений чувственного. Иначе говоря, уже этой абсолютной неразличимостью всего чувственного, как она фиксируется в понятии «безразличное», тем не менее полагается и такая же абсолютная различимость чувственного или же полный смысл его не-безразличия. И если этот смысл схватывается вначале слишком абстрактно, то это говорит о том, что и само безразличное бралось абстрактно. Главное – в выводе, который отсюда вытекает, в той изначальной логике, согласно которой дальнейшие шаги мысли должны подчиняться одному и тому же закону или принципу: отныне все конкретные характеристики чувственного, следовательно, и эстетического, понимание их природы и богатства, значимости должны связываться с собственно отрицанием безразличного; вне такого отрицания невозможно выделить ни их конкретное содержание, ни их специфику.
Именно в этом положении, независимо от того, в каком смысле будет браться здесь само отрицание (то ли в смысле логическом, то ли историческом, социальном), мы усматриваем наиболее важный методологический шаг теоретического подхода к уяснению логики развития чувственных процессов.
На наш взгляд, безразличное есть полная диалектическая противоположность эстетическому (чувственному вообще). Но это не просто голое отрицание последнего. Как понятие, содержащее в своем прямом смысловом выражении определенные методологические функции, оно может выступить своеобразным диалектическим началом логического построения системы эстетических знаний. То, что оно может послужить исходным понятием такой системы, положено в его предельно широком значении, хотя эта его широта есть именно теоретико-эстетического, а не собственно философского порядка.
И это естественно. Поскольку понятием «безразличное» фиксируется не просто бытие, или, говоря словами Гегеля, «чистое бытие», а вполне конкретная определенность такого бытия, то не случайно то, что философия оперирует этим понятием как рядовым. Но дело в том, что движение эстетических знаний связано с выявлением именно чувственных характеристик бытия. Можно сказать, что эстетика вообще не может не затрагивать и тот конечный смысл развития всяких знаний, который предполагает завершенность их не только по истине или отражению как таковому, но и по непосредственности, т.е. по самому значению их человеческого функционирования. Иначе говоря, движение теоретико-эстетических знаний начинается с движения таких определенностей, которые репрезентируются одновременно и смыслом человеческого чувственного акта. А как раз в этом отношении понятие «безразличное» в наименьшей степени фиксирует чувственную определенность. Это обстоятельство и дает основание сравнивать его с понятием «чистое бытие», как оно определилось в системе философских знаний.
Но это не все. Существует множество понятий, не указывающих на какую-то чувственную определенность, что, однако, не делает их исходными понятиями эстетических знаний. Скажем, в понятии «стол» тоже отсутствует чувственная определенность, но это отсутствие не фиксируется непосредственно смысловым значением понятия. Напротив, «безразличное» прямо указывает на такое смысловое значение. И именно потому, что сама фиксация отсутствия чувственной определенности представлена в нем не произвольно, а тоже чувственно, т.е. как выражение его прямого понятийного смысла, эта единственная его теоретико-эстетическая определенность делает его одним из тех наиболее общих понятий эстетики, которое может быть положено в качестве исходного понятия всей системы знаний об эстетическом.
Эстетическое и безразличное. О теоретическом и непосредственно чувственном содержании этих понятий
В нашей и зарубежной литературе нет однозначного представления о диалектической противоположности эстетического. Чаще всего ее обозначают словами «неэстетическое», «антиэстетическое», а то и просто – «безобразное». Между тем необходимость вычленения такой противоположности составляет естественно и, мы бы сказали, элементарно научное требование. Это требование тем более возрастает, если речь идет о категориях науки и их диалектической взаимосвязи. Правда, некоторые исследователи и само эстетическое не считают категорией эстетики, полагая, что за ним скрывается не что иное, как прекрасное. А поскольку противоположность последнего известна, то на этом и кончается все решение вопроса.
Не станем спорить на эту тему. Несомненным представляется то, что эстетика должна располагать понятием, которое объединяло бы и смысл прекрасного, и смысл возвышенного, в конечном счете – смысл всей системы эстетических понятий. Уже Н.Г. Чернышевский попытался вычленить его, обозначив словом «общеинтересное», хотя логично предположить, что искомое понятие и есть «эстетическое», или просто – «чувственное». Другое дело, что, как предельно широкое понятие, его нельзя вывести чисто формальным путем, извлекая объем его содержания из объема какого-то более широкого понятия. Такого понятия в эстетике нет. Те категории, которые функционируют в системе эстетических знаний, сами подчинены понятию эстетического или понятию его противоположности. Исследователю же подчас мыслится вполне логичным выводить прекрасное или безобразное из круга эстетических понятий, саму же эту эстетичность он почему-то извлекает из понятия прекрасного.
Небезынтересно и другое. Чувствуя ограниченность такого пути и необходимость его преодоления, многие исследователи тем не менее предприняли весьма своеобразное толкование существа дела: все изучаемое эстетикой назвали эстетическим (как производное от слова «эстетика»), то же, что составляет его противоположность, – исключили из эстетики, как неэстетическое. (И в самом деле, не может же эстетика заниматься всем, т.е. и неэстетическим!) Иначе говоря, вопрос о такой противоположности был вообще упразднен или, во всяком случае, вынесен за пределы эстетики как науки за счет… названия самой науки. В итоге почти у всех «общественников», например, можно найти мысль, что эстетическое включает в себя и прекрасное, и безобразное, и возвышенное, и низменное, короче – все, что попадает в поле зрения эстетики. Ошибки не было бы, если бы «общественники» оговаривались, что берут эстетическое в значении понятия, т.е. определенного теоретического принципа, свойственного специфике эстетики. Но оказывается, что эстетическое берется здесь в непосредственно оценочном смысле, после чего путаницы уже не избежать.
В самом деле, если эстетическое включает в себя и прекрасное, и безобразное одновременно, то по отношению к чему мы выделяем его как таковое? Вероятно, только по отношению к оценке человека (это – единственное, что можно здесь предположить), к тому же безразлично какой – положительной или отрицательной, если уж в эстетическое включается и безобразное, – главное, чтобы такая оценка не была «нейтральной», т.е. представала некоторым необычным актом эмоционального возбуждения вообще.
Вот это эмоциональное возбуждение фактически и мыслится здесь противоположностью эстетического, хотя в действительности не только не выделяет реальную специфику последнего, но вообще снимает ее как таковую.
Нетрудно понять причины такой путаницы. Она связана со смешением двух принципиально различных значений слова «эстетическое»: 1) как нечто принадлежащее науке эстетике, т.е. функционирующее в качестве логического элемента ее системы знаний, в конечном счете – в качестве объекта сугубо научного интереса, и 2) как непосредственно чувственный феномен, каким он обнаруживает себя в оценке, в самодвижении художественного сознания и служит для удовлетворения особой потребности человека, отличной от собственно научной[8].
Когда говорят, что безобразное есть эстетическое, то это будет правильно, если к последнему добавить слово «понятие», т.е. правильно только в том смысле, в каком безобразное тоже может и должно быть элементом теоретической системы знания науки эстетики, входить в категориальную сетку таких знаний.
Однако было бы неправильным считать безобразное эстетическим в непосредственно чувственном смысле слова «эстетическое». Безобразное вообще не может быть предметом потребности человека, тем более такой, на основе реализации или нереализации которой рождался бы феномен чувствования, т.е. процесс утверждения человеком как самого себя, так и окружающей его действительности. Даже там, где безобразное и привлекается, скажем, художником для решения определенных задач и в этом смысле функционирует как предмет потребности, оно важно не само по себе, а как средство различения чего-то действительно не-без-образного, прекрасного, возвышенного и т.д. Иначе говоря, хотя безобразное носит оценочный характер и предполагает со стороны человека способность его различения или же небезразличие самого отношения к нему, это небезразличие не должно выдаваться за реальное значение безобразного. Последнее не может быть эстетическим (чувственным) по самой цели или самому смыслу человеческого утверждения. Очень важно понять действие такого утверждения как в субъективном, так и объективном выражении и не сводить его к эмоциональному самовозбуждению, какой бы силы оно ни было. В конечном счете нет цели, в которой человек сознательно полагал бы самоотрицание себя, но есть цель, в которой он полагает самоутверждение себя. Другими словами, нет человеческой потребности в безобразном, низменном и т.д., но есть потребность в эстетическом (прекрасном, возвышенном).
Но в том-то и дело, что надо, наверное, вообще не понимать ни этой потребности, ни этой цели или сводить их к абстрактному запросу в осуществлении оценок (опять же – безразлично каких), чтобы все это обернулось стремлением включить безобразное в эстетическое. Может быть, поэтому со времени появления так называемой «теории эстетических свойств», которая поставила на одну ступень и прекрасное, и безобразное, и низменное, и возвышенное, обозначив все это единым термином «эстетическое», в нашей литературе практически редко поднимались вопросы о подлинной потребности в эстетическом (нельзя же серьезно вести речь о потребности в безобразном, если уж так толкуется само «эстетическое»). Такие вопросы, как правило, переносились в плоскость анализа потребностей в искусстве, точнее, в произведениях искусства, где действительно могут быть представлены в одном целом и элементы прекрасного, и элементы безобразного и т.д. Но в таком случае чего стоили тогда размышления о природном или общественном бытии эстетического, если все оно положено в бытии этих произведений искусства?
Как известно, одно из принципиальных философских требований в подходе к рассмотрению человеческой деятельности вообще состоит в уяснении ее как целенаправленной. Человек никогда «просто так» не оценивает предметный мир, а реализует в нем свои цели, которые, выражаясь словами К. Маркса, как закон определяют способ и характер действий человека и которым он подчиняет свою волю [1, т. 23, 189].
Было бы большой ошибкой допускать, что это философское требование не распространяется на понимание эстетической деятельности, даже если признавать правильным известный тезис о «незаинтересованности» такой деятельности. Практика подтверждает, что сама эта «незаинтересованность» (которая, кстати, и дает формальный повод допускать существование некой «эстетически нейтральной» оценки, в отношении которой выводится эстетичность безобразного) вовсе не означает отсутствие какого бы то ни было интереса. Скорее, она есть обратная сторона выражения наивысшей человеческой заинтересованности. И именно потому, что такая заинтересованность действительно существует, более того – способна реализоваться целиком и без остатка, – именно эта полнота ее реализации делает возможным ее превращение и в нечто не-заинтересованное: в такое ценностное выражение жизни, завершенность которого положена по ту сторону всевозможного частного интереса и даже всего интереса как такового (не-за-интересом данная – значит данная сейчас, непосредственно, как самореализация того, что положено в интересе). Предстоит еще уяснить, что собой представляет такая самореализация и может ли ее форма сводиться к форме выражения оценки или оценочного суждения как такового.
Нельзя не отметить, что почти вся эстетика прошлого, по крайней мере в лучших ее устремлениях, связывала с эстетическим довольно широкий круг ценностей. Но при любых обстоятельствах это были ценности, которые брались по какой-то наивысшей человеческой мере, по предельно глубокому человеческому интересу. Кант свел этот интерес к априорной способности человека выражать суждение вкуса, Гегель – к самоцели развития человеческого духа и выявлению его в сознании индивида, Чернышевский – к выражению жизни, которая есть «наилучшая по нашим понятиям». И хотя положительное содержание такого интереса большей частью раскрывалось на метафизической или идеалистической основе и сводилось к сугубо духовной потребности человека в таких же духовных феноменах[9], нельзя не отдать должное исследователям прошлого в их стремлении проводить определенную грань между эмпирическим, непосредственно-чувственным смыслом эстетического и теоретическим его смыслом, т.е. между возможностью представления его в той или иной конкретной оценке или во вкусе человека и действительностью его существования с точки зрения функционирования этих оценок и вкусов вообще, по самому их понятию.
Кант, например, так и ставил вопрос: как вообще возможно суждение вкуса? Ответ сводился к тому, что такое суждение возможно благодаря существованию у человека априорной способности к выражению чувства удовольствия и неудовольствия. Отбросим априоризм Канта и обратим внимание на другое. Заметим, его интересовало не то или иное конкретное удовольствие или неудовольствие, а сама возможность их по представлению в понятии, иначе говоря, по представлению их всеобщего и необходимого выражения.
Что же это дает Канту? А дает многое. Он ищет некоторые исходные понятия возможного существования суждения вкуса, ищет для того, чтобы, подняв их до уровня определенного обобщения, сделать вывод о существовании особого выражения суждения вкуса – способности к эстетическому суждению. Так Кант и поступает. Логически поставив границы понятиям «удовольствие» и «неудовольствие», т.е. взяв их по наивысшей шкале возможной заинтересованности или незаинтересованности, он приходит к выводу о необходимости существования у человека уже упомянутой способности к эстетическому суждению. Причем важно как раз то, что приходит чисто логическим путем, минуя, может быть, саму логику строгого и последовательного анализа первоначально вычлененных понятий, доведя эмпирическое представление суждения вкуса и оценки до их простого обобщения в сознании.
Конечно же, не следует преувеличивать важность кантовского шага. Не понимая практических и социальных предпосылок возникновения и развития способности к эстетическому суждению, Кант вынужден был толковать ее врожденной и априорной. Это означало, что из его поля зрения сразу же выпадали все реальные (не просто духовные, художественные) предпосылки ее становления, к тому же такие, которые в качестве диалектически активной стороны предполагали и определенное обезразличивание человека к безобразному, к своему реальному социально-отчужденному состоянию. Кант вообще не мог понимать, что благодаря такому обезразличиванию к безобразному рождается и само небезразличие человека к прекрасному, что, таким образом, в той мере, в какой этот процесс остается социальным, ибо порождается конкретной практикой жизни, в такой же мере и сама способность к эстетическому восприятию остается социальной и практической по своей природе. Однако ввести этот диалектический, по-социальному противоречивый момент в саму теорию, т.е. сделать ее и моментом логики – все это было не под силу Канту в такой же мере, в какой вообще было невозможно в то время дать научный анализ социальным противоречиям, осуществить их диалектико-материалистическое толкование.
По этим же обстоятельствам и Гегель не сумел увидеть в безразличном какое-то предметно-практическое содержание и его противоположность содержанию эстетического. Гегель вообще не затрагивает эстетическое и безразличное вне контекста движения искусства, где они уже представлены как разрешающиеся по этой противоположности и в соответствии с требованиями идеала. Даже там, где Гегель предпринимает анализ отчуждения и, казалось, затрагивает момент обезразличивания человека, этот анализ не выходит за рамки чисто теоретического представления такого отчуждения, которое фактически сводится здесь к понятию распредмечивания.
В итоге для Гегеля осталась непонятной другая потребность в эстетическом, кроме потребности в чисто духовных феноменах вообще и в феноменах искусства в частности. Но еще большего внимания заслуживает тот факт, что даже такая потребность оказывалась, по Гегелю, рожденной не самими людьми (и уж, тем более, не вследствие существования какого-то негативного социального момента в жизнедеятельности этих людей, через отрицание которого исторически вырабатывалось и что-то позитивное в их интересе), а волей «абсолютного духа» с его наперед положенным, своеобразно закодированным стремлением к «саморазвитию» и «самосовершенствованию».
Эта внечеловеческая положенность «духа» предопределила, по Гегелю, направленность развития и всех остальных потребностей человека, которые выводились уже не столько из жизненной основы бытия людей, сколько навязывались им со стороны собственным развитием такого «духа». Иначе говоря, хотя такие потребности оказывались и не априорными по форме, как это получалось по Канту, то априорными по содержанию, по собственно человеческой необходимости их возникновения и существования. А отсюда и вывод: если в представлении К. Маркса именно социальные противоречия, доведенные до крайней, «невыносимой силы» [1, т. 3, 33] (следовательно, и силы негативного отношения человека к тому, что еще может существовать, но уже исторически должно быть упразднено), и побуждали его к подлинно революционному практическому действию, то в представлении Гегеля вовсе не эти противоречия, а лишь спокойное и умиротворенное развитие «духа» через опредмечивание и распредмечивание определяло весь смысл революций в разуме и самочувствии людей.
Впрочем, не только для Гегеля, но и для всего идеализма и старого материализма остался совершенно непонятным реальный смысл безразличного, который в общем-то отличен от чисто духовного его выражения. И дело не только в том, что эта философия была не в состоянии вычленить понятия «безразличное» – «небезразличное» как мертвые противоположности (именно так подчас понимают смысл подобного рода вычленения понятий).
Дело в том, что она еще не могла наполнить эти понятия по-живому практическим, конкретно-историческим содержанием. Для нее вся действительная практика представала если не в форме теоретической, как это было у Гегеля, то в форме «грязно-торгашеской», как это было у Фейербаха. Это означало, что даже там, где она и улавливала, скажем, в производственной деятельности людей какой-то негативный момент (обезразличивание людей), она вынуждена была толковать его в каком угодно смысле, но только не в революционном, «практически-критическом». Именно поэтому у Гегеля, например, единственно земной, человеческий (но совершенно не «практически-критический») мотив, с которым он связывает необходимость возникновения и существования искусства вообще, оказывается втиснутым в рамки обычного психофизиологического феномена – удивления. «Если говорить о первом выступлении символического искусства, – пишет Гегель, – то можно вспомнить высказанную мысль, что художественное созерцание, так же как и религиозное, или, вернее, одновременно и то и другое, и даже научное исследование началось с удивления» [14, т. 1, 25]. Иначе говоря, акт удивления заслонил для Гегеля всю действительную основу отделения духовного от материального, форм сознания – от форм бытия. Что здесь с самого начала было обойдено стороной – это именно реальная, по-социальному противоречивая предпосылка возникновения форм общественного сознания вообще и искусства в частности[10].
По замечанию К. Маркса, Гегель «видит только положительную сторону труда, но не отрицательную» [1, т. 42, 159], т.е. не видит революционизирующую его сущность. Ведь труд не только создает человека, но и превращает его в раба, в отчужденное существо. С другой стороны, именно благодаря этой негативности труда формировалась как противоположность и его позитивность: обобществленность, осознанность, наконец, его историческая способность выступить в качестве реальной силы по упразднению капитала.
В равной мере и в факте существования искусства Гегель улавливает лишь позитивный момент. Объясняется это тем, что там, где ему приходилось сталкиваться с необходимостью выводить то или иное духовное явление из самого же «духа» (а идеализм требовал от него не касаться подлинно земных основ такого явления), Гегель все же вынужден был обращаться к этим основам, но делал это так, что фактически оставался в плену у обыденной эмпирии. И в самом деле, первое, что улавливает именно эмпирический взгляд на существование искусства, есть прежде всего некоторая положительность такого существования: с помощью искусства человек очеловечивает себя, идеально утверждает; искусство несет в себе великий гуманистический смысл и т.д. При этом такой взгляд упускает из виду другое: само это очеловечивание, идеальное утверждение человека в сфере духовной есть лишь обратная сторона отсутствия такого утверждения во всех остальных сферах реальной жизнедеятельности людей.
Иначе говоря, то, что в силу социальной исторической необходимости искусство становится средоточием творческого отношения человека к бытию (по крайней мере для классового периода времени), что это отношение приобретает особую духовную, художественную форму, есть результат не только творческой фантазии самого художника, но и определенное следствие «утраты» людьми непосредственности и целостности их заинтересованности в любой из возможных сфер реальной жизнедеятельности. Образно выражаясь, искусство – это и своеобразная компенсация такой «утраты», т.е. оно живет и за счет постоянного отрицания той исторической расщепленности чувственного состояния человека, которая еще и поныне может иметь место в виде проявления одностороннего утверждения, обыденного интереса, уродливого наслаждения. Искусство, аккумулируя в себе огромнейшую степень человеческого (исторического) небезразличия по сути к любому из моментов проявления жизни людей, уже этим становится в своеобразную оппозицию тому обыденному интересу и тем несовершенным формам жизни, которые также сложились исторически и могут иметь место независимо от функционирования искусства.
Но эта оппозиция – не вечна. Ибо хотя в искусстве конфликт между прекрасным и безобразным, целостным и расщепленным, эстетическим и безразличным и т.д. доводится до крайней их непримиримости, противостояния и в конечном счете до разрешения в пользу идеала (что, безусловно, составляет не просто положительную, а крайне жизненно необходимую, революционизирующую сторону существования искусства), не следует забывать о том, что само это разрешение осуществляется в идеальной, духовной форме и как таковое не может быть отождествлено с реальным, фактическим разрешением указанных противоположностей. Ибо реальное разрешение – это уже дело не только искусства, но и реальной практики жизни. Поэтому для диалектического мышления не может выглядеть необычной и другая мысль: с полным устранением тех негативных социальных моментов, в оппозиции к которым находится искусство, само оно должно выходить за рамки чисто духовного его выражения, становиться своеобразной «производительной», творческой силой человека – формой реального эстетического совершенствования. Но этот выход не означает «саморазрушение искусства», как это получилось у Гегеля. Он будет означать все то же разрешение конфликта между эстетическим и безразличным, прекрасным и безобразным и т.д., но уже не только в форме идеальной, как это возможно в сфере собственно сознания и «духа», но и в форме всего богатства реально выраженной деятельности или самодеятельности людей.
Впрочем, эта сторона дела нас интересовала лишь постольку, поскольку важно подчеркнуть достаточно простую мысль: безразличное не следует брать лишь в негативно-оценочном смысле, хотя, безусловно, оно несет в себе и такой смысл; гораздо важнее понять его и в значении определенного теоретического инструмента, что предполагает четкое разграничение его методологической и непосредственно-оценочной функции.
Как и в случае с двузначностью термина «эстетическое», нельзя смешивать два совершенно различных значения термина «безразличное»: 1) как нечто принадлежащее науке эстетике («эстетическое понятие»), т.е. как сугубо теоретический элемент логической системы знаний, и 2) как непосредственно чувственное выражение определенного рода отрицательной оценки.
Сразу же оговоримся, что понимание необходимости введения в эстетику понятия безразличного ни в коем случае не должно переноситься на понимание необходимости выражения той или иной оценки, какой она видится с точки зрения целей эстетического воспитания. Безразличное важно для эстетики лишь как определенная специфическая черта теоретико-эстетического анализа чувственных явлений. И для нас введение этого понятия в эстетику является само собой разумеющимся хотя бы потому, что «изгонять» из нее так называемые «отрицательные категории» (безобразное, низменное и т.п.) или же не брать их в качестве узловых моментов, принципов, законов движения научных знаний – значит «изгонять» из нее само существо диалектики и логики, подменяя их набором простых пожеланий о необходимом выражении тех или иных оценок[11].
Вероятно, для диалектического материализма выглядела бы крайне странной, скажем, попытка исключить из рассмотрения понятие «случайность» только на том основании, что в представлении обыденного сознания оно может ассоциироваться с чем-то несущественным, незакономерным, противостоящим необходимости. Наверное, недопустимо и в эстетике умалчивать о безобразном или безразличном только потому, что за ними скрывается что-то отрицательное и глубоко противоположное всему тому, что по самому смыслу существования эстетической науки и нашей жизни в целом должно быть всегда положительным и оставлять нас небезразличными к нему.
Вряд ли можно научно разобраться в сущности (и именно в сущности) красоты, миновав такое же уяснение сущности безобразного; вряд ли можно выработать богатство чувственной восприимчивости к эстетическому без выработки соответствующего представления о безразличном. Вообще путь формирования чувственной культуры человека (если уж переводить разговор в плоскость осознания практики эстетического воспитания) по природе своей противоречив и диалектичен. И с точки зрения этой диалектичности заводить разговор о безобразном совершенно не означает, как это кажется эмпирику, создавать человеку предрасположенность к тому или иному безобразному поступку или действию, намеренно обращать внимание на какие-то отрицательные стороны нашей жизни (дескать, «к примеру», ибо эмпирик не может без них), сознательно преувеличивать значение каких-то нетипических случаев и обстоятельств в нашей жизни.
Следует помнить, что научная система знаний исходит из единого гносеологического идеала: взять постигаемый предмет таким, каков он есть, без возможного искажения его в мысли и оценке, хотя и с учетом их. Не составляет исключения в этом отношении и эстетика, которую интересует не только единичный случай проявления красоты или безобразного, но и вся сущность, закон, принцип такого проявления (будь оно в виде вещи или поступка человека, со стороны субъективной или объективной). Что же касается непосредственно воспитательного момента, то именно потому что эстетика преследует раскрытие законов красоты, таким действием она апеллирует не только к необходимости выработки определенной суммы знаний, но и должной чувственной ориентации человека.
Поэтому было бы неправильным делать вывод о том, что в собственно понятийном смысле безразличное или безобразное не несут в себе никакого специфически эмоционального содержания и представляют собой простое обобщение тех или иных оценочных отношений человека. Понятия эстетики, как и всякой другой науки, не могут быть индифферентными по отношению к тому предмету, который отражают. С другой стороны, вполне правильной выглядит и та мысль, что, скажем, понятие красоты не содержит в себе ни грана самой красоты. Но правильной только в том смысле, в каком всякое понятие как таковое, как определенное отражение не содержит в себе никакого отражаемого, его вещественности, материальности и т.д.[12].
Из этого вытекает, что научное понятие – это не просто слово, языковой термин. В сущности, оно есть целая система знаний, к тому же представленная как снятое выражение всей исторической практики постижения того или иного предмета науки. С этой точки зрения формирование понятия достигается не просто за счет прямого переноса содержания предмета в сознание человека (скажем, содержания того или иного «эстетического свойства» – в саму субъективность), а за счет выработки таких знаний, которые в своей системе могли бы отразить всю логику исторического развития, постижения и освоения предмета.
В этом плане взятое как понятие безразличное фиксирует исключительно большой степени обобщение всего непосредственно противостоящего эстетическому и этим выделяет несколько иной смысл последнего, чем это может быть выделено той или иной эмпирической оценкой. Именно эта сторона дела не всегда попадает в поле зрения исследователей, чем, по-видимому, и объясняется недоумение по поводу того, насколько оправданно включать данное понятие в систему знаний науки эстетики.
Правда, такое недоумение будет обоснованным, если двигаться на уровне анализа все тех же эмпирических оценок и рассуждать от обратного. Действительно, не всякое не-безразличное отношение человека можно назвать эстетическим. К примеру, мы небезразличны к пепельнице на столе, но вряд ли это отношение эстетично.
Однако это будет правильно лишь с точки зрения оценок. С точки же зрения подлинного обобщения или существа самой понятийности (даже не суммы оценок) «безразличное» предполагает несколько иную направленность размышлений.
Мы не станем сейчас задаваться целью выяснять, с реализацией каких небезразличных человеку потребностей рождается то особое его состояние, которое могло бы быть по праву названо эстетическим. По-видимому, всякая потребность, по крайней мере субъективно, небезразлична человеку. В этом смысле безразличных потребностей вообще нет. Вероятно, и чисто безразличного отношения человека не бывает: так или иначе оно связано с движением какого-то интереса. Даже если перед нами выражение так называемой «нейтральной оценки» (как она подчас сопровождается словами: «мне это абсолютно безразлично») – все равно за ней скрыто какое-то небезразличие. В конце концов, сознательное безразличие – это своего рода нонсенс, но, если можно так выразиться, нонсенс социального порядка. Если безразличие действительно сознательное, то оно уже есть небезразличие, во всяком случае в отношении самого же сознания, а потом, естественно, и в отношении чувств человека, поскольку бесчувственного сознания не бывает. Если же оно выявляется как полное неразличение человеком себя и предметного мира (без-раз-лично), то этим, напротив, уже исключается проявление сознания как чего-то взятого в форме цели, мотива, интереса человека в общественном значении этих слов.
Поэтому можно было бы сказать, что там, где безразличие обнаруживается в осознанной форме выражения, т.е. проявляется со стороны человека, а не животного, оно есть просто равнодушие. Там же, где такая форма выражения отсутствует, безразличие характеризует собой разве что чисто психическое, асоциальное состояние человека. А.И. Герцен так описывает это состояние: «Во время обморока наступает полное психическое небытие; полное отсутствие сознания. Потом является смутное, неопределенное ощущение – ощущение бытия вообще, без выделения собственной индивидуальности, без малейшего следа разграничения Я от не-Я; человек составляет тогда „органическую часть природы“, сознающую свое бытие, но не сознающую свое существование в качестве органической единицы; другими словами, сознание его безразлично. Это ощущение может быть приятно, если обморок не был вызван жестокой болью, и крайне неприятно – в противном случае. Вот и все, что можно различить: человек чувствует, что он живет и наслаждается или живет и страдает, не зная, почему он наслаждается или страдает, не зная, кто и что ощущает это чувство» [15, 170] (Подчеркнуто нами. – А.К.).
В еще большей мере это касается психически нормального состояния человека. Практически получается так, что актом отрицательного отношения к чему-то внешнему, реальному человек уже выказывает положительное, не-безразличное отношение к чему-то внутреннему, идеальному, духовному. И наоборот. Поэтому субъективно можно было бы констатировать своего рода закон, указывающий на то, что при любой направленности деятельности человека в его состоянии всегда удерживается какая-то положительность его интереса (к себе или к окружающему), не допускающая проявления в нем безразличия как такового; что, таким образом, последнее вообще невозможно, по крайней мере до тех пор, пока человек живет, мыслит, сознательно действует.
Но данный закон не имел бы исключений, а человек вообще не ведал бы о безразличии в отношении к себе или к другим людям, если бы эти отношения всегда оставались действительно осознанными, общественными, необходимыми. Наверное, в том и состоит уже упомянутый нонсенс, что состояние безразличия человека возможно не только при полном психическом небытии, как это было описано в случае с обмороком, но и при вполне нормальной психической деятельности. Более того, это состояние может быть представлено даже в форме той самой радости или восхищения, по которым мы так привыкли определять эстетичность отношения человека.
Конечно, выражение «безразличие в форме радости» звучит несколько странно, если не учитывать того, что и сама радость может быть нечеловеческой, что, проявляясь как результат удовлетворения грубой и односторонней потребности человека, она как в зеркале может отражать всю объективную невосприимчивость этого человека к богатству подлинно общественных потребностей, следовательно, и полное безразличие его как к предметам этих потребностей, так и к своему общественному состоянию в целом.
Безразличное есть абсолютная форма выражения равнодушия – момент своеобразного «общественного небытия», хотя при этом и может иметь место бытие психофизическое. Иначе говоря, безразличное свидетельствует и о равнодушии человека к чему-то внешнему, окружающему, и одновременно о равнодушии его к самой «душе», к цели жизни, к смыслу человеческого бытия.
Чему противостоит такой момент и что он может выделить в наших понятиях о человеческих ценностях вообще?
Говорят, скептик «безразличен ко всему на свете». Но безразличен ли? И ко всему ли? Скорее, за отрицательным отношением к чему-то окружающему, внешнему, объективному здесь прячется далеко не отрицательное, не безразличное отношение человека к чему-то своему, субъективному («идеальному»). Как правило, это уже отживающие «идеалы», и единственное, что делает их ширмой для прикрытия пустоты скепсиса и равнодушия (а не безразличия) человека, есть некая претензия их на отрицание жизни, без осознания того, согласуется или не согласуется такое отрицание с исторической необходимостью, «исторически необходимым требованием» (К. Маркс).
Мы говорим «как правило», ибо, скажем, подлинно трагической личности, состояние которой может характеризоваться моментом выраженного безразличия, нет надобности быть скептиком. Идеалы такой личности не противоречат этому «исторически необходимому требованию». Напротив, в ее действиях они находят свое наиболее непосредственное, пережитое, прочувствованное выражение. То же, что побуждает эту личность в исключительных коллизиях быть равнодушной к таким идеалам (а об этом лучшим образом свидетельствует сам факт пожертвования ее жизни вместе с идеалом, хотя и во имя идеала), а потом равнодушной и к окружающему вообще (что в итоге и дает нам эту абсолютность выраженного равнодушия или безразличность как таковую), есть сугубо практическая сторона дела: невозможность осуществления таких идеалов силами личности или группы личностей в данное время, в сложившихся условиях бытия. Но именно по этой же причине личность не может просто избавиться от идеала, принять «другие» представления о необходимой жизни без того, чтобы они не порывали с упомянутым историческим требованием, а тем самым вновь не возвращали личность ко все той же невозможности, а вернее – уже бессмысленности их осуществления.
Так обнажается жесточайшее противоречие непосредственности состояния человека, которое, пожалуй, единичным случаем указывает на полный и законченный смысл того, что вообще скрывается за понятиями безразличного и эстетического, по отношению к чему человек может быть наиболее заинтересованным и незаинтересованным. Причем поскольку это противоречие есть противоречие именно непосредственности состояния человека, а не одной оценки, то на законченность такого смысла указывает вся жизнь и вся направленность бытия человека, которые, в свою очередь, представляют собой что-то большее, чем выражение чистой субъективности.
В самом деле, вспомним гамлетовское:
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль Смиряться с ударами судьбы Иль надо оказать сопротивленье И в смертной схватке с целым миром бед Покончить с ними? Умереть. Забыться.Прозаически выражаясь, «быть» в данном случае – значит принять то состояние, которое по самому идеалу или по объективной необходимости уже достойно отрицания или равнодушия. Но тогда отрицанию здесь подлежит сам идеал или само сознание необходимого, что означало бы для личности полное разрушение ее духовного мира и всех человеческих устремлений. Если же, напротив, принять идеал как должное и внутренне необходимое, то действительность такого идеала, как, впрочем, и всякого подлинного стремления, будет проверяться только тем, насколько он осуществим.
В данной же трагической коллизии – а она, по словам К. Маркса, как раз и обнаруживается противоречием между исторически необходимым требованием и практической невозможностью его осуществления – идеал остается нереализуемым, а потому практически и недействительным. Но тогда остается только один выход – «не быть», и этим актом безразличия (смерти) утвердить все то поистине великое и небезразличное, которое остается по ту сторону смерти и во имя которого человек отдает себя целиком и без остатка. Оказывается, вот какой может быть цена этого не-безразличного – эстетического! Степень заинтересованности в нем настолько велика, что даже смерть становится последним средством утверждения его. Но сама ли по себе смерть является таким средством, чтобы, ответив на вопрос положительно, можно было принять экзистенциалистский вывод: «истинное бытие есть смерть»?
Сама по себе смерть – это уже простая развязка противоречий бытия, их своеобразно покоящаяся разрушенность. Действительная утверждаемость жизни есть точка зрения живущего, а не умершего. В равной мере и выраженное безразличие к жизни – еще позиция самой жизни, а не смерти, которая в свершившейся форме (а не в ее оценке со стороны) уже ничего не означает: ни цель, ни средство, ни ужас, ни наслаждение. Так, правильно писал В.А. Жуковский:
То сказано глупцом и признано глупцами, Что будет смерть для нас творить ужасный свет! Пока на свете мы, она еще не с нами; Когда ж пришла она, то нас на свете нет!Но если состояние безразличия есть еще позиция самой жизни, то эта же позиция, коль скоро она рождается в таких муках, не может не выделить в нашем понятии и другое, прямо противоположное, состояние, которое характеризовало бы всю силу человеческого интереса к миру. В самом деле, с одной стороны, это такая позиция, в которой жизнь человека уже затухает, умирает по своей цели, по человеческому смыслу ее дальнейшего осуществления. Самим движением к безысходности она исчерпывает этот смысл, а тем самым и обнаруживает всю свою бесцельность, безразличность. В данном случае физическая смерть – только прозаический финал такого безразличия, а не его подлинная сущность.
Но, с другой стороны, это есть движение жизни не только к безысходности и безразличию. Именно это угасание в жизни человеческого смысла ее дальнейшего осуществления обнажает высшую степень значимости и жизненности этого смысла для человека. Ведь то, ради чего он отдает жизнь сполна и чему обязано это его безразличие к себе и к окружающему, есть, опять-таки, не смерть как таковая и даже не идеал как простое желание должного, а осознанная, пережитая и выстраданная необходимость в таком осуществлении всех состояний жизни, которое, по крайней мере здесь же, в одном из них, в самом этом страдании и переживании уже движется своей законченной цельностью. Но это такое состояние, которое аккумулирует в себе весь человеческий потенциал жизни, все ее должное, значимое и необходимое. Не рассудочно, не просто в представлении и оценке со стороны, а собственным движением и непосредственностью выражения оно демонстрирует такую меру небезразличности момента жизни, какой ее хватило бы для измерения ценности всей жизни человека и человечества.
В этой наглядной выраженности того, каким должно быть всякое отношение человека по своей небезразличности, такое состояние фактически обнажает весь смысл закона восприимчивости человека к любому из проявлений своей жизни.
За безразличным скрыто страшное состояние человека. Вероятно, в проявлении такого состояния содержится выражение собственно социальной смерти. Жить и быть безразличным к жизни нельзя без того, чтобы не умереть заживо (не обязательно физически), не превратиться в живой труп, лишенный подлинно человеческих побуждений и устремлений.
Именно поэтому безразличное – это не просто плохое, отвратительное, безобразное. Оно есть своеобразное завершение их по отрицательности, по объективной невоспринимаемости человеком. Если, к примеру, безобразное указывает буквально на отсутствие «образа», т.е. цели, человеческого смысла деятельности с предметом (без-образное!), если объективно оно не лишено еще выражения другой необходимости деятельности человека, то безразличное указывает уже на безобразность и самого «образа», на бессмысленность и всяких целей человека. Тем самым безразличное есть в полном смысле слова бесчувственное как таковое. Но не в том понимании, что оценочно его нельзя ощутить, воспринять и т.д., а в том, что оно исключает человеческую форму восприимчивости человека, следовательно, человеческую форму обнаружения всего чувственного как такового.
С одной стороны, вся степень отрицательности безразличного есть степень всей положительности его противоположности – эстетического. По-видимому, то и другое составляют две стороны одного и того же процесса, и это следует понять в сугубо теоретическом, диалектическом смысле слов. Безразличное «переходит» в эстетическое, но не в том понимании, что упомянутая уже социальная смерть человека способна породить подлинно человеческое выражение жизни. Напротив, данный «переход» обозначает только то, что безразличное есть некоторая случайность (исключение, трагизм) в необходимости общественного утверждения жизни и что как таковое оно должно быть «снято», перейти в свою противоположность, т.е. устранено по собственным законам этой же необходимости.
С другой стороны, определенная социальная невозможность такого устранения – это своеобразное исключение из указанной необходимости – обусловливает и обратный «переход»: эстетического – в безразличное. Но «переход» только в том понимании, в каком все чувственное как таковое уже в силу самого смысла утверждаемости человеческого бытия должно (не может не) выделиться своей абсолютной несовместимостью со всем объективно невоспринимаемым и неприемлемым для человека. Мы говорим «должно выделиться», ибо, во-первых, речь идет, по сути, об одном и том же «переходе»; во-вторых – и это главное, – сам механизм такого «перехода» положен не в произвольной мысли или оценке человека, а во все той же необходимости осуществления жизни, какой она предстает в самой тенденции развития общественного бытия в целом.
Однако здесь затронут случай крайнего выражения заинтересованности и незаинтересованности человека. Вероятно, такой случай характерен исключительно для трагической ситуации, хотя для нас он важен не как случай. Каким бы нетипическим и недостойным для подражания он ни казался – а, по-видимому, было бы странным усматривать в трагизме что-то данное по идеалу, – сам факт порождения его человеческой историей может послужить своеобразным уроком для осознания того, что представляют собой полярные и по-абсолютному несовместимые ценности человека, к тому же такие ценности, которые уже доведены до определенной категорической дилеммы их приятия или неприятия человеком, до завершения в его чувствах. С одной стороны – предельное напряжение всех жизненных сил и всей устремленности человека, с другой – упадок этих сил вплоть до саморазрушения личности – вот своеобразная «вилка» непосредственно-чувственного выражения этих ценностей, вне которой уже невозможен ни менее, ни более выраженный интерес человека.
Вероятно, в границах такой «вилки» и положена вся мера восприимчивости (или невосприимчивости) человека, по которой может определяться вся чувственная активность человека, степень непосредственности его отношения ко всем чувственным явлениям. Но это вовсе не та мера, которую можно было бы назвать здесь идеалом, т.е. еще только представлением, теоретической нормой долженствующего, без собственно переживания и утверждения этого должного в наличных формах человеческой непосредственности. Здесь обнажается как раз та мера, в которой переживание, утверждение, чувствование и положено в значении нормы отношения человека как к себе, так и к окружающему.
Однако все это может быть понятно лишь с достаточным осознанием того, что чувственный акт человека есть прежде всего сложный социальный акт, что его проявление связано не только с наличием определенной способности человека к выражению суждения вкуса или оценки, но и с наличием общественной свободы деятельности. Ибо, в сущности, явление чувственного примечательно не только тем, что оно есть предмет деятельности – ощущения, восприятия, созерцания и т.д.; в еще большей мере оно есть предмет осознанно необходимой деятельности, или самодеятельности человека. Потому вся непосредственная сторона этой последней должна войти в полное определение чувственного феномена.
ГЛАВА III. ПРИРОДА ФЕНОМЕНА ЧУВСТВЕННОГО
Субъект и объект чувственной деятельности
К числу недостатков старой материалистической философии Карл Маркс относил также и то, что чувственность человека рассматривалась ею лишь в форме созерцания, а не как «человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно» [1, т. 3, 1]. Отсюда, по словам К. Маркса, и произошло, что вся деятельная сторона чувственности в противоположность материализму развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как идеализм не знает действительной человеческой практики.
Методологическое значение этого положения К. Маркса общеизвестно. Задача состоит в том, чтобы с самого начала, без отступлений и мысленных упрощений представить чувственный акт человека таким, каким он является, в его действительной, практической природе. Но его действительность – это, по существу, вся история социального бытия людей. И если именно в этой истории впервые порождается и развивается человеческая чувственность, то вполне понятно, что природа ее настолько же сложна, насколько сложна вся общественная производственная деятельность людей. «…История промышленности и сложившееся предметное бытие промышленности являются раскрытой книгой человеческих сущностных сил, чувственно представшей перед нами человеческой психологией» [1, т. 42, 123].
Старый материализм исходил из представления о феномене чувственного как о раз навсегда данной форме объекта созерцания. Такой подход вытекал из неправильного понимания и субъекта, и объекта чувственной деятельности. Подчеркивая предметную сторону человека, его материальность как природного существа, старый материализм всячески старался оттенить ту мысль, что человек есть не порождение абстрактного «духа», а существо вполне реальное, ощущающее, страдающее. И в таком подходе ему действительно удавалось противопоставить идеализму немало веских аргументов в пользу живой, истинно предметной деятельности человека.
Эти аргументы были настолько убедительными, насколько очевидными выглядели само бытие человека, факт его живого существования, достоверность его мышления и всей предметной деятельности в целом.
Но дело в том, что такую деятельность старый материализм никогда не рассматривал как практическую, исторически сложившуюся. Под субъектом чувственного здесь мыслился не человек как совокупность общественных отношений, а просто индивид с его неизменной способностью ощущать, созерцать, страдать. В сущности под этим подразумевалось просто природное существо с его застывшими способностями и возможностями. Его единственной чертой как субъекта могла быть разве что телесная организация, точнее – его чисто материальная предметность.
Однако о таком понимании человека можно говорить чисто условно, ибо его подлинная сущность положена в его собственно человеческой, производственной деятельности. Старый же материализм, не зная этой деятельности, вынужден был в дальнейшем сближаться с идеализмом. Как только дело доходило до истории и общественной практики, он сразу же превращал субъект чувственного в простую сумму индивидов, в «человека вообще», а его деятельность – в абстрактную и беспредметную. Поэтому, как отмечал К. Маркс, за истинно человеческую деятельность этот материализм, как и идеализм, вынужден был принимать лишь абстрактно-теоретическую деятельность. Это означало, что в плане самой истории старый материализм уже порывал с тем, что составляло его сильную сторону: с представлением о чувственной деятельности как о действительно живой, предметной, телесной.
Весьма любопытно, что такой разрыв материализма с… материализмом осуществлялся во имя того, чтобы, как отмечал К. Маркс, увидеть природу чувственного объекта, который был бы отличным от мысленного объекта или объекта, взятого в чисто теоретической форме: «Фейербах хочет иметь дело с чувственными объектами, действительно отличными от мысленных объектов, но самоё человеческую деятельность он берет не как предметную деятельность» [1, т. 3, 1]. Фактически здесь материализм приносился в жертву самому материализму.
Парадоксальность этой ситуации усугублялась еще и тем, что там, где старый материализм как-то чувствовал свое сближение с идеализмом и старался возвратиться к предметно-живому выражению чувственности, он вновь упускал из поля зрения ее общественно-практическую природу и, таким образом, вновь становился на путь сближения с идеализмом. «Недовольный абстрактным мышлением, – пишет К. Маркс, – Фейербах апеллирует к чувственному созерцанию; но он рассматривает чувственность не как практическую, человечески-чувственную деятельность» [1, т. 3, 2].
В равной мере таким же абстрактным и неисторическим представлялся старому материализму и чувственный объект, за которым подразумевался обыкновенный предмет природы, данный лишь для ощущения и созерцания. В сущности, это был предмет не столько действительного человека, сколько бездеятельного существа, во всяком случае существа, лишенного способности к активному изменению или преобразованию мира.
В действительности же чувственный объект есть та же изменяющаяся предметность, деятельность людей, практика. Фейербах «не замечает, – пишет К. Маркс, – что окружающий его чувственный мир вовсе не есть некая непосредственно от века данная, всегда равная себе вещь, а что он есть продукт промышленности и общественного состояния, притом в том смысле, что это – исторический продукт, результат деятельности целого ряда поколений, каждое из которых стояло на плечах предшествующего, продолжало развивать его промышленность и его способ общения и видоизменяло в соответствии с изменившимися потребностями его социальный строй. Даже предметы простейшей „чувственной достоверности“ даны ему только благодаря общественному развитию…» [1, т. 3, 42].
Прежде всего здесь следует выделить то, что чувственный объект есть исторически изменяющаяся предметность человеческой деятельности и что в этой изменчивости он от начала и до конца процессуален[13].
Слабая сторона материализма во взгляде на чувственную деятельность развивалась идеализмом. Однако последний, по замечанию К. Маркса, не знает этой деятельности, ибо не знает действительной, исторической практики человека. В этом отношении примечательна фигура такого значительного представителя идеализма, как Гегель. Противоречие между обществом и конкретным индивидом стояло перед Гегелем как реальный факт. Это наложило свой отпечаток уже на исходное представление Гегелем субъекта и объекта чувственной деятельности. Разорвав последний на два субъекта – общественный и индивидуальный, он вынужден был представить индивидуальное (а в сущности – живое, чувственное) познание как неосознанное, бесцельное и безразличное повторение исторического движения общественного субъекта – «духа». Чувственное сознание индивида здесь с самого начала представало как отчужденное от этого «духа». А это означало, что и сама чувственность такого индивида лишалась оснований быть «одухотворенной», очеловеченной. Ее единственно живым актом был фактически обездушенный акт[14].
Однако гегелевское «индивидуальное сознание» создавало лишь видимость необходимого «возвышения» себя к «духу». Ибо, по сути, оно оставалось не живым существом, а одной из форм развития все того же «духа». Лишь взятое как отчужденное от этого «духа», оно имеет право на какую-то предметность живого существования. Но тогда это будет просто животное существо, а не действительный субъект чувственного.
С другой стороны, не было никакой необходимости и у самого «духа» снисходить до положения «индивидуального сознания», т.е. одухотворять его. «Дух», сознание как таковое не имеет своей собственной истории (цели, направленности) развития, отличной от истории развития самого человека и его общественного бытия. Поэтому так называемое гегелевское «самодвижение духа в индивидуальном сознании» было мнимым, а не действительно необходимым. Под видом преодоления отчуждения гегелевский «дух» лишь персонифицировался, оставаясь таким же обескровленным, как и был.
И это не случайно. Гегель не знал и не мог знать, что всякое отчуждение (не просто опредмечивание) дается людям не от рождения, а является результатом определенных общественных отношений, основанных на господстве и подчинении. Не мог он знать и того, что только с реальным, практическим (а не в одном сознании) устранением господства и подчинения уничтожаются всякие формы отчуждения, а вместе с ними – и само обесчеловечивание чувственной деятельности человека.
При всем этом величайшая заслуга Гегеля состояла в том, что он впервые поставил вопрос об этой деятельности в исторической плоскости. Не застывшая и созерцательная, а исторически преходящая и изменяющаяся чувственность стала предметом внимания Гегеля. Он представил ее как ступени «самовыражения духа», притом таким образом, что собственное движение «духа» определяло и развитие форм чувственности человека.
Идеализм не позволил Гегелю понять, что за такими формами «одухотворения» чувственности скрываются реально изменяющиеся формы практики, способы жизнедеятельности человека, которые вследствие их миллиардного повторения закрепились в сознании, плоти, крови человека специфическими формами его мировосприятия и мироощущения. К сожалению, Гегель мистифицировал этот процесс. Даже там, где чувственность проходила ступень «обогащения духом» и, казалось, могла приобрести вполне живое выражение в деятельности «индивидуального субъекта», она оказывалась все же актом абстрактно-теоретической деятельности, лишенной, как и прежде, выражения живой предметности и телесности. Дальнейшие метаморфозы такой чувственности не меняли сути дела: она исключала из себя практическую, предметно выраженную форму проявления.
Фейербах и Гегель наиболее близко подошли к раскрытию природы человеческих чувственных процессов. Можно сказать, что в классической немецкой философии старый материализм и идеализм полностью исчерпали себя в данном вопросе, ибо современная буржуазная философия ничего нового не смогла предложить для его подлинно научного решения.
Справедливости ради надо отметить, что большинство представителей современной буржуазной философии любят говорить о человеке, о проблемах его бытия и смерти, его настоящего и будущего. И хотя, как всегда в таких случаях, они усиленно открещиваются от позиций Фейербаха и Гегеля, вещают о преодолении этих позиций более «современным взглядом» на вещи, ни один из них не делает и шага вперед по сравнению с Фейербахом и Гегелем. Скорее, напротив, отрицанию поддается как раз все лучшее, что было представлено во взглядах великих немецких мыслителей.
Кому-кому, а представителям современного экзистенциализма нельзя отказать в интересе к человеку. И казалось, где уж лучше может быть рассмотрен этот чувственный субъект, как не в теории, для которой наличность бытия и существования человека составляют основной предмет разговора.
Однако это только кажимость. Ибо на деле экзистенциалистский интерес к «живому человеку» оборачивается полным невниманием к действительному, общественному человеку. Почти все критики К. Маркса сознательно или бессознательно спекулируют на такой подмене, силясь доказать, что марксистская позиция нуждается в каком-то «дополнении», что за так называемым «экономическим детерминизмом» К. Маркс не разглядел «простого смертного», в тогу защитника которого и рядится сейчас буржуазный идеолог.
Здесь не место разбираться в подробностях экзистенциалистской философии. Отметим лишь главное. Экзистенциализму вкупе с подобного рода «школами» в философии неизвестна другая точка зрения на человека, кроме как эклектически смешанная фейербаховская и гегелевская. Это – точка зрения на «человека как такового», на «обыкновенного человека» или – что, в сущности, одно и то же – на абстрактного человека.
Конечно, за абстракцией этого человека скрывается и вполне реальный, существующий человек, но как раз такой, который уже давно изуродован всей буржуазной действительностью и превращен в безропотное существо, неспособное к сопротивлению этой действительности или к какому-то практическому изменению ее. Экзистенциалистский человек – это современный обыватель, полагающий всю свою человечность в состоянии «сильных мира сего» и потерявший всякие иллюзии на достижение этого состояния. Рисуя безысходность и одиночество этого «человека», его духовное и физическое обнищание в мире современной техники и созданных материальных благ, буржуазный идеолог лишь констатирует ту истину, которая давно раскрыта до него: буржуазный образ жизни неминуемо приводит к деградации человеческой личности, к разложению способности человека к общественному восприятию и утверждению мира.
Но если для марксизма все это заканчивается выводом, требующим того, «чтобы революционизировать существующий мир, чтобы практически выступить против существующего положения вещей и изменить его» [1, т. 3, 42], то буржуазный идеолог не идет дальше этой простой констатации существующего положения и голого объективизма. И наибольшее, чего в состоянии достичь здесь добросовестный буржуазный исследователь, – это добиться, как и Фейербах, описания действительности без осознания ее изменения.
Мы говорим «добросовестный исследователь», ибо было бы в высшей степени несправедливо не замечать истинных целей Фейербаха и современного экзистенциалиста или позитивиста. «Мы, впрочем, вполне признаем, – писали К. Маркс и Ф. Энгельс, – что Фейербах, стремясь добиться осознания именно этого факта, идет настолько далеко, насколько вообще может пойти теоретик, не переставая быть теоретиком и философом. Но характерно то, что святые Бруно и Макс (здесь вполне могут быть названы современные буржуазные идеологи. – А.К.) немедленно подставляют фейербаховское представление о коммунисте на место действительного коммуниста, чтó отчасти делается уже для того, чтобы они и с коммунизмом могли бороться как с „духом от духа“, как с философской категорией, как с равным противником…» [1, т. 3, 41].
Чувственный акт человека есть результат всей истории обобществления людей и их отношений. Отсечь от него эту общественную его сущность – значит превратить его в чисто животный акт, где слова «гуманизм», «человечность», «духовность» могут привлекаться уже только ради теоретических спекуляций. Фактически начиная от крочеанской школы в эстетике и кончая наимоднейшими веяниями экзистенциализма мы уже не найдем попыток разобраться в общественной природе человеческой чувственности. Скорее, все помыслы здесь к тому и сводятся, чтобы выхолостить из нее эту природу, подменить ее чисто физиологическими или психическими побуждениями человека.
Однако вряд ли такие «теоретические вензеля» мысли уже достойны внимания. Здесь позиция буржуазного философа так и остается по-слепому объективистской, ибо как в зеркале отражает действительную деградацию духовности буржуазного индивида. Внимания заслуживает разве что эта процедура подмены буржуазного индивида действительным человеком. Когда-то буржуазия, стремившаяся к власти, и теоретически, и практически возлагала надежды не на «обыкновенного», «простого», «смертного» человека, а на человека, полного жизненной энергии, революционной страсти, веры в будущее. Сейчас же для нее история повернулась вспять, и кризис своих собственных отношений и духовных ценностей она вынуждена выдавать за кризис человеческих отношений и человеческого духа вообще.
«История, – писал Б. Кроче, – есть история творений человеческого духа. Эти духовные творения всегда зарождаются в умах и сердцах гениальных людей… Такие новые явления воспринимаются и культивируются в их чистоте избранными людьми, которые образуют различные правящие классы и, поддерживаемые ими, передаются многим, и, в конечном счете, так называемой „черни“» [35, 161].
Б. Кроче достаточно много прожил, чтобы не увидеть и зряшно отрицать историю творений «человеческого духа», хотя роль «черни» в этой истории отводится им незавидная. Но то, что не мог сказать Кроче, сказал позднее Ж.-П. Сартр: «Мы вышли из ничто, из бессмысленности, и к ничему стремимся мы среди всеобщего хаоса и бессмысленности. Жизнь – постоянная борьба с обусловленностью, заставляющей нас стремиться к свободе, которой нет…» [35, 326].
Если гегелевский «дух» еще мог как-то «теплиться» в «индивидуальном сознании», то «дух» буржуазного идеолога уже не имеет своего пристанища, ибо оказывается сотканным из… «непосредственных и необъяснимых реакций, из действий наших жизненных импульсов, из иррационального нашей природы» [44, 24]. «Дух, – заключает Ортега-и-Гассет, – есть прежде всего бесплодная функция, великолепная роскошь организма, нечто весьма излишнее» [43, 353]. Крушение этого, с позволения сказать, рабского душка вместе с обыкновенным буржуазным человечком и представляется теперь буржуазным идеологом как крушение человеческого духа и всех духовных устремлений человека.
Нетрудно заметить, что, идя по пути сведéния духовности чувственного акта к «необъяснимым реакциям» и «жизненным импульсам», культивируя неприкрытый физиологизм и антропологизм во взгляде на человека в целом, современная буржуазная философия превращается в карикатуру на фейербаховское понимание человека – чувственного субъекта. И наоборот, разрушая предметно выраженную форму всего духовного в чувственной деятельности до представления ее в виде «бесплодной функции организма» и «нечто весьма излишнего», эта философия становится карикатурой на гегелевское понимание «духа» – общественного субъекта. Весь оптимизм гегелевской истории развития этого «духа» превращается здесь в безудержный пессимизм конца её буржуазного развития. «…Мы находимся на дне человеческой нищеты духа», – пишет Завейский [35, 326]. «Наш век как целое, – добавляет Ястрембжский, – не имеет собственно цели. Средние века возносили стрельчатые святыни во имя Бога; рационализм завоевывал мир во имя Разума. Во имя чего же XX век так хвалит развитие своей Техники? Мы еще не знаем этого, мы висим в пустоте, без опоры. Отсюда цинизм, апатия, бессмысленность, модная среди молодежи…» [35, 320].
Картина, нарисованная здесь, достаточно правильна. Только вряд ли стоило выдавать ее за что-то новое и вопрошать о выходе из сложившихся обстоятельств. К. Маркс, объясняя подобного рода обстоятельства, отмечал, что «человек не теряет самого себя в своем предмете лишь в том случае, если этот предмет становится для него человеческим предметом, или опредмеченным человеком. Это возможно лишь тогда, когда этот предмет становится для него общественным предметом, сам он становится для себя общественным существом, а общество становится для него сущностью в данном предмете» [1, т. 42, 121].
И марксизм, пожалуй, не возражал бы против того описания человека и его предметного мира, которое представлено усилиями Кафки и Камю, Сартра и Ястрембжского, если бы оно сознательно или бессознательно не выдавалось за единственную картину бытия человеческого существа. Вообще для марксизма какое бы то ни было абстрагирование от действительного (живого, классового, партийного) человека со стороны любой теории, ставящей целью его осмысление, говорит о многом: с одной стороны, о том, что такая теория является реакцией на какие-то социальные отношения людей и в этой реакции она предстает своеобразным перевернутым зеркалом этих отношений, их объективистским порождением. С другой стороны, именно потому, что она является этим перевернутым зеркалом, неосознанным, пассивным отражением фактического положения дел, она по самому смыслу существования науки (т.е. по самой необходимости научить человека) перестает быть подлинно научной. Ибо именно этим объективизмом она заслоняет действительную сущность тех процессов, слепым результатом которых она и явилась.
Поэтому для марксизма не составляет тайны действительная основа появления той или иной идеалистической концепции. От всякой претендующей на научность теории он требует не просто отражения «существующего положения дел» – она будет таким отражением при любых обстоятельствах, – а осознанного, исторически последовательного отражения, отражения, соответствующего знанию закономерностей развития действительности. А это возможно только при условии такого же осознанного перехода теории с объективистских позиций на позиции последовательного материализма, материализма диалектического.
Именно с позиций диалектического материализма К. Маркс впервые критически переработал и фейербаховское, и гегелевское понимание человека. Уже в ранних произведениях он выдвинул совершенно иную точку зрения на объект и субъект чувственной деятельности. Фейербаховскому пониманию чувственности К. Маркс противопоставляет мысли о ее практической природе, о ее историчности и социальной направленности.
Вместе с тем К. Маркс сохраняет и материалистически более последовательно развивает положение предшествующих материалистов, в том числе и Фейербаха, о человеке как предметно действующем существе, противопоставляя тем самым свои взгляды идеалистическому пониманию человека вообще и гегелевскому пониманию в частности. «Человек является непосредственно природным существом… То, что человек есть телесное, обладающее природными силами, живое, действительное, чувственное, предметное существо, означает, что предметом своей сущности, своего проявления жизни он имеет действительные, чувственные предметы, или что он может проявить свою жизнь только на действительных, чувственных предметах. Быть предметным, природным, чувственным – это все равно, что иметь вне себя предмет, природу, чувство или быть самому предметом, природой, чувством для какого-нибудь третьего существа» [1, т. 42, 162 – 163].
Однако К. Маркс не останавливается на фейербаховском понимании человека. Антропологизму Л. Фейербаха К. Маркс противопоставляет последовательный историзм, причем таким образом, что естественную, природную сторону человека органически снимает естественностью самой истории общественного развития людей. «…Но человек – не только природное существо, он есть человеческое природное существо, т.е. существующее для самого себя существо… …И подобно тому как все природное должно возникнуть, так и человек имеет свой акт возникновения, историю… История есть истинная естественная история человека» [1, т. 42, 164].
Эта мысль важна не только в отношении предмета нашего разговора. Она проливает свет и на тот затянувшийся в нашей литературе спор, в котором ищут понимание того, где природная и где социальная стороны человека, какова возможность развития той и другой и т.д. Участившиеся выражения типа «природно-социальная», «биосоциальная», «природно-общественная» и т.п. сущность человека в какой-то мере отражают смысл этих поисков.
Нам представляется принципиально важным отметить, что К. Маркс никогда не разрывал сущность человека на две рядом положенные сущности: природную и не-природную. Понятно, что человек есть природное, т.е. предметное, телесное существо. В этом отношении он ничем не отличается от любого живого и даже неживого организма природы. Но если речь идет о его единой сущности (а, вероятно, исходить лишь из факта разорванности такой сущности – значит абсолютизировать отдельные исторические состояния человека, превращая их в конечные определения последнего), то обходить стороной мысль К. Маркса о возникновении человека в собственно социальном, историческом смысле было бы в высшей степени неоправданным. Ведь именно из этой мысли вытекает, что как природное, несуществующее «для самого себя» существо человек исчерпал себя до своего первого производственного, общественного акта; что, иначе говоря, природным его можно называть только в том смысле, в каком он в качестве предпосылки своего собственно человеческого становления «вобрал в себя» все формы движения материи, предшествующие общественной. Это означает, что первый по-человечески существенный шаг человека есть его не природный, а общественный шаг, что с этого шага всю природу его как естественного существа следует мыслить подчиненной его социальной природе.
По-видимому, вся путаница в понимании соотношения природного и социального в человеке связана с недостаточным представлением механизма того, как социальное вообще превращается в телесное, предметное, «природное» самого человека. В отношении жизни отдельного человека этот механизм может быть совершенно незамеченным, так что если речь заходит, скажем, о каких-то врожденных способностях человека, то само социальное начинает мыслиться как что-то внешнее по отношению к таким способностям, как некий фон для их полноценного раскрытия. В итоге проблема начинает трансформироваться в плоскость понимания соотношения психического и физического, духовного и телесного. Если же учесть, что в этой плоскости такое соотношение обнаруживается далеко не двузначно, что между психическим и физическим есть и абсолютная несовместимость, то пропасть между социальным и природным в человеке лишь увеличивается.
Между тем подлинная задача состоит в том, чтобы понять действительное превращение социального в телесное, в собственно природное человека как в филогенезе, так и в онтогенезе.
Но это не все. Следует отметить, что К. Маркс никогда не останавливался на понятиях «родовой человек» или «общественный человек», как их можно было бы истолковать в абстрактном, неисторическом, неклассовом смысле. Если Л. Фейербах пришел к понятию родовой сущности человека через анализ абстрактно-всеобщих форм религии, политики, искусства и т.д., то К. Маркс, напротив, – через анализ сложившихся в его сознании реальных форм становления коммунизма. «…Все движение истории есть, с одной стороны, действительный акт порождения этого коммунизма – роды его эмпирического бытия, – а с другой стороны, оно является для мыслящего сознания постигаемым и познаваемым движением его становления» [1, т. 42, 116].
Причем К. Маркс постоянно подчеркивает, что это движение истории и самого человека к родовому, общественному, коммунистическому состоянию, т.е. движение человека к своей собственной сущности, тоже останется чистой абстракцией, если не будет связываться одновременно с революционной деятельностью людей, направленной на положительное упразднение всех форм частной собственности. Ибо только в самодвижении такого упразднения возможно «подлинное присвоение человеческой сущности человеком и для человека» [1, т. 42, 116], следовательно, и становление его как действительно общественного существа[15].
Вспомним, К. Маркс критикует Л. Фейербаха как раз за то, что тот из абстракции «общественный человек» выводил понятие «коммунист», т.е. представление о том человеке, который характеризуется не столько общечеловеческими побуждениями как таковыми, сколько революционной практической деятельностью, направленной на низвержение мира господства и подчинения. Л. Фейербах «при помощи определения „общественный человек“ объявляет себя коммунистом, превращая это определение в предикат „человека“ и считая, таким образом, что возможно вновь превратить в голую категорию слово „коммунист“, обозначающее в существующем мире приверженца определенной революционной партии. Вся дедукция Фейербаха по вопросу об отношении людей друг к другу направлена лишь к тому, чтобы доказать, что люди нуждаются и всегда нуждались друг в друге. Он хочет укрепить сознание этого факта, хочет, следовательно, как и прочие теоретики, добиться только правильного осознания существующего факта, тогда как задача действительного коммуниста состоит в том, чтобы низвергнуть это существующее» [1, т. 3, 41].
Как уже было сказано, не созерцательно-природная, не абстрактно-человеческая, а революционно-практическая сущность человека определяет, по К. Марксу, истинный смысл человеческой чувственной деятельности. Не случайно с высоты понимания такой деятельности К. Маркс приходит к выводу, что Л. Фейербах «не добирается до реально существующих деятельных людей», что, с другой стороны, он «никогда не достигает понимания чувственного мира как совокупной, живой, чувственной деятельности составляющих его индивидов…» [1, т. 3, 44]. Ибо дело не только в том, чтобы признать человека «чувственным предметом», а окружающий его внешний мир – «чувственной данностью», но и в том, чтобы представить такую данность в виде исторически изменяющихся условий жизнедеятельности людей, а человека – как субъекта, осуществляющего эти изменения. Фейербаховское же понимание чувственного мира, по мысли К. Маркса, ограничивается, с одной стороны, лишь созерцанием этого мира, с другой – лишь ощущением.
Явление чувственного детерминировано всей общественно-исторической практикой, или, говоря словами К. Маркса, всей совокупной деятельностью целого ряда поколений людей, каждое из которых стояло на плечах предшествующего. Разумеется, вещная, предметная сторона этого явления имеет и нечто природное, устоявшееся, неизменное, что определяет и такой же устоявшийся способ его восприятия. Скажем, одно явление можно услышать и только услышать; другое – только увидеть и т.д. И как бы ни изменялись условия и характер деятельности людей, слышимое будет полагать один способ его восприятия, видимое – другой. Это обстоятельство нередко толкает исследователя на мысль, что якобы соответственно устойчивости природного существования вещи, ее свойств и особенностей существует такая же устойчивость и неизменность явления чувственного; что, таким образом, достаточно одного акта созерцания или ощущения, чтобы это явление уже могло даваться человеку.
Однако сама по себе вещная, природная сторона предмета или явления еще не составляет смысл феномена чувственного. Чисто предметного, природного отношения человека к окружающему, к самой природе не существует. Оно всегда преломляется через отношение человека к другому человеку, к обществу, к классу людей, в конечном счете – через отношение его к самому себе. Поэтому нет и такой вещи, которая в действии одного ощущения определяла бы чувственное состояние человека.
Природа чувственного объекта аналогична природе человека, способного к чувственному постижению и преобразованию мира. Вся предшествующая история развития способов производства людей, их образов жизни была и остается историей становления чувственного явления, историей превращения его из природно-безразличного в социально-небезразличный для человека предмет. Причем сама эта небезразличность (воспринимаемость, чувственность) предмета давалась человеку не сразу, хотя способности к ощущению и созерцанию у него никто и не отнимал. Она давалась через длительное формирование у него общественных потребностей, запросов и интересов. И только по мере того как расширялся круг таких потребностей, раздвигалась и сама граница чувственного видения мира человеком, а вместе с ней – и своеобразное поле такого видения – собственно являемость чувственного как такового.
С другой стороны, формирование потребностей человека никогда не было однородным процессом; оно всегда несло на себе печать не только налично существующих условий бытия людей, но и условий, уже превратившихся в традиции, предания и т.д. Люди, сами того не ведая, могут смотреть на мир глазами ушедших поколений, возрождать их идеалы, привычки, наряды и т.п. Юноша может чувствовать мир состоянием постаревшего человека, а старик – смотреть на мир юными глазами…
«Люди сами делают свою историю, – писал К. Маркс, – но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого. Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых. И как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто еще небывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыгрывать новую сцену всемирной истории» [1, т. 8, 119].
Таким образом, обращение людей к прошлому, возрождение старых форм видения и восприятия мира может действительно иметь место, и это надо рассматривать в качестве не формальной, а вполне содержательной стороны человеческих чувственных процессов. Современный исследователь стоит перед тем несомненным фактом, что неимоверное сплетение веками развивающихся отношений между людьми может быть свернуто в особый эмпирический акт предметно-чувственной деятельности человека – общественную форму его мировосприятия. Эта форма представляет собой в самом сжатом виде историю фактических взаимоотношений между людьми, историю противоречивости их состояний, помыслов и побуждений, на которых лежит печать всего богатства их реальных способов жизнедеятельности.
Поэтому представляется, что человеческий чувственный процесс есть прежде всего сложный социальный акт человека. И ответ на вопрос о его природе лежит, на наш взгляд, не столько на путях осознания физиологических или биологических механизмов чувственности, сколько на путях уяснения сворачивания всего социально-исторического бытия людей в формы непосредственно выраженных отношений человека. Другими словами, речь идет о том, чтобы отдать полный отчет тому, каким образом это социальное бытие людей превращается в саму анатомию чувств человека, в «чувственно представшую перед нами человеческую психологию» [1, т. 42, 123].
Чувственное как процесс. Рассудочное и разумное в чувственном отношении человека
Как уже отмечалось, в теоретическом подходе к чувственному процессу весьма часто наблюдается следующая ошибка. Мысль о социальности чувственности и ее предмета нередко толкает исследователя к тому, чтобы абстрагироваться от живого человека и представлять «человека вообще». При этом сама чувственность начинает мыслиться в форме чисто теоретической, в форме абстрактного созерцания, т.е. как что-то бестелесное. Соответственно этому и объект чувственности берется в форме абстрактного мышления и созерцания. И наоборот, мысль о предметности чувственности и ее объекта толкает исследователя на представление уже конкретного индивида, где чувственность и не мыслится иной как нечто чисто психофизиологическое, т.е. как акт пассивного ощущения и восприятия. Отсюда и объект чувственности полагается лишь в виде предмета этого ощущения и восприятия.
Такое шатание от гегелевского к фейербаховскому пониманию чувственности и её предмета связано с трудностью представления феномена чувственного в форме единого процесса – в форме «способа утверждения человека» (К. Маркс). Только с высоты представления его в такой форме можно осознать действительное единство предметной (телесной) и социальной (духовной) сторон его выражения, иначе говоря, увидеть в предметности чувственного акта проявление социального, а в социальности – проявление предметного, живого, телесного.
Неумение преодолеть такие трудности приводит к ряду других ошибок. Если чувственный процесс мыслится как акт сугубо телесный, без выражения сознания, духовности, если представлять его как действие одних лишь органов ощущения и восприятия, это неминуемо приводит к тому, что специфику чувственных явлений мы вынуждены будем искать либо в своеобразии раз навсегда данных человеку органов восприятия, либо в своеобразии предметного мира, каким он дается в этих органах восприятия. Но в таком случае сама духовность чувственности может быть понята только как идеальный и бестелесный акт, сходный с актом проявления сознания, рассудка, разума.
Но это не все. Нередко в толковании чувственности как некоторой первой ступени познания, т.е. в чисто гносеологической ее интерпретации, допускается еще одна ошибка: когда чувственный акт человека как таковой уже рассматривается лишь в значении простого средства постижения истины, к тому же достаточно обедненного и несущественного.
Каждому, кто приступает к изучению основ теории познания, известно положение о том, что истина не дается на уровне просто восприятия, что для ее достижения необходимо преодолеть ступень «чувственного созерцания» и перейти на уровень абстрактного мышления, на уровень движения рассудка и разума. И очень огорчительно, когда из этой в сущности правильной мысли порой делают совершенно неправильный вывод: мол, чем меньше чувственности в познании, тем лучше для самого познания; что, собственно, только то и истинно и научно, что не содержит чувственного и движется на уровне непротиворечивого языка науки логики. Нечего греха таить, для некоторых исследователей завести разговор о научности знаний – все равно что нелестно высказаться в адрес чувственности.
Это тем более огорчительно, что при доказательстве такой точки зрения ссылаются на известное ленинское положение о путях движения научного познания: от непосредственного созерцания через абстрактное мышление, а от него – к практике. Этот путь действительно таков. Только вопрос в том, как понимать непосредственное созерцание, абстрактное мышление, практику. Ленинское положение объясняет движение познания в плане теории (истории) развития человеческих знаний вообще или, как сказал бы философ, в плане большой Логики, а не той логики, которой мы пользуемся с высоты уже сложившегося метода познания, с высоты культуры мышления и освоенного бытия. Ибо с высоты такого метода, т.е. осознанного понимания функций практики в познании, и наоборот, может иметь место и обратное движение познания: от практики (от уже освоенного в сознании и бытии) через абстрактное мышление (создание новой теории), а от него – к непосредственному созерцанию (построение, скажем, модели теории или воплощение результатов теории в производстве и т.д.).
И если конечным пунктом этого процесса мы ставим непосредственное созерцание, то смысл его уже вовсе не тот, каким он может представляться в чисто гносеологической плоскости познания или каким его можно мыслить в исторически первом начале формирования человеческих знаний вообще. Здесь оно предстает уже не столько средством (частью, ступенью, началом) познания истины, сколько конечным пунктом того всякого освоения действительности, которое эту истину само превращает в средство, в органический момент своего движения. Иначе говоря, здесь непосредственное созерцание становится и самоцелью чувственного утверждения человека.
И это естественно. Ведь, в конце концов, истина нужна не для истины, и не все то, что не преследует ее как таковую, достойно отрицания. Или, как отмечалось в ряде исследований, не все то, что не наука, должно быть обязательно плохим. Скажем, искусство – не наука. Но из этого вовсе не следует, что ценность его должна измеряться только тем, насколько оно в состоянии выступить средством постижения истины или средством отражения многообразия существующего мира. Само-то это отражение для чего существует? И не превратится ли после этого истина в своеобразного идола, которому мы сознательно, со всей научностью принесем в жертву то, ради чего осуществляется человеческое познание вообще? Если, допустим, чувство трагизма есть только первая ступень познания истины, то, позволительно спросить, что собой представляет его конечная ступень?
Вопрос об отношении чувственного и рационального ни в коем случае не тождественен вопросу об отношении искусства и науки. Упомянутое деление познания на определенные ступени носит сугубо познавательное значение и имеет рациональный смысл лишь в очень узких пределах решения гноселогической проблематики. За этими пределами противопоставление чувственного рациональному ведет к исключению из чувственности момента сознания, разума, духовности, следовательно, к неправильному представлению ее как раз там, где она должна быть взята в законченной, совершенной форме – в самодвижении, скажем, того же искусства.
Безусловно, при всяких других обстоятельствах, особенно при выяснении механизмов практического взаимоотношения субъекта и объекта, вычленение чувственности в качестве момента или определенной ступени человеческой деятельности вполне оправдано. С этой точки зрения правильной будет выглядеть и та мысль, что с чувств мы начинаем познание, т.е. полагаем возможное в реализации наших целей и даже переживаем это возможное как свершившееся в фантазии действительное. Такие чувства К. Маркс называл «теоретиками», ибо их непосредственный предмет еще представлен не столько в живом виде, сколько в этом полагании, в фантазии, в теории. Другими словами, здесь нет еще того чувственного созерцания, предмет которого давался бы в виде осуществленной цели, а само созерцание определял бы как истинно живое и непосредственное.
Но при всем этом к чувствам мы и возвращаемся – возвращаемся с высоты познанного, пережитого, осуществленного. Вероятно, с этого момента вступают в силу (вновь употребляем выражение К. Маркса) «чувства-практики». И, наверное, уже нет ничего более достовернее таких чувств. Ибо их проявление и будет выражением той самой практики, которую мы называем собственно человеческой чувственной деятельностью. В таких чувствах представлена завершенность ответа на то, каким реально, фактически, действительно обнаружилось для человека все то, что ранее полагалось им в фантазии или выступало для него лишь в форме цели.
Только с этого момента может иметь место акт непосредственного созерцания человека. Но это такое созерцание, в котором содержится выражение того, во имя чего осуществлялось полагание возможного, каков смысл реализации человеческих целей вообще. Не видеть в таком созерцании выражение истины или же видеть ее лишь в качестве несущественной ступени познания – значит подвергать сомнению саму же практику людей, во всяком случае, всю непосредственность ее по-человечески выраженной достоверности. Ибо богатство практики – это не только богатство той очевидности, которая подтверждает истину в некой бесчувственной, машинной – и только тем – в неоспоримой форме, но и той, в которой сама эта неоспоримость, достоверность, истинность представлена человеку не-по-средственно, небезразлично. Иначе говоря, практика тем и достоверна, что непосредственна, тем и подтверждает истину бытия, что подтверждает истинность устремлений самого человека.
«…Именно благодаря чувственному содержанию сознания, – пишет А.Н. Леонтьев, – мир выступает для субъекта как существующий не в сознании, а вне его сознания – как объективное „поле“ и объект его деятельности. Это утверждение может показаться парадоксальным, потому что исследования чувственных явлений издавна исходили из позиций, приводивших, наоборот, к идее об их „чистой субъективности“, „иероглифичности“. Соответственно чувственное содержание образов представлялось не как осуществляющее „непосредственную связь сознание с внешним миром“, а скорее как отгораживающее от него» [30, 132].
Чувства сближают человека с предметным миром именно потому, что берут на себя нагрузку практики и прежде всего той стороны ее выражения, которая характеризуется как конечный определитель связи предмета с тем, что необходимо человеку. Речь идет при этом не о «внешних» чувствах, как они подчас противопоставляются чувствам «внутренним», духовным, а о чувствах, выступающих от имени всего существа человека (не только от имени его отдельных органов).
Конечно, представление о двоякого рода чувствах – «внешних» и «внутренних», телесных и духовных – далеко не случайно. Известно, что идеализм закрепляет это представление, но уже в виде того отчетливо выраженного классового положения, согласно которому чувства «внешние», телесные являются грубыми и низменными, плебейскими, а чувства «внутренние», духовные – возвышенными и господскими. Сознание причин такого представления должно привести нас к сознанию вполне реального факта расщепления человеческой чувственности. Мир господства и подчинения действительно расколол жизнь человека на материальную и духовную, разорвав тем самым непосредственность его чувственного состояния на полярно выраженные сущности, различные по своей ценности. Господин, к примеру, не нуждается в естественно-человеческом выражении к себе чувств раба, ибо они также являются его собственностью, как и сам раб.
С другой стороны, рабу нет возможности, а в определенном смысле – и необходимости выказывать свои чувства иначе, чем того требует от него его рабское бытие вообще и его господин в частности. Попадая в рабство, он определяет и судьбу всех своих чувственных состояний. Отныне, если он и пожелает выказать одно из них перед лицом этой «судьбы» – своего господина, то сделает это далеко не естественно и не по-человечески: скрыто, рассудочно, лишь «про себя». Его радость должна быть только внутренней, т.е. упрятанной в тайниках души («духовной»), ибо вряд ли позволительно будет выказать ее и «внешне», если самому господину будет грустно.
Впрочем, и грусть господина при таких обстоятельствах вряд ли выглядит цельной и подлинно непосредственной. Ибо по поводу чего грустить? Что не подвластно его целям, его воле? Ведь сам мир собственника – будем говорить шире – предопределяет дело так, что, как говорил К. Маркс, «то, чего я как человек не в состоянии сделать, т.е. чего не могут обеспечить все мои индивидуальные сущностные силы, то я могу сделать при помощи денег» [1, т. 42, 149]. И еще: «Я уродлив, но я могу купить себе красивейшую женщину. Значит, я не уродлив, ибо действие уродства, его отпугивающая сила, сводится на нет деньгами. <…> Я плохой, нечестный, бессовестный, скудоумный человек, но деньги в почете, а значит в почете и их владелец. <…> И разве я, который с помощью денег способен получить все, чего жаждет человеческое сердце, разве я не обладаю всеми человеческими способностями»? [1, т. 42, 148].
Практическое ниспровержение частной собственности ведет, по мысли К. Маркса, к полной эмансипации человеческой чувственности. С этой эмансипацией не может не уйти в прошлое и вековечное представление о двоякого рода чувствах – «внешних» и «внутренних». К. Маркс и Ф. Энгельс показали, что апеллирование к так называемым «духовным», как более истинным, чувствам, к которому так часто прибегали современные им буржуазные идеологи, как правило, всегда заканчивалось спекуляцией на подлинно духовных ценностях человека. Ибо под маской возвеличения духовных чувств здесь протаскивалась оголтелая апология тех самых грубых внешних телесных чувств, над которыми эти идеологи издевались. Вспомним, с каким сарказмом К. Маркс и Ф. Энгельс высмеивали Бруно Бауэра, который обвинял в возвеличении «мирской» чувственности Фейербаха, якобы не уловившего в ней, по его мнению, «святое», «внутреннее», «духовное» [1, т. 3, 89 – 90].
Правда, современная буржуазная эстетика уже давно не вспоминает о святости духовных чувств; для нее святыми стали чисто животные начала человека. «Если, например, у Кафки, – пишет Г. Кох, – человек превращался в клопа, то это было еще все же выражением возмущенного отчаяния по отношению к непонятному миру, который отнимал у человека его человеческую сущность. Современные декаденты, хотя и шумно восторгаются Кафкой, давно уже не проливают слез над человеком в образе клопа; напротив, они скорее поклоняются клопу в образе человека» [29, 244].
Нет «телесных» и «духовных» чувств, которые порознь и с равным основанием могли бы быть названы человеческими. Есть одна человеческая чувственность, которая при определенных социальных обстоятельствах может расщепляться, свидетельствуя этим или об отсутствии предмета подлинно непосредственной деятельности, или об отсутствии подлинно человеческой потребности в такой деятельности.
Но при всем этом не менее важно уяснить и то, что даже простейший акт чувственного отношения – будь он грубым или по-человечески совершенным – осуществляется в границах социального утверждения человека, что, таким образом, сами чувства, венчающие это утверждение, есть своеобразное живое зеркало общественного состояния людей, хотя это зеркало подчас и может быть кривым.
Голод, по мысли К. Маркса, – «это признанная потребность моего тела в некотором предмете, существующем вне моего тела и необходимом для его восполнения и для проявления его сущности» [1, т. 42, 163]. Эта естественная потребность организма, с точки зрения чисто природного взгляда на вещи, одинакова, например, у раба, требующего пищу, и у революционера, сознательно идущего на голодовку. Существует, впрочем, точка зрения, признающая, что чувство голода революционера – более цельное, более непосредственное, а потому – и более человеческое чувство. Но не в том понимании «цельное», что сама цель обладания пищей здесь более желанна, что, таким образом, физиологически тут можно установить какое-то различие.
Пусть желания остаются одинаковыми. Дело в другом. За чувством голода революционера скрывается не только потребность в пище, но и потребность в свободе, в способе человеческого выказывания всех потребностей и отношений. Только при таких условиях тот же голод может становиться проявлением и нужды, которую нельзя восполнить лишь актом присвоения пищи и которая наинепосредственнейшим образом характеризует человека в богатстве его сформировавшихся жизненных запросов. Ведь «богатый человек – это в то же время человек, нуждающийся во всей полноте человеческих проявлений жизни, человек, в котором его собственное осуществление выступает как внутренняя необходимость, как нужда» [1, т. 42, 125]. И в данном случае неважно, что такая нужда будет выражена здесь через чувство голода. Такой голод уже «желает» не только пищу. Он выступает от имени всех органов чувств, от самого существа человека, ибо связывает воедино осязание и сознание, слух и зрение, делая их способными к восприимчивости не только предмета пищи, но и всего чувственного богатства жизни человека.
Универсальность органов чувств человека определяется универсальностью его потребностей. Способ, каким проявляется и утверждается чувство свободного человека, существенно отличается от способа выявления и утверждения этого чувства у человека несвободного. Способ первого – это целостное утверждение всесторонне нуждающейся, а потому и всесторонне богатой, личности. Способ второго – одностороннее удовлетворение одного из состояний, покоящегося на грубых практических потребностях, оторванных от всех остальных, от единой сущности (цельности) их общественного проявления.
Порывая с выражением этой сущности, такое состояние превращается в наглядное свидетельство выявления ограниченного интереса человека. Чувство, отмечал К. Маркс, «находящееся в плену у грубой практической потребности, обладает лишь ограниченным смыслом» [1, т. 42, 122], а потому и вряд ли может быть названо человеческим чувством. Предел его досягаемости – только этот предмет; с другой стороны, только этот предмет составляет для него границу выявления всего чувственного как такового, в то время как само оно остается совершенно невосприимчивым к каким-то другим предметам или явлениям мира.
Единство общественной сущности человека предполагает, что последний должен присваивать мир цельным способом или же с высоты единой цели жизни. Должно быть, эта цель по праву необычна и в высшей мере значима, если человек мельчает без нее в своей чувственной восприимчивости, приносит в жертву свою жизнь совершенно чуждым целям и потребностям, вместо того чтобы господствовать над ними.
«Удрученный заботами, нуждающийся человек, – писал К. Маркс, – нечувствителен даже по отношению к самому прекрасному зрелищу…» [1, т. 42, 122]. Но нечувствителен не в том смысле, что глаза человека перестали быть глазами, а уши – ушами, что одно перестало видеть, а другое – слышать. С точки зрения их природных возможностей ничего не изменилось. Вместе с тем органы чувств потеряли способность к человеческому восприятию чувственных явлений. И это стало возможным потому, что они в силу определенных социальных обстоятельств перестали быть, по выражению К. Маркса, «сущностными силами» человека, т.е. такими органами присвоения действительности, в которых человек утверждал бы себя именно целостной сущностью, единым способом своего общественного проявления. Здесь все органы его индивидуальности потому и превратились в способы отрицания этой сущности, что оказались ограниченными только тем предметом и той целью, которые диктуются одной заботой и нуждой.
Однако положенный в цели, желаемый, но практически не присвоенный или не утвержденный предмет еще не является подлинно непосредственным, а потому – и чувственным предметом; он может иметь какую угодно форму своего бытия, следовательно, полагать какую угодно форму его присвоения, в том числе и такую, которая ничем не будет отличаться от присвоения его животным. «Для изголодавшегося человека, – писал К. Маркс, – не существует человеческой формы пищи, а существует только ее абстрактное бытие как пищи: она могла бы с таким же успехом иметь самую грубую форму, и невозможно сказать, чем отличается это поглощение пищи от поглощения ее животным» [1, т. 42, 122].
Это означает, что устранение самого по себе голода, заботы, нужды, вообще удовлетворение любой насущной потребности, если оно не сопровождается выработкой человеческой формы присвоения окружающего и в самом сознании человека, еще не является свидетельством наличия универсальной способности к восприятию и чувствованию мира. Такая способность возможна как следствие практической эмансипации всех чувственных состояний человека с одновременным формированием у него сознания необходимости осуществления всего богатства человеческих потребностей. Только с такой необходимостью, положенной как внутреннее убеждение, как цель общественного совершенствования, все органы человека могут предстать единым, по-общественному цельным органом или, что то же самое, органом в «форме общества» (К. Маркс).
Только обобществленность органов чувств может породить богатство их предметно выраженного функционирования. Глаз орла видит гораздо дальше, чем человеческий глаз. Но последний воспринимает в предмете сущность человека, общество, которое определяет смысл и направленность деятельности с предметом. Такое восприятие вызывает к жизни богатство дифференцированной человеческой чувственности: «…музыкальное ухо, чувствующий красоту формы глаз, – короче говоря, такие чувства, которые способны к человеческим наслаждениям и которые утверждают себя как человеческие сущностные силы» [1, т. 42, 122].
Они становятся сущностными потому, что выступают не только от имени того или иного индивидуализированного органа чувств (каким он представлен, скажем, глазом орла), но и от имени единого существа человеческой индивидуальности: чувствующий красоту формы глаз смотрит глазами всех художников, или собственно художественно; музыкальное ухо слышит ушами всех музыкантов, или собственно музыкально, и т.д. Благодаря этому человек может утверждать себя целостным образом и через отдельное чувство, что ни при каких обстоятельствах не свойственно животному. Так, своей музыкальностью он способен выражать всю степень своего небезразличия к человеческой форме всего слышимого; художественностью – всю степень небезразличия к человеческой форме всего видимого и т.д. В свою очередь, видимое, слышимое, короче – все объективно чувственное как таковое становится предметом общественного восприятия, ибо глазами и ушами отдельного человека здесь фактически слышит и видит мир все человечество. Тем самым чувственный акт потому и становится выражением самоутверждения человека, что, выступая, в сущности, силой общества, функционирует в качестве самостоятельной силы человека.
К сожалению, мы чаще замечаем естественно-природную, чем общественную особенность того или иного органа чувств человека: особенность глаза – воспринимать не так, как ухом; а особенность уха – воспринимать не так, как глазом, и т.п. На этой основе пытаемся даже вычленить специфику видов искусства. Мол, музыка отражает слышимое и существует только потому, что это слышимое есть в действительности (журчание ручья, пение соловья и т.д.); живопись отражает видимое и этим отличается от музыки. Но если придерживаться такой логики до конца, то истинно музыкальным ухом следовало бы назвать собачье ухо, ибо оно наиболее восприимчиво к слышимому как таковому, а художественным глазом назвать орлиный глаз, ибо он наиболее восприимчив к видимому.
Не можем не привести в связи с этим известное стихотворение Д. Кедрина:
Был слеп Гомер, и глух Бетховен, И Демосфен косноязык. Но кто поднялся с ними вровень, Кто к музам, как они, привык? Так что ж педант, насупясь, пишет, Что творчество лишь тем дано, Кто зорко видит, остро слышит, Умеет говорить красно? Иль им, не озаренным духом, Один закон всего знаком – Творить со слишком тонким слухом И слишком длинным языком?«Сущностная сила» человека означает свернутую в живой форме обобществленность его чувства. «Музыкальное ухо», «чувствующий красоту формы глаз», «красноречивый язык» и т.д. – это способы выявления восприимчивости человека не просто к слышимому, видимому, осязаемому и т.д., а к очеловеченной форме этого слышимого и видимого. Эта форма характеризует собой процесс выявления предмета, каким он включается в систему практики человека, в систему его целей и интересов. Вне такого выявления всякое другое понимание чувственного будет означать, что предмет чувств берется или в форме чисто природного его бытия (каким он фактически дается животному), или в форме абстрактного его существования (каким он предстает еще не столько в живом созерцании, сколько в мышлении, в движении рассудка).
В связи с изложенным представляется важным рассмотреть отношение чувственности к рассудку и разуму человека. Безусловно, мышление, рассудок, не говоря уже о разуме, не могут не нести в себе момент чувственности. Но их непосредственным предметом остается все же не столько внешне положенный реальный мир, сколько сама мысль человека. И если, оставаясь мыслью, такой предмет не будет обнаруживаться в форме практического действия, то и само восприятие (чувствование) его будет таким же практически ограниченным, как и потребность человека в этой одной мысли или в одном лишь мышлении.
Подлинное богатство чувственного отношения к миру есть не только богатство одного мышления, сознания как такового, но и богатство осуществления практики жизни, предметности реализованных потребностей человека. Чувство немыслимо без того, чтобы не указывать и на оценку, и на движение сознания, и – что особенно важно – на живую предметность самодеятельности человека.
Естественно, что в такой форме чувство богаче всякой мысли, не говоря уже о рассудке, ибо включает в себя все многообразие определений живого выражения жизнедеятельности человека. Наконец, оно богато и самой мыслью, действием рассудка и разума, которые входят в него как части единого целого, делают его завершенным по осознанности, разумности, небезрассудности.
В прошлом философы часто сравнивали чувственность с младенчеством человека и человечества. И это небезосновательно, по крайней мере, в том смысле, что подлинно великие чувства мы переживаем в жизни только раз и только со временем, сознавая это, обнаруживаем преходящесть их величия. Однако в отношении многообразия утверждаемого человеком бытия чувственность остается и непреходящей. Неправильно, что она, как младенчество, уходит в прошлое, уступая место рассудку и разуму, и что, собственно, только до этой ее замены может обнаружиться вся ее значимость. Цель состоит не в том, чтобы «заменить» чувственность рассудком как чем-то более совершенным и достойным человеческого утверждения, а скорее в том, чтобы устранить бесчувственность рассудка, т.е. те отношения людей, которые еще могут оставаться обездушенными, машинными, равнодушными. В конечном счете безрассудная чувственность ребенка не менее совершенна, чем рассудок возмужалого человека. А если учесть, что такой рассудок может быть порой поистине «железным», притупляющим всю чувственную восприимчивость человека, то светлая непосредственность мировосприятия ребенка может служить своеобразным образцом должного отношения к окружающему.
Безусловно, чувственность не должна быть безрассудной, но не безрассудной по-разумному, по самой истории ее становления, наконец, по человеческой культуре, которую она должна вобрать в себя. Эту культуру нельзя трансформировать в человека как простую сумму знаний, без его переживания или своеобразного «соучастия» в делах рода человеческого. Этим можно лишь наполнить сознание человека простой информацией, наподобие того, как ею наполняют «памятное устройство» кибернетической машины. В лучшем случае, этим можно удовлетворить лишь тягу рассудка человека к различным сведениям, без осознания того, во имя чего они необходимы.
К сожалению, мода на приобретение информации – этой обездушенной предметности человеческих знаний – порой превращается чуть ли не в вершину культурного совершенствования человека. На деле же речь идет об однобоком совершенствовании рассудка, лишенного своей истинной цели и назначения. Нередко такое «совершенствование» венчается полным недоверием к чувственности, а отсюда – и к тем сторонам человеческих знаний, которые так или иначе содержат в себе выражение чувственной позиции человека: убежденность, научную веру, самоутверждение и т.д. По-видимому, наблюдающаяся тенденция к подмене понятия «знание» (а оно же – «со-знание») понятием «информация» («информация научная», «информация политическая», «информация моральная», «информация художественная» – каких только разновидностей ее нет!) вытекает не из необходимости представления объективности, истинности тех сведений, которые добываются (разве понятию «знание» чужда такая объективность?). Скорее такая тенденция связана с объективизмом в истолковании этих сведений, с представлением их мнимой беспристрастности и безотносительности к тому, кто их воспринимает. Ведь не скажем же мы, что «животное получает знание»; но вполне приемлемо сказать, что «животное получает информацию».
Нельзя говорить о знаниях, не предполагая того, сознанием кого или чего они являются. По крайней мере, так обстоит и обстояло дело с человеческими знаниями. Что же можно сказать об информации? Если это знания, то никак нельзя поверить, что, скажем, лучи солнца несут информацию, как и нельзя поверить в то, что ее воспринимает (чуть ли не чувствует!) столб или крыша дома, асфальт дороги или песок пустыни. Если же это – не знания, то чем тогда информация отличается от самих лучей и от всего того, на что они падают? Не логично ли тогда предположить, что в мире нет вещей, а есть одна информация, то бишь такие «знания», которые неизвестно для чего нужны и неизвестно кого удовлетворяют?
… Впрочем, это особая тема. Нам важно было лишь подчеркнуть, что без осмысления культуры человеческой чувственности нельзя правильно понять значение и смысл функционирования различных форм общественного сознания – науки, морали, искусства, политики и т.д. Может быть, важно представить то или иное художественное полотно или политическое событие в виде суммы информации, определенного количества битов. Может быть, в беспристрастности этих битов и положен какой-то момент объективного существа истины, исключающего «чрезмерный субъективизм». Спорить не станем. Но ведь человеческая истина тем и велика, что она есть одновременно и выражение воли, страстей, хотения человека, которые никак не могут быть безотносительными к актуальному человеческому действию – данному политическому событию, данному восприятию художественного полотна и т.д.
Что же касается преувеличения роли чисто рассудочных форм знаний, а вместе с этим – и тех форм общественного сознания в целом, в которых эта рассудочность якобы предстает более наглядно (скажем, в науке по отношению к искусству), то объяснение всему этому лежит далеко за рамками понимания самого рассудка. Такое преувеличение связано с очень старым, немарксистским представлением о ценности и роли всех форм общественного сознания в жизни человека. В частности, оно имело место тогда, когда человек в силу антагонистического разделения труда пытался найти смысл и цель жизни вообще в той из областей духовной деятельности (в науке, искусстве или религии), которую считал единственно разумной и оправданной для своего социального положения. При этом не учитывалось, что ни в одной из этих областей, порознь или вместе взятых, как и в сфере чисто духовного совершенствования вообще, не положен искомый смысл человеческого бытия. Такой смысл может быть обнаружен лишь в реальной производственной общественной деятельности – деятельности всесторонне практической, а потому и всесторонне чувственной.
Если и можно говорить о совершенствовании человеческой чувственности, то не в смысле ее отрицания и замены рассудком, а в смысле ее обогащения сознанием (художественным, научным, моральным и т.д.), т.е. обогащения разумностью рассудка (не просто – информацией) или же рассудочностью разума. И действительная чувственность тем и обнаруживает свою цельность и непосредственность, что в своем развитии совершает путь восхождения от безрассудности – через рассудочность – к своей разумности.
Весьма интересно представлен этот путь в стихотворении П. Бровки «Ошибка»:
Бывало, как водится, в юности ранней Чуть вечер – влюбленный, спешу на свиданье. Вернусь поутру – все терзаюсь да каюсь, И думаю: «Верно, опять ошибаюсь!». А вечер настанет и я на досуге Гуляю на всех вечеринках в округе Пляшу, каблуки и подошвы сбивая, И сызнова каюсь: «Ошибка какая!».Когда спешил на свиданье, когда увлекался и любил, тогда, оказывается, не рассуждалось. В первом случае – живая, пусть безрассудная, чувственность, во втором же – рассудочность сомнений.
…Но вот разумность чувств, та самая разумность, которая дается человеку с прожитыми годами, а человечеству – со столетиями:
А вот как припомню сегодня былое, – От многих ошибок покрыт сединою, О вечере том безвозвратно тоскую: «Эх, вновь совершить бы ошибку такую!».Следует отметить, что противоречие между рассудочностью и разумностью чувств всегда оставалось бы простым противоречием развития человека, если бы это развитие всегда было по-человечески естественным. Люди, как говорится, могут заживо убивать свои чувства и призывать рассудок в качестве полноправного свидетеля своей непосредственности только потому, что их жизнь до этого уже потеряла свою человеческую правоту и подлинную непосредственность. Но рассудок непосредственен только тогда, когда движется цельностью своей разумности, следовательно – и небесчувственностью. Взятый же сам по себе, он так же мало непосредственен, как и машина, «умеющая» считать, но не умеющая относиться к миру и утверждать себя.
Если рассудок когда-нибудь и господствовал в жизни людей (как об этом свидетельствуют, скажем, целые эпохи его рационалистического шествия) или может господствовать в отдельном состоянии человека, то это случалось отнюдь не «во имя Разума». Скорее – во имя ее величества Глупости представлять, что человек может быть только средством чего-то другого (прибыли, капитала или даже – «истины», «науки»), что, следовательно, он может полагать в качестве цели своего собственного совершенствования пустое упражнение мыслить – мыслить себя кем угодно и как угодно, все же остальное пусть дается ему в качестве придатка его «неполноценной чувственности».
Здесь не место воспроизводить старый спор о том, чему отдать предпочтение в человеке – рациональному или эмоциональному. Нас эта дилемма вообще не интересует, ибо она исходит из противопоставления чувственности рассудку и разуму человека, что само по себе уже неправильно. Но если уж говорить о предпочтении, то такового заслуживает человеческая непосредственность, независимо от того, формой какой чувственности она представлена – безрассудной, рассудочной или разумной. А это уже такая сторона дела, для понимания которой мало говорить об «эмоцио» или «рацио», а надо привлечь такие понятия, как «цельность состояния», «самоцель деятельности» и т.д.
«Взрослый человек, – писал К. Маркс, – не может снова стать ребенком, не впадая в детство. Но разве его не радует наивность ребенка и разве сам он не должен стремиться к тому, чтобы на более высокой ступени воспроизвести присущую ребенку правду? Разве в детской натуре в каждую эпоху не оживает ее собственный характер в его натуральной правде?» [1, т. 46, ч. 1, 48].
Наивность ребенка – и истинная сущность человека; детская натура – и характер сформировавшегося мужчины! К. Маркс находит здесь то общее, что составляет вечно живое и непреходящее в человеке и что при любых обстоятельствах должно оставлять его таким, каким он есть, – и в истинной самоцельности (непосредственности) его человеческого состояния.
Быть непосредственным – значит прежде всего быть самим собой, в своем общественном, «непринужденном» состоянии. А это не так легко, если учесть, что помимо реальных обстоятельств, обусловливающих такое состояние, надо располагать способностью по-человечески относиться к самому себе, может быть, даже обладать умением «оставаться наедине» с самим собой. К сожалению, человеку бывает легче оставаться наедине с чем угодно или кем угодно, только не с собой; с завидной легкостью он может загружать свое мышление, внимание, память, чувства самой непритязательной информацией, только бы не давало о себе знать то самое «Я», которое подчас превращается во что-то поистине несносное и противное для человека (как говорят, «сам себе надоел»).
Конечно, плохо, когда человек за «самоанализом» и «самокопанием в себе» не видит того, что дано ему действительностью. Но, вероятно, плохо и другое: когда чувство человека оказывается в плену у внешне положенных вещей. Порой такой человек только и занимает себя «действительностью», к тому же так, что видит в ней чуть ли не избавление от самого себя. Оставаясь в пустой квартире, он оглушает себя бессмысленным ревом собственного магнитофона; он готов заниматься чем угодно «на виду», только не делать бы это «про себя»…
Э.В. Ильенков в работе «Об идолах и идеалах», описывая приключения «Мыслящего Уха», неожиданно заканчивает: «Мыслящее Ухо» попало в немилость «Управляющего Устройства», ибо металось по миру и заражало себе подобных слухами о Противоречии. В итоге «больные во главе с Мыслящим Ухом были старательно изолированы, и слухи о противоречии, погубившем Мыслящее Ухо, было предписано не повторять. Особенно про себя» [21, 16].
Это «особенно про себя» как нельзя лучше подчеркивает то обстоятельство, что истинность состояния человека чаще обнаруживается через это его действие «про себя», чем через действие «на виду». Внешне, как это нередко бывает, человек готов признавать и даже отстаивать какие-то истины. Но если это не делается и «про себя», не выступает и от имени всей непосредственности человека, то во всем этом будет так же мало искренности, как и подлинной восприимчивости человека к необходимому делу.
Условием проявления чувственного акта является наличие человеческой формы потребности и предмета этой потребности в форме чего-то действительно непосредственного. Это условие носит глубокий социальный смысл, вне которого невозможно до конца понять природу человеческого чувственного процесса.
ГЛАВА IV. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ. ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Природа непосредственного. Цель и средство в чувственной деятельности
Чувственный акт человека – закономерен, и этим уже сказано все, что можно вообще сказать о всяком законе деятельности людей, который хотя и функционирует не без воли людей, но с равным правом подчиняет эту их волю своим объективным требованиям.
Об этом надлежит упомянуть, потому что обычно чувственность мыслится чем-то слишком субъективным, не вкладывающимся ни в какие нормы, не подчиняющимся жестким правилам и т.п. Сложилось даже мнение о том, что вести речь о чувствах можно только как о чем-то свершившемся, непредвиденном.
Безусловно, рассудочно описывать, анатомировать чувство – дело весьма сложное, да и вряд ли необходимое. Тем более, что чувство чувству – рознь, и в определенном смысле они всегда неповторимы, как неповторим каждый момент жизни, который уходит в прошлое.
Вместе с тем очень важно понять, что чувственный процесс есть не просто застывшая созерцательность момента бытия человека, произвольная по своему проявлению, а прежде всего необходимая деятельность человека, которая в определенном смысле выступает целью для «самой себя». Эту самоцель не следует понимать как замкнутое и ограниченное удовольствие от какого-то одного момента или проявления жизни. Такая «самоцельность», как сказал бы Гегель, «лишена духовности», т.е. выступает ограниченной уже потому, что связана с удовлетворением одной из частных потребностей человека.
Напротив, речь идет о самоцельности, которую ни при каких обстоятельствах нельзя превратить в конечную цель получения удовольствия от одного проявления жизни без того, чтобы все остальные проявления такой жизни не оставались неосуществленными. Другими словами, речь идет о самоцельности такой деятельности человека, в которой выявляется самодвижение общественного идеала жизни, реализующегося совокупностью всех отношений (удовольствий) человека, цельностью их человеческого выражения. Только в движении такой самоцельности – как меры выражения удовольствия от всевозможных проявлений общественной жизни – положен искомый смысл непосредственности состояния человека.
Это положение очень важно. Ведь в каких бы абстрактных и мнимых формах ни полагались человеческие ценности, они еще не в состоянии вызвать подлинную непосредственность отношения к ним человека, если не будут «возвращаться» к нему в живом виде, не находить свое завершение в движении самочувствия, самоутверждения человека. С другой стороны, с высоты такого самоутверждения уже невозможно обнаружить и какой-то более существенный критерий определения небезразличности отношения человека. Ибо самим фактом такого утверждения здесь в полной мере будет оценено и то, что полагалось человеком в качестве необходимого, и то, что уже дано ему как таковое непосредственно.
Понятие непосредственного содержит глубокий эстетический смысл. Было бы неправильно вкладывать в него лишь предметное, онтологическое содержание. Мы порой говорим о непосредственном как о чем-то чисто внешнем, визуальном, как о вещи, явлении, которые «положены» рядом с нами и могут быть увиденными, услышанными, короче – достигнутыми органами чувств. В таком представлении непосредственное предстает предметом пассивного и равнодушного восприятия, безотносительным к нашим целям и желаниям. Такой предмет правильнее было бы назвать опосредованным, – по крайней мере, нашим же равнодушием или пассивным восприятием.
Очевидно, ближе к истине мысль, схватывающая существо непосредственного в его определенном ценностном выражении. Образно выражаясь, непосредственное – это такая небезразличность предметной деятельности, которая, с одной стороны, характеризует самочувствие этого человека как весьма приемлемое, утвердительное, хорошее (не-«посредственное» – через отрицание посредственного по качеству), а с другой – выделяет предмет такой деятельности не как средство, а как само-цель. Другими словами, непосредственное есть процесс человеческой деятельности, цель которой своеобразно «переходит» в средство, воплощается, угасает в нем и тем самым вызывает к жизни то, что полагалось в такой цели. И если это последнее проявляется таким образом, что не оставляет места средству, отрицает его как нечто опосредованное, то этим фиксируется явление, которое составляет существо не-по-средству данного (т.е. данного по самой цели).
Вообще осуществить анализ явления непосредственного в чисто теоретическом плане достаточно сложно, тем более если учесть, что существуют и другие способы его постижения, скажем, в искусстве. Во всяком случае, за бесспорной истинностью положения о том, что не всякий созерцаемый нами предмет является непосредственным или что последний может и не даваться акту сознания как таковому, вовсе не следует вывод о какой-то принципиальной непостижимости феномена непосредственного обычным аппаратом человеческого познания, как это готов утверждать, например, интуитивизм.
Каждый человек в состоянии сознательно «разыскать», обнаружить и зафиксировать в мышлении свой непосредственный предмет совершающейся деятельности. Путаница возможна лишь в силу нечеткого понимания того, что та, небезразличным образом положенная, предметность, которую мы в данной ситуации можем зафиксировать рассудком как что-то непосредственное (то или иное явление, событие, предмет и т.д.), уже в этом же рассудке тотчас может предстать и чем-то опосредованным, т.е. менее значимым для данной ситуации. И объясняется это тем, что сама цель поиска непосредственного, его понятия (в сущности, сугубо теоретическая задача) сразу же вытеснит все остальные наши цели, а потому более значимым, следовательно, более непосредственным предметом в этой же ситуации явится не что иное, как сама мысль о непосредственном – мысль, которая в силу нашего же желания и поставленной задачи оформилась в цель и средство одновременно: стала самоцелью деятельности.
Но это – исключительный случай, характеризующий ту особую познавательную ситуацию, когда непосредственным предметом человека может выступать… сама непосредственность, точнее – ее понятие. При всяких других обстоятельствах аналогичный поиск непосредственного предмета может быть просто неразумным. Если, скажем, сам эстетик, воспринимая произведение искусства, здесь же, в силу профессиональной привычки, задается вопросами о природе своего чувственного состояния (а оно действительно достойно теоретического осмысления), то тут цель еще, пожалуй, оправдывает свои средства: своеобразное «жертвование» непосредственностью одного предмета (наслаждения произведением) ради непосредственности другого предмета (мысли о наслаждении) еще может иметь определенный смысл. Однако такое «жертвование» не стоит совершать каждому из нас; ради попытки разобраться в своих чувствах не обязательно идти в театр.
Как это ни удивительно, но чаще всего непосредственным предметом для человека выступает его собственное мышление, хотя в отношении действительности вообще оно есть сплошное его опосредование. Объясняется это тем, что в заведомо «посредственном», алогичном функционировании мышления человек сам всегда не заинтересован. И по-другому быть не может. Человек исходит из собственных возможностей и интересов, и поэтому какая-то нарочитость смены его логического мышления алогичным, непосредственности мышления – посредственностью противоречила бы не только поиску истины в этом мышлении, но и смыслу существования такого мышления вообще. В физически нормальном состоянии последнее всегда остается чем-то бесспорно «нашим», органически близким, небезразличным.
Эта абсолютность непосредственности мышления настолько очевидна, что даже послужила в свое время своеобразным критерием доказательства существования человека. «Я мыслю, следовательно, я существую», – заключал Декарт. Что мышление является конечным доказательством существования человека – это не совсем правильно, поскольку не только теоретически, но и практически, не только мышлением, но и всеми чувствами человек утверждает себя в предметном мире [1, т. 42, 121]. Однако мысль Декарта интересна другим. Мышление действительно настолько слито с нами, что, по крайней мере субъективно, не нуждается в доказательстве его существования, следовательно, и существования нас самих апеллированием к сознанию, к рассудку и его логике. К тому же обращение к сознанию, к логике не меняет сути дела. Сознание есть то же мышление, и как раз наиболее логичное и непосредственное.
Именно поэтому, на наш взгляд, можно и необходимо говорить о феноменальности и интуитивности непосредственной деятельности человека. Но это вовсе не та феноменальность, которая представлена Гуссерлем, Кроче или даже Гегелем[16]. Речь идет о действительном существовании такой деятельности, которая по-человечески самодельна, а потому по-своему сопротивляющаяся превращению ее в средство для чисто теоретического (логического) действия человека. Она сопротивляется не потому, что представляет собой что-то неподвластное обычной логике, а потому, что в отношении самой практики осуществления жизни и ее необходимости всякое чисто теоретическое действие будет выглядеть менее заинтересованным, следовательно, менее непосредственным.
В конечном счете, есть своеобразное неписаное правило, аксиома, само собой разумеющееся в том, что реальная необходимость жизни – выше чисто мысленного ее выражения, что если уж распределять энергию сознания, то оно чаще и быстрее будет оказываться на стороне этой реальной необходимости, будет органически вплетаться в само ее осуществление, а не обособляться от него. Поэтому всякая непосредственная деятельность не может не быть интуитивной, по крайней мере до тех пор, пока остается непосредственной, пока захватывает мысль, волю, чувства человека без остатка и не противостоит ему как чуждая социальная сила.
Смысл интуитивной деятельности связан не столько с особыми механизмами мышления и его логики (как часто толкуется еще интуиция в чисто гносеологическом ее представлении), сколько с ценностью, точнее – целесообразностью такой деятельности. Дело не в каких-то «качественных скачках» мышления, о которых можно сказать только то, что они таинственны и не подвластны фиксированию их рассудком, а в необходимости деятельности, которая диктуется не только мышлением, но и всем существом реальной жизни человека.
В самом деле, не составляет труда заметить, что качественное превращение деятельности человека, ее предметности (именно потому что для каждой жизненной ситуации эта деятельность уже совершается как нечто актуальное, наиболее необходимое и – в этом смысле – необратимое) есть своеобразный переход от непосредственности одного состояния человека к непосредственности другого состояния. Но переход таким образом, что это «второе», т.е. фактически данное, становящееся состояние – а оно же и есть подлинно непосредственное для данной ситуации – всегда оказывается как бы «занавешенным», скрытым от сознания как «критика со стороны». Для такого сознания оно предстает самостоятельным предметом уже тогда, когда перестает быть непосредственным.
В таком переходе нет ничего мистического, и единственное, что делает его в глазах интуитивизма и феноменологизма таинственным и непостижимым, есть сама необходимость его как перехода жизненно и ситуационно неизбежного, должного, внутренне заинтересованного. Эта заинтересованность определяется не только случайностью пожелания того или иного состояния человека, но и практической необходимостью такой смены деятельности, сама непринужденность (свобода) осуществления которой могла бы характеризовать ее как самодеятельность. Именно в этой свободе деятельности возможна естественность смены непосредственных состояний человека, и только в диалектическом превращении этих состояний положено выражение непосредственности всей жизни человека.
Мистификации, рождаемые интуитивизмом и феноменологизмом при анализе природы непосредственных явлений, связаны с ложным представлением о самой непринужденности смены деятельности (самодеятельности) человека. Именно в последней феномен непосредственного обнажается как таковой, к тому же не в виде факта сознания и его особой логики, а в виде собственного же движения такой самодеятельности. Для идеализма же последняя мыслится в высшей степени абстрактно: или как прихоть слепой воли человека, принуждающей его делать то, что не ведает его сознание («делаю одно, а мыслится другое» – феноменально!), или как пустая смена деятельности, не преследующая никакой практически разумной цели («хочу – думаю о том; хочу – думаю о сем» и т.д.). Если есть какая-то непринужденность действия, то нет ее осознанности и целесообразности; если же есть какая-то осознанность и целесообразность, то нет ее подлинной непринужденности.
В итоге общественная свобода деятельности, составляющая реальное условие проявления непосредственности всех состояний человека, оказывается завуалированной мистикой слов «интуитивное», «подсознательное», «феноменальное», «непознаваемое» и т.п., которые превращаются здесь в насмешку над целостностью отношений человека, над непосредственностью их человеческого выражения.
Впрочем, буржуазное сознание вложило эту насмешку не только в уста представителя феноменологизма или интуитивизма, но и в уста того поистине великолепного «актера» – буржуазного индивида, образ деятельности которого давно потерял живую целостность и превратился в издевательство над человеческой непосредственностью. «Говори одно, а делай другое», «думай так, а поступай иначе» – вот принцип этого «актера», образ жизни которого превратился чуть ли не в сплошную роль.
Логика этого принципа построена на постоянном перевертывании существа человека и его действий, ибо сводится к одному: неважно быть самим собой, тем, кем тебя могут делать твои сущностные силы и человеческие способности; важно получить… «заглавную роль», создать видимость самодеятельности, иметь «ставку», закрепляющую твою «должность по работе». Привлекательная непосредственность действий ребенка выглядит с точки зрения такой логики полнейшей бессмыслицей. Ибо ребенок что чувствует, то и скажет, а что скажет, то и сделает. Действия же упомянутого «актера» сводятся к прямо противоположному: этот что и чувствует, то не скажет, а что скажет, то может и не сделать. Он радуется тогда, когда надо грустить, а грустит тогда, когда, в сущности, должно быть радостно…
«„Актер“ настолько глубоко вошел в плоть и кровь человека, воспитанного всей системой буржуазного производства и культуры (в том числе и искусства), – пишет Ю.М. Бородай, – что он принципиально не хочет быть чем-то на самом деле, серьезно. Датский писатель Кьеркегор, высмеивая полное отсутствие чувства ответственности в современном ему обществе, рассказывает, что один известный политический деятель согласился принять пост министра лишь при том условии, что всю ответственность за деятельность министерства будет нести его помощник…
Этот факт чрезвычайно типичен. Современный „европеец“ – продукт капиталистической „отчужденной“ системы производства – не может быть ни злодеем, ни святым на самом деле, он стремится получить лишь „работу“-роль, безразлично какую, лишь бы эта роль была не слишком второстепенна и хорошо оплачиваема» [32, 13].
Наверное, А.К. Толстой умел ценить непосредственность в действиях людей, когда писал:
Коль любить, так без рассудку, Коль грозить, так не на шутку, Коль ругнуть, так сгоряча, Коль рубнуть, так уж сплеча! Коли спорить, так уж смело, Коль карать, так уж за дело, Коль простить, так всей душой, Коли пир, так пир горой!…История полна множеством примеров удивительной цельности и стойкости человеческой натуры, ее беззаветной преданности правому делу. «Если Демокрит, например, решил, что чувственное знание неистинно и вводит в заблуждение, он, как рассказывают античные источники, выколол себе глаза (поистине непосредственность до конца! – А.К.). У современного буржуазного философа этот факт может вызвать лишь „нервный смех“. Ведь он – актер, „частичный работник“. И он знает, что „на работе“ можно доказывать все, что угодно, лишь бы это было логично, оригинально и находило благодарных читателей или слушателей. Можно, например, неопровержимо доказать, что на всем свете нет ничего, кроме меня самого и моей абсолютно автономной воли, или что истинное бытие есть смерть. Но зачем же при этом „стулья ломать?“ Нет, современный философ во имя своей абстрактной теории не будет отрицать существование собственной жены, весьма существенно ограничивающей его автономную волю, или кончать жизнь самоубийством. Дураки перевелись. Он знает: одно дело – на работе, а другое – дома. И как бы он ни восхищался своим идеалом – античностью, про себя он считает Демокрита по крайней мере… сумасшедшим» [32, 13 – 14].
К сказанному можно добавить только одно: даже эта вывернутая наизнанку непосредственность человека не есть предел ее расщепления в деятельности современного буржуазного индивида. Ибо, скажем словами Ю.М. Бородая, если вчерашний «европеец», оставаясь ни святым, ни злодеем на самом деле, тем не менее еще как-то стремился получить «работу»-роль и в этом стремлении еще сохранял какую-то непосредственность, то сегодняшний «европеец» уже норовит избавиться и от самого этого стремления, от непосредственности и собственных желаний. Он готов следовать любым чужим желаниям, только не своим. «Это, – пишет М. Лифшиц, – целиком „манипулированное существо“, как принято говорить в современной западной социологии. У него нет главного – самого себя» [31, 448].
Вспомним, когда-то Салтычиха выказывала свою натуру тем, что самолично наказывала крепостных, так сказать, желания выражала действием. Пеночкин же обнаруживал ее тем, что, как говорил В.И. Ленин, наказывал уже более «интеллигентно», через распорядителя. А вот современный Пеночкин – это уже, очевидно, сам распорядитель, который постиг все средства воздействия на непокорных, но ни одно из них не использует самолично и даже не считает нужным давать какие-то распоряжения. Он-то знает, что его функцию – распорядителя и исполнителя одновременно – выполнит любой «актер», получивший свою «ставку» и добросовестно исполняющий свою «работу»-роль. Ему достаточно лишь существовать. Хотя именно это его существование и есть наивысшее наказание для человеческого рода.
Сила, отнимающая у человека непосредственность его человеческого облика, есть отнюдь не природная, а социальная сила. За ней скрыты те реальные частнособственнические отношения людей, в которых сам человек функционирует как средство, т.е. как что-то заведомо посредственное, в то время как сама эта собственность полагается конечной самоцелью.
Но это уродливая, замкнутая в себе самоцель, ибо за ней скрыт такой же уродливый принцип жизнедеятельности: производство ради производства, получение прибыли ради самой прибыли. В конечном счете сила, выворачивающая всю непосредственность человека наизнанку, есть сила капитала. Как своеобразный сгусток вещных отношений между людьми, капитал выступает конечной и абсолютной формой обезличивания всех отношений человека, и в этом смысле является и их абсолютным «посредником». Разрывая живую целостность таких отношений – и именно потому, что в каждом из них незримо выражена самоцель вещного обогащения ради самого обогащения, – капитал превращает их в сплошной антагонизм самочувствия человека: в антагонизм их как свободных и принудительных состояний жизни, как актов выражения самодеятельности и актов проявления пассивности и безучастности к общественному бытию. В итоге вся непосредственность жизни человека превращается в сплошной калейдоскоп его непостоянства чувств, неконтролируемой смены его оценок и отношений к миру (поистине – в феноменальное!).
Меняя местами действительный смысл целей и средств жизни, капитал, словно капризный демон, принуждает человека радоваться тогда, когда должно быть грустно, а грустить тогда, когда должно быть радостно. Эта принужденность человека быть не тем, кем он должен быть по своей общественной сущности, и порождает то «манипулированное существо», непосредственность чувств которого так же поставлена на голову, как и смысл его жизни в целом.
Явление непосредственного не может быть раскрыто во всей полноте лишь с точки зрения «онтологической». Такое раскрытие предполагает и социальный анализ ценностного характера тех средств и целей деятельности человека, которые свойственны процессу человеческого утверждения.
Если и возможна какая-то загадка законов проявления чувств человека, то только в том смысле, в каком еще реально возможна (но по-человечески не оправдана) такая деятельность людей, которая отличается от существа человеческой самодеятельности как таковой. Только в такой самодеятельности снимается или практическим образом разрешается вопрос о свободном и принужденном в состоянии человека, об его утверждении или отчуждении. И только в таком разрешении, в необходимости его осознанного осуществления положен смысл законов непосредственности состояния человека как, одновременно, законов обнаружения всего чувственного в окружающей действительности. О подлинной объективности (а не просто вымышленности) этих законов можно говорить в такой же мере, в какой можно говорить о непроизвольности общественной самодеятельности людей, мучительно пробивавшей себе дорогу через всю историю развития человека.
Непосредственное – чувственно без средств, пусть на такое средство претендует даже наше мышление или сознание. Другими словами, явление, которое дается нам непосредственно, не нуждается ни в каком другом опосредовании, чтобы можно было относиться к нему чувственно, оценочно, с переживанием. Скажем иначе: оно не нуждается в дополнении еще какой-то ценностью (ценностью мысли, сознания, капитала и т.д.), чтобы факт этой чувственности, переживания имел место. И не нуждается именно потому, что, коль оно уже дается как не-посредственное или как что-то отрицающее свою посредственность (в лучшую или худшую сторону), то этим уже заслуживает не столько теоретического беспристрастного отношения, сколько живого небезразличия человека, его утверждения или отрицания, короче – чувствования.
Отсюда можно говорить и об определенной закономерности. Все непосредственное, как закон, дается чувственным образом. И наоборот, все чувственное как таковое всегда представлено непосредственно. По сути, это один и тот же закон, который лишь в чисто гносеологической плоскости может быть истолкован двояко. С одной стороны (субъективной), способ, каким вызывается к жизни всякое чувственное состояние человека (будет ли оно утилитарным или нравственным, политическим или эстетическим), является одновременно и способом обнаружения и постижения определенной значимости, ценности, иными словами, непосредственности предмета деятельности. Это означает, что проявление чувственного отношения человека невозможно без наличия такого предмета, который не выступал бы в значении определенной цели деятельности и ее осуществления; чувственный процесс возможен лишь при наличии феномена непосредственного, независимо от того, будет ли такой феномен реальным или идеальным.
С другой стороны (объективной), способ, каким обнаруживается для человека все ценностное, значимое, одним словом – все чувственное как таковое (будет ли это утилитарная или эстетическая вещь, моральное или политическое явление), есть уже и способ становления непосредственности состояния человека – действительность его самочувствия.
Указанная наиболее общая закономерность не дает ответа на вопрос, какая степень непосредственности или значимости предмета может порождать эстетическое или моральное чувство, как и не указывает на то, с какой мерой небезразличности должно проявиться само это чувство, чтобы можно было засвидетельствовать объективное проявление утилитарной или эстетической вещи.
В данной закономерности фиксируется достаточно простое положение, без осознания которого, однако, нельзя понять и какие-то более специфические закономерности чувственных процессов. Чтобы быть чувственным (не просто мыслимым или сознаваемым) предметом, последний должен обнаружиться если не в полной мере соответствующим человеческой цели деятельности, то хотя бы непосредственным в такой деятельности. Быть… не-посредственным – своего рода минимум значимости предмета, благодаря которой он объективно (а не только по нашей воле) может перейти из разряда безразличных в разряд чувственных.
Повторяем, объективно. Ибо если предмет не является таковым, то самой реализацией цели, в конечном счете практикой осуществления и всевозможных других целей человека, такой предмет отрицается как средство, следовательно, как непосредственный предмет, а потому и как предмет чувственный. И напротив, сам переход его в эту непосредственность означает не что иное, как подтверждение смысла целенаправленности действий человека, как практику обнаружения и всевозможных других чувственных явлений.
Что же касается степени непосредственности или значимости предмета в таком переходе (чтобы можно было назвать его эстетическим или утилитарным), то её можно определять двояко: субъективно – через небезразличность цели человека, которая реализуется в той или иной ситуации; объективно – через небезразличность средств деятельности, отвечающих такой цели.
Однако нас интересует чувственный процесс, где, как известно, цели и средства уже находятся в определенном единстве, а потому и предполагают осознание их не в делении на нечто субъективное или объективное, гносеологическое или онтологическое, а в целостности этого их единства, как оно предстает в практическом выражении. С этой точки зрения указанную закономерность можно сформулировать и по-другому: характер чувственного процесса определяется степенью непосредственности цели человека, которая с неизбежностью осуществляется, другими словами, практическая реализация которой, «как закон определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинять свою волю» [1, т. 23, 189].
По существу, здесь изложено известное марксистское положение, согласно которому действительный облик человека, следовательно, действительность его чувственных отношений, определяется не тем, что человек мыслит о себе или что мыслят о нем другие, а тем реальным жизненным процессом его целенаправленной деятельности, который связан с его способом производства и непосредственно общественным бытием.
Именно непосредственность такого бытия, а не опосредствующие его формы сознания, идеальные мотивы, задачи и т.д. является конечным определителем характера всех чувственных состояний человека. Ибо на поверку всегда окажется, что сами эти идеальные мотивы и задачи возникают тогда, когда, как говорил К. Маркс, материальные условия их возникновения и решения уже существуют или, по крайней мере, находятся в процессе становления [1, т. 13, 7]. Это означает, что в самой практике осуществления таких задач человек «вынужден» иметь дело только с действительными целями и мотивами, т.е. способными к их самореализации. Цели же, заведомо лишенные такой способности, неосуществимые, мнимые, не в состоянии определять действительность чувственного отношения человека. Иначе говоря, человек сам незаинтересован в таких целях и рано или поздно избавляется от них.
При любых обстоятельствах – и в этом, на наш взгляд, состоит последовательный материализм – определение чувственного состояния человека должно быть выведено из непосредственности тех наличных форм социального бытия, в которых человек живет. Ибо, по-видимому, и здесь будет справедливой мысль о том, что не сознание как таковое определяет это чувственное состояние человека, а реальное бытие, сохраняющее значение непосредственности.
С этой точки зрения вполне объясним конкретный механизм того, почему сознание людей всегда своеобразно отстает от их бытия, т.е. «запаздывает» выступать со своим особым интересом к миру, чтобы, оформившись в обособленную ценность, брать на себя нагрузку всего значимого и непосредственного для человека. Ведь до тех пор, пока смысл жизни и бытия людей органически вплетается в их материальную деятельность и производство, пока целью этого производства выступает сам человек, такой смысл не может застыть ценностью функционирования одного сознания, т.е. ограничить свое проявление лишь такой теоретической формой деятельности людей, в которой он сознавался бы, мыслился бы, но не проявлялся в практических формах жизни, следовательно, не воспринимался бы людьми всесторонне чувственно. Ибо если и правильно, что для человека чаще всего непосредственным предметом выступает его собственное мышление, сознание, то в еще большей степени правильно то, что таким предметом для человека является он сам в целостности всех своих материальных и духовных сторон. А если практически это не всегда подтверждается и единственно сознание превращается для человека во что-то по-конечному значимое и самоцельное, то это говорит лишь о том, что такую целостность человек уже потерял до того, как его сознание взяло на себя нагрузку этой значимости и непосредственности.
Впрочем, это положение должно быть понято в строго социальном, историческом смысле слов. Ибо речь идет не о том, чему отдать предпочтение – непосредственности сознания или непосредственности бытия человека. Такая дилемма объективно вытекает из реального исторического факта расщепления целостности состояния человека. Однако не следует забывать и то, что, даже теряя такую целостность, человек не перестает «быть», функционировать единым организмом, следовательно, удовлетворять этот организм даже тогда, когда его собственное сознание «мнит себя» чем-то сверхособым и сверхзначимым. Если, например, средневековый монах умерщвляет свою плоть во имя «духа», то не следует забывать, что здесь и «духа» ровно настолько, чтобы его ценность могла выделиться через такого рода действия. Там, где духовность человека действительно непосредственна, она не может не отражать единство ценностного содержания бытия и сознания в целом, т.е. не может не полагать необходимость как удовлетворения «себя», так и всего остального в человеке.
Следовательно, правильнее вести речь не об абсолютности противопоставления ценности сознания и ценности бытия (такая абсолютность так же невозможна, как невозможно функционирование сознания в умерщвленном теле), а о некотором время от времени нарушающемся единстве бытия и сознания человека в его же бытии.
При более глубоком рассмотрении это нарушение связано с известным исторически повторяющимся заострением противоречий между производительными силами и производственными отношениями людей. Мы чаще констатируем такое заострение лишь в плане экономическом, без доведения его до осознания выражения и в непосредственности состояния человека на том или ином этапе общественного развития. А ведь интересно, что характером соответствия производительных сил и производственных отношений и – главное – определенной исторической повторяемостью этого процесса обусловливается и некоторая повторяемость (закономерность) возникновения весьма своеобразных, но по-типичному сходных форм выявления непосредственности состояния человека. Там, где ходом истории производительные силы и производственные отношения людей приводились в более-менее относительное единство (а это, выражаясь языком политэкономии, и были социальные революции, или своеобразные праздники угнетенных), там на арену истории выходил человек, отличающийся поистине удивительной целостностью и непосредственностью.
Объясняется это тем, что с этого времени создается определенный простор для развития новых форм общения, складываются более-менее благоприятные условия для активности масс, а вместе с тем – и почва для реального воплощения тех замыслов, планов, идеальных задач, которые до этого вызревали в сознании людей, концентрируя в себе заряд всего необходимого и непосредственного для них. Теперь, врываясь в саму практику жизни, это непосредственное становится достоянием не только сознания, но и всей предметной деятельности людей; оно буквально лепит их реальные состояния и характер мировосприятия. Здесь, как говорят, «само время» порождает людей величественных и бескромпромиссных, отличающихся единством слова и дела, мыслей и поступков, высоких принципов понимания жизни и естественности их осуществления.
Однако такими эти люди остаются до тех пор, пока производительные силы вновь не приобретут свои оковы (К. Маркс), а человек не станет «тенью» своего сознания, не вступит в жизнь уже своеобразным манекеном. Ибо с этого времени может вновь создаться видимость, что не бытие определяет сознание и чувственный облик, а, напротив, сознание определяет это бытие и этот облик; что не единство цели жизни и мера ее практической осуществимости определяет степень непосредственности всех отношений человека, а лишь побудительный мотив к самознанию такой цели и такой ее осуществимости.
Вот почему К. Маркс, отлично понимая механизм возникновения этой видимости, настоятельно требовал различать становление форм бытия людей и становление форм сознания, в которых люди постигают изменение непосредственности такого бытия, следовательно, вновь воспроизводят или как бы «удерживают» в сознании все необходимое и значимое для них, но только в мнимой, опосредованной, идеальной форме, точнее говоря, в разнообразии тех форм сознания, которые мы называем религией, искусством, моралью и т.д.
И это естественно. Ибо в таком «удерживании» всего непосредственного в сознании (в его формах) – в этом своеобразно прощальном взгляде на уже обреченную историей былую непосредственность жизни – само сознание не в силах воспроизвести эту жизнь в богатстве тех ее красочных проявлений, в которых она когда-то протекала. Оно – лишь отблеск такой жизни, ее холодное и бескровное «повторение»[17]. И подобно тому, как действительным свидетелем непосредственности ушедшей жизни были не столько намерения и пожелания людей, сколько их реальная деятельность, так и теперь таким свидетелем всего непосредственного для них остается не сознание, а осуществление необходимого, по крайней мере, в виде той случайности или эпизодичности проявления должной жизни, которая уже зреет и в виде своеобразного образца ее переживания – в виде идеала.
Следуя мысли К. Маркса, именно с этого времени сознание может «возомнить себе», что оно – нечто иное, чем осознанное бытие, т.е. может окончательно эмансипироваться от мира и перейти к образованию «чистой» теории, теологии, морали, искусства и т.д. Образуясь в нечто самостоятельное и по-ценностному обособленное, последние начинают выступать от имени идеала жизни как всей ее подлинной непосредственности. Так, богослов ищет этот идеал в религии и только в богослужении чувствует себя непосредственным; художник полагает его в искусстве и не представляет себя целостной личностью вне художественной деятельности и т.д. В итоге не непосредственность реальной жизни в богатстве ее необходимых проявлений, а непосредственность лишь идеала жизни (религиозного, морального, художественного) и эпизодичность его осуществления становятся критериями измерения небезразличности человека ко всему окружающему. Фактически то, что должно быть непосредственным, здесь превращается во что-то опосредованное, и наоборот.
Однако отделение сознания от бытия, образование самостоятельных ценностных значений религии, морали, искусства и т.д. есть не следствие деятельности одного сознания и воображения, а результат реального отделения непосредственности жизни человека от практики ее материального производственного выражения. Может быть, отсюда станет более понятной та еще не нашедшая должного признания мысль, что функционирование той или иной формы сознания в качестве обособленной ценности, отличной от ценности бытия, нельзя представлять чем-то извечно данным и неизменным.
Такое обособление обусловливается историческим фактом: отсутствием подлинного единства между производительными силами и производственными отношениями человека, т.е. такого единства, которое исключало бы какой бы то ни было антагонизм между сознанием и бытием, оценкой и ценностью жизни, моментом жизни и всей жизнью человека. И если мораль, религия, искусство и т.д. еще противостоят действительности в качестве сфер свободно выраженных отношений человека, в качестве способов идеального утверждения людей, то не следует забывать о том, что сами эти отношения и такого рода утверждение еще нуждаются в определенном историческом обогащении, или, выражаясь строгим философским языком, в диалектическом снятии их односторонности и ограниченности. Ибо хотя собственно духовное (художественное, религиозное и т.д.) утверждение человека и не означает абсолютной утраты целостности и непосредственности этим человеком его общественной сущности, оно ни в коем случае не означает и полного «возвращения» человеку такой сущности. Последнее возможно при условии практического упразднения всех форм частной собственности как одновременно устранения всех форм отчужденной производственной деятельности людей. Только с окончательной эмансипацией человеческого производства возможно, говорил К. Маркс, «подлинное присвоение человеческой сущности человеком и для человека» [1, т. 42, 116], а вместе с тем и «возвращение» его из религии, права, искусства и т.д. к своему человеческому, т.е. общественному, бытию [1, т. 42, 117].
Поэтому если и правильна мысль о том, что характер чувственного состояния человека определяется степенью непосредственности его цели, мотива, запроса, которые осуществляются, то с непременным пониманием того, что само это осуществление надо рассматривать не только в формах самого сознания (художественного, религиозного или научного), но и во всем богатстве практического выражения жизни человека.
Эстетическое как степень непосредственности чувственного. Форма эстетического состояния
Исходя из изложенного, можно было бы конкретизировать понятие степени непосредственности состояния человека применительно к разнообразию осуществляемых им целей и потребностей, а отсюда – и разнообразию чувственного проявления предметного мира. В абстрактном изложении указанную выше закономерность можно сформулировать просто: чем большей заинтересованностью характеризуется цель, тем большей степенью небезразличности дается ее средство.
Однако если такое положение достаточно легко подтвердить реализацией каких угодно эмпирических целей, то дело заметно осложняется тогда, когда мы приступаем к анализу такой потребности, которая могла бы выступить наиболее заинтересованной, но которая не содержит отчетливо выраженного полагания своего предмета в качестве средства, а себя – в качестве цели как таковой. Другими словами, речь идет о сложности теоретического представления незаинтересованности эстетической деятельности, в которой предмет действительно положен как нечто объективно целесообразное, но, как говорил И. Кант, без представления цели деятельности с ним со стороны самого человека.
Обычно преодоление этих трудностей начинают приблизительно с такого размышления. Можно ли эмпирически установить, какую цель осуществляет человек, скажем, восхищаясь красотой лунной ночи, величием поступка другого человека и т.д.? Или тот же вопрос, но в обратной постановке: средством осуществления какой цели может явиться для человека красота лунной ночи, величие поступка другого человека и т.п.? Совершенно естественно, что задаваться такими вопросами, как «ради чего?», «по поводу чего?», «с какой целью?» и т.д., излишне, ибо ни то, ни другое явление в действительности не выступает собственно средством (как будто такое средство еще находится вне самой цели, а цель остается лишь чем-то субъективным и нуждающимся в удовлетворении). А если это так, то отсюда – первый шаг к тому, чтобы усомниться в самом тезисе о целенаправленности эстетического процесса.
Все дело в том, что данные явления уже действительно выступают в значении не средства, а человеческой самоцели деятельности, где средство, строго говоря, отрицается, переходит в цель состояния, утверждения человека как его самовосхищения. При этом последнее настолько не-посредственно, что было бы просто неразумно превращать его в средство обнаружения еще какого-то состояния, более ценностного и необходимого человеку. Если такое состояние и возможно, то оно уже дается ему в данных обстоятельствах, и это подтверждается не столько пожеланиями человека, сколько непосредственностью его живого акта восхищения. И неважно, что такой акт выступает здесь в виде переходящего или, вновь-таки, эпизодического момента жизни. Этот момент не менее значителен, чем значительна вся жизнь человека, положенная в его стремлениях и идеале.
Вместе с тем следует иметь в виду и другое. Данные явления нельзя назвать средством только в самом этом переходе его в цель, т.е. лишь с точки зрения фактического самодвижения человеческого акта переживания и утверждения, а не с точки зрения выработки потребности в таких явлениях вообще и полагания их как необходимых человеку. В равной мере и само восприятие таких явлений нельзя назвать целью (стремлением) лишь в моменте утверждения человека или с точки зрения осуществления полагаемого, а не с точки зрения функционирования такого восприятия как исторически необходимого и целенаправленного вообще. В конечном счете тот или иной акт чувственного утверждения может быть вполне случайным, непредвиденным для человека. Но не случайной остается сама потребность в таком утверждении, а отсюда – и необходимость обнаружения соответствующего ей предмета.
Во всем этом надлежит достаточно четко разобраться. Ибо именно этот диалектический переход средства в цель, точнее – лишь формальная сторона их тождества в эстетическом процессе, чаще всего и бросается в глаза. Не отрываясь от эмпирического факта выражения эстетической оценки (где указанный переход уже обнажается в свершенном виде), мы подчас не улавливаем и сам механизм того, за счет чего эстетическое явление теряет функцию средства деятельности. Не случайно поэтому такое явление начинает представляться предметом произвольно выраженного интереса человека, а оценка его – практически бесцельной, «самоцельной», что означает якобы – «незаинтересованной». При этом эстетичность состояния человека объясняется исключительно через толкование воздействия на человека каких-то особых свойств предмета, без выражения какой бы то ни было активности со стороны самого человека.
Так обнаруживается худшее понимание кантовского положения о незаинтересованности эстетической деятельности, а вопрос о самоцельности такой деятельности превращается в вопрос о бесцельности ее вообще. Мы говорим – худшее, ибо И. Кант, однако, признавал за такой деятельностью и выражение цели, по крайней мере, в виде необходимости существования у человека способности к выражению суждения вкуса. «…Суждение вкуса, – писал он, – в котором нечто признается прекрасным, не должно иметь определяющим основанием какой-либо интерес. Но отсюда не следует, что, после того как оно уже дано как чистое эстетическое суждение, с ним нельзя связывать какой-нибудь интерес» [25, т. 5, 310].
Уяснение эстетической деятельности и ее незаинтересованности, хотя и не сводится к пониманию удовлетворения каких-то частных потребностей человека или их простой суммы, не лежит, однако, на пути абстрагирования от таких потребностей. Вообще допущение такого абстрагирования может свидетельствовать лишь о том, что нам неизвестны какие-то другие цели и запросы человека, кроме тех, которые находим ограниченными и заведомо подвергаем отрицанию. Так что идея незаинтересованности эстетического процесса, как она чаще улавливается в чисто формальной постановке, является скорее следствием вычитания всех потребностей человека из этой предварительно составленной их простой суммы, чем результатом осознания их подлинного единства и реализации в таком единстве.
Поэтому не случайно, что весьма часто мы готовы представлять, будто эстетическая потребность человека может существовать как нечто рядом положенное с другими потребностями – нравственными, политическими и т.д. Если после этого и не приходится договариваться до понимания эстетической деятельности как абсолютно бесцельной, то только в силу нашей непоследовательности: здесь вычитание этих потребностей не осуществляется до конца. Но, даже оставляя за эстетической деятельностью выражение какого-то направленного интереса, мы при таких условиях вряд ли схватим специфичность ее содержания. Ибо там, где придется вести речь об особенностях интереса человека в такой деятельности, мы должны будем противопоставлять его интересу утилитарному или нравственному (наподобие тому, что, дескать, эстетическое переживание не преследует никакой практической выгоды, пользы и т.п.). И наоборот, там, где необходимость осознания активности человека в этом переживании будет толкать нас все же на признание в последнем какого-то специфического интереса, мы этот интерес по-другому и не сможем представить, как только извлеченным из простой совокупности других интересов человека, т.е. из все тех же нравственных, утилитарных и т.д. Интерес же собственно эстетический опять окажется вне поля зрения и будет мыслиться выражением если не случайной активности человека, то такой заинтересованности, которая диктуется чисто внешними причинами, «само-по-себе-сообразностью» существования эстетического предмета.
Допустим, однако, что эстетическое восприятие – бесцельно (как его можно представить уже «очищенным» от всевозможных практических интересов человека), что, следовательно, эстетичность его диктуется исключительно этой внешней «сообразностью» существования самого по себе эстетического предмета, без выражения «образа», цели деятельности с ним со стороны самого человека. Тогда чем будет отличаться такое восприятие от восприятия животного и – главное – почему на последнее не действует эта внешняя сила особой «сообразности» существования эстетического предмета? Видимо, какой-то ответ здесь возможен лишь при условии апеллирования к абстрактному положению: дескать, человек так устроен, т.е. обладает способностью увидеть или разглядеть в предмете то, что не в состоянии сделать животное. Другими словами, отныне если не вся природа, то, по крайней мере, вся целенаправленность эстетического восприятия будет выводиться задним числом, из факта активности отражения, смысл которого, в свою очередь, будет прятаться за понятие способности человека к особому восприятию мира.
Нетрудно заметить, что непоследовательность взгляда на целенаправленность человеческой деятельности может толкать нас или на позиции биологизма, с высоты которых мы будем противопоставлять свои взгляды кантовскому пониманию эстетической деятельности, или на позиции того же И. Канта, которые будут заставлять нас обращаться чуть ли не к врожденной (априорной) способности человека к выражению «суждения вкуса». Так вместо того, чтобы, как требовал В.И. Ленин, «исправлять Канта», мы будем лишь дополнять кантовские ошибки худшими положениями антропологизма.
Однако формальным противопоставлением потребностей человека нельзя решить существо задачи. Дело не в том, чтобы не признавать за эстетической деятельностью выражение цели, а в том, чтобы понять, какого рода эта цель, какова мера интереса, степень непосредственности должна быть положена в ней, чтобы она могла реализоваться чем-то принципиально незаинтересованным. Речь, следовательно, идет о вычленении такого своеобразно конечного интереса человека, утверждение которого было бы тождественно обнаружению наиболее небезразличного состояния человека – другими словами, такого момента жизни, который ни при каких обстоятельствах нельзя было бы превратить в средство утверждения еще какого-то состояния, более важного и значимого для человека.
Деятельность человека характеризуется множеством осуществляемых целей и потребностей. Но не всякую его деятельность можно назвать само-цельной. Такая цельность определяется совокупностью общественных отношений, единством способа их проявления в любом из актов деятельности человека. Ни одно из этих отношений, взятых обособленно от других, не может быть вычленено в качестве наиболее значимой ценности; в своем же единстве такие отношения составляют выражение жизни человека, целостность ее общественной сущности.
Вся история эстетики сходилась, по крайней мере, на той мысли, что степень непосредственности, положенная в эстетическом состоянии, характеризуется своеобразным «максимумом» выраженного интереса человека, что более заинтересованного состояния человека нет и история его не знает.
Гегелю и Чернышевскому удалось впервые обратить внимание на смысл такой заинтересованности и представить ее как ценность движения «самой жизни». То, к чему человек не может не быть в высшей степени небезразличным и что составляет своеобразный предел его возможно выраженного интереса, есть такое движение жизни, в котором осуществляется идеал, цель, смысл бытия человека. Это – единственная потребность, необходимость осуществления которой диктуется не просто желаниями, намерениями, рассудком человека, но и всем существом его реального бытия. Поэтому вопрос о реализации или нереализации такой потребности ставится не из прихоти, а как реальное решение дилеммы бытия или небытия человека собственно человеческой личностью.
Но возможна ли эта потребность в «жизни вообще»? Может, позитивизм как раз тем и прав, что находит ее чистой абстракцией? Дескать, человек имеет дело только с конкретными потребностями, которые и реализует на протяжении всей жизни. Что же касается потребности в жизни вообще, ее необходимости, идеала и т.д., то это – просто предмет веры, другими словами, сфера компетенции религии. «Человек есть жаждущее существо, – пишет Герберт Хикс, – он всегда хочет, и хочет более. Как только одни его потребности удовлетворены, на их место возникают другие. Этот процесс бесконечен. Он продолжается от рождения до смерти. Частные потребности могут быть удовлетворены; потребность же в принципе – нет» [42, 234 – 235].
Дело, однако, не в бесконечной цепочке потребностей. Здесь уместно еще раз вернуться к мысли К. Маркса: «Вообще бессмысленно предполагать… что можно удовлетворить одну какую-нибудь страсть, оторванную от всех остальных, что можно удовлетворить ее… не удовлетворив вместе с тем себя, целостного живого индивида» [1, т. 3, 252]. И в удовлетворении частной потребности содержится выражение удовлетворения «потребности в принципе», и в утверждении момента жизни, утверждается жизнь человека в целом. Г. Хиксу же потребовалось выстраивать бесконечный ряд потребностей только для того, чтобы, распылив всеобщую потребность в жизни на массу замкнутых в себе потребностей, представить ее как нечто пустое и бессодержательное.
Любой акт деятельности человека обнаруживает характер отношения последнего и к конкретному предмету деятельности, и к всеобщей необходимости жизни. Другими словами, в любом состоянии человека может быть обнаружено выраженное в нем небезразличие к человеческой цели жизни, и в этом выражении будет положен смысл эстетичности такого состояния. С этой точки зрения нет надобности заниматься поиском чистого эстетического чувства или чистого эстетического отношения. Ни Чернышевский, ни Гегель не задавались целью разыскивать, какая конкретно сторона жизни или конкретная потребность человека, вырванная из цепи других потребностей, является наиболее заинтересованной, по факту удовлетворения которой можно было бы установить, с одной стороны, смысл чистой эстетической деятельности, с другой – смысл чистых «эстетических свойств», обнаруживаемых в такой деятельности. Н.Г. Чернышевский выделил эстетическое как нечто «самое общее из того, что может нравиться человеку» и что необходимо ему, – жизнь. В отношении представлений человека о прекрасном это должна быть «ближайшим образом такая жизнь, какую хотелось бы ему вести, какую любит он; потом и всякая жизнь, потому что все-таки лучше жить, чем не жить» [40, 10].
По Н.Г. Чернышевскому, таким образом, и всякая жизнь достойна эстетического интереса, если она ближайшим образом, т.е. наиболее непосредственно, отрицает смерть, гибель, увядание человека. Что же касается собственно эстетичности как таковой, то, по Н.Г. Чернышевскому, это не просто какое-то чистое свойство предмета жизни и даже не какой-то исключительный акт этой жизни, обособленный от всех остальных, а собственно движение такой жизни как отрицание смерти, будь она физического, нравственного или иного порядка. Другими словами, для крайнего случая и всякая жизнь достойна эстетического интереса, но достойна только в той мере, в какой она хоть в малой степени есть необходимость, т.е. является отрицанием смерти как безразличного вообще.
Нельзя отказать Чернышевскому в правильности понимания этого эстетического момента, несмотря на то, что этот момент был схвачен в самой общей форме, без достаточного объяснения антипода эстетического, представленного понятиями «смерть», «гибель», «увядание» и т.п. Хотя и здесь Н.Г. Чернышевский стремился подойти к таким понятиям не с узко антропологической, а с социальной точки зрения, о чем свидетельствуют его же примеры о различных «понятиях жизни» крестьянина и аристократа.
Ошибка автора «Эстетических отношений…» состояла не в том, что он попытался вычленить эстетическое как нечто всеобщее из того, что может нравиться человеку (в этом «нравиться» положен не такой уж субъективный критерий, как об этом думают многие исследователи; в нем – и своеобразная мера определения всего ценностного и небезразличного человеку), а в том, что это «общеинтересное» – жизнь, «которую хотелось бы вести человеку», – он взял в чисто теоретической, мысленной, представляемой форме, а не в форме непосредственно практической реализации «заинтересованного».
В самом деле, существо вопроса не в том, что у человека может существовать идеал, «понятия о наилучшей жизни», с другой стороны, и не в том, что где-то могут быть в наличии средства утверждения такого идеала, т.е. особый предмет, «напоминающий» нам о жизни. Любая потребность человека, если она не утверждается непосредственным образом, еще не есть действительная потребность. Поэтому и предмет, который лишь «напоминает» о необходимом, есть еще, в сущности, не столько предмет живого чувства, сколько самовыражение рассудка (хотя и не бесчувственного). То же, что определяет действительность чувственного состояния как такового (непосредственно осуществление идеала жизни в ее исторической необходимости), зависит не только от пожелания или «наших понятий» о жизни, но и от самой истории, от соответствующего характера развития производительных сил и производственных отношений людей.
Н.Г. Чернышевский же, подобно Л. Фейербаху, не понимал этой стороны дела. Поэтому там, где ему приходилось вести речь о жизни как о чем-то действительно необходимом (с точки зрения его как революционного демократа), он полагал ее лишь в форме «наших понятий», в форме долженствующего идеала, а тем самым и эстетическое мыслил сугубо созерцательно и субъективно. Там же, где ему приходилось вести речь о самом идеале, т.е. о жизни, которую уже «хотелось бы вести», он вынужден был, как и Л. Фейербах, ограничиваться критикой современной ему, далеко не наилучшей, жизни крестьянина и аристократа и, таким образом, опять останавливаться на нежеланной жизни, т.е. жизни, ценность которой могла обнаружить себя разве что в отношении смерти, уродства, увядания человека вообще.
И тем не менее именно теория Н.Г. Чернышевского дает выход пониманию ряда очень важных и, прямо скажем, не всегда правильно толкуемых нами положений.
Во-первых. Если мы признаем необходимость в жизни вообще как своеобразную потребность человека, к тому же наиболее заинтересованную; если она касается не просто конечного пункта, итога нашего бытия, но и любого момента такого бытия, то реализация такой потребности не может протекать в каких-то других формах, кроме формы самой жизни. Это означает, что эстетическое чувство или эстетическое состояние есть не столько произвольно выраженная оценка, суждение или мнение, сколько особое воспроизводство целостности состояния человека.
Можно сказать, что это – одна из примечательнейших особенностей эстетического процесса. Чувство эстетического в полном смысле слова есть чувство жизни, хотя это выражение чаще употребляется в публицистическом, чем в строго научном смысле. На наш взгляд, нельзя правильно понять смысл «незаинтересованности» эстетического процесса, рассматривая его в какой-то другой форме, отличной от формы непосредственного самодвижения жизни. Очевидно, такая «незаинтересованность» есть лишь обратная (т.е. реализованная) сторона проявления того наивысшего и по-своему завершенного интереса человека, который возможен лишь в акте целостного утверждения человека. Ибо, с другой стороны, в таком утверждении всегда будет иметь место заинтересованность, а состояние человека будет оставаться неудовлетворенным, если указанный наивысший интерес человека не будет обнаруживаться тотальным проявлением его жизни.
Однако даже эту тотальность нельзя превращать в конечную форму выражения эстетического процесса. Поскольку утверждать себя в одном моменте бытия невозможно без того, чтобы не утверждался и другой момент такого бытия, то отсюда невозможна и какая-то чистая форма эстетического состояния человека, отличная от формы выражения нравственного, утилитарного или политического отношений человека. Эстетичность такого состояния – это лишь мера выраженного небезразличия человека к миру, а не обособленное отношение или оценка, положенные наряду с другими отношениями человека. «Правда, – замечал К. Маркс, – еда, питье, половой акт и т.д. тоже суть подлинно человеческие функции. Но в абстракции, отрывающей их от круга прочей человеческой деятельности и превращающей их в последние и единственные конечные цели, они носят животный характер» [1, т. 42, 97].
Это означает, что единство формы эстетического состояния положено в единстве цели человеческого бытия, где сама цель, хоть и обнаруживает себя как нечто конкретное и осуществимое, всегда направлена на нечто бесконечное, т.е. нуждающееся в постоянном осуществлении. Поэтому-то и невозможно вычленить какой-то конечный и застывший интерес человека, по реализации которого можно было бы отделить эстетическое состояние от круга «прочей человеческой деятельности», оторвать его от самой целостности такой деятельности.
И второе положение. Нам представляется, что Н.Г. Чернышевский очень глубоко затронул суть вопроса об искусстве, когда попытался проанализировать именно эстетические отношения искусства к действительности. В наиболее главном и существенном это не столько отношения отражения и отражаемого в чисто гносеологическом смысле, сколько отношения момента жизни (или переживания) и всей жизни человека. Другими словами, искусство есть не только форма сознания, как это сознание можно рассматривать с сугубо познавательной точки зрения; с другой стороны – не только внешний акт проявления мастерства или ремесла художника-специалиста.
В еще большей мере его следовало бы назвать формой особого духовного воспроизводства человека, или, говоря словами Н.Г. Чернышевского, «отражением жизни в формах самой жизни». Думается, что это положение Н.Г. Чернышевского несет более глубокий смысл, чем ему обычно придают искусствоведы и литературоведы. Искусство отражает жизнь, но не в том смысле, что переносит формы вещей, явлений, событий на холст с красками, на сцену и т.д., а в том, что переживает эту жизнь, т.е. воспроизводит такой момент бытия человека, который определенным образом противостоит другим моментам такого бытия.
Может быть, парадоксально, но искусство тем и отражает действительность, что вступает с ней в своеобразный полемический конфликт, противостоит ей в качестве меры долженствующего, в качестве идеала. Акт человеческого переживания наинепосредственнейшим образом указывает на превращение этого долженствующего в свершившийся факт жизни – в собственно переживание, которое, как в капле воды, преломляет, а тем самым и отражает все налично сложившиеся формы человеческого бытия. Причем отражает как раз тем, что обнаруживает свою наивысшую небезразличность, непосредственность и самоцельность момента воспроизводимой жизни, или же переживания.
На наш взгляд, следует обратить внимание на то, не обедняем ли мы сам смысл бытия искусства, когда пытаемся судить о нем лишь по внешней стороне выражения, по наличию функционирующих произведений искусства, к тому же рассматриваемых в виде чего-то застывшего, предметного.
Понятно, что действительность искусства как определенной формы отношения (вúдения, переживания) человека заключается в том, насколько оно вообще реализуется, т.е. осуществляется в предметных формах своего бытия, в виде своих произведений[18]. С этой точки зрения, оно немыслимо без того, чтобы не предстать в оматериализованных формах деятельности специалиста-художника (скульптура в музее, художественное полотно в картинной галерее и т.д.). Но единственно ли эта деятельность и эти материальные формы бытия искусства составляют смысл его всеобщего функционирования? Другими словами, является ли оно порождением лишь творческой фантазии и воображения специалиста-художника? Ответить на эти вопросы положительно так же трудно, как трудно утверждать, что, скажем, религия (другая форма общественного сознания) является результатом деятельности одних попов и богословов. (Было бы слишком легко бороться с ней, если бы это было так.)
С другой стороны, если искусство есть форма именно общественного (всеобщего и необходимого) сознания (и именно – сознания), то, видимо, совершенно небезосновательным будет выглядеть и следующее положение. Мы говорим о том, что ограничивать эстетику рамками изучения одного искусства уже объективно неоправданно, ибо наряду с «художественной деятельностью» существует «эстетическая деятельность», наряду с произведениями искусства существуют «эстетические свойства природы и общественной жизни». В каком смысле здесь толкуется понятие «художественная деятельность»? Если в том смысле, что это – деятельность исключительно специалиста-художника, то этим вряд ли мы схватываем всю полноту содержания искусства. Тогда неоправданной выглядит ситуация, когда, сужая так границы функционирования искусства, мы «расчищаем поле» эстетической деятельности, точнее – обособляем и расширяем такую деятельность исключительно за счет ограничительного толкования существа искусства.
Возьмем те же «эстетические свойства» природы, присвоение которых якобы не связано с движением искусства. С узкой деятельностью специалиста-художника это присвоение, может быть, действительно не связано. Но если собственно художественную позицию человека толковать как позицию подлинно человеческой восприимчивости к чувственным явлениям, то следует еще подумать над вопросом: может ли вообще человек при данных исторических обстоятельствах воспринимать эстетическое явление, своеобразно не введя себя в «состояние искусства», не став на позиции особой формы сознавания и восприятия мира – формы художественного вúдения окружающего?
Мы заостряем на этом внимание, потому что в литературе в целом еще не определены четко границы между художественной и эстетической деятельностью: то они толкуются как равноценные, то первая предстает как «концентрированное выражение» второй, то, напротив, вторая рисуется как «универсальная и прорывающая узкий горизонт» первой. По поводу всех этих положений можно было бы высказывать определенные суждения. Однако главное, на наш взгляд, состоит в сознании того, что искусство (не ремесло, не просто мастерство, а определенная позиция отношения человека) будет оставаться образцом, мерой человеческой восприимчивости к чувственному миру до тех пор, пока будут существовать ограниченные, обедненные, антиобщественные формы такой восприимчивости, что, следовательно, определение существа художественной (особой идеальной, духовной) или эстетической (действительно универсальной, всесторонне чувственной) деятельности связано не только с предметом восприятия, оценки и т.д., но и с определенными историческими социальными условиями жизни человека. Искусство будет (не может не) сохранять значение указанной меры до тех пор, пока ее не приобретет вся сфера реальной человеческой жизнедеятельности. Другими словами, искусство может действительно органически перейти в эстетическую деятельность и тем самым сменить свою форму, но не через ослабление, а через укрепление своей значимости и необходимости для человека.
Понимание искусства как формы общественного сознания и поныне сопряжено с определенными трудностями. Подчас неумение осмыслить его как именно форму сознания толкает исследователя на отказ признать за ним идеальную сущность функционирования. Дескать, искусство – это вовсе не форма сознания, а форма деятельности (чуть ли не сходная с производственной деятельностью вообще), форма коммуникативных связей между людьми, форма выражения ценностной информации и т.п. Но искусство – это все-таки не действительность, не жизнь, а лишь их отражение, хотя это отражение и совершается в «формах самой жизни».
Возвращаясь к этой мысли Н.Г. Чернышевского, следует, однако, отметить, что в его поле зрения никогда не попадал этот предельно широкий социально-исторический смысл бытия искусства. Как и все революционные демократы, он пытался вывести природу искусства из простого соотношения наших «понятий о жизни» и самой жизни, не затрагивая социально-противоречивую основу духовного производства в целом.
И в этом нет вины Н.Г. Чернышевского, научная позиция которого определялась современной ему исторической обстановкой. Но именно поэтому следует четко различать Н.Г. Чернышевского как революционного демократа и Н.Г. Чернышевского как непоследовательного материалиста. Скажем, Л.Н. Толстой, по словам В.И. Ленина, был выдающимся мыслителем в непосредственно творчестве, но этого нельзя сказать о нем как о философе. Можно подниматься до значительных высот в толковании конкретных художественных процессов (как это и свойственно Н.Г. Чернышевскому в анализе произведений искусства, в понимании задач художника, в отстаивании гражданской и общественно-политической направленности художественного творчества и т.д.) и тем не менее не понимать до конца социально-историческую природу искусства, раскрытие которой предполагает диалектико-материалистическую позицию исследователя. Фактически так и получалось: там, где Н.Г. Чернышевский оставался революционным демократом, его волновали не столько проблемы социальной природы искусства, сколько насущные вопросы художественной практики; там же, где эти проблемы ставились им специально – например в «Эстетических отношениях искусства к действительности», – он еще объективно не был в состоянии решить их в диалектико-материалистическом духе, равно как и не мог распространить материализм на область понимания общественных явлений в целом.
При всем этом теория Н.Г. Чернышевского оставляет наиболее глубокий след в осознании целого ряда вопросов, которые вызывают острую дискуссию и поныне. Одним из них является вопрос об эстетическом и самой потребности в нем, о смысле эстетического идеала. Н.Г. Чернышевский смог вычленить лишь различие этого смысла, как он представлен в различии представлений «о наилучшей жизни» крестьянина и аристократа, т.е. представлений господствующего и подчиненного классов людей. Однако в понятиях прекрасного, возвышенного, трагического, вообще – эстетического должно быть выявлено не частное, не по-классовому ограниченное, а единственно возможное, научное содержание.
С этой точки зрения неудачной выглядит попытка понять смысл эстетического идеала посредством вычленения его из ряда других идеалов. Хотим мы того или нет, но этим уже допускается определенное противопоставление эстетического идеала идеалу нравственному, политическому и т.д. Это с неизбежностью приводит к тому, что первый предстает обедненным по степени выраженного в нем интереса, так как оказывается направленным не на бытие людей в целом, а на отдельную сторону такого бытия. Отсюда принижается и сам смысл эстетического или та самая мера человеческого небезразличия, которая положена в понятиях прекрасного, возвышенного и т.д. и которая должна найти свое выражение в эстетическом идеале.
Поэтому не случайно в литературе подчас бытуют своего рода тавтологические выражения типа «эстетический идеал коммунизма», «идеал красоты» и т.п., где понятиям «эстетическое», «красота» заведомо придается бессодержательный смысл. При этом совершенно не учитывается, что если перед нами подлинный идеал – будь он по-человечески нравственный или политический, – то он не может не быть эстетическим, т.е. полагать в себе что-то действительно воспринимаемое, не-без-образное, прекрасное. Своей же самостоятельностью эстетический идеал обязан не какой-то отдельной стороне жизни, на которую он мог бы быть направлен, а лишь мере положенного в нем интереса человека к различным сторонам человеческого бытия.
Нам представляется, что как раз со стороны заинтересованности эстетический идеал и идеал жизни вообще – одно и то же. Против этого возражают на том основании, что, дескать, идеал жизни – «более широкий», что он включает в себя на правах простых составляющих и идеал нравственный, и политический, и… эстетический. Однако формальным соотношением понятий «шире» – «ýже» нельзя решить существо задачи. Здесь не принимается во внимание тот очень важный содержательный момент, что отнюдь не какая-то грань, класс, подкласс жизни, а жизнь в ее целостности и исторической необходимости может составить предмет наивысшего человеческого интереса, а тем самым определить и существо эстетичности идеала. Ибо, с другой стороны, не будь последний выражением именно такого интереса, он стал бы ограниченным и менее заинтересованным, по крайней мере, в отношении наивысшего человеческого небезразличия. Другими словами, идеал жизни потому и есть эстетический, что он небезразличен ко всевозможным проявлениям человеческого бытия.
Сказанное нетрудно понять. Трудность может состоять лишь в осознании того, в силу каких реальных обстоятельств человек может превращать отдельные состояния своей жизни в единственно значимые и необходимые, почему за отдельными потребностями или их суммой он может не видеть единую потребность – цельный идеал жизни. Таким образом, трудность может состоять лишь в практическом разрешении вопроса о правильном соотношении этой «жизни вообще» с конкретными формами ее реализации, т.е. о таком разрешении, при котором любое состояние человека могло бы выступить актом его человеческого утверждения.
За эстетическим идеалом скрыт предельно широкий интерес человека. Этот интерес тождественен выражению необходимости существования такого способа выявления всех состояний человека, который в определенном смысле остается неисчерпаемым и неограниченным по богатству своего человеческого содержания. Другими словами, за эстетическим идеалом скрыто не столько то или иное застывшее состояние желанной жизни, сколько мера такой жизни или степень необходимости ее быть выраженной единым, коммунистическим способом (образом). По-видимому, такая необходимость не есть продукт исключительно одного из известных нам способов производства людей. Как таковая она вытекает из глубинной исторической неизбежности превращения человека в собственно общественное, коммунистическое существо.
Однако этот предельно широкий смысл человеческого небезразличия, аккумулирующийся в эстетическом идеале, нельзя мыслить чисто абстрактно, наподобие представления некой «абсолютной идеи» и ее необходимости быть навязанной развитию человека и общества. Поскольку вопрос о реализации смысла человеческой жизнедеятельности всегда остается вопросом постоянного осуществления практики жизни человека в любом из моментов такой жизни, то и содержание эстетического идеала не может быть застывшим и оторванным от такой практики. Форма, определяющая это содержание, настолько же подвижна и многообразна, насколько многообразно осуществление смысла жизни человека.
Из этого не следует делать вывод, будто эстетический идеал – лишь форма реализации цели жизни. Он, безусловно, выступает и от имени ее содержания, но только в очень узких границах: в самом акте становления непосредственности состояния человека. Другими словами, эстетический идеал своеобразно проводит цель жизни в тенденции, исторически и исчерпывает ее до конца лишь в совпадении ее со средствами своего утверждения или в превращении этих средств в нечто само-цельное для человека. Пункт такого совпадения составляет действительность эстетического идеала по существу понятия эстетического. Ведь не исчерпывая цель жизни полностью и без остатка, по крайней мере в этом совпадении ее со средствами, эстетический идеал перестал бы быть собственно эстетическим. Строго говоря, он сбросил бы с себя существо тех определений, которые положены в понятиях прекрасного, возвышенного и т.д.
В итоге получается, что там, где эстетический идеал остается еще субъективным образованием, полаганием, целью человека, он отнюдь не представляет собой что-то непосредственно эстетическое. Последнее дается по ту сторону полагания как нечто подлинно живое, как форма определенного движения самой жизни. Там же, где он выступает в значении этого эстетического, он, напротив, уже не есть цель, образ в собственном смысле слов, а определенная форма реально выраженного чувственного состояния человека.
Этим и объясняется та весьма парадоксальная ситуация, которая попадала в поле зрения многих исследователей. Будучи определенным субъективным образованием, эстетический идеал тем не менее не содержит в себе никакого «конкретно-чувственного содержания». Его единственная конкретность, к тому же не просто мысленного, гносеологического, а чувственного, подлинно эстетического порядка, положена в непосредственности самоутверждения цели жизни – в само-цельности человеческого переживания. Только из бесконечного ряда актов такого переживания складывается его общее, понятийное содержание. Но это уже такое содержание, что, коль скоро мы отрываем его от метаморфоз указанного переживания, было бы правильнее отнести его к понятию цели жизни, а не к собственно идеалу, к движению мышления, а не чувственности.
Эстетический идеал – это непосредственность цели жизни человека как действительная определенность средств ее достижения. Эта особенность эстетического идеала быть определенностью не только цели жизни как чего-то субъективного, но и средств ее утверждения как чего-то объективного, остается непонятной ни для вульгарного материализма, ни для идеализма. Она порождает у них иллюзию, будто эстетический идеал есть или абстрактный образ какого-то «совершенства» бытия, которое ничего общего не имеет с конкретными целями и потребностями человека, или, напротив, представляет собой лишь такую цель, которая направлена на некое желанное состояние жизни, вынесенное в «дурную бесконечность», и которая не полагает никаких конкретных средств своего практического достижения.
Однако, оторванный от собственно чувственной формы своего выражения, эстетический идеал превращается в абстракцию, побуждающую вкладывать в него или слишком широкое содержание, сходное с чисто рассудочным представлением о «лучшей жизни», «гармонии жизни», «совершенстве бытия» и т.д., или слишком узкое содержание, которое, хотя и не лишено своей чувственной выраженности, оказывается отождествленным чуть ли не с содержанием тех или иных предметов, явлений, событий, оцениваемых эстетически (как то: «Для меня эстетическим идеалом является В.И. Чапаев»).
Из этого вытекает, что необходимо проводить достаточно четкую грань между эстетическим идеалом как полаганием, стремлением, целью и эстетическим идеалом, взятым в форме практического самоутверждения такого стремления и такой цели. Ибо в итоге окажется так, что если мы берем его в первом значении, то он неминуемо предстанет так называемым «идеалом красоты», будет связан лишь с определенностью прекрасного. И это естественно. Ведь идеал всегда полагает не частичное, а полное тождество себя со средствами, на чем и основывается феномен красоты. Он не может заведомо полагать свою неосуществимость или предусматривать некий трагический конец человека в таком осуществлении (вряд ли возможен какой-то «идеал трагического»).
Однако не следует забывать, что все это касается эстетического идеала, взятого еще как полагание необходимого. Ибо в фактической реализации, в самом переживании этого необходимого возможна различная степень тождества идеала и его средств, на чем покоится и различие тех определенностей, которые фиксируются понятиями возвышенного, трагического, комического и т.п. Причем сам факт различия такого тождества вовсе не указывает на какую-то принципиальную неосуществимость идеала. Напротив, он свидетельствует о подлинном богатстве чувственных определений этого процесса.
Скажем, идеал коммунизма есть действительно эстетический. Но это не означает, что в самом осуществлении его (не просто в полагании) не могут иметь места муки, страдания человека, что, иначе говоря, такое осуществление всегда будет полным и исчерпывающим в любом из состояний человека. Это был бы слишком легкий идеал, если бы он реализовался таким образом. В том-то и величие идеала коммунизма, что он полагает не столько человека, замкнутого в своем чувстве достигнутого, сколько человека цельного в своих устремлениях, в своей радости и страданиях. Эта возвышенность идеала подчеркивает лишь то обстоятельство, что реализация его требует от человека определенного напряжения жизненных сил, страстей, непреклонной воли, которые, хотя и не свидетельствуют об окончательности достижения идеала, но отнюдь не означают и обезразличивания к нему человека.
Не координация, а субординация определяют отношение эстетического идеала к другим идеалам. Поскольку утверждение исторической необходимости жизни в целом невозможно без того, чтобы не утверждалось при этом одно из конкретных общественных состояний человека (утилитарное, моральное, политическое), постольку невозможно и существование эстетического идеала в его чистом виде, отличного от нравственного или политического идеалов. Скорее, именно единство их, мера необходимости их реального воплощения в любой из форм жизнедеятельности человека и составляют существо эстетического идеала в неповторимости его движения. Хотя, с другой стороны, в зависимости от того, какое из конкретных состояний человека утверждается в данной ситуации или в данное историческое время и насколько самоцельно такое состояние по своему специфически нравственному или утилитарному выражению, можно говорить и о существовании других идеалов в их относительной самостоятельности.
Об образности эстетического отношения, или о сообразности феномена чувственного
Представление об эстетическом идеале не только как об определенного рода цели, потребности человека, но и как о моменте специфического выявления человеческого переживания (формы жизни) дает выход пониманию образности в эстетическом процессе, или сообразности феномена чувственного вообще.
Эстетика имеет давнюю традицию оперирования понятиями «образ», «воображение», «сообразное», «небезобразное», «целесообразное» и т.д. Достаточно вспомнить усилия классической немецкой философии в решении разнообразной эстетической проблематики через обращение к кругу указанных понятий, чтобы убедиться в неслучайности их привлечения в эстетический анализ.
Общепризнанным является положение о том, что наиболее существенной чертой эстетических отношений искусства к действительности является их специфическая образность. Однако толкование этой последней сопряжено со значительными трудностями. Еще и поныне можно сталкиваться с различными точками зрения на предмет разговора, с несогласованными, подчас антиномичными суждениями.
Со времени русских революционных демократов в материалистической эстетике прочно укрепилась мысль о том, что художественная образность есть не просто случайная черта искусства, а наиболее существенное выражение всей его природы. Впоследствии эта мысль претерпевала различные изменения, главным образом – в направлении выяснения отражательной способности искусства, уточнения самого понятия «образ» и т.д. В целом и здесь высказывались суждения достаточно противоречивые и разноплановые.
Несомненно, искусство по своей глубинной сущности есть специфически образное отражение действительности; в этом не могут не сходиться все представители материалистической эстетики. Главное, однако, остается за толкованием самой этой специфичности. Большей частью она выводилась из сравнительного анализа художественного и научного познания вообще. Однако при более глубоком проведении такого анализа (именно на его основании революционные демократы выдвинули тезис о том, что искусство отражает действительность в образах, а наука – в понятиях) обнаружилось и другое, не менее правильное положение: научным знаниям тоже свойственна образность, а искусству, в свою очередь, – понятийность. Тем самым сложилась весьма парадоксальная ситуация: толкование отражательной природы искусства и науки, иначе говоря, рассмотрение их в плоскости основного вопроса философии как форм сознания (а как раз в этой плоскости положен водораздел между материалистическим и идеалистическим представлением об их сущности) стало препятствием на пути осмысления самой специфики образности и в искусстве, и в науке.
Действительно, такая специфика совершенно не улавливается в плоскости гносеологического соотношения форм сознания и форм бытия. Здесь они всегда представлены в четкой и однозначной зависимости: первые являются отражением вторых. Сам же смысл отражения таков, что коль последнее есть своеобразная копия, снимок отражаемого, то оно, независимо от формы своего проявления, не может не нести элемент образности. Тем более это будет справедливо, если отражение берется на высшем уровне своего проявления – в движении сознания. Как бы то ни было, но основной вопрос философии не предполагает и не может предполагать ответ на то, чем отличается, скажем, моральное сознание от религиозного, правовое от научного, художественное от политического и т.д., чтобы на основании такого отличия можно было говорить о своеобразии их образности. Такой ответ сводится лишь к представлению о том, что и мораль, и религия, и право, и искусство и т.д. являются, в конечном счете, отражением общественного бытия и как таковые покоятся на единой отражательной способности сознания.
В итоге становилось очевидным, что специфика форм общественного сознания может быть обнаружена при условии рассмотрения их не только как форм отражения, но и как определенных форм деятельности, отношений людей. Иначе говоря, разговор напрашивался быть перенесенным в плоскость выяснения богатства реальных взаимоотношений субъекта и объекта, что в определенной мере является очень оправданным. Одно дело – связь «сознание – бытие», за которой фактически скрывается лишь движение отражения, а другое – связь «субъект – объект», за которой положена вся практика, способы жизнедеятельности людей и т.д., т.е. нечто более универсальное, чем просто отражение.
Но и это не все. Оказалось, что рассмотрение связи субъекта и объекта через призму обнаружения в ней места науки или морали, религии или искусства, порождало новые затруднения, перед которыми уже окончательно останавливалась мысль. Дело в том, что позиция такого рассмотрения нередко представлялась слишком удаленной от позиции анализа основной гносеологической проблематики, в частности, от решения основного вопроса философии применительно к формам общественного сознания вообще. Другими словами, круг замкнулся. Чтобы сохранить материалистический взгляд на науку или искусство, надо говорить о них только как о формах отражения, а не как о формах деятельности. Тогда теряется их специфика. Чтобы уловить эту специфику и говорить о них как о формах деятельности, надо оставить в стороне основной вопрос философии, что вряд ли приемлемо для сохранения материалистического взгляда на вещи.
Нетрудно заметить, что здесь обнаруживаются затруднения не диалектико-материалистической позиции исследователя, а позиций уже известных нам онтологизма и гносеологизма. Онтологизм ищет для искусства такой специфический предмет, прямой перенос содержания которого в сознание («отражение») делал бы само это сознание по-особому образным, вернее, картинным, наглядным и т.д., ибо только так может толковаться здесь образность, если отражение не берется и в значении творчества. Но поскольку границы этого предмета все же не могут быть описаны с точки зрения связи «сознание – бытие», ибо в поле зрения искусства может попасть и то, что интересует науку, мораль, политику и т.д., то онтологизм вынужден следовать в прямо противоположную сторону, превращаясь фактически в свой антипод – гносеологизм. Отныне, оставаясь привязанным ко все той же узкогносеологической связи «сознание – бытие», он начинает искать различие форм сознания в… самом сознании, вернее, в механизмах мышления, в субъективности.
Так ставится по сути ложная задача: для каждой из форм сознания отыскать основу их функционирования в действии указанных механизмов мышления. Дескать, для науки характерно движение мышления на уровне абстракций, понятий и т.д., для искусства – на уровне образов, конкретно-чувственных представлений и т.п. К каким только невероятным доказательствам ни прибегает онтологизм, пытаясь решить эту задачу! Не хотим приводить каких-то конкретных примеров, если уж речь идет о принципах. К тому же эстетики хорошо знают, что не так редко и поныне можно встретить мысль, будто художнику, в отличие от ученого, больше свойственны конкретно-чувственное мышление, эмоциональность, особая темпераментность, будто реакция его на окружающее больше связана с действием первой, а не второй сигнальной системы и т.п. А ведь, в сущности, это – результат критикуемого нами принципа. И не такой уж он безобидный. Ибо если в установлении различий искусства и науки приведенная выше мысль еще может показаться правдоподобной, то в отношении понимания специфики других форм общественного сознания такая мысль не без воли того же онтологизма может оказаться более чем бесплодной. Если отыскивать особые механизмы мышления, скажем, для религиозного сознания, если такие механизмы есть и это – свойство самого мышления (а в конечном счете – и свойство мозга человека), то это ошибка не только гносеологического, но и идеологического порядка.
То, что онтологизм всегда оставался непоследовательным, – скорее не исключение, а правило. Весьма часто исследователь, потерявший надежду обнаружить специфику форм общественного сознания в самом отражении, вынужден уходить в область чисто эмпирических поисков, например, смещать внимание из искусства как формы общественного сознания на процесс формирования или создания произведения искусства. Логика тут простая. Выход из затруднительного положения усматривается в том, чтобы посредством сведения искусства как целого к проявлению его в деятельности специалиста-художника сосредоточить внимание на тех компонентах художественного образа, из которых в конечном счете складывается специфичность художественного процесса: на особых приемах художника, типизации и индивидуализации, изображении художественной правды через художественную условность и т.д.
Конечно, такой уход в сторону эмпиризма, переключение внимания на процесс рождения образа в произведении искусства, на таинства творческой лаборатории художника может принести определенные плоды. Но, к сожалению, он остается безуспешным потому, что в конечном счете превращает понятия «художественное», «интуиция», «позиция художника» и т.п. чуть ли не в синонимы ранее неуловимой специфики искусства. Ибо, как правило, указанные понятия берутся здесь в крайне узком толковании и сводятся к представлению образности как чего-то создаваемого с помощью приемов деятельности специалиста-художника, в то время как искусство в целом есть результат деятельности общественного сознания вообще, следовательно, и присущая ему образность вытекает из глубинных основ функционирования определенной стороны духовного производства.
Как бы то ни было, представление об искусстве как деятельности, творчестве, ценностном отношении и т.д. не должно снимать или умалять представление о нем как о форме общественного сознания. Только при таких условиях можно правильно ориентироваться в поисках богатства содержания образности искусства. На наш взгляд, совершенно неоправданной выглядит попытка некоторых исследователей истолковать определение искусства как формы общественного сознания слишком «общим», «не вполне точным» и т.п. Форма искусства – едина, и ею является определенным образом функционирующее человеческое сознание. Стремление же представить искусство то как форму коммуникативных связей, то как форму ценностных отношений, то как форму бытия информации и т.д. не приближает к пониманию искусства, а лишь удаляет от такого понимания.
Приведем мысль одного из известных и уважаемых авторов (не будем называть его имя), которая стала достаточно типичной для многих наших исследователей: стало «общим местом» рассматривать искусство исключительно как форму общественного сознания. Между тем это определение – правильное в своей основе – недостаточно и поэтому не вполне точно.
Автор во многом прав. Действительно, исследователь подчас обращается к тезису об искусстве как форме общественного сознания только в контексте «общих разговоров» по поводу точки зрения материализма или идеализма во взгляде на искусство. При этом обращение к такому тезису, как правило, не играет какой-то методологической роли, а скорее является досадной необходимостью лишний раз подчеркнуть некоторые тривиальные положения, без которых он, тем не менее, не может обойтись, если желает выяснить свою позицию.
Однако автор неправ в другом. Определение искусства как формы общественного сознания является величайшим завоеванием марксистской методологии, сумевшей увидеть за ним, как и за моралью, религией, наукой и т.д., не просто проявление деятельности (что вообще может быть создано человеком без деятельности?), а прежде всего определенные духовные образования, стоящие или, во всяком случае, стоявшие в специфически противоречивом отношении ко всему материальному производству как таковому. Ни одна из предшествующих марксизму философских концепций (кстати, весьма успешно развивавших представление о формах общественного сознания как о просто различных видах деятельности) не поднималась до осмысления такой противоречивости, подлинного социально-исторического взаимоотношения этих духовных образований с материальным бытием людей. Понимание искусства, морали, политики и т.д. как надстроечных явлений над материальным производством лишало их самостоятельной истории, отличной от истории реального общественного бытия. А это означало, что отныне источник их развития должен связываться не просто со способностями человека к тому или иному виду деятельности, а прежде всего с метаморфозами самого бытия людей, следовательно, со своеобразием отражения его в сознании этих людей.
Именно поэтому определение искусства как формы общественного сознания является вполне точным и правильным не только «в основе», но и в любых «частностях». Задача, скорее, состоит в том, чтобы до конца правильно понять смысл этой формы как специфического отражения, как становления определенного рода сознания человека.
Известно, что отражение, как оно может быть взято на уровне механической формы движения материи, и отражение, как оно обнаруживает себя на уровне движения человеческого сознания, – это разные процессы, хотя они и имеют нечто общее. Во всяком случае, для исходного осмысления человеческого отражения вряд ли следует прибегать к такого рода примерам. Скажем, ударяют мягким шаром в твердый. Вывод: твердый шар отразился в мягком. Если не забывать, что отражение есть всеобщее свойство материи, такая демонстрация его на примере ничего не объясняет даже применительно к механической форме движения материи. Ибо в данном случае отразился-то не шар в шаре. Что в чем отразилось – это вовсе не вопрос теории отражения, а, на худой конец, вопрос криминалистики. Отражаются друг в друге не вещи как таковые, а определенного рода противоположности: твердое – в мягком, кислое – в сладком, высокое – в низком и т.п. Другими словами, правильное, диалектико-материалистическое понимание отражения должно связываться с пониманием борьбы противоположностей. В строгом смысле слова сама эта борьба противоположностей и есть живая душа отражения. Видимо, сознание как нечто идеальное потому и способно к универсальному отражению, что в сущности оно так же универсально и противостоит всему материальному как таковому.
Эта общефилософская мысль имеет важное методологическое значение. Выше уже отмечалось, что искусство тем и отражает действительность, что вступает с ней в определенный полемический конфликт, противостоит ей своим идеалом. Уже сам факт существования такого идеала в живом организме искусства делает само искусство далеко не безотносительным к историческому противоборству всего заинтересованного и незаинтересованного для людей. Искусство всегда разрешает это противоборство в пользу идеала как чего-то долженствующего, но разрешает именно духовно, в форме того самого сознавания необходимого, которое движется и определенной формой переживания.
Что же касается каких-то частностей, то и здесь указанная общефилософская мысль остается справедливой. Художник, создавая конкретное произведение искусства, не может не «выносить приговор действительности», не может не давать оценку ей через призму представления о красоте, необходимости утверждения эстетического идеала. Но тем самым (и это – основное, на чем покоится художественный образ или, точнее, что дает причину называть образ в искусстве художественным) он не может не вступать и в оппозицию ко всему безобразному, низменному, отвратительному и т.д., как к некоторой противоположности указанного идеала. И если художник берется за разрешение этой противоположности, то не следует забывать, что в конечном счете этот процесс и здесь, в конкретном произведении искусства, совершается главным образом в форме духовной, а не практически-производственной.
С этой точки зрения художественный образ есть не просто прием самого художника, процедура осуществления типизации и индивидуализации (подчас образ видят в простой метафоре, сравнении, аллегории). Видимо, образ в искусстве не столько создается художником, сколько задается ему самим смыслом существования искусства. Другими словами, имманентно присущая последнему образность вытекает из необходимости специфически духовного разрешения противоречий между эстетическим и безразличным, прекрасным и безобразным. И независимо от того, будет ли такое разрешение осуществляться как специальная задача специалиста-художника или – непроизвольно, как это может сделать просто богатый в своих потребностях человек, оно не может не быть образным, т.е. протекать в каких-то иных формах, отличных от форм движения жизни как чего-то не-без-образного (прекрасного) для человека. Это означает, во-первых, что образ в искусстве ни на что другое не может быть «похож», кроме как на… образ (способ особого воспроизводства) жизни человека; во-вторых, что именно благодаря этому он не может не быть эстетическим по самой сущности своего функционирования.
Н.Г. Чернышевский с полным основанием отмечал, что сфера искусства обнимает собой все, что интересует «человека не как ученого, а просто как человека; общеинтересное в жизни – вот содержание искусства» [40, 115]. Если отбросить здесь некоторую абстрактность понятия «человек», то следует согласиться в главном: искусство направлено не на ту или иную сторону желанной жизни, а на представление этой жизни как чего-то целого, организованного, со-образно данному в самом переживании. Здесь образность, эстетичность и художественность представлены как органические стороны единой природы искусства.
В сущности, образ в искусстве – это форма самого искусства, форма специфически духовного разрешения (через переживание, а тем самым – и отражение) противоречий эстетического порядка. Именно потому, что такое разрешение касается не частного интереса, а идеала, наиболее значимого в жизни человека, форма отражения в искусстве не может быть беспристрастной, рассудочной, в виде простого понимания. Но это не означает, что образности искусства чужда понятийность. Понятие – это система знаний. И чем более полной и содержательной будет эта система, тем более конкретным, всесторонним, следовательно, целостным образом будет схватываться в понятии предмет отражения. Правда, это еще образность не художественного, а гносеологического порядка, ибо ей не хватает определенного рода чувственного момента. Иначе говоря, здесь понятие еще не доведено до завершенности и непосредственности по самому идеалу. Такая завершенность может иметь место, если понятие в своем естественном формировании станет не только отражением истины, но и коснется отношения этой истины к смыслу человеческого познания, следовательно, человеческой жизнедеятельности вообще.
К примеру, «капитал» в ближайшем рассмотрении предстает просто термином. Но, взятый как понятие, как система знаний в изложении К. Маркса, он дает одновременно и зримый образ всего товарного производства в целом. Более того, поскольку эта система знаний, или само понимание, разумение сущности товарного производства формировались не как самоцель, то в своем логическом завершении (а не просто в художественных приемах изложения) понимание капитала не могло не коснуться и смысла человеческого производства вообще, а отсюда и тенденции, идеала развития человеческого общества. Поэтому не случайно, что одноименное произведение К. Маркса справедливо называют настольной книгой пролетариата. В ней в равной степени представлены и знание «существующего положения дел», и знание идеала жизни человека, его будущего.
Понятие «образ» исторически вобрало в себя достаточно разноречивое содержание. Под образом понимают и определенный характер движения мышления («образ мышления»), и своеобразную меру чего-то («образец»), и направленность, способ выражения жизни в целом («образ жизни»). Небезынтересно также, что, скажем, верующий человек называет изображенный на холсте лик Христа… образом. Как видим, и такой смысл образа может иметь место. Хотя этот последний случай заслуживает того, чтобы остановиться на нем. По-видимому, есть великая истина в том, что и религия, и искусство «желают» одно и то же: апеллируют к моменту наивысшего человеческого интереса, к цели, к смыслу человеческого бытия. В этих конечных побуждениях они, пожалуй, и совпадают. Подлинная же несовместимость их обнаруживает себя в другой плоскости. Для религии такие «побуждения» остаются лишь простой рефлексией чувства. Ибо она никогда не указывала и не могла указать ни на действительный смысл жизни человека, ни на пути и средства его реализации. Для нее эти последние всегда были положены лишь в абстракции пустой веры. В сущности, бог – это конечная цель и средство жизни одновременно, нечто сходное с экзистенциалистской «тоской», полагающей лишь одни страдания и терпение.
Вековечная несовместимость искусства с религией в том и состояла, что каждым из своих произведений оно давало несокрушимый бой этому замкнутому в себе страданию и терпению, давало возможность почувствовать, пережить и испытать те состояния человека, в которых упомянутые цель и смысл человеческого бытия уже проявлялись здесь, в самом же чувстве, не в предполагаемых, а в становящихся формах человеческой жизнедеятельности.
Нам представляется, что понятие «образ» имеет наиболее тесную связь с понятием «способ», в данном случае, с понятием «способ производства», обозначающим главное и определяющее в жизнедеятельности людей. «Способ производства, – писал К. Маркс, – надо рассматривать не только с той стороны, что он является воспроизводством физического существования индивидов. В еще большей степени, это – определенный способ деятельности данных индивидов, определенный вид их жизнедеятельности, их определенный образ жизни» [1, т. 3, 19].
Правда, образ чаще мыслится нами как субъективное отражение объективного мира, в то время как способ – вполне реальным процессом. С этой точки зрения в них действительно есть нечто несовместимое. Видимо, способ и образ жизни, иначе говоря, реальное и идеальное этой жизни выступают как неразрывное целое тогда, когда способ производства выступает одновременно и способом самоутверждения человека. Здесь идеал жизни, или образ жизни, в собственном смысле слова еще не отделяется от самого способа, а органически реализуется в нем, не застывает в виде собственно духовном, а осуществляется в наличных формах бытия людей. Видимо, в определенном смысле можно утверждать, что, скажем, если для первобытного человека и существовало прекрасное, то, однако, – не как отрицание безобразного (без-образного), а как утверждение того, что могло даваться исключительно со способом (реальным образом) жизни, т.е. даваться как нечто со-образное.
Лишь с появлением антагонизма внутри способа производства образ приобретает самостоятельное значение, превращаясь в идеальное представление долженствующей жизни, в ее своеобразный духовный «образец», меру и т.д. По содержанию, по положенному в нем интересу он, таким образом, не отличается от указанного способа реального утверждения людей, но сама духовность его формы свидетельствует о том, что способ производства приобрел и свое некоторое негативное содержание. С этого времени образ – это и цель жизни человека, а предмет или явление, втянутые в такую цель, становятся целесообразным или нецелесообразными.
В этой связи весьма интересным выглядит кантовское положение о том, что красота – это форма целесообразности предмета, поскольку она воспринимается в нем без представления цели. Это положение давало немало поводов для обвинения Канта в формализме. Однако будет справедливым отметить, что кантовское определение красоты через форму целесообразности предмета имеет очень глубокий смысл, если не упрощать понятия «образ», «сообразное», «целесообразное». Ведь, в сущности, Кант прав как раз по содержанию: если целесообразность предмета воспринимается без представления самой же цели, другими словами, если цель превращается в образ, то это означает, что и предмет становится чем-то со-образно данным, т.е. данным не-без-образно, прекрасно. Гегель, анализируя эту ситуацию, верно заметил, что здесь представление красоты как формы вообще снимается, ибо Кант видит цель и средство не разорванными, не в качестве мертво противостоящих друг другу противоположностей, а взаимосвязанными, переходящими друг в друга, а потому и отрицающими себя в этом переходе.
Явление чувственного сообразно уже только потому, что оно дается непосредственно. В этой непосредственности цель и средство, сливаясь в самой деятельности человека, превращаются поистине во-образ, в живое движение воображения, чувственное утверждение и т.д., предмет которого никак нельзя характеризовать в значении чего-то целесообразного. Скорее, здесь более подходящими явятся такие понятия, как «сообразное», «небезобразное» и т.д.
Закономерность эстетического процесса и особенности его исторического анализа. К предпосылкам построения теории развития эстетического
Сущность эстетического процесса состоит не в том, что он есть формальный определитель бытия эстетического. В правильно понятом значении он есть органический момент, своеобразное завершение такого бытия как по субъективности, так и по объективности своего проявления. В этом смысле эстетическое состояние – не просто чисто субъективная сторона указанного процесса; это – специфический и в определенном смысле единственный способ, благодаря которому эстетическое может быть обнаружено, раскрыто, постигнуто таким, каким оно предстает в своей практической связи с человеком.
Мы не случайно хотим представить эстетическое состояние человека способом постижения эстетического. Ведь в конечном счете дело не в оценках или суждениях вкуса, которые тоже видятся инструментом такого постижения. Дело в том, что вне живой эстетической практики, вне полноты восприятия и переживания человека никакие эстетические ценности нельзя назвать действительными. Это равносильно тому, как вне познания и практики всякий вопрос о бытии остается открытым. Хотя, с другой стороны, – и это важно как раз в отношении принципиального решения основного вопроса философии – именно эта же практика, в данном случае – живая непосредственность эстетического состояния человека, выносит окончательное суждение в пользу действительности или недействительности таких ценностей, следовательно, в пользу их объективности или субъективности. Однако такое суждение правильнее связывать не с функционированием непосредственно эстетического восприятия и переживания, цель которых – особая, а с решением собственно философской задачи, предполагающей анализ сугубо гносеологической проблематики.
Это означает, во-первых, что не всякой практике дается эстетическое. Важно говорить не о практике вообще, а прежде всего о том ее выражении, которое характеризует саму сущность закономерности человеческой чувственной деятельности. Вспомним еще раз мысль К. Маркса: «Удрученный заботами, нуждающийся человек нечувствителен даже по отношению к самому прекрасному зрелищу…» [1, т. 42, 122]. Значит, пребывание человека в нужде, в заботе, вообще – в несвободном состоянии тоже может составить выражение практики человека. Но это такая практика, которая ведет к прямому отрицанию человеческой восприимчивости к эстетическому. Здесь эта невосприимчивость оказывается тождественной если не отсутствию способности человека вообще обнаружить и постичь явление эстетического, то отсутствию возможности постичь его в данной ситуации, при сложившихся условиях бытия.
Но это означает и другое. Чтобы имел место эстетический процесс, мало располагать предметом соответствующей оценки, «суждения вкуса», с другой стороны – иметь побуждения к выражению таких оценок. Не менее важным является и наличие свободы общественного состояния человека – этой главной предпосылки к человеческой восприимчивости окружающего вообще. Эта свобода не создается одной волей человека, прямо и непосредственно она не определяет и эстетичность его состояния. Но она незримо присутствует в таком состоянии в качестве актуализированного выражения того содержания, которое определяет направленность переживания человека, смысл его отношения к предмету как к самому себе.
На это обстоятельство хотелось бы обратить особое внимание. Ибо весьма часто в литературе эстетический процесс представляется актом пассивным и произвольным, зависящим если не от внешнего предмета и его свойств, то просто от воли человека и его желаний. Но как в том, так и другом случае остается непонятной и какая-то другая форма проявления такого процесса, кроме формы выражения пассивной оценки, выказывания вкуса и т.д. или формы возможного волевого акта, связанного с осуществлением этих оценок. В итоге говорить о закономерности эстетического процесса становится так же трудно, как опровергать возможность случайных оценок или произвольных суждений человека.
«Когда мы судим о поступке человека, – пишет, например, М.С. Каган, – мы можем оценить и то, что этот человек сказал, и то, как он это сделал; в первом случае наше суждение будет этическим, а во втором – эстетическим» [23, 43].
Эмпирически эта мысль, возможно, и правильна. Однако в отношении отыскания какой-то закономерности эстетических суждений она выглядит малоубедительной. По М.С. Кагану, достаточно высказать то или иное суждение – и мы во власти той или иной чувственности. Вряд ли это так. Закономерность эстетического процесса не тождественна необходимости осуществления тех или иных оценок или суждений человека, хотя вне их и не возможна. Мысль М.С. Кагана тем более не убедительна, что самому автору известно положение, которое ближе к истине: одно дело – высказывать суждения о предмете, а другое – воспринять (пережить) его эстетически. М.С. Каган ищет понимание закономерности эстетических суждений, но ищет вне уяснения целостной природы человеческой чувственности, вне полноты представления ее как сложного социального акта утверждения человека.
Нечто аналогичное находим и у Ф.Д. Кондратенко: «То или иное явление природы, вещь, поступок, поведение, событие, произведение искусства, которые не выходят за рамки нашего представления о норме, оставляют нас равнодушными. В таком случае равнодушие выступает как эстетическая оценка, часто выражаемая в таких суждениях, как „хорошо“, „так себе“, „ничего“» [26, 257].
Это положение интересно в том смысле, что в нем до крайности заостряется представление о чувственности как о крайне пассивном и произвольном акте, сходном со случайно возникшей мыслью человека. Ф.Д. Кондратенко во имя установления какой-то закономерности эстетической оценки изгоняет из нее всю собственно чувственную, небезразличную, «переживательную» сторону. Если у М.С. Кагана такая закономерность еще связывается с необходимым выражением оценки в ее какой-то эмоционально-чувственной окрашенности, то у Ф.Д. Кондратенко она сведена просто к безразличному движению суждения, согласующемуся с неким абстрактным «представлением о норме». Впрочем, в этом нет ничего удивительного, если вспомнить конечный вывод Ф.Д. Кондратенко: «…в вещи ничего не остается, что можно было бы оценить эстетически» [26, 305]. Следовательно, и сама оценка может зависеть только от воли человека, а не от этой вещи.
«Каждый на своем личном опыте мог убедиться, – пишет он, – что даже общепризнанные шедевры мирового искусства, например живописные полотна Эрмитажа или Дрезденской галереи, далеко не все вызывают эмоционально-чувственное переживание: мимо многих из них мы проходим совершенно равнодушно. Можно ли утверждать, что произведения, к которым мы остались равнодушны (а ведь для каждого – даже специалиста, не говоря уже о малоподготовленном зрителе, – это будут совсем не одни и те же произведения), – не „эстетичны“ или оценили и отнеслись мы к ним не эстетически, а как-то по-другому? Думается, что самые ярые адепты формулы „Эстетическая оценка, эстетическое отношение не существуют без эмоционально-чувственного переживания“ – не станут утверждать это. Тогда остается лишь предположить: равнодушие тоже есть эстетическая оценка – одно из проявлений эстетического отношения» [26, 257].
Не станем спорить с автором о том, какая степень «эмоционально-чувственного переживания» могла бы служить критерием определения эстетичности или неэстетичности воспринимаемого. Для Ф.Д. Кондратенко было бы большим субъективизмом допущение в качестве такого критерия акта переживания человека, хотя это не мешает ему возводить в такой критерий акт равнодушия человека. Повторяем, не станем спорить.
Однако если Ф.Д. Кондратенко признает за понятием эстетического выражение чего-то чувственного, то мы готовы отстаивать правомерность формулы «эстетическое отношение не существует без эмоционально-чувственного переживания». Причем отстаивать исходя из достаточно простых соображений – из понимания человеческой чувственности как самодеятельности человека.
Для того, чтобы остаться равнодушным к произведениям искусства, вообще не обязательно посещать Эрмитаж или Дрезденскую галерею, читать художественную литературу или учиться пониманию музыки. Обыватель, кстати, там, где он еще остается самим собой и не выдает себя за «специалиста», так и поступает. Не мудрствуя лукаво где-то перед произведением искусства, он просто выражает «свое мнение» о нем типа: «ничего», «так себе», «хорошо» и т.д., ничуть не смущаясь своего положения «малоподготовленного зрителя». И в этом еще есть какая-то непосредственность, по крайней мере в его отношении к самому себе. Но в отношении произведений искусства называть это «мнение» проявлением чувственности, тем более эстетической, – мягко говоря, неосновательно, даже если такая «чувственность» к бесспорно «эстетичным» (согласимся с автором) вещам здесь и вытекала из определенного «представления о норме». А если же такие вещи – не «эстетичны» (в чем сам автор, судя по взятому в кавычки термину «эстетичны», сомневается, полагая, что коль человек находится в музее, то этим уже автоматически определяется и эстетичность его состояния), то тем более не следовало бы вести речь о равнодушии к «общепризнанным шедеврам искусства» как о проявлении эстетической оценки человека. Предметом для такой оценки может послужить что угодно, например валяющийся на дороге булыжный камень, который может, бесспорно, мешать передвижению прохожих и, бесспорно, оставлять их равнодушными к себе. Но и то, равнодушными лишь до тех пор, пока, как говорится, не возьмет верх живое чувство нормального, человеческого передвижения и камень не уберут с дороги, не прибегая уже ни к каким рассуждениям и особым оценкам. Оказывается, и здесь действительность человеческого чувства проверяется не пассивностью оценочных суждений, а непосредственностью деятельности человека.
По-видимому, равнодушие, скептицизм, нигилизм, пессимизм, цинизм и т.д. – это не столько чувства человека в собственном смысле слова, сколько определенные формы выражения рассудка (хотя и не бесчувственного). И это – в лучшем случае, в случае, когда человек, скажем, своим скептицизмом или нигилизмом выражает какой-то действенный протест против существующего положения дел, которое по исторической необходимости уже заслуживает своего отрицания (скептицизм Юма, нигилизм Базарова и т.д.). В худшем же случае тот же нигилизм или пессимизм характеризует просто безразличие человека как раз к такому проявлению бытия, которое действительно необходимо. Так что если рассудок и стоящее за ним равнодушие еще остаются в чем-то небесчувственными по отношению к самому человеку, то по отношению к предмету оценки они представляют собой лишь посредственное выражение восприимчивости человека. Напротив, движение подлинного чувства – это своеобразное «сбрасывание» с рассудка его равнодушия и безучастности – есть движение такой деятельности человека, предметность которой приобретает значимость непосредственности со всеми вытекающими отсюда выводами.
Главный из таких выводов состоит в том, что отношение человека к предмету чувств не может не быть тождественным отношению его к самому себе без того, чтобы его чувство не оказалось разорванным по содержанию, по единству цели человеческой жизнедеятельности человека вообще. В этом смысле чувственный акт, в отличие от акта ощущения или просто эмоционального восприятия, должен как минимум быть выраженным в форме «эмоционально-чувственного переживания», т.е. самоутверждения человека как в субъективном, так и объективном отношениях.
Вообще выражение «эстетическое чувство», строго говоря, тавтологично. Если оно – подлинное чувство, то оно не может не быть эстетическим, независимо от того, в какое конкретное содержание оформлено: нравственное, утилитарное или политическое. Самостоятельным его делает лишь та сторона отношения человека к предмету, которая одновременно характеризует и меру небезразличия его к указанному смыслу человеческой жизнедеятельности. И если этот смысл действительно реализуется в нравственной или политической деятельности, т.е. цели и средства такой деятельности совпадают как в отношении себя, так и в отношении цели жизни человека, то и чувственное состояние человека должно быть здесь как минимум состоянием в определенности прекрасного. Это означает, что не существует двух обособленных законов: для чувственности вообще и эстетической чувственности. Их можно обособить чисто теоретически и только с сугубо познавательной целью.
Но если Ф.Д. Кондратенко лишь предполагает возможность существования равнодушия в качестве эстетической оценки, то Л.А. Зеленов говорит даже о каком-то законе «нейтральности» эстетического отношения, который возводит в самостоятельный закон эстетики. Сведя эстетическое к отношению и оторвав его от свойств и особенностей предмета такого отношения, Л.А. Зеленов так и формулирует этот закон: «закон нейтральности эстетического по отношению к конкретным свойствам явлений» [18, 10]. В действительности же этим положением закрепляется не закон эстетического или – пусть будет – эстетического отношения (для автора это – одно и то же), а весьма обыденное представление, будто целостная особенность предмета возможна и без свойств предмета, иначе говоря, будто эстетическое потому и нейтрально, что является лишь отношением человека к такому предмету, а не непосредственным выражением указанной особенности.
Однако о нейтральности эстетического можно говорить лишь при условии вычленения его как категории, как теоретического принципа познания, который не сводим к движению объекта познания. Л.А. Зеленов же постоянно смешивает этот теоретико-познавательный смысл эстетического (эстетического как понятия) с его непосредственно-чувственным смыслом, на чем и строит целую галерею «законов», которые непонятно к чему относятся – то ли к науке эстетике, то ли к собственно творчеству и движению искусства: «закон модификации эстетического» и «закон художественной условности», «закон моноканальности эстетической информации» и «закон синтеза видов и жанров художественного творчества», «закон единства абсолютного и относительного в эстетических ценностях» и «закон соответствия формы материалу» и т.п.
Если отбросить здесь совершенно пустой смысл термина «эстетическое», то нетрудно заметить, что все эти «законы» ничего не дают. Они строятся на чистейшем эмпирическом наблюдении, на стремлении как можно полнее описать (а не вскрыть) какие-то сложные особенности эстетической теории и художественного творчества. Причем делается это так, что если та или иная черта теории или особенность творческого процесса попадает в поле зрения такого наблюдения, то она уже представляется как «закон». Но в этом и состоит уязвимость такой позиции. Ибо, в конце концов, вряд ли может все попасть в поле зрения такого наблюдения. Может быть, поэтому не случайно, что Л.А. Зеленов на каждом шагу обходит другие «законы». Так, ведя речь о «законе художественной условности», автор забывает «о законе художественной правдивости». А ведь, согласно Л.А. Зеленову, его тоже следовало бы возвести в самостоятельный закон.
Нам представляется, что вычленение какого-то ряда законов, касающихся движения эстетического процесса, а значит, и теории о нем, возможно только на основе понимания общей закономерности чувственной деятельности. Поэтому если мы исходим из положения, что характер чувственного процесса определяется степенью непосредственности цели, мотива, запроса человека, которые полагают соответствующие им средства, то этим, во-первых, затрагиваем наиболее общее и существенное для всякого чувственного отношения человека; во-вторых, сразу же полагаем выход в сторону понимания того, что определенность такого отношения, как она может быть зафиксирована по самому различию понятий прекрасного или возвышенного, трагического или комического, есть лишь конкретизация его ценностного различия по шкале «степень непосредственности», т.е. по мере заинтересованности. Если, наконец, эта мера, взятая по наивысшей шкале человеческого интереса, положена в самодвижении цели человеческой жизнедеятельности вообще, в эстетическом идеале, то отсюда уже совсем несложно говорить и о какой-то конкретной эстетической закономерности, касающейся выявления феномена красоты, безобразного и т.д.
Характер того или иного эстетического состояния человека определяется конкретно-историческим содержанием цели жизни человека, в осуществлении которой, как правило, отрицается возможность проявления безразличия к любому из моментов человеческого бытия. Это означает, что только в зависимости от того, насколько эта наивысшая человеческая потребность может найти адекватные средства своего утверждения (материальные или идеальные), можно говорить о конкретности эстетического процесса, как она может быть зафиксирована во всем богатстве эстетических понятий и категорий.
Таким образом, если исходить не из тех или иных эмпирических целей и потребностей человека, а из целей предельно широких, связанных с главным и определяющим в бытии людей, с определенностью их смысла жизни и т.д., то становится понятной вся сложность собственно эстетической позиции исследователя. Ибо от последнего требуется не просто констатация этих целей как абстракций, а умение, во-первых, вывести их из земной основы; во-вторых, уяснить оформление их в некоторый образ, во что-то по-идеальному не-без-образное для данного этапа времени; в-третьих – и это главное, – понять их превращение в способ утверждения человека как одновременно способ исторического формирования ступеней освоения эстетического вообще.
Относительно первого момента надлежит отметить следующее. Дать чувственную (не просто гносеологическую) определенность цели жизни человека, другими словами – определить меру человеческого интереса на том или ином этапе исторического бытия – весьма сложно. Ибо помимо трудностей чисто эмпирического порядка здесь существуют трудности и более широкого плана. Как правильно отмечает А.Я. Гуревич, «сравнивая свою эпоху и цивилизацию с иными, мы рискуем применить к этим иным эпохам и цивилизациям наши собственные мерки. В какой-то степени это неизбежно. Но следует ясно представлять себе опасность, сопряженную с подобной процедурой. То, что современный человек считает основополагающей ценностью жизни, могло ведь и не быть таковой для людей иной эпохи и иной культуры; и наоборот, кажущееся нам ложным или малозначительным было истинным и крайне существенным для человека другого общества» [16, 6].
Цель жизни не следует мыслить как что-то наперед положенное и извечно данное, наподобие гегелевского «духа». Для большей части человеческой истории понятия о «наилучшей жизни», равно как и желания ее, связаны с функционированием отношений господства и подчинения. И уже в этом смысле они не могли не быть по-своему односторонними и ограниченными. В конечном счете такая односторонность связана с известным переворачиванием целей и средств производства, с функционированием принципа производства ради производства, что так или иначе накладывало свой отпечаток на всю чувственную ориентацию человека.
Как бы то ни было, но неосторожное оперирование понятиями «цель жизни», «смысл жизни» чревато сползанием в сторону абстрактного их толкования, выхолащивания их конкретно-чувственного исторического содержания, а отсюда – и самой определенности их для данного времени. Ибо, как отмечал К. Маркс, «даже самые абстрактные категории, несмотря на то, что они – именно благодаря своей абстрактности – имеют силу для всех эпох, в самóй определенности этой абстракции представляют собой в такой же мере и продукт исторических условий и обладают полной значимостью только для этих условий и в их пределах» [1, т. 46, ч. 1, 42]. Это означает, что если нас интересует живое содержание указанных понятий в ту или иную эпоху, мы должны подойти к ней с соответствующими мерками, понять ее имманентно, не навязывая своих критериев ценностей.
И при всем этом недостаточно останавливаться лишь на относительности ценностного содержания интересующих нас понятий. Ибо последовательное проведение мысли об этой относительности ведет к определенному нигилизму в оценке эстетической культуры прошлого, что противоречит самому духу марксистского подхода к пониманию значимости предшествующего эстетического развития человечества. В конечном счете такой релятивизм не менее опасен, чем абсолютизация ценностных представлений людей прошлого. Ибо, в сущности, он приводит к одному итогу: человек той или иной исторической эпохи, имея свой эстетический идеал, свое представление о ценностях, свое понимание красоты и т.д., ничего не сделал в выработке нашего представления об этих ценностях, а если и сделал, то только в том смысле, в каком их можно видеть простой составляющей каких-то других исторических представлений. В конечном счете идея прогресса такого представления оборачивается чуть ли не идеей «сплошного процесса», идеей простого добавления и сложения этих составляющих.
К сожалению, в практике эстетических исследований нередко так и получается. Стремясь понять относительность и своеобразие эстетической ориентации человека той или иной эпохи, мы, естественно, не можем не затрагивать характер реальных отношений этого человека (экономических, политических и т.д.). Естественно и то, что эти отношения, по сравнению с современными, объективно предстают ограниченными со стороны то ли экономической, то ли политической и т.д., и этот факт так же неоспорим.
Однако в дальнейшем размышлении допускается ошибка. Мысль об ограниченности таких отношений автоматически переносится на понимание эстетических потребностей человека этой эпохи. При этом кажется, что незрелость отношений, скажем, раба и рабовладельца, феодала и крепостного (а их действительно нельзя сравнить с развитыми современными отношениями людей), порождает такую же незрелость художественного вúдения мира человека в то или другое время, ограниченность его чувственного восприятия. Однако достаточно допустить такую мысль, и мы не избежим уже нескольких ошибок.
Во-первых, сведем на нет действительную совершенность художественной культуры прошлого, по крайней мере в ее отдельных моментах или проявлениях; во-вторых, лишим себя возможности понять, в силу каких реальных (социальных, экономических) обстоятельств художественное явление прошлого может и поныне эстетически воздействовать на нас; наконец, в-третьих, не сможем уяснить смысл преемственности или собственно прогресса в развитии всех тех ценностей, которые применительно не только к данной, но и ко всем эпохам сохраняют значение нормы, недосягаемого образца, следовательно, сохраняют и некоторую абсолютность их эстетической определенности.
По мысли К. Маркса, обаяние, которым обладает для нас искусство греков, не находится в противоречии с той неразвитой общественной ступенью, на которой оно выросло. «Наоборот, это обаяние является ее результатом и неразрывно связано с тем, что незрелые общественные условия, при которых это искусство возникло, и только и могло возникнуть, никогда уже не могут повториться вновь» [1, т. 46, ч. 1, 48].
По существу, К. Маркс здесь намечает не только задачу собственно эстетических исследований, но и единственно правильный путь ее решения. Этот путь предполагает осознание того, что именно незрелость, ограниченность отношений людей той или иной эпохи, т.е. некоторый по-социальному негативный момент в их реальном состоянии порождает, как свою противоположность, и определенную зрелость, законченность и завершенность их художественного мировосприятия. Здесь фактически уже сформулирован естественнейший диалектический закон формирования самой меры человеческого интереса к миру: степени всего негативного и по-чувственному отрицательного, что возможно в реальных отношениях между людьми, отвечает и степень всего позитивного или заинтересованного, что вырабатывается и полагается в их сознании, в идеале, следовательно, и в их чувствах.
По-видимому, противоречие, фиксируемое таким законом, составляет внутренний источник формирования всех ступеней художественного мировосприятия. Различие лишь в характере самого противоречия, как оно обнаруживает себя в ту или иную эпоху, на уровне определенной видовой законченности художественного производства. Во всяком случае, не следует представлять, что такое противоречие и связанная с ним законченность развития того или иного вида искусства характерны исключительно для узких границ развития искусства, скажем, лишь по отношению к греческому эпосу. По замечанию К. Маркса, если указанное обстоятельство «имеет место в отношениях между различными его видами, то тем менее поразительно, что это обстоятельство имеет место и в отношении всей области искусства к общему развитию общества» [1, т. 46, ч. 1, 47].
Это означает, что если мы хотим выяснить действительную законченность той или иной ступени художественного производства и соотнести ее с законченностью современного искусства, мы не должны применять к видообразованию искусства понятие прогресса в обычном смысле слова: как движение от чего-то низшего, эстетически менее совершенного, к высшему, более совершенному. В таком случае художественные ценности прошлого вряд ли вызывали бы сейчас эстетическое наслаждение.
При всем этом вопрос о развитии художественного сознания, о собственно прогрессе в эстетическом мировосприятии не снимается и не может быть снят. Если, скажем, детское мировосприятие и остается чем-то неповторимым, по-своему целостным и совершенным, то это не означает, что оно не должно развиваться и подниматься до мировосприятия зрелого человека. Если в отношении отдельных ступеней, видов и жанров искусство и может достигать своей эстетической завершенности уже на сравнительно низких ступенях общественного развития, на что и указывает К. Маркс, то в отношении всей области художественного производства, в отношении богатства формирующихся потребностей человека оно не может не совершенствоваться, не затрагивая все новые и новые стороны человеческого интереса к миру.
Однако это уже несколько другая тема, касающаяся основ построения теории развития эстетического явления. Разговор об этом может стать продолжением изложенных здесь мыслей и послужить материалом для самостоятельного научного исследования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд.
2. Ленин В.И. Полное собрание сочинений.
3. Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 1976.
4. Брежнев Л.И. Великий Октябрь и прогресс человечества. М., Политиздат, 1977.
5. Апенченко Ю. В пределах одной жизни. – Правда, 1972, 28 февр.
6. Аристотель. Об искусстве поэзии. М., Госполитиздат, 1957.
7. Астахов И. Эстетический субъективизм и проблема прекрасного. – Октябрь, 1961, № 3.
8. Баленок В.С. Естетичне i природа. Питання естетичного вiдношення людини до дiйсностi. Киïв, Мистецтво, 1979.
9. Буров А.И. Эстетика: проблемы и споры. М., Искусство, 1975.
10. Борев Ю. Эстетика. М., Политиздат, 1975.
11. Босенко В. Диалектика как теория развития. Киев, Изд-во Киев. ун-та, 1961.
12. Вопросы технической эстетики, вып. 2. М., Искусство, 1970.
13. Гегель Г.-В.-Ф. Сочинения. В 14-ти т. М. – Л., Госиздат, 1929 – 1959.
14. Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика. В 4-х т. М., Искусство, 1968 – 1972.
15. Герцен А. Общая философия души. СПб., 1890.
16. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., Искусство, 1972.
17. Дробницкий О.Г. Моральное сознание и его структура. – Вопр. филос., 1972, № 2.
18. Законы эстетики. Материалы межвузовской теоретической конференции. / Горьк. инж.-строит. ин-т. Горький, 1972.
19. Иванов П.Л. О двух формах эстетического в объективной действительности. – Вопр. филос., 1962, № 12.
20. Из истории эстетической мысли нового времени. М., Изд-во АН СССР, 1959.
21. Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах. М., Политиздат, 1968.
22. История марксистской диалектики. М., Мысль, 1973.
23. Каган М.С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике, вып. 1. Л., Изд-во Ленингр. ун-та, 1964.
24. Каган М.С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Л., Изд-во Ленингр. ун-та, 1971.
25. Кант И. Сочинения. В 6-ти т. М., Мысль, 1963 – 1966.
26. Кондратенко Ф.Д. Эстетическое как отношение. – В кн.: Эстетическое. М., Искусство, 1964.
27. Корниенко В.С. О законах красоты. Харьков, Изд-во Харьк. ун-та, 1970.
28. Копнин П.В. Идея как форма мышления. Киев, Изд-во Киев. ун-та, 1963.
29. Кох Г. Марксизм и эстетика. М., Прогресс, 1964.
30. Леонтьев А.Н. Деятельность и личность. – Вопр. филос., 1972, № 12.
31. Лифшиц М. К. Маркс, искусство и общественный идеал. М., Худож. лит., 1972.
32. Лосев А.Ф. История античной эстетики. М., Высшая школа, 1963.
33. Марксистско-ленинская философия. Учебное пособие. М., Высшая школа, 1964.
34. Народный университет дизайна (учебная программа) / Горьк. инж.-строит. ин-т. Горький, 1977.
35. О современной буржуазной эстетике. М., Искусство, 1965.
36. Поспелов Г.Н. Эстетическое и художественное. М., Искусство, 1965.
37. Программа II Межвузовской научно-теоретической конференции по торговой эстетике / Центросоюз. Львов, торгово-экон. ин-т, 1968.
38. Философская энциклопедия. В 5-ти т. М., Сов. энциклопедия, 1962 – 1965.
39. Френкин А.А. Буржуазная «социология игры» и проблемы культуры. – Вопр. филос., 1974, № 7.
40. Чернышевский Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности. М., Худож. лит., 1955.
41. Franke Herbert. Phenomen der Kunst (Naturphilosophischer Grund der Aesthetik). Stuttgart – München, 1967.
42. Hicks Herbert G. The management of organisations. N.Y., 1967.
43. Ortega-y-Casset. Gesammelte Werke, Bd. 111. Stuttgart, 1956.
44. Santayana G. The Sense of Beauty. N.Y., 1955.
Примечания
1
Здесь и далее в скобках сначала дается порядковый номер цитируемого источника в списке литературы, помещенном в конце книги, затем – том, если издание многотомное; курсивом обозначается страница.
(обратно)2
Видимо, сам смысл существования эстетической науки предостерегает нас от возможного обеднения понятия эстетического: человечество не знает более весомых ценностей, кроме тех, которые обозначены понятиями прекрасного, возвышенного и т.д.
(обратно)3
Нередко в таком толковании не видят ничего плохого. Дескать, за понятием «эстетическое» скрывается не что иное, как чувственное. А поскольку все окружающее нас есть в сущности… чувственное (здесь, по-видимому, подразумевают – ощущаемое, воспринимаемое и т.д.), то, следовательно, есть и эстетическое. При этом забывают, что чувственное – это не только отношение человека к вещи, ее свойствам и качествам, какими бы важными они ни были в практике жизни, но и отношение человека к самому себе, к цели, смыслу своего человеческого бытия вообще. А это такая сторона дела, которая вряд ли может быть понята, если все внимание сосредоточивать на вещи и ее свойствах.
(обратно)4
На наш взгляд, совершенно недопустимо смешивать понятия «утилитарный» и «утилитаристский». Следует помнить, что такого рода смешение, когда утилитарному придается крайне узкий и односторонний смысл, есть продукт буржуазной эпохи и буржуазного представления о сущности полезного вообще. Ю.М. Бородай правильно замечает, что совмещение в утилитарном существа полезного и удовольствия, совмещение, которое с большим трудом поддается усвоению как со стороны буржуазных историков эстетики, так и со стороны буржуазных теоретиков искусства, выглядело совершенно естественным с точки зрения античной эпохи, где впервые было вычленено это понятие вообще. Именно «здесь возникает нерушимое единство производственного, утилитарного и практического, с одной стороны, а с другой – чисто эстетического и вполне „незаинтересованного“ любования предметами искусства и жизни. Прекрасно, с античной точки зрения, только то, что максимально утилитарно, максимально нужно для жизни, максимально полезно, удобно и выгодно, но что, с другой стороны, и в то же самое время есть предмет любования и доставляет вполне бескорыстную радость» [32, 30]. «Буржуазная социология, – пишет А.А. Френкин, – исходит из идеи несовместимости игры и утилитарности» [39, 123]. Но исходит потому, что «утилитарность, как она существовала веками, – это исторически обусловленное неизбежное следствие тяжелого повседневного труда суровых будней, зависимость человека от практических обстоятельств» [39, 123].
(обратно)5
А.И. Буров правильно замечает: «Стоит поставить под сомнение известный тезис о диалектике объективного и субъективного при определении красоты, потому что эту диалектику можно понимать по-разному, вплоть до махистской „принципиальной координации“» [9, 29].
(обратно)6
Нам представляется, что так называемый аксиологический, или ценностный, смысл эстетического есть тот же чувственный его смысл, по крайней мере, если сами ценности рассматривать доведенными до какого-то присвоения или утверждения их человеком, т.е. до завершения в самом чувстве человека. В противном случае так называемый аксиологический аспект эстетического обернется все тем же онтологическим аспектом со всеми присущими ему методологическими ошибками.
(обратно)7
Применительно к анализу эстетического речь идет не о какой-то особой «логике выражения» или «логике вчувствования», какими они традиционно противопоставлялись логике отражения (Шеллингом, Шопенгауэром, особенно – Кроче). Что рассудочным движением мысли нельзя постигнуть феномен чувственного, – эта истина известна еще со времен Канта. Но дело в том, что она родила, и нередко поныне порождает, представление, будто теория об эстетическом, вообще эстетика, должна иметь свою логику, принципиально отличную от логики вообще. Указанная истина, однако, не предполагает такого вывода, поскольку помимо рассудочной, т.е. традиционно аристотелевской, логики существуют и современная формальная логика, и логика диалектическая, или же – логика как материалистическая диалектика. И если эстетическое действительно нельзя постигнуть средствами рассудочной логики, то это не означает, что такое постижение невозможно средствами диалектической логики, с помощью построения цельной системы знаний, как ее можно понять в значении восхождения этих знаний до уровня полноты отражения сущности.
В свое время Н.Г. Чернышевский замечал, что прекрасно нарисовать лицо и нарисовать прекрасное лицо – вещи, в сущности, разные [40, 9]. Но в отношении некоторого конечного смысла существования красоты и воздействия ее на человека такое различие не имеет принципиального значения, поскольку здесь в равной мере будет важно и то, как нарисовано, и то, что нарисовано. Вероятно, аналогичное можно сказать и в отношении логики эстетики. Для нее в равной мере важно и то, как движутся знания, и то, к чему они движутся, что отражают. Стремление же создать особую «логику выражения», или «художественную логику», которые исключали бы из себя обычную логику познания, сознательно или бессознательно ведет к отрицанию эстетики как науки, к подмене ее собственно теоретических задач практическими задачами искусства.
(обратно)8
На подобного рода смешение понятий указывал в свое время О.Г. Дробницкий. По его словам, это смешение «приводит иных авторов к тому, что они в своем теоретическом рассуждении, пользуясь как будто бы научными категориями этики, на самом деле употребляют их в моральном, нормативно-оценочном смысле» [17, 31].
(обратно)9
Можно сказать, что вся домарксовская эстетика, за исключением, пожалуй, эстетики Н.Г. Чернышевского, не знала реальной потребности в эстетическом, т.е. отличной от потребности человека в искусстве, в духовных феноменах. Именно это обстоятельство и приводило к отождествлению эстетического с прекрасным, а безразличного – с безобразным, что в данном случае очень логично. Ведь эстетическое и безразличное, взятые в системе движения искусства, т.е. в контексте определенных целей художника, не могут существовать в том виде, в каком они возможны до включения в такую систему, когда остаются не разрешенными по своему антагонизму, не доведенными до «снятия» этого антагонизма в пользу идеала, красоты. Если бы такое «снятие» (и именно в пользу идеала) не осуществлялось, то потерялся бы сам смысл существования искусства. С другой стороны, если бы противоречия между эстетическим и безразличным всегда оказывались реально разрешимыми, то на долю художника выпало бы простое копирование действительности.
(обратно)10
К сожалению, нельзя не отметить, что такая ошибка нередко допускается исследователями и поныне, когда необходимость возникновения искусства связывается не с появлением в историческом процессе определенных социальных противоречий, характеризующих расщепление общественного бытия, утерю непосредственности состояния человека, а лишь с природным, почти врожденным стремлением людей к творчеству, к опредмечиванию своих сил и способностей. При этом такие исследователи не отдают отчет в том, что такое стремление могло бы вполне успешно реализоваться и не побуждать к жизни существование искусства, если бы само производство и реальная жизнь людей не превратились для них в сферу отчуждения и обезразличивания.
(обратно)11
К сожалению, в эстетической литературе уже примелькались выражения типа «воспитаем здоровый эстетический вкус», «за здоровую оценку», «за здоровое эстетическое начало» и т.п. Это «здоровое» тоже является своеобразной компенсацией утери в теории существа логики и диалектики. Здесь чем меньше этой логики в знаниях, тем больше морализаторства по поводу того, что «здоровое» и что «нездоровое» в оценках следует принимать за истину. Отсюда – и все достоинства таких исследований приходится измерять чуть ли не по художественным критериям: по пафосу автора, по эмоциональности его языка и т.п.
(обратно)12
В этом отношении некорректным выглядит деление категорий эстетики на «объективные», «субъективные», «объективно-субъективные» (см., напр.: Крюковский Н.И. Основные эстетические категории (опыт систематизации). Минск, Изд-во Белорус. ун-та, 1974; Яковлев Е.Г. О системе основных эстетических категорий (опыт теоретического анализа). – Филос. науки, 1977, № 4, с. 96 – 106).
Категории всегда объективны по содержанию, но субъективны по форме, независимо от того, обобщенным представлением о чем они являются (то ли представлением о творчестве как таковом, то ли представлением об объективном «свойстве» красоты). Скажем, категория «мышление» так же объективна по содержанию, как и категория «бытие», хотя первое само по себе есть субъективное, а второе – объективное. Для категории совершенно безразлично, ступенью, моментом истины чего она является.
(обратно)13
Для онтологизма эта мысль остается совершенно непонятной. Для него чувственное есть именно эта от века данная и «всегда равная себе вещь», о которой можно сказать только то, что она ощущается, воспринимается или, с другой стороны, что она имеет свойства, позволяющие ее воспринимать. Сказать же, что чувственное есть процесс, к тому же не просто природного, но и общественно-исторического порядка, – значит сразу же побудить онтологизм к постановке вопроса о независимости существования чувственного от самих чувств, т.е. о его объективности.
Безусловно, чувственное – объективно. Но объективно не только тем, что дается ощущению и восприятию, а прежде всего тем, что оно само есть практика, исторически изменяющаяся предметность, независимость существования которой доказывается именно этим изменением ее всей деятельностью людей.
(обратно)14
Нельзя сказать, что этим Гегель вульгаризировал чувственность человека или допускал ошибку, отдавая ее в таком виде на рассмотрение психологии и физиологии. В отличие от старых материалистов он гораздо глубже понимал смысл ее исторического развития. Ведь, по Гегелю, и сам «дух» – общественный субъект – формировался только по мере того, как индивидуальное сознание «возвышало» себя к «духу», т.е. обогащало себя всей реальной культурой человечества. Только в таком виде чувственное сознание могло стать предметом рассмотрения эстетики и философии. В противном случае – и Гегель здесь, безусловно, прав – речь может идти лишь о сугубо физиологических процессах человека, что, естественно, должно быть отнесено к сфере компетенции физиологии.
(обратно)15
Конечно, мысли об общечеловеческом в человеке по-своему оправданы; придет время, когда по-другому не надо будет характеризовать человека. Но до тех пор, пока в мире существуют не просто люди, а люди, принадлежащие к определенным классам, партиям, абстрактные рассуждения об общечеловечности человека будут сознательным или бессознательным отступлением от действительного, живого, существующего человека.
(обратно)16
Безусловно, Гегель, исходя из непосредственности развития человеческого духа, имел все основания назвать это развитие феноменологическим, а саму науку о нем – феноменологией. Однако этой непосредственности хватило ровно настолько, насколько должна была появиться собственная логика Гегеля. Отныне вся непосредственность такого развития превращается в чисто мыслительный акт и исчерпывается в действии одного самосознания, постигающего гегелевскую «Логику».
(обратно)17
Так, вся немецкая классическая философия была, по сути, теоретическим отблеском величия французской буржуазной революции, ее «повторением» в сознании.
(обратно)18
Даже понятие «произведение искусства» в строгом смысле слов указывает не столько на существительное, сколько на глагол, на живой процесс. «Производить» (творить, делать) искусство, очевидно, означает ближайшим образом воспроизводить определенного рода отношение, видение мира, как переживание человека.
(обратно)
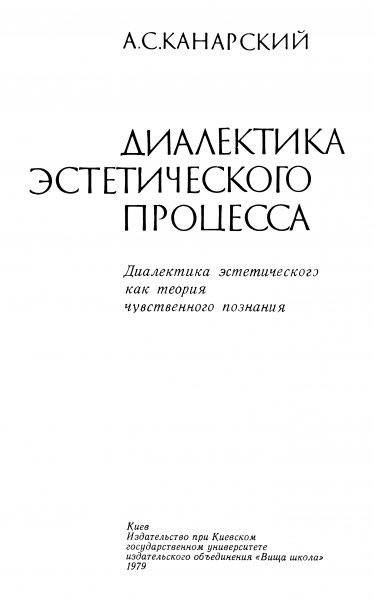

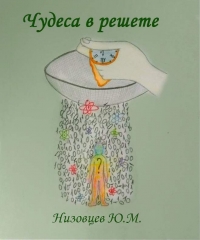
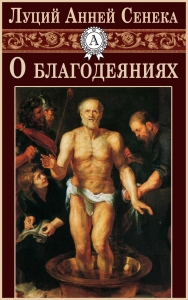
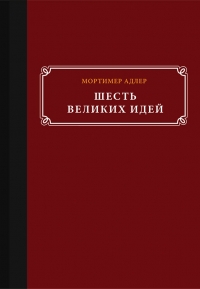

Комментарии к книге «Диалектика эстетического процесса.Диалектика эстетического как теория чувственного познания», Анатолий Станиславович Канарский
Всего 0 комментариев