ПРИМЕТЫ ЛЮБВИ
Поговорим о любви, условившись, что о «любовных историях» мы говорить не будем. «Любовные история», самого неожиданного свойства, то и дело случаются между мужчинами и женщинами. Им сопутствует множество обстоятельств, усложняющих их развитие до такой степени, что более всего «любовным историям» можно отказать в том, что действительно стоит называть любовью. Что может быть заманчивее для исследователя, чем психология «любовных историй», со всей их пестрой казуистикой, однако нам будет непросто во всем разобраться, если сначала мы не определим, что же такое любовь сама по себе и как таковая. Кроме того, мы сузили бы тему, сведя ее к рассмотрению любви, которую испытывают друг к другу мужчины и женщины. Тема неизмеримо шире, и Данте полагал, что любовь движет солнце и другие светила.
Даже если мы воздержимся от столь вселенского охвата, нам следует учесть все многообразие проявлений любви. Не только мужчина любит женщину, а женщина любит мужчину; мы любим также искусство и науку, мать любит своего ребенка, а верующий любит Бога. Огромное множество и разнородность объектов, подчиняющихся законам любви, сделают нас осмотрительнее и не позволят счесть присущими любви те особенности и свойства, суть которых, скорее, в природе всевозможных любимых кем-либо объектов.
Последние двести лет очень много говорили о любовных историях и очень мало – о любви. И если все эпохи начиная с добрых времен Древней Греции создавали свои великие теории сердечных чувств, два последних столетия ее лишены. Античный мир вначале предпочел всем другим доктрину Платона, затем – стоистическую. Средневековье освоило теории Фомы Аквинского и арабов; восемнадцатый век усердно штудировал теории душевных волнений Декарта и Спинозы. Все дело в том, что в прошлом не было ни одного великого философа, который не считал бы себя обязанным предложить собственную доктрину. В новейшее же время не предпринято ни одной выдающейся попытки систематизации чувств. И лишь недавние труды. Пфендера и Шелера[1] достойно продолжают тему. Между тем наш духовный мир становится все сложнее, а эмоциональные переживания – острее.
Поэтому-то мы не можем уже довольствоваться этими старыми теориями аффектов. К примеру, то определение любви, впитавшее древнегреческую традицию, которое мы находим у Фомы Аквинского, очевиднейшим образом ошибочно. Согласно ему, любовь и ненависть – два проявления желания, влечения, стремления к чему-то. Любовь – это стремление к чему-то хорошему, к хорошему в нем – concupiscibile circa bonum; ненависть, или антистремление, – это неприятие чего-то злого, именно злого в нем – concupisobile circa malum. Мы видим здесь смешение влечения и желания с чувствами и эмоциями, которым грешила вся старая психология вплоть до XVIII столетия. Смешение, которое напомнит о себе в эпоху Возрождения, впрочем претворившись уже в эстетическую категорию. Так, Лоренцо Великолепный утверждал, что 1'amore е un appetito di bellezza[2].
Это и есть одно из существеннейших отличий, которое надлежит осмыслить, чтобы от нас не ускользнуло то, в чем заключается своеобразие любви и ее сущность. Наш душевный мир особенно щедр на любовные порывы; не будет преувеличением даже счесть их символом щедрости как таковой. К любви восходит многое из того, что присуще человеку: желания, мысли, волевые акты, поступки – все это, порождаемое любовью, как урожай семенами, самой любовью не является, однако подтверждает ее существование. Бесспорно, что так или иначе нас влечет то, что мы любим; однако столь же очевидно, что нас влечет и то, чего мы не любим, что не затрагивает наших чувств. Хорошее вино влечет нас, но любви не вызывает; наркомана влечет наркотик и в то же время вызывает отвращение связанными с ним опасными последствиями.
Но есть еще одна, более веская и тонкая причина разграничивать любовь и желание. Собственно говоря, желать чего-либо – это значит стремиться обладать им, причем под обладанием так или иначе понимается включение объекта в нашу жизненную сферу и превращение мало-помалу в часть нас самих. Именно поэтому желание умирает тотчас после того, как удовлетворено; обладание для него смерть. Напротив, любовь – это вечная неудовлетворенность. Желание пассивно, и желаю я, в сущности, одного – чтобы объект желания устремился ко мне. Я живу в надежде на притяжение ко мне всего сущего. И наоборот, в любви, как мы еще убедимся, все проникнуто активным началом. Вместо того чтобы объект приближался ко мне, именно я стремлюсь к объекту и пребываю в нем. В любовном порыве человек вырывается за пределы своего "я": быть может, это лучшее, что придумала Природа, чтобы все мы имели возможность в преодолении себя двигаться к чему-то иному. Не оно влекомо ко мне, а я к нему.
Августину Блаженному, одному из тех людей, раздумья которых о любви отличались особой глубиной, по своему душевному складу, быть может, наделенному наивысшей силой любви, подчас удавалось преодолевать понимание любви как желания и влечения. В минуту вдохновения он сказал: «Amor meus, pondus mewm; illo feror, quocumque feror» – «Любовь моя, бремя мое; влекомый им, я иду повсюду, где я иду». Любовь – это притяжение к любимому.
Спиноза попытался избежать ошибки и, оставив в стороне влечения, искал любовным порывам и ненависти эмоциональное объяснение; согласно ему, любовь – это радость познания предмета любви. Любовь к чему-то или к кому-то – это якобы не более чем радость и одновременно сознание, что рады мы благодаря этому чему-то или кому-то. И снова перед нами смешение любви с ее возможными последствиями. Разве кто-нибудь сомневается, что предмет любви может принести радость любящему? Однако столь же верно, что любовь бывает печальной, как смерть, безысходная смертная мука. Более того, истинная любовь лучше познает саму себя и, если угодно, свою цену и свои масштабы в страдании и мучениях, которые она приносит. Влюбленной женщине огорчения, причиняемые ей любимым, дороже бесстрастного прозябания. В письмах Марианны Алькофарадо, португальской монахини[3], встречаем следующие признания, адресованные ее неверному соблазнителю: «…в то же время я благодарю вас в глубине сердца за отчаяние, которому вы причина, и я ненавижу покой, в котором я жила, прежде чем узнала вас». «…Я нашла хорошее средство против всех этих зол, и я быстро освободилась бы от них, если бы не любила вас более; но, увы! что за средство! Нет, я предпочитаю страдать еще более, чем забыть вас. Увы! От меня ли это зависит? Я не могу упрекнуть себя в том, чтобы я хоть на одно мгновение пожелала не любить вас более; вы более достойны сожаления, чем я, и лучше переносить все те страдания, на которые я обречена, нежели наслаждаться убогими радостями, которые дают вам ваши французские любовницы». Первое письмо кончалось словами: «Прощайте, любите меня всегда и заставьте меня выстрадать еще больше мук». Минуло два века, и синьорита де Леспинасс[4] писала: «Я люблю вас так, как только и стоит любить, – безнадежно».
Спиноза ошибался: любовь и радость не одно и то же[5]. Тот, кто любит родину, способен отдать за нее жизнь, и верующий идет на мученическую смерть. И наоборот, ненависть и злоба нередко находят удовлетворение в самих себе и хмелеют от радости при виде беды, обрушившейся на ненавистного человека.
Учитывая, что эти известные определения полностью нас не удовлетворяют, думаю, стоит попытаться проанализировать чувство любви столь же непосредственно и скрупулезно, как это делает энтомолог с пойманным в лесу насекомым. Надеюсь, что читатели любят или любили кого-то либо что-то и способны ныне взять свои ощущения за трепетные крылышки и устремить на них неторопливый внутренний взор. Я перечислю основные, самые общие признаки этой жужжащей пчелы, которая умеет собирать мед и жалить. Читатели сами решат, насколько мои выкладки соответствуют тому, что они познали, вглядываясь в себя.
Для начала согласимся, что у любви действительно много общего с желанием, поскольку его объект – предмет или человек – действует на него возбуждающе. Волнение, которым охвачен объект, передается душе. Таким образом, это волнение по сути своей центростремительно: оно направлено от объекта к нам. Что же касается чувства любви, то возбуждение предшествует ему. Из ранки, нанесенной нам стрелой волнения, пробивается любовь, которую неудержимо влечет к объекту: а значит, движется она в обратном по сравнению с возбуждением и любым желанием направлении. Путь ее – от любящего к любимому, от «меня к другому», то есть центробежен. В этом – в постоянном душевном порыве, в движении к объекту, от моего "я" к сокровенной сути ближнего – любовь и ненависть сходятся. Ниже речь пойдет о том, в чем они отличаются. При этом не нужно думать, что в нашем стремлении к предмету любви мы добиваемся лишь близости и совместной в бытовом плане жизни. Все эти проявления как следствия любви и в самом деле порождены ею, однако для выяснения ее сути не представляют особого интереса, и посему в ходе нашего анализа мы будем полностью их игнорировать. Мои размышления касаются чувства любви в его душевной сокровенности как явления внутренней жизни.
Любящий Господа устремляется к нему не телом, а все же любить его – значит стремиться к нему. В любви мы забываем о душевном покое, теряем рассудок и все свои помыслы сосредоточиваем на любимом. Постоянство помыслов и есть любовь.
Дело в том – отметим это, – что мыслительный и волевой акты мгновенны. Мы можем замешкаться на подступах к ним, но сами-то они промедлений не терпят: все происходит в мгновение ока; они молниеносны. Если уж я понимаю фразу, то я понимаю ее сразу, в один миг. Что же касается любви, то она длится во времени. Любят не вереницей внезапных озарений, которые вспыхивают и гаснут, как искры в генераторе переменного тока; любимое любят непрерывно. Этим определяется еще одна особенность анализируемого нами чувства: любовь струится как родник одухотворенного вещества, как непрерывно бьющий ключ. Употребив метафору, на которые столь щедра интуиция и которые столь близки природе интересующего нас явления, можно сказать, что любовь не выстрел, а непрерывная эманация, духовное излучение, исходящее от любящего и направленное к любимому. Течение, а не удар.
Пфендер с исключительной проницательностью подчеркивал текучесть и длительность, присущие любви и ненависти.
Любовь и ненависть одинаково центробежны, в мыслях они движутся к объекту, наконец, они текучи и непрерывны, – таковы три общие для них приметы или черты.
Теперь можно определить и коренное отличие между любовью и ненавистью.
Устремленность у них общая, коль скоро они центробежны и человек в них стремится к объекту; при этом они проникнуты противоположным смыслом, преследуют различные цели. В ненависти стремятся к объекту, но стремятся ему во зло; и смысл ее разрушителен. В любви также стремятся к объекту, но ему во благо.
Размышление и желание лишены того, что можно назвать душевным жаром, в одинаковой степени присущим любви и ненависти. В отличие от раздумий над математической задачей от любви и ненависти исходит тепло, они пылают, более того, накал их бывает различным. Не случайно в быту весьма метко об одном говорят, что он, влюбившись, охладел, а другой жалуется, что возлюбленная холодна и бесчувственна. Эти рассуждения о теплоте чувств невольно приоткрывают завесу над любопытнейшими сферами психологических закономерностей. Мы могли бы обратиться к отдельным аспектам всемирной истории, если не ошибаюсь, обойденным до сих пор вниманием в области этики и искусства. Речь могла бы идти о неодинаковом накале различных великих цивилизаций и культурных эпох – о холоде Древней Греции, Китая или XVIII столетия, о жаре средневековья или романтизма и т. д. Речь могла бы идти о роли в человеческих взаимоотношениях различной для разных людей степени их душевного горения: первое, что ощущают при встрече два человека, – это присущий каждому из них эмоциональный накал. Наконец, мы могли бы обратить внимание, что теплотой в той или иной степени характеризуются различные художественные, в частности литературные, стили. Однако было бы опрометчиво мимоходом затрагивать столь обширную тему.
Не удастся ли нам приблизиться к пониманию этой теплоты, присущей любви и ненависти, если в поле нашего зрения попадет также объект? Как воздействует на него любовь? Издалека или вблизи, чем бы ни был предмет любви – женщиной или ребенком, искусством или наукой, родиной или Богом, – любовь печется о нем. Желание упивается тем, что ему желанно, удовлетворяется им, но не одаряет, ничем не жертвует, ничем не поступается. У любви же и ненависти нет ни минуты покоя. Первая погружает объект, на каком бы расстоянии он ни находился, в благоприятную атмосферу ласки, нежности, довольства – одним словом, блаженства. Ненависть погружает его с не меньшим пылом в атмосферу неблагоприятную, вредит ему, обрушивается на него как знойный сирокко, мало-помалу разъедает его и разрушает. Вовсе не обязательно, как я уже говорил, чтобы это происходило в действительности; речь идет о намерении, которым проникнута ненависть, том ирреальном деянии, которое лежит в основе самого чувства. Итак, любовь обволакивает предмет любви теплотой и довольством, а ненависть сочится едкой злобой.
Эти противоположные намерения в их действиях дают о себе знать и иным образом. В любви мы как бы сливаемся с объектом. Что означает это слияние? По существу, это слияние не в телесном смысле, да и вообще не близость. К примеру, наш друг – определяя качества, присущие любви, не забудем и дружбу – живет вдали от нас и мы ничего о нем не знаем. Тем не менее мы с ним связаны незримой нитью – наша душа в, казалось бы, всеобъемлющем порыве преодолевает расстояния, и, где бы он ни был, мы чувствуем, что сокровенным образом соединились с ним. Нечто подобное происходит, когда мы в трудную минуту говорим кому-нибудь: можете рассчитывать на меня – я целиком в вашем распоряжении; иными словами, ваши интересы для меня превыше всего, располагайте мною как самим собой.
И наоборот, ненависть, несмотря на свою неизменную направленность к предмету ненависти, отдаляет нас от объекта в том же символическом смысле – она, разверзнув между нами пропасть, делает его для нас недосягаемым. Любовь – это сердца, бьющиеся рядом, это согласие; ненависть – это разногласие, метафизическая распря, абсолютная несовместимость с предметом ненависти.
Теперь мы имеем некоторое представление о том, в чем заключается эта активность, эта ревностность, которую мы, смею думать, выявили в любви и ненависти и которая отсутствует в пассивных эмоциях, таких, как радость или грусть. Не зря говорят: быть радостным, быть грустным. Это и в самом деле не более чем состояние, а не деятельность, не радение. Грустный, будучи грустным, пребывает в бездействии, равно как и веселый – будучи веселым. Любовь же в мыслях достигает объекта и принимается за свое незримое, но святое и самое жизнеутверждающее из всех возможных дело – утверждает существование объекта. Поразмыслите над тем, что значит любить искусство или родину: это значит ни на одно мгновение не сомневаться в их праве на существование; это значит осознавать и ежесекундно подтверждать их право на существование. Не так, впрочем, как это делает судья, знающий законы, приговоры которого поэтому бесстрастны, а так, чтобы оправдательный приговор был одновременно и поиском и итогом. И наоборот, ненавидеть – это значит в мыслях убивать предмет нашей любви, истреблять его в своих помыслах, оспаривать его право на место под солнцем. Ненавидеть кого-либо – значит приходить в ярость от самого факта его существования. Приемлемо лишь исчезновение его с лица земли.
Думаю, что у любви и ненависти нет признака более существенного, чем только что отмеченный. Любить что бы то ни было – значит упорно настаивать на его существовании; отвергать такое устройство мира, при котором этого объекта могло бы не быть. Заметьте, однако, что это, по существу, то же самое, что непрерывно вдыхать в него жизнь, насколько это доступно человеку – в помыслах. Любовь – это извечное дарение жизни, сотворение и пестование в душе предмета любви. Ненависть – это истребление, убийство в помыслах; к тому же, в отличие от убийства, совершаемого один раз, ненавидеть – значит убивать беспрерывно, стирая с лица земли того, кого мы ненавидим.
Если на этой высокой ноте обобщить те особенности, которые нами выявлены, то мы придем к выводу, что любовь – это центробежный порыв души, которая непрерывным потоком устремляется к объекту и обволакивает его теплотой и довольством, превращая нас с ним в единое целое и утверждая бесспорность его существования (Пфендер).
ЛЮБОВЬ У СТЕНДАЛЯ
I
(ПРИДУМАННАЯ ЛЮБОВЬ) В голове Стендаля рождалось много теорий, однако теоретиком он не был ни в коей мере. Этим, как, впрочем, и многим другим, он напоминает нашего Бароху, у которого любая человеческая тема незамедлительно претворяется в систему идей. При поверхностном взгляде и того и другого можно принять за философов, по ошибке ставших писателями. Между тем все как раз наоборот. Весьма красноречиво обилие созданных ими обоими теорий. У философа не бывает больше одной. И в этом – коренное отличие между истинно теоретическим темпераментом и тем, который его лишь отдаленно напоминает.
Теоретик выстраивает систему, побуждаемый к этому неодолимым стремлением адекватно передавать реальность. А это обязывает его быть в высшей степени осмотрительным и, среди прочего, поддерживать в строгом и стройном единстве преизбыток своих идей. Поскольку действительность ошеломляюще едина. Какой ужас испытал Парменид, осознав это! Между тем наши мысли и чувства отрывисты, противоречивы и многообразны. У Стендаля и Барохи идеи воплощаются в ткани языка, литературном жанре, посредством которого и происходит лирическая эманация. Их теории – песни. Они мыслят pro и contra[6] (вещь невозможная для мыслителя), любят и ненавидят в понятиях. Вот почему они столь щедры на теории, разнородные и взаимоисключающие, обязанные своим возникновением сиюминутному настроению. Теории, будучи песнями, несут правду, но не о сути вещей, а о певце.
Поэтому-то я не склонен их осуждать. В сущности, ни Стендаль, ни Бароха не претендовали на то, чтобы их считали философами; и если я привлек внимание к этой неоднозначной черте их духовного облика, то только из доставляющей радость потребности видеть всех такими, какие они есть. Их принимают за философов. Tant pis! Но они ими не являются. Tant mieux![7] Если с Барохой в данном случае все более или менее ясно, то со Стендалем дело обстоит несколько сложнее, поскольку есть тема, на которую он философствовал вполне серьезно. По стечению обстоятельств та же, которой отдавал предпочтение Сократ, патрон всех философов. Ta erotika – вопросы любви.
Трактат «De l'amour»[8] – одна из самых читаемых книг. Представьте, что вы входите в будуар маркизы, актрисы или же просто светской дамы. Осматриваетесь в ожидании хозяйки. Первыми, конечно, внимание привлекают картины (и почему это на стенах непременно должны висеть картины?). И почти всегда – ощущение прихотливости, оставляемое живописным полотном. В данном случае картина такова; однако она с успехом могла быть и совсем иной. Нам так не хватает того щемящего волнения, которое охватывает при встрече с чем-то предугаданным. А потом взгляд скользнет по мебели, по книгам, лежащим тут и там. Задержится на обложке – и что же на ней? „De l'amour“. Полагая, что им надлежит разбираться в любви, маркиза, актриса и светская дама обзаводились источником просвещения, подобно человеку, который вместе с автомобилем покупает и руководство по двигателям внутреннего сгорания.
Книга читается с упоением. Стендаль всегда повествует, даже когда он рассуждает, обосновывает и теоретизирует. На мой взгляд, он – лучший из всех рассказчиков, архирассказчик перед лицом Всевышнего. Однако достоверна ли его теория любви как кристаллизации? Почему никто не посвятил ей серьезного исследования? О ней судачили, но никто не подверг ее тому анализу, какого она заслуживала.
Неужели она того не стоила? В сущности говоря, любовь, согласно этой теории, не что иное, как порождение фантазии. Не в том дело, что в любви свойственно ошибаться, а в том, что по природе своей она сама есть заблуждение. Мы влюбляемся, когда наше воображение наделяет кого-либо не присущими ему достоинствами. Впоследствии дурман рассеивается, а вместе с ним умирает любовь. Это еще определеннее, чем объявить по обыкновению любовь слепой. Для Стендаля она больше чем слепая – придуманная. Она не только не видит реальности – она ее подменяет.
Достаточно приглядеться к этой доктрине сегодня, чтобы уяснить время и место ее создания: это типичное порождение европейского XIX столетия. Она отмечена двумя его характернейшими особенностями – пессимизмом и позитивизмом. Теория „кристаллизации“ идеалистична, поскольку во внешнем объекте, на котором сосредоточены наши помыслы, она видит всего лишь проекцию субъекта. Со времен Ренессанса европеец предрасположен к взгляду на мир как на эманацию духа[9]. До XIX века этот идеализм был преимущественно радостным. Мир, который проецирует субъект, по-своему реален, доподлинен и значителен. Между тем теория „кристаллизации“ пессимистична. Цель ее – доказать, что естественные, по нашему убеждению, душевные порывы не что иное, как особые, из ряда вон выходящие явления. Так, Тэн пытается убедить нас, что нормальное восприятие всего лишь освященное временем коллективное заблуждение. И это типично для теоретической мысли минувшего столетия. Нормальное познается через анормальное, возвышенное – через низменное. Достойна удивления потребность доказать, что Мироздание – абсолютное quid pro quo, самодовлеющая глупость. Моралист пытается убедить вас в том, что альтруизм – это затаенный эгоизм. Дарвин методично опишет ту деятельность по упорядочиванию жизни, которую проводит смерть, и увидит основу жизни в борьбе за существование. Карл Маркс сходным образом представит классовую борьбу как движущую силу истории[10].
Между тем истина настолько далека от этого непреклонного пессимизма, что ей удается подчас укорениться и в нем самом, хотя мрачный мыслитель об этом и не подозревает. Пример тому – теория „кристаллизации“. Из нее в конечном счете следует, что человек любит только то, что достойно его любви. Однако, не найдя ничего подобного в действительности, он прибегает к своей фантазии. Именно выдуманные достоинства и порождают любовь. Куда как просто счесть иллюзорным нечто совершенное. Однако тот, кто так поступает, забывает об одном самоочевидном факте. Если нечто совершенное не существует, откуда мы знаем о его существовании? Если в реальной женщине нет тех качеств, которые способны вызвать у нас пылкую страсть, в каком чудесном ville d'eaux[11] мы видели призрачную женщину, способную покорить нас?
Заключенная в любви доля обмана очевиднейшим образом преувеличивается. Заметив, что подчас качества любимого человека в действительности совсем иные, нам надо спросить себя, не является ли вымышленной сама любовь. Психология любви должна весьма недоверчиво относиться именно к подлинности исследуемого чувства. На мой взгляд, самая сильная сторона трактата Стендаля – это предположение, что есть любовные истории, которые таковыми не являются. Что же еще означает известная классификация родов любви: amour-gout, amow-vanite, amour-passion[12] и т. д. Вполне естественно, что если зарождающееся чувство отнесено к любви по ошибке, то ложным будет все, что с ним связано, и прежде всего объект, который его вызвал.
Истинной, по Стендалю, является только „любовь-страсть“. Думается, что и это понятие слишком широко. „Любовь-страсть“ также поддается дальнейшей дифференциации. Причина ложной любви не только в тщеславии или в gout. Есть и иной источник подлога, более непосредственный и исконный. Любовь – это эмоциональная деятельность, снискавшая наибольшую хвалу. Поэты испокон веков украшали ее и прихорашивали своими косметическими средствами, наделяя при этом странной, беспредметной реальностью, отчего, еще не испытав, мы ее уже знаем, о ней размышляем и готовы ей себя посвятить, как какому-либо виду искусства или ремеслу. Итак, представьте себе мужчину или женщину, для которых любовь in genere[13], в некой абстракции, – идеал их жизненного поведения. Они будут постоянно жить под знаком мнимой влюбленности. Им не нужно ожидать, пока заструится ток любви от определенного объекта; они довольствуются первым попавшимся. При этом любят саму любовь, а тот, кого любят, в сущности, всего лишь предлог. Человек, с которым это происходит, если он не чужд размышлений, наинепременнейше придумает теорию „кристаллизации“.
Стендаль – один из тех, кто любит любить. В своей недавней книге „Интимная жизнь Стендаля“ Авель Боннар пишет: „От женщин он требует лишь подтверждения своих иллюзий. Он влюбляется, чтобы не чувствовать одиночества; впрочем, по правде говоря, его любовные отношения на три четверти – плод его собственной фантазии“.
Есть два типа теорий любви. Один из них составляют расхожие представления, общеизвестные истины, не вытекающие из реальности привлекаемого в доказательство материала. Другой включает более глубокие взгляды, основывающиеся на личном опыте. В наших умозаключениях о любви проглядывают контуры любовных отношений каждого из нас.
Случай Стендаля абсолютно ясен. Речь идет о человеке, который не только никогда по-настоящему не любил, но которого также никогда и не любили. Его жизнь была заполнена псевдолюбовью. Между тем псевдолюбовь оставляет в душе только горький осадок подлога, воспоминание о том, как она испарилась. Если вглядеться в стендалевскую теорию и проанализировать ее, то окажется, что все в ней поставлено с ног на голову; кульминационная фаза любви представлена здесь как ее финал. Как объяснить то обстоятельство, что любовь умирает, хотя ее объект остается все тем же? Следовало хотя бы предположить – как это сделал Кант в теории познания, – что не объект наших любовных чувств управляет ими, а, как раз наоборот, наша взбудораженная фантазия созидает объект. Любовь, умирает, если она родилась по недоразумению.
Эмоциональный опыт Шатобриана привел его к прямо противоположным выводам. Вот человек, неспособный на большое чувство, который был наделен даром вызывать истинную любовь. Немало женщин встретил он на своем пути, и все они сразу и навсегда были охвачены любовью. Сразу и навсегда. Шатобриан, пожалуй, был обречен на создание доктрины, согласно которой истинная любовь бессмертна и рождается в мгновение ока.
II
(СРАЗУ И НАВСЕГДА) Сопоставление любовных историй Шатобриана и Стендаля с психологической точки зрения в высшей степени продуктивно и поучительно для тех, кто легковесно рассуждает об образе Дон Жуана. Вот два человека, наделенные огромной творческой силой. Никто не назовет их волокитами – нелепый образ, к которому был сведен тип Дон Жуана в представлениях примитивных и недалеких людей. И тем не менее оба они щедро тратили душевную энергию на то, чтобы кого-то полюбить. Вполне понятно, что им это не удавалось. Видимо, самозабвенное упоение любовью не для возвышенных душ. Тем не менее они упорно к этому стремились и почти всегда проникались убеждением в своей влюбленности. Любовные истории значили для них неизмеримо больше, чем творчество. Любопытно, что только творчески бесплодные люди убеждены, что к науке, искусству или политике следует относиться серьезно, а любовные истории презирать, как нечто низменное и пустое. Мне в данном случае все равно: я ограничиваюсь констатацией того факта, что великие умы человечества были, как правило, людьми не слишком серьезными, если исходить из petite-bourgeoise[14] точки зрения на эту добродетель.
Однако для осмысления донжуанства немаловажны отличия между Стендалем и Шатобрианом. Именно Стендаль окружал женщину неослабным вниманием. Между тем истинный Дон Жуан – полная его противоположность. Дон Жуан не таков; он выше треволнений, погружен в меланхолию и, вероятнее всего, ни одну женщину не удостаивал вниманием.
Самое большое заблуждение, в которое можно впасть, – это искать сходства с Дон Жуаном в мужчинах, которые всю жизнь домогаются женской любви. В лучшем случае так будет определен пошлый и вульгарный тип Дон Жуана, однако куда вероятнее, что эти наблюдения выведут нас на совсем иной человеческий тип. Что если, желая дать определение поэту, мы сосредоточим внимание на плохих поэтах? Коль скоро плохой поэт не поэт, ничего, кроме бесплодных потуг, усердия, бешеной активности и рвения, мы в нем не обнаружим. Плохой поэт компенсирует отсутствие вдохновения привлекающей внимание мишурой – шевелюрой и экстравагантными галстуками. Точно так же Дон Жуан – труженик, который ежедневно подвизается на ниве любви, этот Дон Жуан, как две капли воды „похожий“ на Дон Жуана, в действительности лишь его отрицание и его оболочка.
Дон Жуан не тот, в ком женщины пробуждают страсть, а тот, кто пробуждает страсть в женщинах. Вот она, одна из бесспорных истин о природе человека, над которой следовало бы поразмыслить писателям, обратившимся в последнее время к столь важной теме донжуанства. Не секрет, что некоторых мужчин женщины одаривают особо благосклонным и неослабевающим вниманием. Вот где богатая пища для размышлений. Чем объясняется столь удивительный дар? Какая тайна жизни кроется за этой притягательностью? С другой стороны, наивно, да и непродуктивно критиковать тот или иной неясный образ Дон Жуана, плод чьей-то досужей фантазии. У проповедников есть одна давняя слабость – придумывать глупого манихейца, дабы без труда опровергать манихейство как таковое.
Стендаль сорок лет посвятил разрушению бастионов женского пола. Он выпестовал целую стратегическую программу с первопричинами и отдаленными следствиями. Отступая, он снова шел вперед, упорствовал и отчаивался, упрямо преследуя цель. А результат равен нулю. Стендаль не снискал любви ни одной женщины. И это не должно особенно удивлять. Такова участь большинства мужчин. Хотя часто, скрадывая горечь неудач, сплошь и рядом за большую любовь склонны принимать весьма пресную женскую преданность и покорность, результат многих и многих усилий. Схожее происходит и в области эстетических впечатлений. Мало кто из живших на свете людей знает подлинную радость от встречи с искусством. И потому готовы видеть ее в той дрожи, которая охватывает нас во время вальса, или интересе к интриге, возбуждаемом чтивом.
Любовные истории Стендаля были псевдолюбовью подобного рода. Авель Боннар в своей книге „Интимная жизнь Стендаля“ на этом особенно не настаивает, что побудило меня написать эти строки. Подобные уточнения немаловажны, поскольку они объясняют коренной просчет стендалевской теории любви. В основу этой теории был положен ложный опыт.
Стендаль полагает – в соответствии со своим опытом, – что любовь „создается“ и умирает. И то и другое свойственно псевдолюбви.
Для Шатобриана же, наоборот, любовь – это некая „данность“. Ему не приходится прилагать усилий. Стоит женщине познакомиться с ним, как она сразу оказывается во власти некой таинственной электризующей силы. Она отдается безоговорочно и всецело. Почему? Вот загадка, которую должны были бы разгадать исследователи донжуанства. Шатобриан некрасив. Невысокий и сутулый. Вечно раздраженный, мнительный и замкнутый. Его привязанность к любящей его женщине длилась восемь дней. Между тем женщина, испытавшая страсть в двадцать лет, до восьмидесяти хранила любовь к „гению“, хотя ей не суждено было больше его видеть. Тому есть немало доказательств.
Один из многих примеров: маркиза де Кюстин[15], „самые роскошные волосы“ Франции. Она принадлежала к одной из знатнейших семей и отличалась редкой красотой. Во время революции ей, почти ребенку, грозит гильотина. Ее спасает любовь, вспыхнувшая в неком сапожнике, члене Трибунала. Она эмигрирует в Англию. Время возвращения на родину совпадает с публикацией „Аталы“ Шатобриана[16]. Она знакомится с автором, и тотчас ее охватывает безумная любовь. Следуя прихоти Шатобриана, известного своими причудами, она должна была купить замок Фервак, старую родовую усадьбу, в которой Генрих IV провел одну ночь. Маркиза, кое-как поправив свои дела, расстроенные за годы эмиграции, собирает необходимую сумму и покупает замок. Однако Шатобриан не торопится ее навещать. В конце концов он проводит там несколько дней – часы, исполненные блаженства для этой охваченной страстью женщины. Шатобриан читает двустишие, нацарапанное Генрихом IV на камине охотничьим ножом:
„La dame de Fervaques merite de vives attaques"[17].
Счастливые часы проходят быстро и невозвратно. Шатобриан уезжает, чтобы больше, в сущности, и не возвращаться: его влекут новые острова любви. Проходят месяцы, годы. Маркиза де Кюстин близка к семидесяти. Она показывает замок некому посетителю. Оказавшись в комнате с огромным камином, тот спрашивает: "Так вот оно, то место, где Шатобриан был у ваших ног?“ Она же, вспыхнув, изумившись и даже как будто оскорбившись, в ответ: "Да что вы, сударь, что вы, нет: я – у ног Шатобриана!“
Эта разновидность любви, при которой человек раз и навсегда растворяется в другом человеке, Стендалю была неизвестна. Поэтому он был убежден, что любовь всегда со временем убывает, хотя в действительности все обстоит как раз наоборот. Истинная любовь, рожденная в сокровенных глубинах человека, по-видимому, не может умереть. Она навсегда остается в чувствительной душе. Обстоятельства – к примеру, разлука – могут лишить ее питательной среды; и тогда эта любовь будет чахнуть и превратится в трепещущую ниточку, в едва ощутимо бьющийся в подсознании ключ сердечной привязанности. И все же она не умрет. Ее эмоциональный состав не изменится. Благодаря этой неизменной основе человек, который любил, будет и впредь чувствовать себя связанным нерасторжимыми узами с возлюбленной. Судьба может развести его с любимой, изменив его положение в физическом или социальном пространстве. Что с того – любовь остается в нем. Таков высший, наивернейший признак подлинной любви: как бы находиться рядом с любимым, быть в общении более тесном, близости более сокровенной, чем пространственные. Это значит пребывать в истинно жизненном контакте.
Есть и более точное слово, хотя и несколько специальное, научное: быть онтологически вместе с любимым, верным его изменчивой судьбе. Женщина, любящая преступника, где бы она ни находилась, душою будет с ним в тюрьме.
III
(ЛЮБОВЬ К СОВЕРШЕНСТВУ) Широко известна метафора, которая позволила Стендалю определить свою теорию любви словом «кристаллизация». Если в соляные копи Зальцбурга бросить веточку и вытащить ее на следующий день, то она оказывается преображенной. Скромная частица растительного мира покрывается ослепительными кристаллами, вязь которых придает ей дивную красоту. Согласно Стендалю, в душе, наделенной даром любви, происходят сходные процессы. Реальный облик женщины, запав в душу мужчины, мало-помалу преображается вязью наслаиваемых фантазий, которые наделяют бесцветный образ всей полнотой совершенства.
Эта известная теория всегда казалась мне в высшей степени ложной. Пожалуй, единственно продуктивным в ней является вывод (пусть даже скорее угадываемый, чем сформулированный), что любовь в известном смысле – это стремление к совершенству. Исходя из этого, Стендаль вынужден допустить, что совершенства – плод нашего воображения. Однако специально он на этом не останавливается, поскольку для него это – самоочевидная вещь, занимающая в его теории весьма скромное место; он ни в коей мере не ощущает, что речь идет о самой значительной, самой глубокой, самой загадочной особенности любви. Теорию «кристаллизации» волнуют главным образом причины разочарований в любви, утраты иллюзий; то есть почему охладевают, а не почему влюбляются.
Стендаль, как настоящий француз, становится поверхностным, как только переходит к общим рассуждениям. Он проходит мимо грандиозного, первостепенной важности явления, скользнув по нему взглядом и не удивившись. Между тем способность удивляться тому, что принято считать очевидным и естественным, дана именно философу. Вспомним, как Платон идет напрямик, без колебаний затрагивая болезнетворный нерв любви. «Любовь – это вечная страсть порождать себя в красоте»[18]. «Какая наивность!» – скажут дамы, доктора любовных наук, за коктейлем в отеле «Ритц», в любом уголке мира. Дамы не подозревают, какую радость они доставили философу, с улыбкой про себя отметившему, что его слова вызвали снисхождение в прелестных женских глазках. Им и невдомек, что, когда философ говорит им о любви, он не только не флиртует с ними, но абсолютно к ним безразличен. Как заметил Фихте, философствовать – это не что иное, как не жить, точно так же как жить – это не что иное, как не философствовать. Сколь сладостен дар выключаться из жизни, исчезать в некое скрытое от глаз измерение! И чем лучше философ владеет этим даром, тем скорее женщина сочтет его наивным. В теории любви ее, равно как и Стендаля, интересуют психологические тонкости и анекдоты, которые, конечно же, заслуживают внимания, лишь бы при этом не выпадали из поля зрения коренные проблемы сердечных чувств, и среди них наиважнейшая – та, которую Платон сформулировал двадцать пять веков тому назад.
Отклоняясь от темы, коснемся вкратце этого кардинального вопроса.
В платоновском словаре под красотой подразумевается то, что мы привыкли называть «совершенством». С известной осторожностью, при этом неукоснительно оставаясь в кругу рассуждений Платона, можно сказать, что суть его концепции сводится к следующему: любовь непременно включает в себя стремление любящего соединиться с другим человеком, которого он считает наделенным каким-то совершенством. Другими словами, это – влечение нашей души к чему-то в известном смысле замечательному, превосходному, высшему. Сердечные чувства – а точнее, любовная страсть – порождаются не нами, а вызвавшим наше восхищение объектом. При этом то обстоятельство, что он может быть. совершенным как от природы, так и лишь в нашем представлении, не имеет никакого значения. Пусть читатель представит себе состояние влюбленности, при которой объект любви лишен для любящего малейшего оттенка совершенства, и он увидит, что это невозможно. Итак, влюбиться – значит почувствовать себя очарованным чем-то (ниже мы проиллюстрируем, что это означает); в то же время нечто может очаровать, если оно является или кажется совершенным. Я не утверждаю, что любимый должен казаться во всех отношениях совершенным, – ошибка Стендаля именно в этом. Достаточно, чтобы он был совершенным в каком-либо смысле, поскольку совершенство в человеческих представлениях – это не абсолютно идеальное, а то, что отличается особенно высокими достоинствами, что превосходит окружающее.
Но это лишь одна сторона вопроса. Вторая заключается в том, что мы начинаем стремиться к близости с человеком, наделенным этими высокими достоинствами. Что понимать под словом «близость»? По искреннему признанию самых истовых влюбленных, они не испытывали – во всяком случае, как нечто поглощающее все их помыслы – потребности в физической близости. Это очень деликатная тема, требующая полной определенности. Речь не о том, что любящий не жаждет также и интимной близости с возлюбленной. Однако раз он ее «также» жаждет, было бы неверным сказать, что только этого он и жаждет.
Пора отметить еще одно немаловажное обстоятельство. Никем отчетливо не осознавалось – пожалуй, лишь за исключением Шелера – различие между «любовной страстью» и «любовным инстинктом», отчего под первой, как правило, подразумевается второе. Бесспорно, в человеке почти всегда инстинкты переплетены с внеинстинктивными проявлениями душевного и даже духовного свойства. С инстинктом в чистом виде мы встречаемся в редчайших случаях. Распространенное представление о «плотской любви», на мой взгляд, не вполне обоснованно. Испытывать исключительно физическое влечение трудно, и не часто это встречается. Как правило, чувственности сопутствуют и сочетаются с ней проявления эмоционального подъема, восхищение телесной красотой, симпатия и т. д. Тем не менее случаев абсолютно чувственного, инстинктивного влечения более чем достаточно, чтобы отличать его от «любовной страсти». Отличие оказывается особенно явственным в двух крайних ситуациях: когда плотское влечение подавляется доводами морали или обстоятельствами или когда, наоборот, преизбыток его вырождается в сладострастие. Ясно, что в обоих случаях, в отличие от любви, крайняя похоть – точнее, даже бескрайняя похоть – существует независимо от объекта. Влечение томит до появления человека или ситуации, способных его удовлетворить. В результате ему безразлично, кто именно послужит удовлетворению. Инстинкт не знает предпочтений, когда он не более чем инстинкт. Поэтому-то он и не является порывом к совершенству.
Если любовный инстинкт и гарантирует сохранение рода, то он не обеспечивает его совершенствование. И наоборот, истинная любовная страсть, восхищение другим человеком, его душой и телом, в нерасторжимом единстве, испокон веков не могла не быть великой силой, способствующей совершенствованию рода человеческого. Вместо того чтобы существовать независимо от объекта, она неизменно получает жизненный импульс от возникающего на нашем пути человека, отличающегося некими выдающимися достоинствами, способными вызвать сердечный порыв.
Стоит только его ощутить, как любящий испытывает необъяснимую потребность растворить свою личность в личности другого человека и, наоборот, вобрать в свою личность личность любимого. Загадочное стремление! В то время как в остальных жизненных проявлениях для нас нет ничего более неприемлемого, чем вторжение другого в наше индивидуальное бытие, отрада любви состоит в том, чтобы почувствовать себя в метафизическом смысле способным впитать как губка чужую личность в такой степени, чтобы лишь в единстве, являя «личность в двух лицах», находить удовлетворение. Это напоминает доктрину сенсимонистов, согласно которой реальная человеческая особь представляет собой мужчину и женщину одновременно. Впрочем, в этой доктрине никак не отражена неодолимая потребность в слиянии. Когда любовь неподдельна, она претворяется в более или менее осознанное желание видеть в ребенке некий символ и вместе с тем реальное воплощение достоинств любимого. Это третье звено, берущее начало в любви, по-видимому, отражает во всей изначальной чистоте ее суть. Ребенок – это и не отец и не мать, а их персонифицированное единство и безграничное стремление к совершенству, ставшее физической и духовной реальностью. Наивный Платон был прав: любовь – это вечная страсть порождать себя в прекрасном, или, как выразил это один из неоплатоников, Лоренцо де Медичи, appetito di bellezza.
Теоретическая мысль нового времени охладела к космологии и прониклась почти исключительно психологическими интересами. Тонкости психологии любви, нагромоздившей казуистические арабески, отвлекли наше внимание от этого коренного и одновременно вселенского аспекта любви. Итак, мы вступаем в область психологии, хотя и вразрез с ее принципами, памятуя, что пестрая история наших любовных переживаний, со всеми их виражами и казусами, представляет собой не более как результат действия этой коренной и вселенской силы, которую наш душевный мир – примитивный или утонченный, бесхитростный или изощренный, той или иной эпохи – способен был лишь осваивать и воплощать в различные формы. Погружая турбины и иные, маленькие или большие, механизмы в поток, не стоит забывать о его первозданной движущей силе.
IV
(РАЗНООБРАЗИЕ ЛЮБВИ) Нельзя отрицать, что теория «кристаллизации» на первый взгляд содержит в себе одну бесспорную истину. Действительно, в сфере любовных дел у нас сплошь и рядом открываются глаза на собственные ошибки. Мы наделили любимого человека отсутствующими у него достоинствами и совершенствами. Не признать ли в таком случае правоту Стендаля? Пожалуй, не стоит. Случается, что один только преизбыток правоты не позволяет быть правым. Было бы более чем странно, если, ошибаясь на каждом шагу во взаимоотношениях с реальностью, в любви мы оказались бы абсолютно прозорливыми. Мы то и дело усматриваем иллюзорные свойства у вещей вполне реальных. Для человека видеть что бы то ни было, а особенно оценивать – значит непременно дополнять его. Еще Декарт отметил, что, выглядывая в окно и думая, что видит людей, он заблуждался. Что же он видел на самом деле? Chapeaux et manteaux: rien de plus[19]. (Не правда ли, это наблюдение вполне могло принадлежать художнику-импрессионисту: на ум невольно приходит картина Веласкеса «Les petits chevaliers»[20], хранящаяся в Лувре, с которой Мане сделал копию). Строго говоря, никто не видит реальность такой, какая она есть. Если бы это произошло, то день великого прозрения был бы последним днем жизни на Земле. Тем не менее мы полагаем, что наше восприятие адекватно отражает реальность и позволяет сквозь призрачный туман вскрыть скелет мира, великие тектонические складки. Многим, пожалуй даже большинству, недоступно и это: они довольствуются словами и намеками, как сомнамбулы, бредут по жизни, ограничив себя набором условностей. То, что мы называем гениальностью, на самом деле всего лишь редко встречающаяся чудесная способность расширять просвет в этом тумане фантазий и воочию видеть новый, дрожащий от пронзительной наготы сколок доподлинной реальности.
Итак, то, что кажется верным в теории «кристаллизации», является лишь частным проявлением общей закономерности. В известном смысле вся наша духовная жизнь – это кристаллизация. А значит, данная особенность любви – явление общего порядка. В конце концов, можно было бы допустить, что во время влюбленности процесс кристаллизации значительно усиливается. Но подобное предположение в корне ошибочно, и уж во всяком случае, ложно стендалевское понимание. Представления влюбленного не более иллюзорны, чем наше мнение о политике, артисте, бизнесмене и т. д. Судя по всему, люди в вопросах любви столь же недалеки или прозорливы, как и вообще в своих суждениях о ближнем. Почти все мы близоруки в своей оценке людей – самого сложного и тонкого явления в мире.
Чтобы покончить с теорией кристаллизации, достаточно вспомнить те случаи, в которых она очевиднейшим образом отсутствует: это наиболее распространенные случаи любви, когда оба любящих не теряют рассудка и, насколько это возможно, не впадают в ошибку. Теории любовных влечений следовало бы начать с прояснения наиболее типичных форм, вместо того чтобы с самого начала сосредоточиваться на исключительном в исследуемом явлении. Дело в том, что подчас, вместо того чтобы искать женщину, наделенную некими дорогими его сердцу достоинствами, мужчина вдруг обнаруживает в какой-нибудь женщине свойства, о которых он до сих пор и не подозревал. Заметьте, что речь идет исключительно о женских свойствах. Как могут они, столь непредсказуемые, быть плодом воображения мужчины? И наоборот, как могут быть мужские достоинства плодом воображения женщины? Доля истины, заключающаяся в самом факте предчувствий и как бы выдумывании достоинств, еще не обнаруженных в реальности, не имеет ничего общего с идеей Стендаля. Мы еще остановимся на этом скрытом от глаз аспекте.
Прежде всего, в наблюдении, лежащем в основе этой теории, допущена грубейшая ошибка. Предполагается, судя по всему, что состояние влюбленности сопряжено со сверхактивностью сознания. Стендалевская кристаллизация сопровождается всплеском душевной энергии, обогащением внутреннего мира. Между тем следует признать, что влюбленность – это состояние душевного убожества, при котором наша внутренняя жизнь скудеет, нищает и парализуется.
Я сказал «влюбленность». Во избежание трюизмов, изобилующих в рассуждениях о любви, необходимо внести известную ясность в употребление терминов. Словом «любовь», столь простым и коротким, покрывается масса значений, настолько различных, что впору отказаться видеть в них что-либо общее. Мы говорим о «любви к женщине»; но также и о «любви к Богу», «любви к родине», «любви к искусству», «сыновней любви» и т. д. Одно и то же слово опекает и окликает столь многоликий и беспокойный мир.
Можно оспаривать употребление слова, если за ним стоят понятия, не связанные между собой, коренным образом лишенные общей для них основы. Так, слово «лев», употребляемое для обозначения царя зверей, является одновременно именем римских пап и названием испанского города. По воле случая одна фонема обременена различными значениями, которые отсылают нас к различным характеризуемым ими объектам. Лингвисты и логики говорят в подобных случаях о «полисемии», поскольку слово имеет множество значений.
Имеем ли мы дело с одним и тем же явлением, когда слово «любовь» встречается нам в приведенных выше выражениях? Есть ли какая-то органичная связь между «любовью к науке» и «любовью к женщине»? Сопоставив оба душевных состояния, мы обнаруживаем, что почти во всем они отличаются. Однако же есть одна общая для них особенность, которую позволяет выявить детальный анализ. Сосредоточив внимание только на ней, абстрагировавшись от остальных свойств, присутствующих в обоих душевных состояниях, можно было бы определить, что же, собственно говоря, надо понимать под «любовью». В свойственной нам ложной манере раздвигать границы частного явления мы определяем этим словом соответствующее состояние души как таковое, в то время как оно является следствием целого ряда факторов, а не только «любви» и даже не только переживаний.
К сожалению, последние сто лет психология не воспринималась как часть культуры, а усилия психологов сводились, как правило, к разглядыванию в увеличительное стекло, используемое и поныне для изучения человеческой психики.
Любовь, если быть предельно точными[21], – это самодостаточная эмоциональная деятельность, направленная на любой объект, одушевленный или неодушевленный. Будучи «эмоциональной» деятельностью, она, с одной стороны, отличается от функций интеллекта – осознавать, внимать, размышлять, вспоминать, воображать, а с другой – от желания, с которым ее сплошь и рядом путают. Испытывая жажду, хотят выпить воды, однако ее при этом не любят. Любовь, бесспорно, порождает желания, однако сама по себе любовь и желание не одно и то же. Мы хотим жить на родине и желаем ей процветания, «потому что» ее любим. Наша любовь предшествует этим желаниям, прорастающим из нее, как ростки из семени.
Будучи эмоциональной «деятельностью», любовь отличается от пассивных чувств, таких, как радость или грусть. Последние напоминают краски, которыми расцвечивается наша душа. Грусть и радость – «состояния», и пребывают в них в полной прострации. Радость сама по себе бездеятельна, однако она может служить причиной действий. Между тем любовь не просто «состояние», но деятельность в направлении любимого. Я имею в виду не порывы тела и духа, вызываемые любовью, а то, что в самой природе любви заложена потребность человека преодолевать границы своего "я" в стремлении к тому, что он любит. И за тридевять земель от объекта, не помышляя о нем и о встрече с ним, если только мы любим, мы будем обволакивать его на расстоянии теплым, жизнетворящим потоком. Со всей определенностью это докажет сравнение любви с ненавистью. Ненависть к кому-либо или чему-либо не пассивное «состояние», как состояние грусти, а некое действие, жуткое отрицающее действие, разрушающее в воображении объект ненависти. Признание факта существования специфической эмоциональной деятельности, отличной от любой иной деятельности нашего тела или нашей души, будь то интеллектуальная, чувственная или же волевая, представляется мне чрезвычайно важным для подлинной психологии любви. Касаясь этого вопроса, как правило, ограничиваются описанием результатов. Крайне редко в ходе анализа цепко ухватывается сама любовь в ее своеобразии и отличиях от других психологических явлений.
Теперь не кажется уже столь неприемлемым предположение, что между «любовью к науке» и «любовью к женщине» есть нечто общее. Эта эмоциональная деятельность, этот наш теплый, жизнетворящий интерес к некому явлению может с равным успехом быть обращен к женщине, участку земли (родине) или роду человеческой деятельности – спорту, науке и т. д. Стоит также добавить, что, вне всякого сомнения, в «любви к науке» или в «любви к женщине» все, что не относится к собственно эмоциональной деятельности, непосредственно с любовью не связано.
В очень многих «любовных историях» истинная любовь почти отсутствует. Есть желание, любопытство, настойчивость, одержимость, непритворный обман чувств, но не этот жар утверждения существования другого, каким бы ни было его отношение к нам. Что же касается «любовных историй», то не стоит забывать, что они включают в себя кроме любви sensu stricto немало иных элементов.
В широком смысле слова мы привыкли называть любовью «влюбленность» – чрезвычайно сложное душевное состояние, в котором собственно говоря любовь играет второстепенную роль. Именно ее имеет в виду Стендаль, расширительно назвавший свою книгу – «О любви», продемонстрировав тем самым ограниченность своего философского кругозора.
Итак, эта «влюбленность», которую теория кристаллизации представляет как душевную сверхактивность, на мой взгляд, является скорее оскудением и частичным параличом жизни нашего сознания. Подчиняясь ей, мы кое-что утрачиваем по сравнению с обычным состоянием, а не приобретаем. Это вынуждает нас обрисовать в самых общих чертах психологию сердечного порыва.
V
(ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И ОДЕРЖИМОСТЬ) Прежде всего отметим, что «влюбленность» непосредственно связана с заинтересованностью.
Стоит обратиться к жизни нашего сознания, как мы обнаруживаем там множество явлений мира внешнего и внутреннего. Эти явления, которые, одно за другим, удерживаются в памяти, не свалены там беспорядочной грудой. Они расположены в известном порядке, некой иерархии. В самом деле, что-либо одно неизменно выделено, предпочтено другому, особым образом высвечено, как если бы наш внутренний свет, озаряя его, придавал ему особый смысл. Наш интерес всегда избирателен: уделив чему-то внимание, мы неизбежно обделяем вниманием многое другое, отходящее тем самым на второй план, подобно хору или фону.
Поскольку явлений, составляющих внутренний мир каждого из нас, бесконечно много, а сознание отнюдь не безгранично, между ними происходит нечто вроде борьбы за наше внимание. По сути дела, вся наша душевная и духовная жизнь проходит в этой зоне особой освещенности. Остальное – зона осознанного невнимания, не говоря уже о подсознании и т. д., – всего лишь заявка на жизнь, ее подготовка, склад, резерв. Можно представить себе чуткое сознание в качестве жизненного пространства нашей личности.
Как правило, любая вещь, заинтересовав нас ненадолго, уступает вскоре место другой. Итак, заинтересованность переходит от одного объекта к другому, на некоторое время задерживаясь на каждом из них в зависимости от их жизненной ценности. Представим себе, что в один прекрасный день наше внимание парализуется и замрет на одном из объектов. Все остальное в мире окажется изгнанным, отторгнутым, как бы не существующим, и за отсутствием какого бы то ни было сравнения объект, в полном смысле приковавший к себе наше внимание, приобретет немыслимые масштабы. Тогда он действительно распространится по всей сфере нашего рассудка и один будет заменять для нас весь мир, отвергнутый из-за нашего упорного невнимания. По существу, нечто подобное происходит, когда мы подносим руку к глазам: сколь она ни мала, ее тем не менее хватает, чтобы скрыть весь кругозор и заполнить собой все поле зрения. То, что привлекло наше внимание, наделено для нас ipso facto[22] большей реальностью, бытием более полноценным, чем то, что не привлекло, – нечто почти иллюзорное и безжизненное, дремлющее на подступах к нашему сознанию. Вполне понятно, что, обладая большей реальностью, оно оказывается более весомым, более ценным, более значительным и заменяет собой затененную часть мира.
В том случае, если один объект привлекает наше внимание чаще и дольше обычного, мы имеем дело с «одержимостью». Одержимый – это человек с ненормальными проявлениями заинтересованности. Почти все великие люди были одержимыми, только последствия их одержимости, их «навязчивой идеи» представляются нам полезными и достойными уважения. Когда Ньютона спросили, как ему удалось открыть законы всемирной механики, он ответил: «Nocte dieque incubando» («Думая об этом денно и нощно»). Это – признание в одержимости. По сути дела, ничто нас так не отличает друг от друга, как проявления заинтересованности. В каждом человеке она выражается по-разному. Так, человека, привыкшего размышлять, упорно пытающегося дойти до потаенной сущности каждой проблемы, раздражает та легкость, с которой внимание человека толпы перескакивает с объекта на объект. И наоборот, человека толпы утомляет и удручает медлительность мыслителя, внимание которого подобно неводу, цепляющемуся за бугристое морское дно. Наконец, каждого из нас достаточно полно характеризуют его пристрастия и влечения. У одного, стоит ему только услышать экономические выкладки, начинается головокружение, как будто он падает в люк. Заинтересованность другого движется стихийно, как с откоса, в направлении искусства или амурных дел. Стоило бы принять следующую формулу: скажи мне, чему ты оказываешь внимание, и я скажу тебе, кто ты.
Итак, я убежден, что «влюбленность» – это проявление заинтересованности, ненормальное ее состояние, возникающее у нормального человека.
Подтверждением тому является уже первая стадия «влюбленности». Общество состоит из множества женщин и множества мужчин, живущих в тесном общении. В индифферентном состоянии внимание каждого мужчины – равно как и каждой женщины – переходит от одного представителя противоположного пола к другому. Из-за давней симпатии, особой близости и т. д. женщина уделит этому мужчине чуть больше внимания, чем другому; однако несоразмерность между вниманием к одному и невниманием ко всем остальным не столь уж велика. В сущности говоря – если оставить в стороне весьма незначительные отличия – все мужчины, которых женщина знает, находятся от нее на равном по отношению к ее интересу расстоянии, в одном ряду. Однако в один прекрасный момент принцип одинаковости в распределении внимания нарушается. Внимание женщины непроизвольно начинает приостанавливаться на одном из этих мужчин, и вскоре она уже не без труда отрывается от него в своих помыслах, чтобы проявить интерес к кому-либо и чему-либо иному. Однообразный ряд прерван: один из мужчин перемещен вниманием женщины на минимальное расстояние.
«Влюбленность» при своем зарождении – это всего лишь чрезмерная заинтересованность другим человеком. Если мужчине удастся воспользоваться своим привилегированным положением и умело поддерживать этот интерес, все остальное произойдет с удручающим автоматизмом. С каждым днем он будет все больше отрываться от общего, безликого ряда; с каждым днем все с большим размахом обосновываться во влекущейся к нему душе. Женщине будет все труднее обходить вниманием своего избранника. Постепенно все другие люди и вещи окажутся вытесненными из ее сознания. Где бы ни находилась «влюбленная», чем бы ни была она занята, точкой притяжения ее внимания будет этот мужчина. Ей будет непросто переключить внимание на житейскую суету. Августин Блаженный тонко подметил предрасположенность любви к преувеличениям: «Amor meus, pondus meum; illo feror, quocumque feror» («Любовь моя – бремя мое; влекомый им, я иду повсюду, где я иду»).
Причем речь идет не о том, что наша душевная жизнь становится богаче. Как раз наоборот. Налицо резкое сужение крута вещей, которые ранее нас волновали. Сознание сворачивается и вмещает ныне только один объект. Внимание парализуется: оно не переходит от одной вещи к другой. Оно сковано, заторможено, присвоено одним-единственным человеком. Theia mania («божественная одержимость»), согласно Платону[23]. (Нам еще предстоит выяснить, чем обусловлена эта «Божественность», столь поразительная и непомерная).
Однако влюбленному кажется, что жизнь его сознания становится богаче. Стягиваясь, его мир теряет многомерность. Все душевные силы влекутся к одной точке, создавая ложное впечатление напряженной духовной жизни.
В то же время подобная однобокость придает особо выделенному объекту чудные свойства. Дело не в том, что ему приписываются несуществующие достоинства (я уже останавливался на такой возможности; однако это не самое важное и неизбежное, как ошибочно полагал Стендаль). Буквально осаждая объект вниманием, сосредоточившись на нем, мы позволяем ему занять в нашем сознании исключительное место. Он существует для нас ежесекундно; он постоянно рядом, в непосредственной близости от нас, реальнее всего иного. За всем остальным нужно отправляться в поиск, с трудом высвобождая для этого наше внимание, само себя приковавшее к предмету любви.
Тут мы обнаруживаем немалое сходство между влюбленностью и мистическим порывом, в описаниях которого обычны ссылки на «присутствие Бога». И это не пустая фраза. Она отражает истинное положение вещей. Благодаря молитвам и медитациям мистика Бог, преисполнившись доподлинным бытием, становится неотделимой частью его внутреннего мира. Отныне и до тех пор, пока внимание не ослабеет, мистик нерушимо связан с Богом. Любое сильное внутреннее побуждение приводит его к Всевышнему, то есть вновь возвращает к представлению о Нем. Впрочем, в этом нет ничего исключительно религиозного. Любая вещь может так же всецело подчинить себе человека, как идея Бога подчиняет себе мистика. Это состояние знакомо ученому, годами размышляющему над некой проблемой, романисту, мысли которого неотвязно заняты создаваемым персонажем. Вспомним Бальзака, прервавшего деловой разговор словами: «Давайте вернемся к реальности! Поговорим о Цезаре Биротто»[24]. Так же и для влюбленного присутствие его возлюбленной извечно и вездесуще. Она как бы вобрала в себя весь внешний мир. В сущности говоря, для влюбленного мир не существует. Возлюбленная вытеснила его и заменила собой. Потому влюбленный в одной ирландской песне поет: «Любимая, ты моя часть света».
VI
ДОБРОВОЛЬНО И НЕМИНУЕМО Воздержимся от романтических жестов и согласимся, что «влюбленность» – повторяю, речь идет не о любви sensu stricto[25] – это состояние душевной деградации, некое временное отупение. Не будь этого закоснения ума, сужения нашего привычного мира, мы не могли бы влюбляться.
Подобное описание «любви» очевиднейшим образом противоположно тому, которым пользуется Стендаль. Вместо того чтобы копить в объекте множество всяких качеств, как следует из теории кристаллизации, на самом деле мы неестественным образом изолируем объект, оставаясь наедине с ним, недвижимые и парализованные, словно петух перед белой полосой, действующей на него гипнотически.
При этом я вовсе не пытаюсь оспаривать великие завоевания сердечных чувств, столькими зарницами осветивших историю общества и отдельных людей. Любовь – это великое произведение искусства, таинство сопряжения душ и тел. Тем не менее очевидно, что ее возникновение связано с массой обстоятельств машинального, шаблонного и, по существу, бездуховного свойства. Каждый из отмеченных любовью, прекрасной самой по себе, весьма ограничен и, как я уже говорил, действует по шаблону.
Не существует любви без полового влечения. Любовь использует его как грубую силу, как бриг использует ветер. Второй из этих подвластных и послушных любви природных сил является «влюбленность», которой она управляет как искусный наездник. Не стоит забывать, что любая высшая духовная деятельность, столь чтимая в нашей культуре, немыслима без множества элементарных машинальных действий.
Стоит нам впасть в это состояние умственной ограниченности, душевной ангины, то есть влюбленности, как мы пропали. В первые дни мы еще способны на какое-то сопротивление; однако когда разумное соотношение между предпочтением, оказываемым одной женщине, и вниманием, оказываемым всем остальным, да и мирозданию в целом, нарушается, процесс становится неуправляемым.
Заинтересованность идеальным образом служит проявлению личности; это механизм, регулирующий нашу внутреннюю жизнь. Парализованная, она сковывает свободу движений. Чтобы спастись, нужно было бы вновь расширить границы нашего сознания, что потребовало бы введения в него новых объектов, лишающих предмет любви его привилегированного положения. Если бы во время припадка влюбленности нам удалось взглянуть на предмет любви в нормальной перспективе, его чудодейственной власти пришел бы конец. Однако для этого нам пришлось бы проявить интерес ко всему окружающему нас миру и тем самым выйти за пределы внутреннего, коль скоро в нем нет места ни для чего, кроме того, что мы возлюбили.
Мы оказываемся в замкнутом пространстве, абсолютно изолированные от внешнего мира. Ничего извне не проникнет и не поможет нам скрыться через какую-нибудь лазейку. Душа влюбленного напоминает комнату больного, в которую не поступает свежий воздух.
Вот почему любая влюбленность невольно тяготеет к исступлению. Отказываясь от самой себя, она будет склоняться к крайностям.
Это прекрасно знают «покорители» и женских и мужских сердец. Стоит только женщине уделить внимание мужчине, как он, не прикладывая почти никаких усилий, займет все ее воображение. Всего можно добиться, говоря то «да», то «нет», проявляя то интерес, то безразличие, то пропадая, то снова появляясь. Подобное пульсирование действует на заинтересованность женщины, как пневматическая машина, и в конце концов превращает для нее весь мир в пустыню. Насколько точно говорят в народе – «вскружить голову». И впрямь: голова поглощена, заворожена предметом любви! Подавляющая часть «любовных историй» сводится к этому элементарному манипулированию заинтересованностью другого.
Влюбленного спасает только сильная встряска извне, какие-либо иные вынужденные отношения. Вполне понятно, что разлука, путешествия служат для влюбленных хорошим лекарством. Удаленность предмета любви ослабляет внимание к нему; она препятствует тому, чтобы интерес питали новые впечатления. Путешествия вынуждают нас буквально начинать новую жизнь, разрешать множество мелких проблем, вырывают нас из оправы обыденности, приводя в соприкосновение с нами многие и многие неизвестные нам объекты, – тем самым удается нарушить патологическую замкнутость и герметичность сознания, в которое наряду со свежим воздухом проникает и нормальная перспектива.
Теперь имеет смысл вернуться к тому возражению, которое должна была вызвать у читателя предыдущая глава. Определяя влюбленность как внимание, прикованное к одному человеку, мы находим в этом живом интересе много общего с тем, которое вызывают у нас чрезвычайные политические или экономические события.
Однако не менее существенно и различие. Во время влюбленности внимание по доброй воле уделяется другому человеку. В сумятице жизни интерес, наоборот, проявляется непроизвольно, вынужденно. Наше внимание поневоле привлечено к тому, что нам досаждает, и это вызывает наибольшую досаду. Вундт был первым. кто – вот уже семьдесят лет тому назад – отметил разницу между пассивным и активным вниманием. Внимание бывает пассивным, когда, к примеру, на улице раздается выстрел – непривычный шум безотчетно вторгается в наше сознание и овладевает вниманием. Любящий же не ощущает никакого принуждения, ибо внимание по доброй воле уделяется предмету любви.
Тонкий психологический анализ этого явления выявил бы противоречивые черты любопытнейшей ситуации, при которой мы уделяем внимание добровольно и в то же время неминуемо.
От проницательного взгляда не ускользнет, что влюбляется тот, кто хочет влюбиться. В этом отличие влюбленности, состояния, в сущности говоря, вполне естественного, от одержимости как патологического состояния. Одержимый своей идеей не волен в ее выборе. Ужас его положения в том и состоит, что овладевшая им идея грубо навязывается его внутреннему миру извне, внедряется в него некой незримой, бесплотной силой.
Только в одном случае наша заинтересованность другим человеком идет изнутри и при этом не является влюбленностью. А именно – в случае ненависти. В сущности, любовь и ненависть – это близнецы-недруги, тождественные и антагонистические. Подобно тому как испытывают влюбленность, испытывают – столь же часто – и «вненавистность».
Выходя из состояния влюбленности, мы испытываем чувство, близкое пробуждению, освобождающему из пропасти, в которой томятся сны. Только теперь мы осознаем, насколько разреженным был воздух в герметичном внутреннем мире нашего увлечения, и понимаем, что жизненное пространство должно продуваться ветрами и быть весьма обширным. Некоторое время мы будем испытывать вялость, слабость и уныние выздоравливающих.
Стоит только влюбленности зародиться – она протекает удручающе однообразно. Я имею в виду, что все, кто влюбляются, влюбляются одинаково – умный и глупый, молодой и старый, буржуа и художник. Это подтверждает ее безотчетный характер.
Единственное, что в ней не вполне безотчетно, – это ее зарождение. Вот почему оно в большей степени, чем любая иная фаза влюбленности, занимает нас как психологов. Что же, собственно, привлекает внимание конкретной женщины в конкретном мужчине и конкретного мужчины в конкретной женщине? Какого рода качества дают преимущество одному из безликой вереницы других людей? Вот что действительно представляет огромный интерес. И вместе с тем заключает в себе не меньшую трудность. Ибо если все, кто влюбляются, влюбляются одинаково, влюбляются они, однако же, не в одно и то же. Нет таких качеств, которые бы неизменно вызывали влюбленность.
Однако прежде чем обратиться к столь щекотливой теме, как вопрос о том, что же вызывает влюбленность и каковы различные типы сердечных пристрастий, стоит отметить неожиданное сходство между влюбленностью как параличом внимания и мистическим состоянием, а также, что еще существеннее, состоянием гипноза.
VII
ВЛЮБЛЕННОСТЬ, ЭКСТАЗ И СОСТОЯНИЕ ГИПНОЗА Заметив, что служанка становится рассеянной, хозяйка понимает, что она влюбилась. Закрепощенное внимание не позволяет бедной женщине с интересом относиться к окружающему ее миру. Она живет в упоении, уйдя в себя, ежесекундно созерцая запечатленный в ее душе образ любимого. Эта сосредоточенность на собственном внутреннем мире делает влюбленного похожим на сомнамбулу, лунатика, «очарованного». И в самом деле, влюбленность – это очарованность. Любовный напиток Тристана издавна с редкой пластичностью раскрывает загадочную природу «любви».
В обиходной речи, оттачивающейся тысячелетиями, бьют чудные родники психологических наблюдений, абсолютно достоверных и до сих пор не учтенных. То, что вызывает влюбленность, – это всегда «чары». И это понятие из области магии, применяемое к предмету любви, показывает нам, что от народного сознания, творящего язык, не ускользнула сверхъестественность и известная предосудительность того состояния, в котором оказывается влюбленный.
Старинный стих – cantus и carmen – служил магической формулой. Проявлением и магическим итогом формулы было incantatio. Отсюда – «чары», а во французском из carmen – charme.
Однако, каковы бы ни были отношения влюбленности с магией, на мой взгляд, существует более глубокая, чем это признавалось до сих пор, связь между нею и мистическим состоянием. На мысль об этом коренном родстве должно было навести то обстоятельство, что неизменно, с поразительной последовательностью мистик для выражения своих чувств прибегает к любовной лексике и образности. Обращаясь к мистическим учениям, трудно было этого не заметить, однако все ограничивались утверждением, что речь идет всего лишь о метафорах.
К метафоре относятся так же, как и к моде. Есть категория людей, которые, признав что-либо метафорой или модой, тем самым как бы зачеркивают его и лишают исследовательского интереса. Как будто метафора и мода не такая же реальность, как и все остальное, и они не подчиняются столь же непреложным законам, как те, что ведают движением планет.
Однако, если всеми изучавшими мистицизм признавалось широкое использование в нем любовной лексики, незамеченным осталось одно частное, но многозначительное обстоятельство. А именно тот факт, что и влюбленный питает пристрастие к религиозным оборотам. Согласно Платону, любовь – это «божественная» одержимость, а каждый влюбленный обожествляет свою возлюбленную, чувствует себя рядом с ней «как на небе» и т. д. Этот любопытный лексический взаимообмен между любовью и мистицизмом наводит на мысль об общих корнях.
Мистическое состояние и впрямь напоминает влюбленность. Они совпадают даже в своем докучливом однообразии. Подобно тому как, влюбляясь, влюбляются одинаково, мистики всех времен и народов прошли один и тот же путь и сказали, в сущности, одно и то же.
Возьмем любую мистическую книгу – индийскую или китайскую, александрийскую или арабскую, немецкую или испанскую. Всегда речь в них идет о трансцендентном путеводителе, стремлении души к Богу. И этапы пути и те силы, которые оказывают ей поддержку, неизменно одни и те же, не считая отличий внешнего и случайного характера[26].
Я прекрасно понимаю и, если угодно, разделяю ту неприязнь, которую испокон веков Церковь выказывала по отношению к мистикам, как будто опасаясь, что похождения исступленного духа ведут к ниспровержению религии. Исступленный – в известном смысле помешанный. Ему не хватает чувства меры и душевной ясности. Он придает единению с Богом неистовый характер, претящий безмятежной основательности истинного священника. Дело в том, что находящаяся в состоянии экстаза монахиня вызывает у католического теолога такое же презрение, какое китайский мандарин испытывает к мистику-даоисту. Приверженцы тотального хаоса непременно предпочтут анархию и дурман мистиков ясному и упорядоченному складу ума священников, то есть Церкви. Мне трудно с ними в этом согласиться. Для меня неоспоримо, что любая теология ближе подводит нас к пониманию Бога, говорит нам больше о природе божественного, чем все экстазы всех мистиков, вместе взятых. Если вместо того, чтобы изначально скептически относиться к исступленному, – прислушаться к нему и задуматься, что же дают нам его трансцендентные погружения, заслуживает ли его духовный опыт внимания, мы вынуждены будем признать, что услышали от него сущие пустяки. Мне кажется, что европейское сознание вплотную подошло к новому откровению о Боге, новым подтверждениям его существования, самым существенным. Но я сильно сомневаюсь, что обогащение наших представлений о божественной сути идет к нам по подземным извивам мистики, а не по залитым светом дорогам анализирующей мысли. Теология, а не экстаз.
Однако вернемся к нашей теме.
Мистицизм также является проявлением заинтересованности. Первое, что нам рекомендует мистическая методика, – это обратить на что-то свое внимание. На что? Самая скрупулезная, толковая и известная методика, а именно йога, простодушно раскрывает безотчетность зарождающегося состояния, ибо на интересующий нас вопрос отвечает: на что угодно. Таким образом, вовсе не объект определяет или же вызывает явление: напротив, он служит всего лишь предлогом к тому, чтобы душа пришла в неестественное состояние. Действительно, особое внимание обращают на что-либо только для того, чтобы перестать обращать внимание на все остальное. Ступая на мистический путь, мы изгоняем из нашего внутреннего мира множество объектов, позволявших вниманию свободно перемещаться с одного из них на другой. Так, согласно Сан Хуану де ла Крус, предпосылкой для любого странствия в запредельное служит «покойная обитель». Обуздание влечений и любопытства; «великое отречение от всего», – по словам Святой Тересы, «высвобождение души»; другими словами, полный отрыв от корней и сцеплений наших многочисленных жизненных интересов, дабы «предуготовиться к слиянию» (Святая Тереса), – все это служит одной цели. Сходным образом индус формулирует условие овладения таинствами мистицизма: nanatvam na pasyati – не замечать толпы и многообразия.
Изгнание вещей, по которым обычно скользит наше внимание, достигается безусловным закрепощением души. В Индии любая вещь может служить этой цели, сама же наука называется kasina. Можно, к примеру, раскатать глиняную лепешку, положить ее рядом с собой и сосредоточить на ней свое внимание. Или созерцать с высоты бегущий ручеек, или же смотреть на лужу, в которой отражается свет. Или зажечь огонь, поставить перед ним щит с проделанным в нем отверстием и смотреть сквозь него на пламя. Возникает нечто подобное эффекту воздушного насоса, о котором выше в какой-то мере шла речь, благодаря чему влюбленные «подчиняются чужой воле».
Не может быть мистического экстаза без предшествующего ему опустошения души. «Вот почему, – по словам Сан Хуана де ла Крус, – Господь распорядился, чтобы алтарь, на котором должна приноситься жертва, был полым», «дабы уразумела душа, сколь полой, избавленной от всех вещей ее хотел бы видеть Господь»[27]. Один немецкий мистик еще энергичнее выразил это отчуждение внимания от всего, кроме Бога, – сказав: «Я изродился». А тому же Сан Хуану принадлежат прекрасные слова: «Я не сторожу стадо», то есть он отринул от себя все заботы.
Наконец самое удивительное: изгнав из души все многообразие мира, мистик станет нас убеждать, что он вплотную приблизился к Богу, что он исполнен Богом. Другими словами, что именно Бог и заполняет собой эту пустоту. Поэтому Мейстер Экхарт говорит о «безмолвной пустыне Бога»[28], а Сан Хуан – о «темной ночи души», темной и вместе с тем полной света, настолько полной, что, беспрепятственно разливаясь повсюду, свет оборачивается мраком. "Таково свойство души очищенной и освобожденной от всех частных влечений и привязанностей, которая, отказавшись от всего и отвернувшись от всего, обитая в своей темной, непроглядной пустоте, предрасположена к приятию всего мира, дабы сбылось в ней изречение Святого Павла: «Nihil habentes et omnia possidentes» («Мы ничего не имеем, но всем обладаем»[29]). Сан Хуан в другом месте дает еще более яркое определение этой преисполненной пустоты, этого сияющего мрака: «гулкое одиночество».
VIII
Итак, мы остановились на том, что мистик, подобно влюбленному, достигает неестественного состояния, «сосредоточив» все свое внимание на одном объекте, назначение которого только в том, чтобы отвлечь внимание от всего остального и обеспечить опустошение души.
И все же «жилище», в котором мистик пренебрегает всем остальным, чтобы лицезреть лишь Бога, не самое сокровенное – и выше можно подняться по стезе исступленности.
Бог, к которому стремятся усилием воли, имеющий границы и очертания; Бог, в раздумьях о котором прибегают к помощи чего бы то ни было; наконец, Бог, оказывающийся объектом для нашего внимания, слишком напоминает посюсторонний мир, чтобы действительно быть Богом. Вот где истоки доктрины, парадоксальные контуры которой то и дело вырисовываются на страницах сочинений мистиков, убеждающих нас, что стремиться надо к тому, чтобы не думать «даже» о Боге. Ход рассуждений при этом приблизительно следующий: если неотступно думать о Нем, тянуться к Нему, наступает момент, когда Он перестает быть чем-то внешним для нашей души и отличным от нее, находящимся вне и перед нею. Другими словами, перестает быть objectum и превращается в injectum[30]. Бог проникает в душу, сливается с ней, или, как принято говорить, душа растворяется в Боге, перестает воспринимать себя как нечто отдельное. Именно этого слияния и жаждет мистик. «И становится душа – я говорю о самом сокровенном в этой душе – как будто бы единым целым с Богом»[31], – пишет Святая Тереса в «Седьмом жилище». При этом речь не идет о том, что этот союз ощущается как нечто недолговечное, достигаемое сегодня и затем утрачиваемое. Мистик воспринимает это слияние как непреходящее, подобно тому как влюбленный клянется в вечной любви. Святая Тереса решительно настаивает на разграничении между двумя типами единения: первый можно «уподобить двум свечам, настолько соединившим свое пламя, что кажется, будто свеча одна… Однако их без труда можно отделить одну от другой, и снова перед нами две свечи». Другой, напротив, можно «уподобить воде, падающей с неба в реку, или ручью, где она смешивается настолько, что никому не удастся уже определить и отделить ту, которая была в реке, от той, которая упала с неба; точно так же вода ручейка, впадающего в море, уже неотделима; точно так же, если свет двумя потоками льется в помещение, в нем он будет уже одним светом».
Экхарт прекрасно обосновывает известную ущербность того состояния, при котором Бог является всего лишь объектом раздумий. «Истинное присутствие Бога возможно только в душе, а не в мыслях о Боге, неустанных и однообразных. Человек не должен только думать о Боге, ибо, стоит мыслям иссякнуть, как Бога не станет». Таким образом, высшей ступенью мистического пути будет та, на которой человек проникнется Богом, станет губкой, впитывающей божественность. Ему ничего не стоит теперь вернуться в мир и погрузиться в земные заботы, поскольку он будет, в сущности, как автомат, следовать указаниям Бога. Его желания, поступки и жизненное поведение от него уже не зависят. Отныне ему безразлично, что он делает и что с ним происходит, коль скоро «он» покинул землю, свои дела и стремления, неуязвимый и непроницаемый для всего чувственного мира. То, что действительно было его личностью, эмигрировало к Богу, перетекло в Бога; осталась лишь механическая кукла, некое «создание», которым Бог управляет. (Мистицизм в наивысшем своем проявлении непременно смыкается с «квиетизмом»[32].) Это необычное состояние напоминает «влюбленность». Для нее столь же характерен период «слияния», при котором каждый укореняется в другом и живет – думает, мечтает, действует – его жизнью, а не своей. Коль скоро объект любви составляет с нами единое целое, мы перестаем о нем думать. Любые душевные состояния находят отражение в символике мимики н жестов. Периоду «заинтересованности», сосредоточенности всех помыслов на возлюбленной, которая пока находится «вне», соответствует состояние глубокой задумчивости. Неподвижные глаза, застывший взгляд, поникшая голова, склонность к уединению. Всем своим обликом мы выражаем некую углубленность и замкнутость. В герметичном пространстве нашего прикованного внимания мы высиживаем образ любимого. Лишь когда нас «охватит» любовный экстаз и исчезнет граница, отделяющая нас от возлюбленной, точнее, когда я – это и я и любимая, наш облик обретает это прелестное epanouissement[33], истинное выражение счастья. Взгляд, который становится мерцающим и мягким, едва отличая объекты, снисходительно одаривает их лаской, ни на одном из них не останавливаясь. При этом рот бывает слегка приоткрыт в неопределенной улыбке, постоянно играющей в уголках губ. Выражение лица, свойственное дурачкам, – отупелое. Когда ничто во внутреннем или внешнем мире не владеет нашим вниманием, душе, как неподвижной глади вод, остается лишь безмятежно покоиться («квиетизм») в лучах всепоглощающего солнца.
Подобное «блаженное состояние» знакомо как влюбленному, так и мистику[34]. Эта жизнь и этот мир, добро и зло, не затрагивают их чувств, не представляя для них никакого интереса. В обычном же состоянии мы к ним далеко не безразличны, они западают нам в душу, тревожат и терзают. Потому нас тяготит собственное бытие, которое мы выдерживаем с трудом, ценой неимоверных усилий. Однако стоит нам куда-либо перенести средоточие нашей душевной жизни, переместить его в другого человека, как происходящее в этом мире обесценивается для нас и обессмысливается, как бы выносится за скобки. Проходя среди вещей, мы не ощущаем их притяжения. Как если бы существовало два взаимопроникающих и не равновеликих мира: мистик только кажется живущим в земном; на самом деле он обитает в другом, далеком крае, наедине с Богом. «Deum et animan. Nihilne plus? Nihil omnino»[35], – пишет Августин Блаженный. Точно так же и влюбленный проходит мимо нас, не испытывая никаких душевных волнений. Он полагает, что его жизнь предрешена, казалось бы, навсегда.
В «блаженном состоянии» жизнь человека – будь он мистик или любовник – становится беспечной и пресной. С барским великодушием он налево и направо раздаривает улыбки. Однако барское великодушие не предполагает душевной щедрости. Это великодушие весьма мелкой души; в сущности, оно порождено презрением. Тот, кто убежден в своем высоком предназначении, «великодушно» осыпает ласками людей низшего сорта, не представляющих для него опасности уже хотя бы потому, что он с ними не «связан», не живет с ними единой жизнью. Верх презрения проявляется в отказе замечать недостатки ближнего, так же как в стремлении озарять его, со своих недосягаемых высот, ласкающим светом своего благополучия. Тем самым для мистика и столь напоминающего его влюбленного все исполнено прелести и очарования. Дело в том, что, уже достигнув слияния и снова взглянув на вещи, он их-то как раз и не видит, а видит их отражение в том, что отныне для него только и существует – в Боге или в любимой. И тем очарованием, которого нет в самих этих вещах, их щедро наделяет зеркало, в котором он их видит. Прислушаемся к Экхарту: тот, кто отринул вещи, обрел их вновь в Боге, подобно тому, кто, отвернувшись от пейзажа, находит его бесплотным, отраженным в чарующей глади озера. Вспомним также известные стихи нашего Сап Хуана де ла Крус:
"Своими милостями щедро одаряя, Он торопливо над листвой дерев скользнул.
Все твари замерли, взирая.
Под их благоговейный гул Он обликом своим весь мир обволокнул"[36].
Мистик – губка, впитывающая Бога, – отчасти чурается вещей; только Господь, растворенный во всем, их облагораживает. И в этом ему подобен влюбленный.
Впрочем, было бы ошибкой восторгаться «душевной щедростью» мистика и влюбленного. Они благосклонны ко всему живому именно потому, что в глубине души ко всему равнодушны. Они транзитом спешат – к своему. В действительности частые задержки им несколько докучают, как барину нужды «поселян». Это изумительно выразил Сан Хуан де ла Крус:
«Любимый, я к тебе спешу – Да будет путь свободен».[37]
Отрада «блаженного состояния», в чем бы оно ни проявилось, заключается в том, что некто находится за пределами мира и себя. Именно это буквально и означает «экстаз»: быть за пределами себя и мира. При этом отметим, что существует два противоположных типа людей: те, кто испытывают радость, лишь находясь за пределами себя, и те, кто, наоборот, ощущают довольство, лишь замкнувшись на себе. Для выхода из себя существует множество способов, от алкоголя до мистического транса. Столь же многочисленны – от холодного душа до философии – и способы замкнуться на себе. Два этих типа людей резко отличаются друг от друга во всех жизненных проявлениях. Есть, к примеру, сторонники исступленного искусства, для которых наслаждаться красотой – значит «трепетать». Другие, напротив, не мыслят подлинно эстетического наслаждения вне состояния покоя, обеспечивающего бесстрастное и безмятежное созерцание объекта.
Бодлер выказал свою исступленность, когда на вопрос, где бы он хотел жить, ответил: «Где угодно, где угодно… лишь бы за пределами мира!»
Стремление «выйти за пределы себя» породило разнообразнейшие формы экстаза: опьянение, мистицизм, влюбленность и т. д. Я вовсе не хочу этим сказать, что одно другого стоит; я лишь настаиваю на их видовом родстве и на том, что корнями они уходят в экстаз. Речь идет о людях, которые, не в силах жить, замкнувшись на себе, пытаются выйти из себя и устремиться к тому, кто их поддержит и поведет. Поэтому-то столь органичен для мистики и любви мотив похищения, или умыкания. Быть похищенным – значит не по своей воле куда-то идти, а чувствовать, что тебя кто-то или что-то влечет. Умыкание было древнейшим проявлением любви, донесенным до нас мифами о кентавре, преследующем нимф.
До сих пор в римском свадебном обряде сохранился сколок патриархального похищения: жена не должна входить в дом мужа сама – муж должен внести ее на руках, чтобы она не коснулась порога. Последним символическим выражением некого похищения является «транс» и экстаз мистической монахини и потеря сознания влюбленными.
Однако это удивительное сходство исступленности и «любви» станет более явственным, если их сопоставить с еще одним неестественным душевным состоянием – загипнотизированностью.
Сотни раз отмечалось, что мистическое состояние чрезвычайно напоминает загипнотизированность. Им сопутствуют транс, галлюцинации и даже сходные телесные проявления, такие, как бесчувственность и каталепсия.
С другой стороны, мне всегда казалось, что удивительная близость существует также между загипнотизированностью и влюбленностью. Я не решался высказать это предположение, поскольку единственным основанием для него, на мой взгляд, служила моя убежденность в том, что состояние гипноза также порождается заинтересованностью. Никто тем не менее, насколько мне известно, не взглянул на гипноз с этой точки зрения, несмотря на одно, казалось бы, самоочевидное обстоятельство: сон как явление психики зависит от нашего внимания. Клапаред давно заметил, что сон овладевает нами по мере того, как нам удается утрачивать интерес к вещам, приглушать наше внимание. Вся методика борьбы с бессонницей заключается в том, чтобы сосредоточить наше внимание на каком-либо объекте или же механическом действии, например счете. Считается, что нормальный сон, как и экстаз, – это автогипноз.
Вот почему один из самых умных современных психологов, Пауль Шильдер, счел бесспорным факт тесной связи, существующей между загипнотизированностью и любовью[38]. Я попытаюсь вкратце изложить его идеи, коль скоро, основанные на совершенно иных, чем у меня, доводах, они, замыкают круг совпадений, выявленных в нашем этюде между влюбленностью, экстазом и состоянием гипноза.
IX
Вот первый ряд совпадений между влюбленностью и состоянием гипноза:
В гипнотизирующих манипуляциях очевиден эротический элемент: плавные, как бы ласкающие пассы руки; внушающие и вместе с тем успокаивающие речи; «зачаровывающий взгляд»; подчас непреклонная решимость в движениях и голосе. Если объектом гипноза является женщина, нередки случаи, когда, засыпая или же проснувшись, она окидывает гипнотизера обессиленным взглядом, столь характерным для сексуального возбуждения и удовлетворения. Нередко гипнотизируемые признавались, что во время транса они испытывали ощущение тепла и блаженства во всем теле. В отдельных случаях их охватывают чувства абсолютно сексуального свойства. Эротическое возбуждение направлено на гипнотизера, который иногда вызывает любовное искушение, проявляемое весьма зримо. Подчас эротические фантазии загипнотизированной претворяются даже в псевдовоспоминания и она обвиняет гипнотизера в изнасиловании.
Гипноз животных дает сходные результаты. Самка жуткой разновидности пауков, называемых galeodes kaspicus turkestanus[39], норовит съесть ухаживающего за ней самца. И только когда самцу удается сжать своими челюстями определенное место на животе самки, она, впав в состояние полной прострации, позволяет собой овладеть. Парализовать самку можно и в лабораторных условиях – достаточно лишь прикоснуться к насекомому. Она незамедлительно впадает в состояние гипноза. Немаловажно, однако, то обстоятельство, что подобный результат достигается только в брачный период.
Эти наблюдения Шильдер заключает следующими словами: «Все это позволяет предположить, что человеческий гипноз также является биологической функцией, обслуживающей сексуальную». Тем самым он впадает в столь живучий фрейдизм, отказываясь от ясной интерпретации отношений между состоянием гипноза и «любовью».
Наибольший интерес представляют его соображения о душевном состоянии гипнотизируемого. Согласно Шильдеру, речь идет о том, что человек под гипнозом как бы впадает в детство: он с радостью вручает всего себя другому человеку и успокаивается, осененный его авторитетом. Только такой тип отношений делает возможным влияние гипнотизера. Вполне естественно, что все подтверждающее авторитет гипнотизера – слава, социальное положение, благородный вид – упрощает его работу. С другой стороны, если человек не расположен к гипнозу, он ему не поддастся.
Отметим также, что все эти особенности без исключения могут быть отнесены и к влюбленности. В равной степени и она – мы уже останавливались на этом – всегда «желаема» и подразумевает потребность перепоручить себя другому и найти в нем покой, желание, которое само по себе восхитительно. Что же касается состояния, отмеченного известной инфантильностью, в которое при этом впадают, то оно соотносится с тем, что я назвал «душевным оскудением», измельчанием и сужением кругозора нашей заинтересованности.
Необъяснимо, почему Шильдер даже не упоминает заинтересованность как самый бесспорный атрибут гипноза, коль скоро основным элементом методики гипноза является сосредоточение внимания на каком-то объекте: зеркале, алмазе, луче света и т. д. С другой стороны, сопоставление различных человеческих типов с точки зрения предрасположенности к гипнозу показывает максимальное соответствие с их способностью влюбляться.
Так, женщина лучше мужчины поддается гипнозу – ceteris paribus[40]. Но она же чаще мужчины бывает охвачена истинной страстью. Какими бы другими причинами мы ни объясняли эту склонность, несомненно, что в ней особенно сказываются различия в проявлении внимания у представителей обоих полов. При равных условиях женская душа легче идет на возможное обеднение, чем мужская, ибо ее душа более концентрична, более сосредоточена на своих интересах, более эластична. Как мы могли убедиться, архитектоникой и системой сцеплений внутреннего мира ведает заинтересованность. Чем однообразнее душевный мир, тем более внимание тяготеет к унификации. Считается, что женская душа предпочитает иметь не более одной оси заинтересованности, что в тот или иной период она сориентирована на одну-единственную вещь. Чтобы загипнотизировать ее или влюбить, достаточно завладеть этим единственным центром ее внимания. По сравнению с концентрической структурой женской души внутренний мир мужчины всегда имеет несколько эпицентров. Чем определеннее заявлен мужской характер, тем меньше цельности в его душе, как будто разделенной на непроницаемые отсеки. Одна ее часть безоговорочно отдана политике или коммерции, в то время как другая посвящена интеллектуальным интересам, а еще одна – плотским удовольствиям. Отсутствует, таким образом, тенденция к стягиванию внимания к одной точке. В сущности, преобладает прямо противоположная, приводящая к расщеплению. Осей заинтересованности – множество. Для нас, живущих на почве множественности, при пестроте внутреннего мира, неоднородного и разнохарактерного, не составит труда уделить чему-то особое внимание, ибо никак не отразится на нашем интересе ко всему остальному.
Влюбленной женщине то и дело кажется, что мужчина, которого она любит, не весь ей принадлежит. Всегда она находит его несколько рассеянным, как бы оставившим где-то по пути на свидание какие-то частицы своей души. И наоборот, совестливого мужчину не раз приводила в смущение его неспособность к полной отдаче, к максимализму в любви, на который способна женщина. Мужчина постоянно демонстрирует свою бездарность в любви и неспособность к совершенству, которого женщине удается достичь в этом чувстве.
Следовательно, предрасположенность женщины к мистицизму, гипнозу и влюбленности объясняется одними и теми же причинами.
Если мы вновь обратимся к исследованию Шильдера, то увидим, что родство между любовью и мистицизмом он поясняет любопытнейшим и немаловажным примером соматического свойства.
Гипнотический сон в конечном счете ничем не отличается от обычного сна. Вот почему соня служит идеальным объектом для гипнотизера. Итак, судя по всему, существует тесная связь между функцией сна и тем местом в коре головного мозга, которое называется третьим желудочком. Бессонница и летаргический энцефалит связаны с нарушениями в этом органе. По мнению Шильдера, здесь же коренятся соматические предпосылки состояния гипноза. И в то же время третий желудочек является «органическим узлом сексуальности», обусловливающим многие сдвиги в сексуальной сфере.
К идее мозговых локализаций я отношусь весьма сдержанно. Нетрудно предположить, что, если человеку отрубить голову, то он перестанет думать и чувствовать. Однако все окажется значительно сложнее, если мы попытаемся определить отправную точку для каждой психической функции в нашей нервной системе. Причины бесперспективности подобных поисков многочисленны, но самая очевидная состоит в том, что мы игнорируем реальную взаимосвязь психических функций, их зависимость друг от друга и иерархию. Нетрудно в рабочем порядке изолировать ту или иную функцию и рассуждать на темы «видеть», «слышать», «воображать», «вспоминать», «размышление», «заинтересованность» и т. д.; однако нам неведомо, не присутствует ли изначально «размышление» в «видеть» и наоборот. Сомнительно, что нам удастся локализовать изолированные одна от другой функции, коль скоро их изолированность представляется весьма проблематичной.
Между тем подобный скептицизм должен служить стимулом к дальнейшим, все более убедительным исследованиям. Так, в приведенном выше примере имело бы смысл проверить, не связана ли, прямо или косвенно, способность к заинтересованному вниманию с тем участком коры головного мозга, от которого, согласно Шильдеру, зависят сон, гипноз и любовь. Отмеченная нами коренная близость между этими тремя состояниями и экстазом позволяет предположить, что третий желудочек причастен также и к мистическому трансу. Это объяснило бы наконец, почему любовная лексика неизменно присутствует в исступленных исповедях, а мистическая – в сердечных излияниях.
В своем недавнем докладе, прочитанном в Мадриде, психиатр Аллер отверг все попытки истолковать мистицизм как проявление и сублимацию любовного влечения. Эта точка зрения представляется мне абсолютно верной.
Любовные истолкования мистицизма, до недавнего прошлого общепризнанные, были удручающе тривиальными. Ныне вопрос ставится в ином плане. Дело не в том, что мистицизм порождается «любовью», а в том, что у них общие корни и что они суть два психических состояния, по многим параметрам сходные. В обоих случаях в сознании происходят сходные процессы, вызывающие аналогичные проявления на эмоциональном уровне, для выражения которых служат, абсолютно индифферентно, мистические или эротические формулы.
Завершая этот этюд, хотелось бы напомнить, что я ставил перед собой задачу описать одну лишь фазу великого таинства любви – «влюбленность». Любовь – явление неизмеримо более глубокое и многогранное, подлинно человеческое, хотя и не столь исступленное. Любовь всегда проходит через неистовый этап «влюбленности»; в то же время сплошь и рядом встречается «влюбленность», за которой не следует подлинная любовь. Не будем, стало быть, принимать часть за целое.
Случается, что о достоинствах любви судят по ее неистовости. В опровержение этого расхожего заблуждения и были написаны предшествующие страницы. Неистовость в любви не имеет ничего общего с ее сутью. Она представляет собой атрибут «влюбленности» – душевного состояния низшего, примитивного свойства, для которого, в сущности, любовь не столь уж и обязательна.
Чем энергичнее человек, тем неистовее могут быть проявления его чувств. Однако, отметив это обстоятельство, необходимо сказать, что чем неистовее эмоциональный порыв, тем ниже его место в душевной иерархии, тем он ближе к неосознанным порывам плоти, тем меньше в нем духовности. И наоборот, по мере того как наши чувства проникаются духовностью, они утрачивают неистовость и автоматизм напора. Чувство голода у проголодавшегося всегда будет более сильным, чем стремление к справедливости у ее поборника.
ВЫБОР В ЛЮБВИ
I
(В ПОИСКАХ СКРЫТЫХ ИСТОКОВ) В одном недавнем докладе мне довелось высказать среди прочих две идеи, вторая из которых непосредственно вытекает из первой. Первая сводится к следующему: характер нашей индивидуальности определяется не представлениями и жизненным опытом, не нашим темпераментом, а чем-то куда более зыбким, воздушным и изначальным. Прежде всего, в нас от природы заложена система пристрастий и антипатий. Основа ее для всех едина, и все же у каждого она – своя, готовая в любую минуту вооружить нас для выпадов pro и contra, – некая батарея симпатий и неприязни. Сердце, специально предназначенное для выработки пристрастий и антипатий, – опора нашей личности. Еще не зная, что нас окружает, мы уже бросаемся благодаря ему из стороны в сторону, от одних ценностей к другим. Этим объясняется наша зоркость по отношению к вещам, в которых воплощены близкие нашему сердцу ценности, и слепота по отношению к тем, в которых нашли отражение столь же или даже более высокие ценности, однако не затрагивающие наших чувств.
Эту идею, аргументировано поддерживаемую ныне всеми философами, я могу дополнить другой, до сих пор, как мне представляется, никем не выдвинутой.
Очевидно, что при нашем тесном существовании с ближним ни к чему мы так не стремимся, как к тому, чтобы вникнуть в мир его ценностей, систему его пристрастий, а следовательно, выявить основу его личности, фундамент его характера. Точно так же историк, пытающийся понять эпоху, должен прежде всего уяснить себе шкалу ценностей людей того времени. С другой стороны, события и речи той поры, которые до нас донесли документы, будут пустым звуком, загадкой и шарадой, равно как поступки и слова нашего ближнего, пока мы не увидим за ними в сокровенной глубине те ценности, выражением которых они служат. Эти глубины сердца и впрямь сокровенны, причем в немалой степени и для нас самих, коль скоро мы несем их в себе, а, точнее, они несут и ведут нас по жизни. Заглянуть в темные подвалы личности непросто, как непросто видеть клочок земли, на который ступает наша нога. Точно так же и зрачку самому себя не увидеть. Между тем немало жизненных сил мы тратим на разыгрывание вполне благонамеренной комедии одного актера. Мы придумываем себе черты характера, причем придумываем на полном серьезе, не для того, чтобы кого-то ввести в заблуждение, а для того, чтобы замаскироваться от самих себя. Актерствуя перед собой, мы говорим и действуем под влиянием ничтожных побуждений, исходящих из социальных условий или нашего собственного волеизъявления и в мгновение ока подменяющих собой наше истинное бытие. Если читатель возьмет на себя труд проверить, он с удивлением – а может, и ужасом – обнаружит, что многие из тех представлений и чувств, которые он привык считать «своими», на самом деле – ничьи, ибо не зародились в его душе, а были привнесены в нее извне, как дорожная пыль оседает на путнике.
Итак, отнюдь не поступки и слова ближнего откроют нам тайники его души. Мы без труда манипулируем своими поступками и словами. Злодей, который чередой преступлений предрешил свою участь, способен вдруг совершить благородный поступок, не перестав при этом быть злодеем. Внимание стоит обращать не столько на поступки и слова, сколько на то, что кажется менее важным, – на жесты и мимику. В силу их непреднамеренности они, как правило, в точности отражают истинную суть наших побуждений[41].
Тем не менее в некоторых ситуациях, мгновениях жизни человек, не осознавая этого, раскрывает многое из своей сокровенной сути, своего подлинного бытия. И одна из них – любовь. В выборе любимой обнаруживает самую суть своей личности мужчина, в выборе любимого – женщина. Предпочтенный нами человеческий тип очерчивает контуры нашего собственного сердца. Любовь – это порыв, идущий из глубин нашей личности и выносящий из душевной пучины на поверхность жизни водоросли и ракушки. Хороший натуралист, изучая их, способен реконструировать морское дно, с которого они подняты.
Мне могут возразить, сославшись на опыт, который будто бы показывает, что сплошь и рядом женщина благородных устремлений удостаивает своим вниманием пошлого и неотесанного мужчину. Думаю, что те, кто в этом уверен, являются жертвами оптического обмана: они рассуждают о далеком от них предмете, в то время как любовь – это тончайшая шелковая ткань, оценить достоинства которой можно только вблизи. Очень часто оказываемое внимание – чистейшая иллюзия. У истинной и ложной любви повадки – если смотреть издалека – весьма схожи. Однако допустим все же, что это действительное проявление внимания, – что в этом случае нам следует предположить? Одно из двух: либо мужчина не столь уж ничтожен, либо женщина на самом деле не столь высоких, как нам казалось, достоинств.
Эти соображения я высказывал неоднократно в разговорах или в университетских лекциях (в связи с размышлениями о природе «характера») и каждый раз убеждался, что они непременно как первую реакцию вызывают протест и противодействие. Поскольку сама по себе эта идея не содержит раздражающих и навязчивых элементов – казалось бы, что обидного для нас в том, что наши любовные истории представляют собой проявления нашей исконной сути? – столь безотчетное противодействие служит подтверждением ее верности. Человек чувствует себя беспомощным, захваченным врасплох через брешь, оставленную им без внимания. Нас неизменно раздражают попытки судить о нас по тем свойствам нашей личности, которые мы не утаиваем от окружающих. Нас возмущает, что нас не предупредили. Нам хотелось бы, чтобы нас оценивали, уведомив об этом заблаговременно и на основании нами отобранных качеств, приведенных в порядок как перед объективом фотоаппарата (боязнь «фотоэкспромтов»). Между тем вполне естественно, что изучающий человеческое сердце стремится подкрасться к ближнему незаметно, застать его врасплох, in fraganti[42].
Если бы мог человек полностью подменять спонтанность волей, нам не понадобилось бы изучать подсознание. Однако воля способна лишь приостановить на время действие спонтанности. Роль своеволия в формировании нашей личности на протяжении всей жизни практически равна нулю. Наше "я" мирится с малой толикой подтасовки, осуществляемой нашей волей; впрочем, скорее следует говорить не о подтасовке, а об обогащении и совершенствовании нашей природы, о том, что не без воздействия духа – ума и воли – первозданная глина нашей индивидуальности приобретает новую форму. Надо воздать должное вмешательству чудодейственных сил нашего духа. Но при этом желательно не поддаваться иллюзиям и не думать, что оно может иметь сколько-нибудь решающее значение. Если бы его масштабы были иными, речь могла бы идти о подлинной подмене. Человек, вся жизнь которого идет вразрез с его естественными устремлениями, по природе своей предрасположен ко лжи. Я встречал вполне искренних лицемеров и притворщиков.
Чем глубже современная психология познавала законы человеческого бытия, тем очевиднее становилось, что функция воли и вообще духа не созидающая, а всего лишь корректирующая. Воля не порождает, а, напротив, подавляет тот или иной спонтанный импульс, пробивающийся из подсознания. Стало быть, осуществляемое ею вмешательство – негативного свойства. Если же подчас оно производит противоположное впечатление, то причина тому следующая: как правило, в переплетении наших влечений, симпатий и желаний одно из них оказывается тормозом для других. Воля, устраняя это препятствие, позволяет влечениям, избавившись от пут, раскрываться свободно и полностью. Итак, наше «хочу», судя по всему, – действенная сила, хотя его возможности сводятся к тому, чтобы поднимать затворы шлюзов, сдерживающих естественный порыв.
Величайшим заблуждением, от Ренессанса и до наших дней, было думать – подобно, например, Декарту, – что наша жизнь регулируется сознанием, всего лишь одной из граней нашего "я", подвластной нашей воле. Утверждение, что человек – разумное и свободное существо, по меньшей мере спорно. У нас и в самом деле есть разум и свобода, однако они представляют собой лишь тонкую оболочку нашего бытия, которое само по себе не разумно и не свободно. Даже идеи мы получаем уже готовыми и сложившимися в темных, бездонных глубинах подсознания. Сходным образом и желания ведут себя на подмостках нашего внутреннего мира как актеры, которые появляются из-за таинственных, загадочных кулис уже загримированными и исполняющими свои роли. И поэтому столь же ошибочным было бы утверждать, что человек живет сознанием, рассудком, как и полагать, что театр – это пьеса, разыгрываемая на освещенной сцене. Дело в том, что, минимально управляя собой усилием воли, мы живем в целом иррационально и бытие наше, проявляясь в сознании, берет начало в скрытых глубинах нашего "я". Поэтому психолог должен уподобиться водолазу и уходить вглубь от поверхности, а точнее, подмостков, на которых разыгрываются слова, поступки и помыслы ближнего. То, что представляет интерес, скрыто за всем этим. Зрителю достаточно смотреть на Гамлета, который проходит, сгибаясь под бременем своей неврастении, по воображаемому саду. Психолог поджидает его в глубине сцены, в полумраке занавесей и декораций, чтобы узнать, кто же этот актер, который играет Гамлета.
Вполне естественно, что он ищет люки и щели, чтобы проникнуть вглубь личности. Один из этих люков – любовь. Напрасно женщина, претендующая на утонченность, пытается нас обмануть. Мы знаем, что она любила имярек. Имярек глуп, бестактен, озабочен только своим галстуком и сиянием своего «Роллс-Ройса».
II
(ПОД МИКРОСКОПОМ) Немало возражений можно выдвинуть против тезиса о том, что сердечные пристрастия обнажают наше истинное лицо. Не исключено, что будут высказаны и такие, которые раз и навсегда опровергнут гипотезу. Однако те, что мне приходилось выслушивать, представляются малоубедительными, недостаточно обоснованными и взвешенными. Сплошь и рядом упускают из виду, что психология любовных влечений проявляется в мельчайших подробностях. Чем интимнее изучаемая психологическая проблема, тем большую роль в ней играет деталь. Между тем потребность в любви принадлежит к числу самых интимных. Пожалуй, более интимный характер имеет лишь «метафизическое чувство», то есть радикальное целостное и глубокое ощущение мира.
Оно лежит в основе всех наших устремлений. Оно присуще каждому, хотя далеко не всегда отчетливо выражено. Это ощущение включает в себя нашу первую неосознанную реакцию на полноту реальности, живые впечатления, оставляемые в нас миром и жизнью. Представления, мысли и желания прорастают из этой первой реакции и окрашиваются ею. У любовного влечения немало общего с этим стихийным чувством, которое всегда подскажет, кому или чему посвящена жизнь нашего ближнего. Именно это и представляет наибольший интерес: не факты его биографии, а та карта, на которую он ставит свою жизнь. Все мы в какой-то мере осознаем, что в сокровенных глубинах нашего "я", недоступных для воли, нам заранее предначертан тот или иной тип жизни. Что толку метаться между чужим опытом и общими рассуждениями: наше сердце с астральной непреклонностью будет следовать по предрешенной орбите и, подчиняясь закону тяготения, вращаться вокруг искусства, политических амбиций, плотских удовольствий или же денег. Сплошь и рядом ложное существование человека в корне противоречит его истинному предназначению, приводя к достойному изумления маскараду: коммерсант на поверку оказался бы сладострастником, а писатель – всего лишь политическим честолюбцем.
«Нормальному» мужчине нравятся практически все встречающиеся на его пути женщины. Это, бесспорно, подчеркивает напряженность выбора, проявляемого в любви. Необходимо лишь не путать «влечение» с «любовью». Когда мужчина мельком видит хорошенькую девушку, она вызывает влечение на периферии его чувств, куда более порывистых – надо воздать ему должное, – чем у женщины. Как следствие этого волнения возникает первое побуждение – невольный порыв к ней. Эта реакция настолько невольна и безотчетна, что даже Церковь не решалась считать ее грехом. Некогда Церковь была замечательным психологом; прискорбно, что на протяжении двух последних столетий она утратила свои позиции. Итак, она проницательно признала безгрешность «первых побуждений». В том числе и влечение, тягу мужчины ко всем встретившимся на его пути женщинам. Она понимала, что с этим влечением непосредственно связано все остальное – как плохое, так и хорошее, как порок, так и добродетель. Однако выражение «первое побуждение» отражает явление не во всей его полноте. Оно является первым, поскольку исходит из той самой периферии, которая и была взбудоражена, в то время как душа человека остается почти не затронутой.
И действительно, эта притягательность для мужчины почти каждой женщины не что иное, как клич инстинкта, за которым следует либо молчание, либо отказ. Ответ мог бы быть положительным, если бы в нашем душевном мире возникла симпатия к тому, что лишь затронуло периферию наших чувств. Стоит этой симпатии возникнуть, как она соединяет центр или, если хотите, ось нашей души с этим внешним по отношению к нам чувством; или, другими словами: мы не только ощутили некую притягательность на периферии нашего "я", но и движемся навстречу тому, что для нас притягательно, вкладывая в это стремление все душевные силы. Итак, мы не только испытываем притяжение, но и проявляем интерес. Отличие между тем и другим состоит в том, что в первом случае мы влекомы, а во втором движемся по своей воле.
Этот интерес и есть любовь, которая возникает среди бесчисленных испытываемых влечений, большую часть которых она устраняет, отметив одно из них своим вниманием. Она производит отбор среди инстинктов, тем самым подчеркивая и одновременно ограничивая их значение[43]. Чтобы внести некоторую ясность в наши представления о любви, необходимо определить ту роль, которую играет в ней половой инстинкт. Сущим вздором является утверждение, что любовь мужчины к женщине и наоборот абсолютно лишена сексуального элемента, равно как и убеждение, что любовь – это сексуальное влечение. Среди многочисленных черт, их отличающих, отметим следующую, принципиально важную, а именно то обстоятельство, что число удовлетворяющих инстинкт объектов не ограничено, в то время как любовь стремится к ограничению. Эта противоположность устремлений наиболее явственно проявляется в безразличии мужчины, охваченного любовью к своей избраннице, к чарам остальных женщин.
Таким образом, по самой своей сути любовь – это выбор. А коль скоро возникает она в сердцевине личности, в глубинах души, то принципы отбора, которыми она руководствуется, одновременно суть наши самые сокровенные и заветные пристрастия, составляющие основу нашей индивидуальности.
Выше я отмечал, что в любви огромную роль играет деталь, проявляющаяся в мельчайших подробностях. Проявления инстинкта, напротив, масштабны; его влекут общие черты. Можно сказать, что в том и другом случаях слишком различна дистанция. Красота, вызывающая влечение, редко совпадает с красотой, вызывающей любовь. Если влюбленный и человек, которого не коснулась любовь, смогли бы сравнить, что значит для них красота, очарование одной и той же женщины, то их потрясла бы разница. Человек, не охваченный страстью, в определении красоты будет исходить из гармонии черт лица и фигуры, придерживаясь тем самым общепринятых представлений о красоте. Для влюбленного эти основные черты, архитектоника облика возлюбленной, заметная издалека, – пустой звук. Если он не слукавит, то назовет красотой мельчайшие, разрозненные черты, никак между собой не связанные: цвет зрачков, уголки губ, тембр голоса…
Осмысливая свои душевные переживания и симпатию к любимому человеку, он замечает, что именно эти черточки служат питательной средой любви. Ибо какие могут быть сомнения в том, что любовь питается ежесекундно, насыщается созерцанием милого сердцу любимого человека. Она жива благодаря беспрерывному подтверждению. (Любовь однообразна, назойлива, неотвязна; никто не вытерпит многократного повторения одних и тех же, пусть даже самых умных вещей, в то время как все мы настаиваем на новых и новых признаниях в любви. И наоборот: у человека, равнодушного к любви, которую к нему питают, она вызовет уныние и раздражение своей исключительной навязчивостью.) Следует особо отметить ту роль, которую играют в любви мельчайшие особенности мимики или черт лица, ибо это самое выразительное проявление сущности человека, вызывающего наши симпатии.
Не меньшей выразительностью и способностью выявлять индивидуальность обладает другой тип красоты, воспринимаемой и на значительном расстоянии, – чарующая пластичность, имеющая самостоятельную эстетическую ценность. Между тем было бы ошибкой думать, что столь притягательной для нас является именно эта красота пластичности. Я множество раз убеждался, что мужчина весьма редко влюбляется в безупречно пластичных женщин. В любом обществе есть «официальные красавицы», которых в театрах или во время народных гуляний люди показывают друг другу, как исторические памятники; так вот, они крайне редко вызывают в мужчине пылкую страсть. Эта красота настолько безупречна, что превращает женщину в произведение искусства и тем самым отдаляет от нас. Ею восхищаются, то есть испытывают чувство, предполагающее известную дистанцию, однако ее не любят. Потребность в близости, без которой любовь немыслима, при этом, конечно же, отсутствует.
Чарующая непосредственность, присущая определенному человеческому типу, а вовсе не безупречное совершенство с наибольшей, на мой взгляд, вероятностью вызывает любовь. И наоборот: если вместо истинной любви субъект опутан ложной привязанностью – сама ли любовь тому виной, любопытство или умопомрачение, – подспудно ощущаемая по отдельным штрихам несовместимость подскажет ему, что он не любит. В то же время несовершенство, частные изъяны облика с позиций безупречной красоты, если только они не чрезмерны, препятствием в любви не являются.
Идеей красоты, как великолепной мраморной плитой, придавлена утонченность и свежесть психологии любви. Считается, что, если мы сообщили о женитьбе мужчины на красивой женщине, то этим все уже сказано, в то время как на самом деле не сказано ничего. Заблуждение коренится в наследии Платона. (Трудно себе представить, насколько глубокие пласты европейской цивилизации охвачены воздействием античной философии. Самый невежественный человек использует идеи Платона, Аристотеля и стоиков.) В единое целое любовь и красоту свел Платон. Хотя для него красота не означала лишь телесного совершенства, а была выражением совершенства как такового, Той формой, в которой для древнего грека воплотилось все, чем стоило дорожить. Под красотой подразумевалось превосходство. Этот своеобразный взгляд послужил отправной точкой для последующих теорий любовных влечений.
Любовь, конечно же, не сводится к восхищению чертами лица и цветом щек; суть ее в том, чтобы проникнуться определенным типом человеческой личности, заявившим о себе символически в чертах лица, голосе или жестах.
Любовь – это стремление порождать себя в красоте: tiktein en to kalo, как утверждал Платон. Порождать, творить будущее. Красота – жизнь в наивысшем своем выражении. Любовь подразумевает внутреннее родство с определенным человеческим типом, который нам представляется наилучшим и который мы обнаруживаем воплощенным, олицетворенным в другом человеке.
Все это, уважаемая сеньора, покажется вам абстрактным, темным, далеким от жизни. Тем не менее, вооружившись этой абстракцией, я сумел определить по взгляду, обращенному вами на X… чем же является для вас жизнь. «А не выпить ли нам еще один коктейль!»
III
(ЧЕРЕДА ЛЮБОВНЫХ ИСТОРИЙ) Как правило, у мужчины в течение жизни бывает несколько любовных порывов. В связи с этим возникает немало теоретических вопросов, витающих над практическими, которые влюбленному приходится так или иначе решать. Вот, например, некоторые из них. Насколько органична для природы мужчины сменяемость любовных увлечений и не является ли она изъяном, дефектом, унаследованным с незапамятных времен, от эпохи варварства? Не счесть ли вечную любовь единственно безупречной и достойной подражания? Отличается ли в этом отношении нормальный мужчина от нормальной женщины?
Воздержимся от любых попыток ответить на столь щекотливые вопросы. Не углубляясь в них, отметим все же тот бесспорный факт, что крайне редко мужчина бывает однолюбом. Поскольку мы условились рассматривать исследуемое чувство в его полноте, оставим в стороне случаи одновременности влечений и обратимся исключительно к случаям их сменяемости.
Не противоречат ли подобные факты выдвинутому нами тезису, что любовный выбор выявляет истинную сущность человека? Не исключено, однако напомним читателю ту простую истину, что бывает два типа множественности любовных увлечений. С одной стороны, случается, что мужчины любят на протяжении жизни нескольких женщин, в которых настойчиво повторяется один и тот же женский тип. При этом подчас просматривается даже общий абрис физического облика. Эти случаи тайной верности, при которых во многих женщинах мужчина любит, в сущности, одну-единственную, наделенную определенными качествами, весьма распространены и наилучшим образом подтверждают выдвинутые мной тезисы.
Однако нередко следующие один за другим мужчины, которым женщины отдают предпочтение, или сменяющие друг друга избранницы мужчины существенно отличаются друг от друга. Исходя из вышеизложенных соображений, мы должны были бы предположить, что истинная сущность человека постоянно претерпевала изменения. Возможны ли подобные перемены в самой сокровенной нашей сути? Эта проблема имеет огромное, может быть, решающее значение для теории характера. Во второй половине минувшего столетия было принято считать, что характер человека формируется извне. Жизненный опыт, складывающиеся привычки, воздействие среды, превратности судьбы, состояние здоровья оставляют после себя осадок, именуемый характером. Стало быть, тут не может быть и речи ни о коренной сути человека, ни о некой душевной организации, предшествующей перипетиям нашей жизни и от них не зависящей. Мы уподобляемся снежку, который замешан на дорожной пыли, поднимаемой нашими ногами. Естественно, что для этой системы взглядов, не признающих коренных основ человеческой личности, не существует также проблемы коренных изменений. То, что здесь называется характером, меняется непрерывно: коль скоро нечто в нем формируется, с таким же успехом оно может и исчезнуть.
Однако весьма веские аргументы – не буду их здесь излагать – склоняют меня, скорее, к противоположному убеждению, которое полагает более правдоподобным обратное движение – изнутри наружу. Задолго до контакта с внешними обстоятельствами наша личность в основе своей бывает уже сформирована, и, хотя бытие оказывает на нее определенное воздействие, встречное влияние бывает куда более значительным. Как правило, мы поразительно невосприимчивы ко всему происходящему, если оно чуждо этой изначальной «личности», которой мы, в сущности говоря, и являемся. Мне могут сказать, что и в этом случае вопрос о коренных изменениях оказывается праздным. Какими мы рождаемся, такими и умираем.
Нет и еще раз нет. Эта достаточно гибкая концепция позволяет учитывать всю прихотливость явлений. Это дает нам возможность увидеть разницу между едва заметными изменениями, которые события внешнего характера накладывают на нашу индивидуальность, и теми глубинными сдвигами, которые не подвластны посторонним мотивам, а коренятся в самой природе нашего характера. Я сказал бы, что характер меняется, если под изменениями понимать развитие. И это развитие, как и в любом организме, определяется и обусловливается внутренними причинами, присущими самой природе человека, столь же изначальными, как и его характер. Читатель без труда заметит, что подчас перемены в его ближних были прихотливы, неоправданны, чуть ли не постыдны, однако нередко эта трансформация сохраняла глубокий смысл и достоинство эволюции, заставляя вспомнить росток, из которого вырастет дерево, голые ветки, которые покроются листвой, цветы, которые предшествуют плодам.
Отвечу на это вполне возможное возражение. Определенный тип людей, характеры абсолютно закоснелые (в основном обделенные жизненной силой, как, например, «мещанин»), не эволюционируют. Они будут неукоснительно придерживаться раз и навсегда заданной схемы любовного выбора. Однако есть характеры беспокойные и щедрые, характеры неисчерпаемых возможностей и блестящих предназначений. Думается, что именно этот тип личности является нормальным. В течение жизни он претерпевает две-три трансформации, суть различные фазы единой душевной траектории. Не теряя связи и даже единства с нашим вчерашним образом мыслей и чувств, в один прекрасный день мы вдруг осознаем, что наш характер вступил в новый этап, новый период развития. Я считаю это радикальным изменением. Не больше, но и не меньше[44]. Наша истинная сущность в каждом из этих двух или трех этапов как бы поворачивается на несколько градусов вокруг собственной оси, перемещается в совершенно иную точку Вселенной и ориентируется отныне по иным созвездиям.
Случайным ли является то обстоятельство, что глубокое чувство любви охватывает любого нормального мужчину два-три раза в жизни? А тот факт, что каждый раз возникновение этого чувства совпадает по времени с одним из вышеупомянутых этапов в развитии характера? Мне представляется вполне естественным видеть в множественности любовных влечений самое неоспоримое подтверждение изложенной здесь концепции. Новому ощущению жизни соответствует новый тип женщины, которому отдаются отныне симпатии. Наша система ценностей в той или иной степени изменилась, сохранив тайную верность предшествующей, – и на первый план выходят достоинства, которым ранее мы не придавали значения, возможно, даже не замечали их, новая схема сердечных предпочтений выстраивается между мужчиной и встречающимися на его пути женщинами.
Только роман обладает инструментарием, необходимым для того, чтобы подтвердить эти соображения. Мне довелось прочесть фрагменты одного – вряд ли когда-либо он будет опубликован, – проблематика которого именно эта: подспудная эволюция мужского характера, увиденная сквозь призму его любовных историй. Автор – и это небезынтересно – с одинаковым рвением доказывает как неизменность характера при всех его трансформациях, так и вскрывает неизбежность и логику происходящих перемен. А женский образ на каждом этапе собирает и концентрирует лучи этой эволюционирующей жизненной силы, подобно фантомам, возникающим в плотных слоях атмосферы под воздействием прожекторов и отражателей.
РЕПЛИКА В СТОРОНУ
Мои этюды, которые по необходимости публикуются фрагментарно, подобно сегментам кольчатых червей, в газете «Эль Соль», дают мне приятную возможность познакомиться с мирочувствованием испанцев и испанок, лично мне неизвестных. Дело в том, что ко мне идет обнадеживающий поток поддерживающих, опровергающих или полемизирующих писем. Моя занятость не позволяет мне поступить так, как я считаю должным, одновременно доставив себе удовольствие, и ответить на все эти эпистолярные знаки внимания, столь полезные и плодотворные для писателя. В дальнейшем я намерен снимать хотя бы изредка сливки этой корреспонденции, анализировать самые дельные письма, представляющие общий интерес.
Для начала приведу одно анонимное письмо, полученное из Кордовы. Его автор показался мне человеком в высшей степени здравомыслящим, если не считать анонимности:
"Я прочел ваши очерки «Выбор в любви» в газете «Эль Соль», как читаю все ваши работы, попадающие в руки, чтобы насладиться вашими тонкими и оригинальными наблюдениями. Эта благорасположенность моей души к вашему творчеству придает мне смелости и позволяет указать вам на ошибочное, с моей точки зрения, положение в вашей статье.
Я согласен с тем, что жест или мимика позволяют нам проникнуть, как Педро в свой дом, в дремлющий (равно как и в бодрствующий) внутренний мир соседа. Я настолько схожусь с вами в этом пункте, что даже написал и опубликовал кое-что на эту тему.
А вот что, на мой взгляд, не может быть принято, так это утверждение, будто «в выборе любимой обнаруживает самую суть своей личности мужчина, в выборе любимого – женщина» и что предпочтенный нами человеческий тип очерчивает контуры нашего собственного сердца.
Более того, я возьму на себя смелость утверждать, что непроизвольный протест, который вызвал этот тезис среди ваших слушателей, вызван не столько тем, что и впрямь малоприятно ощутить, как пристальный взгляд наблюдателя сорвал с тебя вдруг все покровы, сколько, скорее всего, неосознанным сопротивлением идее, которую мы не можем принять, не понимая даже почему.
Любовь (страстный порыв, с лирическими арабесками или без оных) – существительное, восходящее к сугубо переходному глаголу, – является в известном смысле самым «непереходным», самым герметичным из всех, поскольку оно ограничено субъектом, поскольку в нем оно находит свою питательную среду и нет для него иной жизни, кроме той, которую субъект же ему и дарует.
Бесспорно, что любящий, испытывая половое влечение, выбирает себе представительницу противоположного пола и что каждый хотел бы найти в своей избраннице физическую гармонию; при этом нет ничего странного в том, что женщина высоких душевных качеств одарит своей благосклонностью заурядного мужчину и наоборот.
Любящего можно познать по его любви, а вовсе не по предмету любви. Каждый человек любит всей полнотой душевных сил, достаточных для того, чтобы наделить облик любимого той утонченностью и изысканностью, в которой нуждается душа любящего (другими словами, его собственная душа), подобно тому как волшебный фонарь или кинопроектор направляет на экран линию и цвет, как Дон Кихот в Альдонсу Лоренсо, а Нельсон в леди Гамильтон (косуля в пейзажах начала XIX столетия) вдохнули все необходимое, чтобы их души преклонились перед этими женщинами.
Здесь я ставлю точку, ибо мои замечания в самых общих чертах уже высказаны и я не хочу беспокоить вас понапрасну".
Я искренне благодарен за замечания, хотя и хотел бы, чтобы они были более конструктивными. Уже попытка свести любовь к сексуальному чувству запутывает проблему a limine[45]. В серии статей «Любовь у Стендаля», опубликованных в газете «Эль Соль» этой осенью, я, как мне представляется, смог показать, почему сводить одно к другому ошибочно. Достаточно вспомнить столь очевидный факт, что мужчина испытывает более или менее сильное половое влечение к бесчисленным женщинам, в то время как своей любовью, сколько бы ростков она ни пускала, он одарит лишь нескольких, и, следовательно, уподобление обоих порывов неправомочно. Кроме того, мой любезный корреспондент утверждает, что «каждый человек любит всей полнотой своих душевных сил». Но тогда любовь – это нечто большее, чем «сексуальная потребность». И если есть это большее, если душа наделяет половой инстинкт всем многообразием свойственных ей порывов, то, значит, перед нами – психическое явление, чрезвычайно отличное от элементарной половой потребности, то самое, которое мы называем любовью.
И вряд ли целесообразно называть столь существенный элемент «лирическими арабесками». Было бы достаточно в минуту покоя, вблизи водоема, среди гераней и под плывущими над кордовским патио облаками задуматься над различным содержанием, которое мы вкладываем в слова «любить» и «желать». Здравомыслящий кордовец тотчас увидел бы, что между любовью и желанием, или влечением, нет ничего общего, хотя они и взаимопорождаемы: то, чего желают, иногда начинают любить; то, что мы любим, благодаря тому, что любим, мы также и желаем.
Было время – например, «сердитого» Реми де Гурмона, – когда считалось несерьезным поддаваться разглагольствованиям о любви, которая понималась лишь как проявление чувственности (Phisique de 1'amour[46]). Тем самым роль полового инстинкта в жизни человека явно преувеличивалась. У истоков этой уничижительной и извращенной психологической доктрины – в конце XVIII столетия – еще Бомарше изрек, что «пить, не испытывая жажды, и любить беспрестанно – только это и отличает человека от животного». Допустим, однако чего же тогда не хватает животному, «любящему» один раз в году, чтобы оно превратилось в существо, «любящее» на протяжении всех четырех времен года? Если с недоверием отнестись ко всему, что не имеет отношения к элементарным проявлениям полового инстинкта, как объяснить, что животное, столь апатичное в любви, превратилось в человека, проявляющего в данной сфере неуемное рвение. Итак, нетрудно догадаться, что у человека, в сущности, отсутствует половой инстинкт в чистом виде и что он неизменно замешан как минимум на воображении.
Если бы человек был лишен живой и могучей фантазии, в нем не вспыхивала бы на каждом шагу сексуальная «любовь». Большая часть проявлений, приписываемых инстинкту, не имеет к нему отношения. В противном случае они были бы также присущи и животным. Девять десятых того, что мы привыкли называть сексуальным чувством, в действительности восходит к нашему дивному дару воображения, который отнюдь не инстинкт, а нечто прямо противоположное – созидание. В этой же связи выскажу предположение, что общеизвестное различие между сексуальностью мужчин и женщин, обусловливающее, как правило, большую, не осознаваемую ею самой сдержанность женщины в «любви», находит соответствие в меньшей по сравнению с мужчиной силе ее воображения. Природа, предусмотрительная и благоразумная, позаботилась об этом, ибо, обладай женщина той же фантазией, что и мужчина, сладострастие захлестнуло бы мир и человеческий род, безотчетно отдавшийся наслаждениям, исчез бы с лица земли[47].
Коль скоро представление о том, что любовь – это, в сущности, лишь половой инстинкт[48], весьма прочно внедрилось в массовое сознание, я счел целесообразным обнародовать кордовское письмо, чтобы иметь возможность еще раз попытаться опровергнуть это заблуждение.
В заключение аноним утверждает, что «любящего можно познать по его любви, а вовсе не по предмету любви». Вот что вкратце можно сказать в опровержение:
1. Можно ли получить непосредственное представление о любви любящего, если это чувство, как и любое иное, – сокровенная тайна? Выбор объекта – вот то заметное глазу движение, которое его выдает.
2. Если любящий вкладывает в любовь всю душу, почему рассудительнейший читатель воздерживается от другой ошибочной идеи, которая наряду с концепцией гипертрофированной сексуальности нанесла наибольший урон психологии любви, а именно – от «кристаллизации» Стендаля? Основной ее пафос в том, что достоинства любимого всегда выдуманы нами. Любить – значит заблуждаться. В вышеупомянутой серии статей я много места уделяю опровержению этой доктрины, превознесенной куда больше, чем она того заслуживает. Мои доводы в ее опровержение могут быть сведены к двум. Во-первых, маловероятно, чтобы вполне обычная жизнедеятельность человека была основана на коренном заблуждении. Любовь подчас ошибается, как ошибаются глаза и уши. Однако в каждом из этих случаев нормой все же является не промах, а попадание. Во-вторых, любовь все-таки тяготеет к воображаемым или реальным, но все же достоинствам и совершенствам. У нее всегда есть объект. И пусть даже реальный человек не во всем совпадает с этим воображаемым объектом, для их сближения всегда имеется некое основание, которое заставляет нас выдумать эту, а не другую женщину.
IV
(НАШИ «ЗАБЛУЖДЕНИЯ») Утверждение, что в любви осуществляется стихийный выбор, который действеннее любого осознанного и преднамеренного, и что это не свободный выбор, а зависящий от важнейших особенностей характера субъекта, конечно же, неприемлемо для приверженцев, по моему убеждению, отжившей концепции человеческой психологии, основанной на преувеличении роли случая и слепых случайностей в человеческой жизни.
Лет семьдесят тому назад или около того ученые настойчиво утверждали эту концепцию и стремились к созданию безотчетной психологии. По обыкновению в следующем поколении их взгляды укоренялись в сознании обывателя, и ныне любая попытка по-новому осветить предмет наталкивается на головы, уставленные громоздким хламом. Даже вне зависимости от того, верен или ошибочен выдвигаемый тезис, неминуемо столкновение с прямо противоположным общим ходом рассуждений. Люди привыкли думать, что события, сплетение которых составляет наше бытие, лишены какого бы то ни было смысла, а являют собой некую смесь случая и изменчивой судьбы.
Любая попытка ограничить роль вышеупомянутых сил в жизни человека и обнаружить внутренние закономерности, коренящиеся в особенностях характера, изначально отвергается. Набор ложных представлений – в данном случае о «любовных историях» ближнего или своих собственных – тотчас перекрывает дорогу к разуму, не позволяет быть услышанным, а затем и понятым. Добавим к этому столь частое недопонимание, которое почти всегда обнаруживается в непроизвольном развитии читателями авторских идей. Такова большая часть получаемых мною замечаний. Среди них чаще всего встречается умозаключение, что если бы мы любили женщин, в которых находила бы отражение наша собственная личность, то вряд ли столько огорчений нам приносили бы наши сердечные дела. Это наводит на мысль, что мои любезные читатели произвольно связали отстаиваемое мною сродство любящего и его объекта с якобы логически вытекающим из этого счастьем.
Так вот, я убежден, что одно не имеет к другому никакого отношения. Допустим, что человек самодовольный до кончиков ногтей, подобно наследственным «аристократам» – как бы их род ни деградировал, – полюбит столь же самодовольную женщину. В результате такого выбора они неминуемо будут несчастны. Не надо путать выбор с его последствиями. Одновременно отвечу на другую большую группу замечаний. Утверждают, что любящие довольно часто ошибаются – представляют себе предмет своей любви таким-то, а он оказывается совсем иным. Не эту ли песню из репертуара психологии любви мы слышим чуть ли не на каждом шагу? Приняв это на веру, нам останется признать нормой или чуть ли не нормой quid pro quo, заблуждение. Наши дороги здесь расходятся. Я не могу не теряя рассудка разделить теорию, согласно которой жизнь человека в одном из своих самых сокровенных и истинных проявлений, а именно такова любовь, – чистейший и непрерывный абсурд, нелепость и заблуждение.
Я не отрицаю, что все это подчас происходит, как случается обман зрения, не подвергающий, однако, сомнению адекватность нашего нормального восприятия. Но если заблуждение пытаются представить как вполне рядовое явление, я расценю это как ошибку, основанную на поверхностных наблюдениях. В большинстве случаев, которые имеются в виду, заблуждения попросту не существует – человек остается тем же, что и вначале, – однако затем наш характер претерпевает изменения – именно это мы и склонны считать нашим заблуждением. К примеру, сплошь и рядом юная мадридка влюбляется в самоуверенного мужчину, облик которого, казалось бы, излучает решительность. Она живет в стесненных обстоятельствах и надеется избавиться от них с его помощью, прельстившись этой самоуверенностью и властностью, коренящимися в абсолютном презрении ко всему божескому и человеческому. Надо признать, что эмоциональная бойкость придает подобному человеческому типу на первый взгляд ту привлекательность, которой лишены более глубокие натуры. Перед нами – тип «вертопраха»[49]. Девушка влюбляется в вертопраха, после чего все у нее должно пойти прахом. Вскоре муж, заложив ее драгоценности, бросает ее. Подруги безуспешно пытаются утешить дамочку, объясняя все тем, что она «обманулась»; но сама-то она в глубине души прекрасно знает, что это не так, что подобный исход она предчувствовала с самого начала и что ее любовь включала в себя и это предчувствие, то, что она «предугадывала» в этом человеке.
Я убежден, что нам следует отказаться от всех расхожих представлений об этом пленительном чувстве, поскольку любовь, особенно у нас на Пиренейском полуострове, выглядит несколько придурковатой. Пора взглянуть свежим взглядом и избавить от навязываемых связей чудную пружину жизненной силы человека, которая далеко не безгранична. Воздержимся же от того, чтобы считать «заблуждение» единственной причиной столь частых сердечных драм. Я сожалею, что здравомыслящий кордовский аноним в новом послании разделяет мысль о том, что нашу любовь вызывает «физическая гармония» и, поскольку одна и та же внешность может скрывать «различные и даже противоположные душевные качества», мы естественным образом впадаем в ошибки, а следовательно, не может быть особой близости между любящим и предметом его любви. А ведь в первом своем письме этот учтивый земляк Аверроэса признавал, что в жестах и мимике человека проявляется его сокровенная сущность. С прискорбием констатирую свою неспособность согласиться с обособлением души и тела – второй великой иллюзией минувшей эпохи. Сущий вздор полагать, что мы видим «только» тело, оценивая встретившегося нам человека. Получается, что потом, усилием воли, мы неизвестно каким, судя по всему, чудесным образом придаем этому физическому объекту душевные качества, неизвестно откуда почерпнутые[50]. Мало того, что это не так; даже когда нам удается, абстрагируясь, как бы отделить душу от тела, нам это стоит огромного труда. Не только в человеческих взаимоотношениях, но и в общении с любым живым существом восприятие физического облика одновременно дает нам представление о его душе или почти душе. Вой собаки говорит нам о ее мучениях, а в зрачке тигра мы разглядим свирепость. Поэтому мы всегда отличим камень или механизм от телесного облика. Тело – это физический облик, наэлектризованный душой, в котором явственно проявляется природа характера. Те же случаи, когда мы ошибаемся и заблуждаемся относительно чужой души, никак не могут, повторяю, опровергнуть адекватности обычного восприятия[51]. При встрече с представителем человеческого рода мы тотчас определяем основные особенности его личности. Наши догадки могут быть более или менее точными в зависимости от природной прозорливости. Ее отсутствие сделало бы невозможным как элементарное общение, так и сосуществование людей в обществе. Каждый наш жест и каждое слово вызывали бы раздражение у собеседника. И подобно тому, как мы осознаем существование слуха, беседуя с глухим, точно так же, столкнувшись с человеком бесцеремонным и лишенным «такта», мы догадываемся о существовании нормального восприятия человеком своих ближних; чувство это ни с чем не сравнимо, ибо оно наделяет нас душевным чутьем, позволяющим ощутить деликатность или суровость чужой души. А вот что и в самом деле недоступно большинству смертных, так это способность «описать» своего ближнего. Однако, не умея «описать», вполне можно все отчетливо видеть. «Описывать» – значит выражать свои мысли понятиями, а способность к выработке понятий предполагает умение анализировать, и прежде всего на интеллектуальном уровне, которое мало кому дано. Знание, выражаемое словами, – более высокая ступень по сравнению с тем, которое довольствуется созерцанием; между тем последнее также есть некое знание. Пусть читатель попробует описать словами то, что перед ним находится, и он поразится, насколько же неполным будет его «описание» по сравнению с тем, что он столь отчетливо видит перед собой. Тем не менее это визуальное знание позволяет нам ориентироваться среди вещей, различать их – например, не имеющие названий оттенки цвета. Столь же тончайшего свойства и наше восприятие ближнего, особенно в любви.
Итак, не стоит повторять как нечто само собой разумеющееся, что мужчина влюбляется во «внешность» женщины и наоборот и лишь спустя какое-то время мы внезапно открываем для себя характер любимого человека. Бесспорно, что отдельные представители и того и другого пола влюбляются во внешний облик; однако это не более как их индивидуальная особенность. Такой выбор обусловлен чувственным характером любящего. Причем подобное встречается значительно реже, чем принято считать. Особенно среди женщин. Поэтому у тех, кому доводилось внимательно изучать женскую душу, возникало сомнение в способности женщин восторгаться мужской красотой. Можно даже заранее определить, какие типы женщин составят тут исключение. Во-первых, женщины несколько мужского склада; во-вторых, те, что ведут чрезвычайно интенсивную половую жизнь (проститутки); в-третьих, женщины нормального темперамента, которые, вступая в зрелый возраст, имеют богатый опыт сексуальных отношений; в-четвертых, те, которые по своим психофизиологическим данным наделены «неуемным темпераментом».
У всех этих четырех типов женщин есть нечто общее, что скрывается за их неспособностью противостоять мужской красоте. Как известно, женская душа более мужской тяготеет к единству; другими словами, во внутреннем мире женщины меньше разбросанности, чем в душе мужчины. Так, для женщины менее характерен вполне обычный для мужчины разрыв между сексуальным удовольствием и восхищением или же преклонением. Для женщины одно связано с другим значительно более тесно, чем для мужчины. Должна быть какая-то особая причина, чтобы чувственность женщины вышла из-под контроля и стала проявляться стихийно и самостоятельно. Так вот, каждый из этих женских типов предрасположен по-своему к неуправляемой чувственности. В первом из них взаимоисключающие устремления коренятся в природе характера, лишенного цельности из-за наличия в нем мужского начала (мужское начало в женщине – одна из интереснейших проблем психологии человека, заслуживающая отдельного исследования). Во втором – неуправляемость лежит в самой основе профессии. В третьем типе, абсолютно нормальном, эта предрасположенность обусловлена тем, что, как говорится, «чувства женщины пробуждаются с годами». Речь идет о том, что они выходят из-под контроля поздно и что только женщина, прожившая долгую, насыщенную и нормальную в сексуальном отношении жизнь, отпускает под занавес свою чувственность на волю. У мужчины избыток воображения может подменять реальный чувственный опыт. У женщины – при отсутствии в ее природе мужского элемента – воображение обычно бывает относительно бедным; судя по всему, именно этой особенностью в немалой степени и объясняется целомудрие большинства женщин.
V
(ПОВСЕДНЕВНОЕ ВЛИЯНИЕ) Если выбор в любви действительно имеет столь принципиальное значение, как это мне представляется, то она является для нас одновременно ratio cognoscendi и ratio essendi[52] человека. Она служит нам критерием и средством познания сокровенной его сущности, напоминая, как впервые это заметил Эсхил, поплавок, который, плавая в пене волн, позволяет нам наблюдать за неводом, погруженным в морскую глубь[53]. С другой стороны, она решительно вторгается в жизнь человека, вводя в нее людей одного типа и изгоняя всех остальных. Тем самым любовь создает индивидуальную человеческую судьбу. Я убежден, что мы недооцениваем огромного влияния, которое оказывают на нас любовные истории. Дело в том, что в лучшем случае мы обращаем внимание на внешние, хотя и весьма драматичные, проявления этого воздействия – «безумства», которые мужчина совершает из-за женщины и наоборот. А поскольку большая часть нашей жизни, если не вся она, свободна от подобных безумств, то мы склонны приуменьшать истинные масштабы этого влияния. Однако в реальности воздействие любви бывает почти незаметным и неощутимым, и прежде всего это касается влияния женщины на жизнь мужчины. Любовь связывает людей в столь тесном и всепоглощающем общении, что за их близостью мы не видим перемен, которыми они друг другу обязаны. Особенно необоримо женское влияние, поскольку оно как бы растворено в воздухе и невидимо присутствует во всем. Его невозможно предвидеть и избежать. Оно проникает сквозь зазоры в нашей предусмотрительности и воздействует на любимого человека, как климат на растение. Присущее женщине чувство бытия ненавязчиво, но постоянно воздействует на наш внутренний мир и в конце концов придает ему наиболее привычные для нее формы.
Мысль о том, что любовь – выбор, идущий из глубин души, мне представляется в высшей степени продуктивной. Если, к примеру, не ограничиваясь одним человеком, распространить эту мысль на всех представителей той или иной эпохи – скажем, одного поколения, – то в результате мы придем к следующим выводам: всегда, когда речь заходит о сообществе, массах, ярко выраженные индивидуальные отличия стираются и доминирующим оказывается усредненный тип поведения; в нашем случае это будет усредненный тип предпочтений в любви. Другими словами, каждое поколение отдает предпочтение определенному мужскому и определенному женскому типу, или, что то же самое, определенной группе представителей одного и второго пола. А коль скоро брак – самая распространенная форма взаимоотношений между полами, то, без сомнения, в каждую эпоху не имеют никаких проблем с замужеством женщины какого-то одного типа[54].
Подобно отдельному человеку, каждое поколение в любовном выборе в такой степени выявляет свою сущность, что на материале исторической сменяемости пользующихся особой популярностью женских типов можно изучать эволюцию человеческого рода. Не только каждое поколение, но и каждая раса получает в результате отбора прототип женской притягательности, который появляется не сразу, а формируется в течение долгих веков, вследствие того, что большая часть мужчин оказывала ему предпочтение. Так, достоверный эскиз архетипа испанской женщины высветил бы жутковатым светом затаенные углы пиренейской души. Впрочем, его очертания стали бы отчетливее при сопоставлении с архетипом французской или, например, славянской женщины. В данном случае, да и вообще, неразумно полагать, что вещи и люди таковы, какие они есть, без всякой на то причины, в силу стихийного самозарождения. Все, что мы видим, что имеет ту или иную форму, есть результат некой деятельности. И в этом смысле все было создано, а следовательно, всегда можно выяснить, какой силой, оставившей на нем свой след, оно было выковано. На душе испанской женщины наша история оставила глубокие вмятины, подобные тем, которые оставляет молоток чеканщика на металлической чаше.
Однако самое интересное в любовных пристрастиях поколения – их всемогущество в причинно-следственном мире. Ибо бесспорно, что не только настоящее, но и будущее каждого поколения зависит от того типа женщины, которому будет отдано предпочтение. В доме царит то настроение, которым проникнута сама женщина и которое она в него вносит. В каких бы сферах ни «командовал» мужчина, его вмешательство в домашнюю жизнь будет косвенным, урывочным и официальным. Дом – это стихия повседневности, непрерывности, это вереница неотличимых одна от другой минут, воздух обыденности, который легкие постоянно вдыхают и выдыхают. Эта домашняя атмосфера исходит от матери и передается ее детям. Им суждено, при всем различии темпераментов и характеров, развиваться в этой атмосфере, накладывающей на них неизгладимый отпечаток. Малейшая перемена в представлениях о жизни у женщины, которой современное поколение отдает свои симпатии, особенно если учесть постоянно растущее число домашних очагов, подверженных ее влиянию, повлечет за собой в ближайшие тридцать лет колоссальные исторические сдвиги. Я ни в коей мере не утверждаю, что этот фактор имеет для истории решающее значение; я настаиваю лишь на том, что он один из самых действенных. Представьте себе, что основной женский тип, предпочтенный нынешними юношами, оказывается наделенным чуть большей энергией, чем тот, к которому питало пристрастие поколение отцов. Тем самым молодым людям наших дней предначертано существование, в несколько большей степени насыщенное предприимчивостью и смелыми решениями, потребностями и замыслами. Самое незначительное изменение в жизненных склонностях, реализованное в обыденной жизни всей нации, неминуемо должно будет привести к величайшим переменам в Испании.
Бесспорно, что решающей силой в историй любого народа является средний человек. От того, каков он, зависит здоровье нации. Само собой разумеется, что я ни в коей мере не отрицаю значительной роли неординарных личностей, выдающихся людей в судьбах своей страны. Не будь их, мало что вообще заслуживало бы внимания. Однако, какими бы выдающимися качествами и достоинствами они ни отличались, их роль в истории осуществляется только благодаря влиянию, которое они оказывают на среднего человека, и примеру, каким они для него служат. Если говорить начистоту, то история – это царство посредственности. У Человечества заглавная только "ч", которой украшают его в типографиях. Гениальность в своем высшем проявлении разбивается о беспредельную мощь заурядности. Похоже на то, что мир устроен так, чтобы им до скончания века правил средний человек. Именно поэтому столь важно как можно выше поднять средний уровень. Великими народы делают главным образом не их выдающиеся люди, а уровень развития неисчислимых посредственностей. Бесспорно, что средний уровень не может быть поднят при отсутствии людей из ряда вон выходящих, показывающих пример и направляющих вверх инерцию толпы. Однако вмешательство великих людей носит второстепенный и косвенный характер. Не они суть историческая реальность – нередко бывает, что в гениальных личностях народ недостатка не испытывает, а историческая роль нации невелика. Это непременно происходит тогда, когда массы равнодушны к этим людям, не тянутся за ними, не совершенствуются.
Не может не удивлять, что историки до самого недавнего времени занимались исключительно явлениями неординарными, событиями удивительными и не замечали, что все это представляет лишь анекдотический, в лучшем случае второстепенный интерес и что исторической реальностью обладает повседневность, безбрежный океан, в необъятных просторах которого тонет все небывалое и из ряда вон выходящее.
Итак, в царстве повседневности решающая роль принадлежит женщине, душа которой служит идеальным выражением этой повседневности. Для мужчины куда более притягательно все необыкновенное; он если не живет, то грезит приключениями и переменами, ситуациями критическими, неординарными, непростыми. Женщина, в противоположность ему, испытывает необъяснимое наслаждение от повседневности. Она уютно устроилась в мире укоренившихся привычек и всеми силами будет обращать сегодня во вчера. Всегда мне казалось нелепым представление о том, что souvent femme varie[55] – скоропалительное откровение влюбленного мужчины, которым женщина от души забавляется. Однако кругозор воздыхателя весьма ограничен. Стоит ему окинуть женщину ясным взором стороннего наблюдателя, взглядом зоолога, как он с удивлением обнаружит, что она жаждет остаться такой, какая есть, укорениться в обычаях, в представлениях, в своих заботах; в общем, придать всему привычный характер. Неизменное отсутствие взаимопонимания в этом вопросе между представителями сильного и слабого пола потрясает: мужчина тянется к женщине как к празднику, феерии, исступлению, сокрушающему монотонность бытия, а обнаруживает в ней существо, счастье которого составляют повседневные занятия, чинит ли она нижнее белье или посещает dancing. Это настолько верно, что, к своему немалому удивлению, этнографы пришли к убеждению, что труд изобретен женщинами; труд, то есть каждодневное вынужденное занятие, противостоящее всевозможным предприятиям, вспышкам энергии в спорте или авантюрам. Поэтому именно женщине мы обязаны возникновением ремесел: она была первым земледельцем, собирателем растений, гончаром. (Я не перестаю удивляться, почему Грегорио Мараньон в своей работе, озаглавленной «Пол и труд», не учитывает этого обстоятельства, столь элементарного и очевидного.) Признав повседневность решающей силой истории, трудно не увидеть исключительного значения женского начала в этнических процессах и не проявить особого интереса к тому, какой тип женщины получал в нашем народе предпочтение в прошлом и получает ныне. Вместе с тем я понимаю, что подобный интерес среди нас не может быть столь уж горячим, поскольку многое в характеристике испанской женщины объясняют ссылками на предполагаемое арабское влияние и авторитет священника. Не будем сейчас решать, сколь истинно подобное утверждение. Мое возражение будет предварительным, и заключается оно в том, что, признав эти факторы решающими в формировании типа испанской женщины, мы тем самым свели бы дело исключительно к мужскому влиянию, не оставляя места обратному процессу – воздействию женщины на мужчину и на национальную историю.
VI
(ЛЮБОВНЫЙ ОТБОР) Какому типу испанской женщины отдавало предпочтение предшествовавшее нам поколение? Какому отданы наши симпатии? На какой падет выбор нового времени? Вопрос это тонкий, непростой, щекотливый, каким и должен быть вопрос, над которым стоит думать. Для чего же еще писать, если не для того, чтобы, склонившись над листом бумаги, встречаться, как в корриде, лицом к лицу с явлениями опасными, стремительными, двурогими? Кроме того, в данном случае речь идет о проблеме чрезвычайной важности, и можно только поражаться тому, что она и некоторые иные, такого же рода, почти не привлекают внимания исследователей. Финансовый закон или правила уличного движения обсуждаются весьма бурно, и в то же время не принимается во внимание и не изучается эмоциональная деятельность, в которой как на ладони все бытие наших современников. Между тем от типа женщины, какому оказывается предпочтение, не в последнюю очередь зависят политические институты. Было бы наивным не сознавать прямой зависимости, к примеру, между испанским Парламентом 1910 года и женским типом, которому политики той поры вверяли свой домашний очаг. Я хотел бы обо всем этом написать, отдавая себе отчет в том, что девять десятых моих умозаключений будут ошибочными. Однако способность жертвовать своим искренним заблуждением – единственная общественная добродетель, которую писатель может предложить своим соотечественникам. Все остальное – сотрясание воздуха во время митинга в сквере или за столиком кафе, потуги на героизм, не имеющие никакого отношения к интеллекту, в сущности и определяющему значение писательской профессии. (Вот уже десять лет, как многие испанские писатели, прикрываясь политикой, отстаивают свое право быть глупыми.) Однако прежде чем пытаться наметить контуры женского типа, которому сегодня в Испании отдается предпочтение, – проблема, заслуживающая отдельного исследования, – мне хотелось бы довести до логического завершения с далеко идущими выводами свои соображения о выборе в любви.
Осуществляемый уже не отдельным индивидом, а поколением в целом, любовный выбор становится отбором, и мы оказываемся в сфере идей Дарвина – теории естественного отбора, могучей силы, способствующей появлению новых биологических форм. Эту замечательную теорию не удалось успешно приспособить к изучению человеческой истории: ее место было на скотном дворе, в загонах для скота и лесной чаще. Чтобы она была переосмыслена в качестве исторической концепции, требовалось лишь самое малое. Человеческая история – это внутренняя драма: она совершается в душах. И было необходимо перенести на эту потаенную сцену идею полового отбора. Теперь для нас не секрет, что в человеке этот отбор оборачивается выбором и что этот выбор диктуют сокровенные идеалы, поднимающиеся из самых глубин личности.
Таким образом, одного звена теории Дарвина не хватало, в то время как другое звено – утверждение, что в результате полового отбора выбирались и предпочитались самые приспособленные, – было явно лишним. Эта категоричная мысль о приспособлении и делает идею весьма расплывчатой и неясной. Когда организму легче всего приспосабливаться? Не получается ли так, что приспособиться могут все, кроме больных? С другой стороны, нельзя ли утверждать, что полностью приспособиться не может никто? Я вовсе не оспариваю принцип приспосабливаемости, без которого биология немыслима. Надо только признать, что он более сложен и противоречив, чем полагал Дарвин, но прежде всего согласиться с его вспомогательной ролью. Ибо ошибочно считать жизнь сплошным приспособлением. В какой-то мере оно всегда в жизни присутствует; но она же – жизнь – не перестает поражать формами отчаянно смелыми, не поддающимися адаптации, которые, впрочем, ухитряются примириться со стесненными обстоятельствами и в результате – выжить. Таким образом, все живое не только можно, но и нужно изучать с двух противоположных точек зрения: как блистательное и прихотливое явление неприспосабливаемости и как искусный механизм приспосабливаемости. Судя по всему, жизнь в каждое живое существо вкладывает неразрешимую проблему, чтобы доставить себе удовольствие разрешить ее, как правило, изобретательно и блестяще. Настолько, что, исследуя живой мир, невольно хочется вглядеться в просторы Космоса в поисках сведущего зрителя, под аплодисменты которого Природа шутя совершает всю эту работу.
Нам не дано знать истинных намерений, осуществляемых половым отбором в человеческом роду. Мы можем видеть лишь отдельные частные последствия, а также задать некоторые неодолимо влекущие настойчивые вопросы. Вот один из них. Оказывала ли женщина хоть когда-нибудь предпочтение самому замечательному для этой эпохи типу мужчины? Едва сформулировав этот вопрос, мы тотчас ощущаем его противоречивую двойственность: замечательный мужчина с точки зрения мужчины и замечательный мужчина с точки зрения женщины не совпадают. Есть серьезные основания подозревать, что они никогда не совпадали.
Скажем со всей определенностью: женщину никогда не интересовали гении, разве что per accidens[56], то есть когда с гениальностью мужчины ее примиряют другие его качества, не имеющие к гениальности никакого отношения. Качества, которые мужчины особенно ценят, как имеющие значение для прогресса и человеческого достоинства, нисколько не волнуют женщину. Можно ли сказать, что для женщины существенно, является ли тот или иной мужчина великим математиком, великим физиком, выдающимся политическим деятелем? Ответ в данном случае будет однозначным: все специфически мужские способности и усилия, порождавшие и преумножавшие культуру, сами по себе не представляют для женщин никакого интереса. И если мы попытаемся определить, какие качества способны вызвать любовь женщины, мы обнаружим их среди наименее значимых для совершенствования человеческой природы, наименее интересующих мужчину. Гений, с точки зрения женщины, «неинтересный мужчина», и наоборот, «интересный мужчина» неинтересен мужчинам.
Убедительнейший пример того, что великий человек оставляет равнодушной женщину, разделившую его судьбу, – Наполеон. Его жизнь известна нам до минуты; в нашем распоряжении есть полный список его сердечных привязанностей. Жаловаться на физические недостатки ему не приходилось. Стройность, изящность придавали ему в юности сходство с поджарым и гибким корсиканским лисом; впоследствии фигура его обрела по-императорски округлые очертания, а черты лица, оформившись, стали идеальными с точки зрения мужской красоты. Известно, что внешность его вызывала восторг и будила фантазию художников – живописцев, скульпторов, поэтов; казалось бы, и женщины должны были испытывать к нему влечение. Ничего подобного: есть все основания утверждать, что ни одна женщина не была влюблена в Наполеона – властелина мира; близость к нему тревожила их, беспокоила, льстила их самолюбию; втайне же все они думали то, что Жозефина, самая искренняя, говорила вслух. В то время как охваченный страстью молодой генерал бросал к ее ногам драгоценности, миллионы, произведения искусства, провинции, короны.
– Жозефина изменяла ему с очередным танцором и, получая подношения, с удивлением восклицала: «Il est drole, ce Bonaparte!»[57], раскатывая "р" и особо акцентируя "л", подобно всем французским креолкам[58].
Горько сознавать, что несчастным великим людям было отказано в женском тепле. Судя по всему, гениальность отталкивает женщин. Исключения лишь подтверждают правило, всеобъемлющий, неутешительный характер которого не подлежит сомнению.
Я имею в виду следующее: в сердечных делах необходимо четко разграничивать два состояния, смешение которых от начала и до конца запутывает психологию любви. Чтобы женщина полюбила мужчину (равно как и наоборот), необходимо, чтобы она сначала обратила на него внимание. Это внимание – не что иное, как особая заинтересованность человеком, благодаря которой он оказывается выделенным и вознесенным над общим уровнем. Подобная благосклонность не имеет прямого отношения к любви, однако ей непосредственно предшествует. Влюбиться, не проявив вначале интереса, невозможно, хотя интересом все может и ограничиться. Ясно, что это внимание создает для зарождающегося чувства крайне благоприятную обстановку, которая и служит, по существу, началом любви. Однако чрезвычайно важно видеть разницу между этими состояниями, ибо природа их различна. Немало ошибочных положений психологии зиждется на смешении качеств, «привлекающих внимание», благодаря которым человек предстает в выгодном свете, с теми, которые служат причиной любви. К примеру, вовсе не за богатство любят человека; однако богач пользуется благосклонным вниманием женщин благодаря богатству. Так вот, знаменитость благодаря своим дарованиям имеет все шансы быть отмеченным вниманием женщины; так что если она не влюбляется, то, казалось бы, этому трудно найти оправдание. С великими людьми, пользующимися в большинстве случаев широкой известностью, обычно так и бывает. Тем не менее антипатия, которую великий человек вызывает у женщины, является вполне закономерной. Женщина презирает великого человека, имея свои основания, а не случайно или по недомыслию.
С точки зрения отбора, осуществляемого в человеческом роде, это обстоятельство означает, что женщина своими сердечными привязанностями не способствует совершенствованию человечества, во всяком случае так, как это понимает мужчина. Она, скорее, стремится устранить наиболее яркие, с точки зрения мужчины, индивидуальности, отдавая отчетливое предпочтение посредственности. Прожив долгую жизнь, изо дня в день наблюдая за женщинами, трудно сохранить иллюзии относительно их сердечных пристрастий. То восхищение, которое у женщины подчас вызывают выдающиеся люди, не будет больше вводить в заблуждение, если наконец увидеть, насколько естественно, как будто в родной стихии, она чувствует себя в общении с посредственностями.
Таковы предварительные замечания; я только хочу подчеркнуть, что в них не содержится никакой критики женского характера. Повторю, что нам не дано знать тайных намерений Природы. Кто знает, не таится ли глубокий смысл за этой неприязнью женщины к самому лучшему? Быть может, в истории ей и предназначена роль сдерживающей силы, противостоящей нервному беспокойству, потребности в переменах и в движении, которыми исполнена душа мужчины. Итак, если взглянуть на вопрос в самой широкой перспективе и отчасти в биологическом ракурсе, то можно сказать, что основная цель женских порывов – удержать человеческий род в границах посредственности, воспрепятствовать отбору лучших представителей и позаботиться о том, чтобы человек никогда не стал полубогом или архангелом.
КОММЕНТАРИЙ
(Estudios sobre el amor). – О. С., 5, р. 553—626.
Впервые опубликованы в «Эль Соль» в 1926 и 1927 гг. Изданы отдельной брошюрой в Германии в 1933 г. и только в 1941 г. – в Мадриде, в издательстве «Ревиста де Оксиденте».
Тема любви в ее философском, эстетическом, психологическом, даже социологическом аспекте не случайна для Ортеги-и-Гассета. В центре его философской системы стоит жизнь человека, понимаемая как «радикальная реальность», которая, по мысли философа, является двойственной, расщепляясь на мужское и женское начала. Ортега затрагивал эту проблему на протяжении всей жизни, во многих эссе, но наиболее законченное воплощение его взгляды на «культуру любви» нашли именно в данной работе.
Примечания
1
Имеется в виду период философской деятельности М. Шелера, связанный с его работой в Кельнском университете (1919—1928). Находясь под влиянием немецкого философа Р. Эйкена (1846—1926), вознамерившегося создать метафизику духа, Шелер усиливает аксиологическое содержание феноменологической философии Э. Гуссерля (как главного идейного источника собственного философского мышления), оснащая ее антропологическими идеями философии жизни и ориентируя на обслуживание религиозной веры. В 20-е гг. выходят в свет все главные работы М. Шелера, так же как и гуссерлианца А. Пфендера.
(обратно)2
«Любовь – аппетит (стремление) к красоте» (итал.). Лоренцо Медичи – правитель Флоренции и поэт; свои философские взгляды, близкие к неоплатонизму, изложил в комментариях к поэтическим произведениям.
(обратно)3
Пример литературной мистификации. Письма португальской монахини Марианны Алькофарадо на самом деле принадлежат перу виконта де Гийерага, друга Мольера, Буало и Расина (см.: Гийераг. Португальские письма. Пер. А. Левинсона. М., 1973; первая цитата – на с. 24; вторая – на с. 16; третья – на с. 13).
(обратно)4
Жюли Жанна Элеонора де Леспинасс была возлюбленной Даламбера, но подлинную страсть питала к генералу Гиберу. Законная вдова Гибера опубликовала в 1809 г. «Письма» мадемуазель де Леспинасс, представляющие собой интереснейший документ эпохи.
(обратно)5
Спиноза полагал, что «хотение, чувство, познание, любовь и пр. суть различные модусы» единственной субстанции, «которая существует сама по себе и является субстратом всех других атрибутов» (Краткий трактат о боге, человеке и его счастье. – В кн.: Спиноза Б. Избр. произв. Т. 1. М., 1957, с. 92, 91).
(обратно)6
За и против (латин.).
(обратно)7
Тем хуже!… Тем лучше! (франц.)
(обратно)8
Трактат Стендаля «О любви» был написан в 1822 г., до создания его основных романов.
(обратно)9
Рассуждения Ортеги вокруг концепции «цивилизация», видимо, требуют какой-то иной точки отсчета, отличающейся от принятой в науке. Дело в том, что «эманационистская» теория (теория эманации божественной сущности) в развитие учения Платона о едином и идеях разрабатывается сначала в александрийской школе неоплатоников и уже оттуда воспринимается философией Возрождения в лице Дж. Бруно.
Что касается теории «цивилизации», применяемой к обобщению истории высших достижений в области культуры человечества, то она складывается уже в XX в. в трудах историков и философов культуры Л. Хобхауса, О. Шпенглера, А. Тойнби, а в конце XIX а. – у русских мыслителей К. Данилевского, А. Леонтьева. Не знать этого Ортега, разумеется, не мог.
(обратно)10
К. Маркс рассматривал классовую борьбу в качестве «мотора» исторических изменений в классовом обществе, а не в истории в целом.
(обратно)11
Курорте (франц.).
(обратно)12
Любовь – удовольствие, любовь – тщеславие, любовь – страсть (франц.).
(обратно)13
Вообще (латин.).
(обратно)14
Мелкобуржуазной (франц.).
(обратно)15
Маркиза де Кюстин была женой дипломата Рено-Филиппа де Кюстина (1768—1794) и невесткой генерала Адама-Филиппа де Кюстина (1748—1793). Оба были гильотинированы во время революции; сама маркиза чудом избежала казни.
(обратно)16
Повесть Шатобриана «Атала, или Любовь двух дикарей» опубликована в 1801 г.
(обратно)17
«Владелица Фервака Стоит смелой атаки» (франц.).
(обратно)18
Платон, таким образом, понимает любовь как свойство души (отсюда – понятие «платонической» любви). Его ученик Аристотель признавал любовь либо в форме сексуального влечения, либо как дружбу, лишенную эротического начала. В этом проявлялось существо его концепции человека как совокупности души и тела (см.: Аристотель. О душе. 403 а 3. Соч. 1. М., 1975).
(обратно)19
Шляпы и плащи – ничего более (франц.).
(обратно)20
Картина «Малые кавалеры» в последнее время приписывается Хуану Масо, ученику и зятю Веласкеса.
(обратно)21
Имеется в виду именно любовь, а не то состояние, в котором находится любящий
(обратно)22
Самим фактом, само по себе (латин.).
(обратно)23
Платон различал четыре разновидности «божественной одержимости»: 1) вдохновенное прорицание, олицетворением которого является Аполлон; 2) посвящение в таинства – Дионис; 3) творческая одержимость – музы; 4) любовное неистовство – Афродита, Эрот (см.: Пмпгон. Федр, 265 в. Соч., т. 2, с. 204).
(обратно)24
Герой романа Бальзака «История величия и падения Цезаря Биротто» (1837).
(обратно)25
В строгом смысле слова (латин.).
(обратно)26
Единственно существенное отличие состоит в следующем: некоторые мистики были «помимо прочего» великими мыслителями и наряду со своим мистицизмом передают нам свои доктрины, нередко гениальные. Таковы Плотин или Мейстер Экхарт. Однако в области собственно мистики они неотличимы от самых заурядных исступленных
(обратно)27
См.: Baruzi J. Saint Jean de la Croix et le probleme de 1'experience mystique. Paris, 1924
(обратно)28
По Экхарту, Бог есть «надсущностная сущность и надсущностное ничто». Поэтому о Нем можно сказать, что Он суть некая «бессодержательная неподвижность», даже если Он, несмотря на это, рассматривается в качестве истинной сущности всех творений. «Если Бог на мгновение отделяется от них (то есть от своих творений. – О. Ж.), Он сводится к ничто» (Die Deutschen Mystiker der 14 Jahrunderts. Bd. 2, 318—319, 316. Изд. Ф. Пфейффера). У Ортеги, таким образом, мысль мистика-пантеиста И. Экхарта развивается, скорее, в скептическом плане.
(обратно)29
2-е послание к коринфянам, 6, 10.
(обратно)30
Объект (то, что находится вне нас) и инъект (то, что находится внутри нас, внедрено в нас).
(обратно)31
Один из разделов книги св. Тересы де Хесус «Внутренний замок, или Жилища» (см.: Santa Teresa de Tesus, Obras completas Madrid, 1976, p. 441).
(обратно)32
Квиетизм – понимание благочестия как созерцательного, духовного самоуглубления.
(обратно)33
Прояснение (франц.).
(обратно)34
Нетрудно заметить, что я не затрагиваю вопроса о религиозном значении «блаженного состояния». Речь, собственно говоря, идет лишь об особенностях психологического состояния, общего для мистиков всех религий
(обратно)35
«Бог и душа. Что-нибудь еще? Ничего совершенно» (латин.).
(обратно)36
San Juan de la Cruz. Cantico espiritual. – Poesias completas. Madrid, 1973, p. 16. Пер. Bс. Багно.
(обратно)37
Ibid. p. 48.
(обратно)38
*Uber das Wesen der Hypnose. Berlin, 1922
(обратно)39
Одна из разновидностей скорпиона, обитающая в Средней Азии.
(обратно)40
При прочих равных условиях (латин.).
(обратно)41
На причинах этой способности жестов, мимики, почерка, манеры одеваться, делать тайное явным я останавливаюсь в эссе «О вселенском феномене выразительности» ("El Espectador ", t. 7)
(обратно)42
С поличным (итал.).
(обратно)43
То, что половой инстинкт реализуется по принципу отбора, было одним из величайших открытии Дарвина. Будем считать любовь другой сферой проявления еще более строгого отбора
(обратно)44
Любопытнейшее и крайнее выражение этого явления – «обращение»: внезапная перемена, катастрофический перелом, который иногда переживает человек. Да будет мне позволено на этот раз не углубляться в столь непростую тему
(обратно)45
Сразу же, немедленно (латин.).
(обратно)46
Телесная сторона любви (франц.).
(обратно)47
Сластолюбие, равно как и литература, не инстинкт, а истинное творение человека. И в том и в другом случаях самое главное – воображение. Почему бы психиатрам не изучать сластолюбие с этой точки зрения, подобно тому как изучается литературный жанр, имеющий свои истоки, свои законы, свою эволюцию и свои границы?
(обратно)48
*Если бы исходили из того, что помимо инстинктов тела существуют также инстинкты души, в чем я убежден, дискуссия могла бы идти совершенно в ином русле
(обратно)49
Мне неизвестно происхождение этого столь меткого выражения вашего языка, и, если кто-либо из читателей обладает достоверными сведениями, я был бы ему очень признателен, если он их мне сообщит. Подозреваю, что оно восходит к сценам надругательств над мертвыми и своим возникновением обязано золотой молодежи эпохи Возрождения
(обратно)50
Этой проблеме посвящена как моя статья «Восприятие ближнего» (Obras completas, t. 6), так и, особенно, замечательная работа Шелера «Wesen und Fonnen der Sympatie»(«Сущность и формы симпатии» (нем.).) (1923)
(обратно)51
Интересующимся этой важной проблемой выразительных возможностей тела вновь рекомендую мою статью «О вселенском феномене выразительности» («El Espectador», t. 7)
(обратно)52
Основание познания; основание бытия (латин.).
(обратно)53
«…Невод в глубине морской Не пропадает: поплавки хранят его».
(Эсхил. Жертва у гроба, 504—505. Пер. С. Апта).
(обратно)54
Думаю, нет необходимости в связи с этим частным случаем вспоминать общеизвестные условия существования любого закона или обобщения многочисленных разрозненных фактов – условия, на которых основывается статистика. В любой значительной группе явлении представлен, конечно же, самый широкий и разнообразный их спектр; тем но менее превалирует какой-то один тип, а исключения не берутся в расчет. В любую эпох, выходят замуж женщины самых различных типов, и все же в каждую из эпох один какой-либо тип имеет неоспоримые преимущества перед остальными
(обратно)55
Женщина изменчива, непостоянна (франц.).
(обратно)56
Случайно (латин.).
(обратно)57
«Какой забавник этот Бонапарт!» (франц.).
(обратно)58
Отношения между Бонапартом и Жозефиной глубоко изучены в недавней работе О. Обри («Le roman de Napoleon: Napoleon et Josephine», 1927)
(обратно)



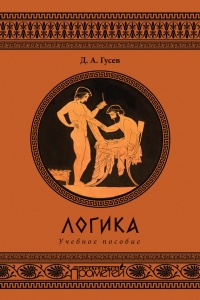
Комментарии к книге «Этюды о любви», Хосе Ортега-и-Гассет
Всего 0 комментариев