Моисей Матвеевич Рубинштейн О смысле жизни Труды по философии ценности, теории образования и университетскому вопросу Под редакцией Н. С. Плотникова и К. В. Фараджева Том I
Подготовка настоящего издания осуществлена при поддержке Фонда Фольксваген (Ганновер, ФРГ) в рамках научного проекта «Личность-субъект-индивидуум. Философские концепты „персональности“ в истории немецко-русских культурных связей»
СОСТАВИТЕЛИ СЕРИИ
В. В. Анашвили, А. Л. Погорельский
НАУЧНЫЙ СОВЕТ
В. Л. Глазычев, Л. Г. Ионин, А. Ф. Филиппов, Р. З. Хестанов
ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МОИСЕЯ РУБИНШТЕЙНА
Казалось бы, в последние годы все «забытые» имена отечественной философии триумфально или пусть даже без лишнего шума вернулись к широкой публике, заняли свое место в философском обиходе и завершили череду открытий-воскрешений в российской интеллектуальной истории.
Вероятно, это благополучие иллюзорно – ведь признание обрели прежде всего труды представителей религиозно-философских направлений, удобных в качестве готовой альтернативы выхолощено официозной диалектике марксистского толка, но столь же глобальных в притязаниях на утверждение собственной картины мира. При этом нередко упускаются из вида концепции, лишенные грандиозности претензий на разрешение последних тайн бытия, но концентрирующие внимание на методологии и старающиеся не уходить в стилизованное богословие или упиваться спасительной метафорикой, которая вроде бы избавляет от необходимости строго придерживаться собственно философских средств.
Этим как раз отличается подход М. Рубинштейна – человека удивительной судьбы, философа и педагога, который неизменно пытался ограничить круг исследования соразмерно познавательным средствам используемой дисциплины. Его теоретико-познавательные установки подразумевают отказ от претензии достигнуть абсолютного знания в рамках философского анализа, основанного на законах логики и рассчитанного на человеческий масштаб восприятия. В подобном отказе от всеохватности познавательных устремлений сказывалось влияние неокантианства, а также школы прагматизма, прежде всего, главного ее представителя – Вильяма Джемса. В дискуссии о прагматизме на одном из философских собраний[1] М. Рубинштейн отмечал, что это направление, наряду с неокантианством, не рассматривает метафизику как объект научного или философского знания – такая познавательная установка не нарушает компетенции религии, но противостоит «средневековой тенденции» подчинять логику религиозному опыту[2].
При этом методологическая требовательность не означала этической безоценочности. Напротив, даже представители религиозной философии, преодолевшие увлечение неокантианством и настороженно относящиеся к прагматизму, например, С. Франк и Н. Бердяев подчеркивали своеобразную этизацию гносеологии школой «Виндельбанда – Риккерта»[3]. Также и Г. Шпет указывал на склонность Наторпа – одного из основоположников Марбургской школы неокантианства – рассматривать этику и эстетику как продолжение и развитие логики в иных модусах бытия[4].
Признание истины являлось в этой перспективе своеобразным долгом – отголоском категорического императива. Воля к истине – движущая сила любого познания, и логика возвеличивалась до уровня этики мышления. Если суждение основано на законах логики, отрицать его можно или вследствие недостаточной способности к логическому восприятию, или в силу желания обмануть. Отрицание логически очевидного оказывается безнравственно, если, конечно, оставаться в логической системе координат, не декларируя обращения к иным способам познания, которые не лишены права на существование, но не могут являться общеобязательными…
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
Моисей Матвеевич Рубинштейн родился 28 июня (по новому стилю) 1878 года в селе Захарово Верхнеудинского уезда Забайкальской области в купеческой семье. После окончания Верхнеудинского (ныне Улан-Удэ) уездного училища он продолжил образование в Иркутской губернской гимназии. В 1899 году М. Рубинштейн поступил в Императорский Казанский университет, славный именами многих студентов, добившихся известности в самых различных областях науки. При университете была собрана богатая библиотека, налаживались связи с зарубежными центрами образования. Проведя год в Казани, М. Рубинштейн вместе с женой – Н. И. Зисман – уехал стажироваться в Германию – сначала, в мае 1900-го, в Берлин, потом во Фрейбург – изучать медицину. Увлеченный неокантианством (прежде всего в исполнении Виндельбанда и Риккерта), он в 1901-м решил оставить занятия естественными науками и перейти на философский факультет.
В 1905-м М. Рубинштейн успешно защитил у Риккерта диссертацию «Логические основы системы Гегеля и конец истории» и начал печататься в ряде немецких и российских изданий. Поработав в университетах Берлина, Дрездена и Гейдельберга, он в 1907-м возвращается с семьей в Россию – близость к народническим идеалам просвещения и предчувствие грядущих перемен заставили его покинуть – на тот момент – благополучную Германию.
В 1909-м вышла первая его монография «Идея личности как основа мировоззрения». М. Рубинштейн читает лекции на Высших женских курсах В. А. Полторацкой, сотрудничает с журналами «Вопросы философии и психологии», «Русская мысль» и «Вестник воспитания». В 1910-м занимает должность декана педагогического факультета Московских высших женских педагогических курсов Д. И. Тихомирова, одновременно преподавая на многочисленных курсах повышения квалификации. В 1912-м начинает преподавательскую деятельность при кафедре философии Императорского Московского университета. Здесь помогла его формальная принадлежность к лютеранству, поскольку еврей, исповедующий иудаизм, преподавать в университетах права не имел. (Так же и в случае С. Франка устройство на работу в Санкт-Петербургский университет было возможно лишь благодаря его переходу в православную конфессию.) М. Рубинштейн становится все более известен, как один из ведущих исследователей в области проблем педагогики, в 1913-м выходит его монография «Очерк педагогической психологии в связи с общей педагогикой».
М. Рубинштейн отличался не только широтой научных интересов, но и организаторскими способностями. Являясь членом Московского психологического общества, возглавляемого Л. Лопатиным, он занимался организацией съездов и конференций, стоял у истоков студенческого научно-педагогического кружка при Императорском университете, вел неустанную просветительскую работу, участвуя в заседаниях Московского общества грамотности, Кружка по дошкольному воспитанию при Московском городском народном университете им. А. Л. Шанявского. Кроме того, пытался наладить издание серии «Великие педагоги», привлекая к сотрудничеству таких неординарных мыслителей и педагогов, как Г. Шпет и П. Блонский.
Конечно, М. Рубинштейн особенно болезненно воспринимал начало войны со страной, где проходило его становление как философа. Стремясь предельно отчетливо выразить свою гражданскую позицию, он не мог оставаться в стороне от полемики по поводу духовных истоков войны. Его точка зрения особенно ярко выражена в статье «Виноват ли Кант?». Прежде всего это был ответ на изобретенные В. Эрном и адресованные Канту упреки в апологии субъективизма, который будто бы обосновывает допустимость любого произвола во всех жизненных сферах[5].
М. Рубинштейн подчеркивает, что сущность кантовской философии заключается как раз в утверждении моральной ответственности субъекта – война не является неизбежным выражением особенностей немецкой культуры, напротив, представляет собой отпадение от ее основ, от заветов великих ее деятелей. Попытки В. Эрна сблизить «Канта и Круппа» он именует «вандальскими актами» и «чудовищной нелепостью»… Вообще, надо сказать, многие статьи М. Рубинштейна представляют собой образец качественной философской публицистики, достаточно редкой для социально-философского поля в предреволюционной России.
Как уже было отмечено, сочетание в человеке философского и организаторских талантов встречается нечасто, но это как раз случай М. Рубинштейна. Особенно показательна борьба за основание Иркутского университета. Вообще университетский вопрос – тема, к которой отечественные философы обращались довольно редко. Отчасти это было связано с традиционно непрочным положением философии в российских университетах, а также с подозрительным отношением со стороны представителей «вольной» философии к официальным учреждениям. Для М. Рубинштейна практический аспект процесса образования – прежде всего положение дел в высшей школе – уже в молодости являлся одним из приоритетов в научных интересах, отраженных в статьях «К вопросу о русских студентах в немецких университетах», «Пасынки университета (О подготовке молодых ученых)», «Университет и воспитание».
Планы организации Восточно-Сибирского университета зрели давно, но дореволюционные власти не были от этой идеи в восторге, поскольку, по удачному выражению одного из сыновей М. Рубинштейна – Александра[6], Иркутск был перевалочным пунктом для рассредоточения политических заключенных. Надежды на создание университета пробуждались и рушились вместе со сменой правительств – царского, временного, советского, «Всемирного сибирского», снова советского… Летом 1918-го М. Рубинштейн, заручившись поддержкой в Наркомпросе, очередной раз выехал в Иркутск, но пока находился в пути, (более месяца), советская власть в Сибири была свергнута – достигнутые с большевиками договоренности потеряли силу, и учреждение университета снова оказалось под угрозой. Лишь счастливый случай спас в дороге семью: командировка, оформленная Наркомпросом, являлась достаточным поводом для тюремного заключения. Но военным комендантом станции в городе Курган оказался офицер – бывший студент М. Рубинштейна, выдавший ему охранную грамоту…
Переговоры об обеспечении нового учебного заведения материально-технической базой пришлось начинать с нуля, велся напряженный поиск источников финансирования. В августе министр народного просвещения Временного сибирского правительства В. Сапожников подписал устав университета. М. Рубинштейн назначается исполняющим обязанности ректора, университету передается бывший дом генерал-губернатора Иркутска, именуемый горожанами Белым домом. В октябре, наконец, состоялось торжественное открытие, М. Рубинштейн был утвержден ректором[7].
Еще на стадии подготовки к открытию университета отчетливо ощущалась необходимость в поиске достойных преподавательских кадров. М. Рубинштейн старается привлечь к преподаванию в новом университете ряд известных столичных специалистов, знакомых коллег – философа Г. Шпета, востоковеда А. Крымского, занимавшегося историей античности Н. Куна, филологов и историков литературы А. Орлова, С. Радцига, Б. Ярхо[8].
Большинство ученых не смогли принять приглашение в силу экстремальных обстоятельств, характерных для послереволюционного времени. Тем не менее ректору удалось наладить работу историко-филологического и юридического факультетов, и, несмотря на экономическую разруху и угрозу продолжения гражданской войны, он борется за открытие медицинского и физико-математического. Активно формируется университетская библиотека. В Иркутск переехали несколько преподавателей из Казанского университета, среди них замечательный социолингвист А. Селищев, который возглавил кафедру русского языка.
Но возникают проблемы с местными военными властями, требующими разместить в Белом доме лазарет, а также провести поголовную мобилизацию студентов и преподавательского состава, включая профессоров. В результате этих конфликтов против ректора дважды возбуждались уголовные дела, которые, правда, удалось замять. Университет устоял – в октябре 1919-го благополучно отмечали его годовщину.
Все же очередная смена власти принесла новые неприятности: человек, оказавшийся способным в период правления белых сдвинуть с мертвой точки дело по организации университета, начал вызывать подозрения. В январе 1920-го М. Рубинштейн «по состоянию здоровья» складывает с себя полномочия ректора и сосредотачивается на подготовке книги «Платон-учитель» для продолжения серии «Великие педагоги». В то же время советская власть была заинтересована в открытии учебных заведений, обеспечивающих подготовку специалистов для работы в новых условиях. М. Рубинштейн принимается за организацию Восточно-Сибирского педагогического института и вскоре становится его ректором. Впрочем, уже в следующем, 1921-м году институт был преобразован в педагогический факультет Иркутского университета, а М. Рубинштейн остался в должности декана.
В 1920-м в Москве выходит третье издание «Очерка педагогической психологии…», вызвавшее положительную реакцию в среде либеральных педагогов, – на тот момент еще продолжают издаваться несколько педагогических журналов, альтернативных официозу. Так, П. Каптерев дал небольшую рецензию в «Педагогической мысли», отмечая, что очерк написан «живо, просто, сердечно; во всем видится не казенная, обязательная работа, а труд, начатый по свободному изволению»[9]. Последнее, значительно сокращенное издание данной книги было осуществлено в 1927 году.
О творчестве М. Рубинштейна отзывался и В. Зеньковский, характеризуя «Очерк педагогической психологии…» как одну из лучших отечественных книг по общей педагогике[10]. Впрочем, непосредственно философские труды М. Рубинштейна остались В. Зеньковскому незнакомы. Об этом свидетельствует и замечание в «Истории русской философии», что книга «О смысле жизни» практически недоступна заграницей, и предположение, что М. Рубинштейн был до революции поклонником «метафизического», а не нормативного и теоретико-познавательного идеализма. (О необходимости тщательного разграничения различных видов идеализма он подробно толковал в статье, посвященной Риккерту)
Чтобы немного представить себе обаяние личности М. Рубинштейна, интересно обратиться к воспоминаниям Елены Боннэр, которая приходится ему внучатой племянницей. «В 1982 году, когда я еще ездила из Горького в Москву мне на маминой полке попалась на глаза книга в старом коричневом переплете издания 1913 года – М. М. Рубинштейн «Очерк педагогической психологии». Я видела ее всю жизнь, помнила, что там есть дарственная надпись от автора моей бабушке, но никогда раньше у меня не появлялось желания прочесть эту книгу. Я взяла ее в Горький. Теперь нашлись «время и место». При чтении книги меня не покидало то же ощущение доверительности и серьезности, которое возникало при каждом общении с дядей Мосей в реальной жизни. Доверительности и серьезности и по отношению к собеседнику – сейчас читателю, – и к ребенку, о котором вся книга. Детский поиск Бога, поиск доброты, попытки постигнуть понятия «жизнь» и «смерть». Ну, конечно же, он был идеалист, наш дядя Мося»[11].
В 1923-м он принимает приглашение со стороны нескольких московских вузов и остается в столице, работая в МВТУ, МГПИ, Центральном институте физкультуры и т. д. В конце двадцатых годов в полную силу развернулась безобразная травля педагогов, позволяющих себе мыслить не только в пределах партийных установок. М. Рубинштейна клеймят, как идеалиста и буржуазного реакционера[12]. Его также не допускают к работе над первой советской педагогической энциклопедией, составленной из тематических статей и вышедшей в 1927 – 1929 годах.
Следствием этой кампании явился арест, полгода, проведенные без предъявления обвинения в одиночной камере, и ссылка в Алма-Ату. Интересно, что помощь в этой ситуации оказала семье Рубинштейнов комиссия, возглавляемая Е. Пешковой. Летом 1933-го М. Рубинштейн вернулся в Москву и некоторое время не мог устроиться на работу – следствие ссылки. В наиболее страшный период 1936 – 1937 годов М. Рубинштейна не тронули, но горе не обошло семью: в Ленинграде по 58-й статье был арестован старший сын – Борис, приговоренный к десяти годам заключения без права переписки и расстрелянный в феврале 1938-го. В том же году в АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников родины) была отправлена и его жена. М. Рубинштейн забрал к себе в Москву двух внуков – четырех и шести лет, – которые в дальнейшем у него и воспитывались.
Судьба других сыновей М. Рубинштейна сложилась более удачно: Александр стал одним из ведущих в стране специалистов в области органической химии, Владимир – известным музыкантом, а Виктор – писателем, занимающимся фольклором малых народов Сибири и Дальнего Востока, автором многочисленных книг для детей (псевдоним – В. Важдаев) …
С конца 1920-х годов М. Рубинштейну становилось все сложнее публиковать свои труды, к примеру, он вынужден заниматься вопросами «рационализации обучения шоферов с помощью тренажера»… После начала Великой Отечественной войны последовала эвакуация в Сибирь с «полагающимися» приключениями в пути – так, например, М. Рубинштейн отстал от поезда, пытаясь на одной из станций найти кипяток. Не только супруга с внуками, но и пиджак с паспортом, билетами и деньгами остался в купе… К счастью, ему удалось попасть на один из скорых поездов и нагнать свой состав.
Находясь в эвакуации, М. Рубинштейн работал на кафедре педагогики в Красноярском педагогическом институте. Это не спасало его от необходимости возделывать участок в двенадцати километрах от города, добираясь туда пешком. Положение дел на фронте позволило ему в 1943-м вернуться в Москву и возобновить работу в МГПИ. После окончания войны М. Рубинштейна ожидали новые испытания: его клеймят как космополита, «преклоняющегося перед иностранщиной», и приверженца фрейдизма, «принятого на идеологическое вооружение германским фашизмом»[13]. Он также обвиняется в апологии «эгоцентризма и эгоизма», выражающих сущность «современного американского агрессивного империализма»[14] и в проповеди ницшеанства, получившего развитие в «человеконенавистнических теориях»[15]. В упрек ставилось и то, что в своих лекциях он, к примеру, не дает ссылок на последнее выступление тов. Сталина перед туркменскими конниками[16]… В результате оголтелой травли в 1951-м М. Рубинштейну пришлось покинуть педагогический институт. Умер он 3 апреля 1953-го и был похоронен на Введенском кладбище в Москве, как пишет Е. Боннэр, так и не дождавшись посмертной реабилитации сына…
В последние годы появился ряд диссертаций, посвященных творчеству М. Рубинштейна (особый интерес представляет фундаментальная работа Д. В. Иванова[17]). В то же время труды М. Рубинштейна за последние полвека переизданы не были, за исключением сокращенного варианта книги «Проблема учителя», снабженной небрежным предисловием, в котором даже год рождения М. Рубинштейна указан неверно[18]…
ВОСПРИЯТИЕ НЕОКАНТИАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
В исследовательской литературе, посвященной западному неокантианству, отмечается, что за бурным расцветом данного направления последовало столь же неожиданное исчезновение с философской сцены. Разумеется, на это можно возразить, что традиция с наступлением национал-социализма была прервана искусственно. Тем не менее некоторые причины, способствующие решительному завоеванию неокантианством популярности, предопределили и его быстрое забвение[19].
Одним из основных поводов к развитию нового философского направления в Германии, начиная с середины XIX века, была неприспособленность системы Гегеля к условиям стремительного развития естественных наук. Вероятно, теория Канта позволяла более удачно легитимировать специальные науки, основанные на изучении эмпирической действительности, признавая их значимость как «полноценного» содержания сознания. Кроме того, учение Канта могло противостоять притязаниям материалистических течений, захлестывающих в своем позитивистском теоретизировании и сферу этики. Кант же пытался обосновать несводимость основ морали и религии к понятиям и деятельности рассудка.
Помимо историко-философских поводов способствовали развитию неокантианства и некоторые социально-политические обстоятельства, прежде всего цензурные сложности с преподаванием философии в университетах, вызванные реакцией на революционные события 1848 года. Востребованной оказалась в первую очередь гносеология, вроде бы не стремящаяся непременно обращаться к особенно злободневным темам. (Довольно быстро такая ситуация изменилась, и в русле неокантианства начали зарождаться, например, концепции критического социализма или либерально-педагогические теории.)
Необходимо отметить и разочарование в сциентизме, сосредоточенном на выявлении общих закономерностей, но чуждом интереса к ценностным аспектам познания и к культурному развитию. Именно культурно-философская проблематика сделалась вскоре для неокантианства ведущей.
Надо сказать, что социально-политический оптимизм неокантианства, а также вера в неуклонность исторического прогресса и неисчерпаемость «запасов» идеальных ценностей в свете трагических событий первой половины XX века несколько «скомпрометировали» данное направление и заметно охладили к нему интерес. Так или иначе, возникает вопрос, существовали ли в России на рубеже XIX-XX веков какие-либо специфические условия для успешного продвижения данного направления?[20] Во многом именно социальные аспекты неокантианских концепций, создающихся в условиях «потепления» политического климата в Германии, привлекали внимание отечественных философов, ищущих альтернативы ортодоксальному марксизму[21]. Знаменитый сборник «Проблемы идеализма», в котором приняли участие Н. Бердяев, С. Булгаков, С. Франк и другие наиболее известные представители отечественной философии того времени, отчасти был посвящен проблемам обоснования социальных теорий этическими предпосылками учения Канта. Интересно, что даже перейдя на позиции религиозной философии и отдалившись по своим глобальным мировоззренческим позициям от неокантианских стратегий, некоторые из участников этого сборника время от времени применяли аргументацию, заимствованную у неокантианцев[22].
Например, С. Булгаков, ведя полемику в «Философии хозяйства» с марксистскими социологическими притязаниями, приводит в качестве обоснования невозможности предсказать ход истории теории Баденской школы, разграничивающие естественные (обобщающие) и исторические (индивидуализирующие) науки[23]. Надо отметить, что это было скорее разграничение методов, которые в той или иной степени были призваны применяться в любом исследовании.
По мнению С. Булгакова, индивидуализация какого-либо явления неизбежно предполагает признание его нетипичности и невозможность полностью укоренить это явление в системе закономерностей, которые позволили бы делать достаточно определенные прогнозы или предсказания. В этом плане также показательно неокантианское разделение понятий закономерности и причинности – первое подразумевает подчиненность законам эмпирической действительности, второе – мотивы, выражающие свободное творческое начало…
Для неокантианства в целом характерно стремление утвердить философию в статусе верховной формы научной рациональности, способной определять методологию различных специальных наук. Так, в отечественной философской традиции особенно напряженные дебаты велись вокруг методологии исторического знания. В этом плане показательна дискуссия между «ранними» Струве и Бердяевым с одной стороны и сторонниками школы «субъективной социологии» с другой.
Некоторые российские историки или историософы обращались к неокантианским методологическим разработкам (прежде всего Виндельбанда и Риккерта), в частности, к концепции, разделяющей способы научного познания на номотетический, который ориентирован на выявление общих закономерностей, и на идеографический, призванный концентрировать внимание на индивидуальном и неповторимом. Значимость исторического события при этом зависела от степени его соотнесенности с миром идеальных ценностей. По мысли Риккерта, оба этих метода могли применяться в любой области знания, определяя лишь исследовательский угол зрения. Важность данного подхода, берущего исток в немецкой исторической школе, признавали Н. Кареев, А. Лаппо-Данилевский и В. Хвостов, но их историко– или социально-философские рассуждения в целом не укладываются в рамки неокантианства. Также и философы – правоведы (например, Б. Кистяковский) при известной симпатии к неокантианству по существу остаются в стороне от этого течения.
Ряд отечественных академических философов пытались развивать непосредственно учение Канта, не ориентируясь на традиции немецкой школы неокантианства, но уделяя особое внимание вопросам гносеологии, проблемам имманентности познания (ограниченности человека миром явлений и собственными представлениями, которые заменяют бытие «вещей в себе») и вытекающей отсюда опасности солипсизма или философского эгоцентризма (А. Введенский, И. Лапшин, Г. Челпанов).
Представители российского неокантианства, как правило, прошедшие философскую подготовку в университетах Германии, группировались вокруг международного журнала «Логос» (1910 – 1914, 1925), издаваемого на немецком и русском языках, – кроме М. Рубинштейна наиболее известны среди них С. Гессен, Б. Яковенко, Ф. Степун, В. Сеземан. Их интересовали прежде всего теория познания в духе кантовского критицизма и определение предмета философии. В этой связи характерно стремление М. Рубинштейна оградить философию от гнета социальных ожиданий – от наивно-позитивистских попыток сделать из нее инструмент общественных преобразований. В этом, кстати, по его мнению, заключалась одна из причин задержки исторического развития философии в России[24].
Опора на последние достижения теории познания сулила новые возможности противостоять методологическим «вольностям» религиозно-философских течений. При этом необходимо отметить, что впоследствии большинство близких неокантианству мыслителей из круга «Логоса» также стремились обогатить данную традицию онтологической проблематикой, разрабатывать теорию познания в синтезе с феноменологией (В. Сеземан) или с философией жизни (Ф. Степун, а также М. Рубинштейн в период работы над книгой «О смысле жизни»).
Не избежал увлечения философией, причем именно в неокантианском исполнении, и Б. Пастернак, отправившись на выучку в Марбург к Когену Данное направление подкупало тем, что «не разделяло ленивой рутины всевозможных «измов», всегда цепляющихся за свое рентабельное всезнайство из десятых рук»[25]. Не подчиненное терминологической инерции неокантианство, по его мнению, черпало вдохновение в первоисточниках, отчего философия «вновь молодела и умнела до неузнаваемости»[26].
Несмотря на то что ряд отечественных философов в начале XX века защитили под руководством неокантианцев диссертации в Германии[27], данное направление не завоевало в российской философской среде главенствующее положение. С одной стороны, строгость методологических установок не позволяла свободно развертывать излюбленные религиозно-философские сюжеты, с другой – представители марксистских направлений без разбора отметали все, что так или иначе связано с идеализмом, опасаясь распространения «реакционно-буржуазных» теорий, уводящих от насущных социальных проблем в туманно-метафизические сферы.
Среди проблем, исследуемых в русле отечественного неокантианства, особая актуальность в дискуссиях начала XX века придавалась спору «догматизма» и «критицизма» – спору, который выражал попытки осмыслить вопрос о природе философского знания на новом культурно-историческом этапе. Является ли методологическая рефлексия всегда лишь эхом уже свершившегося – непосредственного акта познания, можно сказать, жизненного впечатления, которое собственно и представляет собой материал для ретроспективно-критических изысканий? Или же стремление к построению отчетливой методологии может определять степень подлинности познания? Ясно, что однозначных ответов здесь быть не может…
Нельзя сказать, что «Логос» придерживался исключительно неокантианской направленности[28]: в журнале публиковались и культурологические труды, и работы представителей феноменологии или даже мыслителей, близких религиозной философии. Но также невозможно отрицать и то, что «изюминку» журнала редакция видела в отчаянно амбициозной задаче – в выработке системы философии, позволяющей глобально упорядочить способ мышления человека, исчерпывающе выявить условия возможности универсальной познавательной деятельности. При этом подчеркнутая претензия на научность, выраженная в гипертрофированном систематизме, исходила прежде всего от одного из немецких кураторов журнала – Риккерта, который, впрочем, лишь развивал тенденции, заложенные в учении самого Канта[29].
Интересно, что едва ли не наиболее позитивные отклики «Логос» вызывал в среде, близкой к набирающим силу, в ту пору относительно новым наукам – психологии, социологии и педагогике[30]. Кроме того, высказывались предположения, что на его страницах может происходить выработка своеобразного метаязыка, обеспечивающего коммуникацию между различными областями культуры[31]. Подобные надежды, правда, необходимо было еще согласовать с программными гносеологическими установками издания, призывающими к поиску критериев, которые должны определять «зоны ответственности» едва ли не каждой науки, будь то в естествознании или в гуманитарных сферах.
Со стороны ряда экзальтированно-религиозных философов (прежде всего В. Эрна) журнал «Логос» подвергался нападкам за утрату национально-философских традиций: избыточный рационализм и недостаточное внимание к онтологической проблематике. Н. Бердяев толковал даже о «полицейских» функциях неокантианства, подразумевая излишне критическое отношение этого направления к методологии философского познания, – данную метафору использовал изначально сам Кант в «Критике чистого разума». Вообще полемика между представителями направления, близкого «Логосу», и мыслителями, издающими журнал «Путь», – едва ли не наиболее значимый сюжет в развитии отечественной предреволюционной философии.
Как известно, Виндельбанд, узнав о выпуске содружеством молодых неокантианцев сборника «О мессии» и намерении Ф. Степуна, Н. Бубнова и С. Гессена назвать предполагавшийся журнал «Логос», отнесся к этому с оттенком иронии, высказав предположение, что они еще могут «причалить у монахов»[32]. Ф. Степун отмечает в этой связи, что на позициях чистого неокантианства впоследствии оставался лишь Н. Бубнов. Сам Ф. Степун отчасти сблизился с позициями религиозно-философского направления, – о состоявшемся сближении свидетельствовало сотрудничество бывших противников в эмигрантском журнале «Новый град», издаваемом в Париже…
В то же время критика неокантианства велась не только с религиозно-философских позиций. Так, Г. Шпет[33] достаточно резко отзывался о типологии наук, предложенной Риккертом, но это был бой уже на едином поле – в пределах философии как рационально-логического метода познания. А. Белый, посвятивший изучению неокантианства немало времени, именовал в своих мемуарах философские диспуты с участием представителей этого направления логическими сальто-мортале, понятийной гимнастикой или философскими шахматами. Показательно гротескно-кладбищенское стихотворение «Мой друг», написанное в 1908-м и посвященное некоему «философскому силуэту»:
Жизнь, – шепчет он, остановясь Средь зеленеющих могилок, — Метафизическая связь Трансцендентальных предпосылок.[34]Ироничность, правда, не мешала ему в то же время создавать эклектические трактаты, представляющие собой попытку символистского преодоления неокантианства на пути к теософии. Особенно показательна в этом отношении статья «Эмблематика смысла», написанная в 1909 году[35].
Неокантианство нередко вызывало упреки в оторванности от жизни, поскольку представители данного направления, как правило, утверждали, что методологически выверенная философия может работать лишь с содержанием сознания, так или иначе преобразованным особенностями человеческого восприятия. Отвечая на подобные выпады (например, со стороны Л. Лопатина), М. Рубинштейн отмечал, что реальность объективного мира при этом не отрицается, подчеркивается лишь невозможность толковать о трансцендентном, выдавая собственное философствование за глас вечности[36]. Ф. Степун, со своей стороны, называл сетования противников критицизма по поводу схоластичности неокантианства однообразными и навязчивыми, как мотив уличной шарманки[37]…
СИНТЕЗ НЕОКАНТИАНСТВА И ФИЛОСОФИИ ЖИЗНИ
Все же отвлеченность постановки проблем и сухость неокантианских построений заставляли М. Рубинштейна искать путей к созданию более жизненной концепции. Его призывы к современной философии отказаться от скитаний вдалеке от жизни иной раз напоминали навязчивое заклинание, повторяясь на первых страницах «О смысле жизни» десятки раз. Сверхзадачей этого труда являлось наполнение гносеологических конструктов «соками подлинной действительности» – это представлялось возможным за счет обращения к личностной проблематике. Надо сказать, что и Риккерт, несмотря на свою критику интуитивизма и биологизма, частично признавал правоту философии жизни, поскольку «мир представляет собой бесконечно большее, нежели то, что без остатка укладывается в рассудочные понятия»[38].
На протяжении всего своего творческого пути М. Рубинштейн развивает теорию Виндельбанда и Риккерта, утверждающую, что любое явление или предмет обретают смысл только благодаря связи с идеальными ценностями, которые представляют собой неисчерпаемую творческую задачу. Стремление к совершенству, приближение к идеальным ценностям М. Рубинштейн именовал «творчеством сущности» – освобождением от власти времени в мире культуры. При этом отмечалось, что задача для каждого всегда индивидуальна и неповторима и смысл может быть постигнут и реализован только целостной личностью, не расщепленной искусственными условиями познания на разум, чувство, волю и т. д. Вопрос об индивидуальном начале и в теории познания, и в историософии был близок неокантианцам Баденской школы, но у М. Рубинштейна он приобретает самодовлеющее значение – философия, по его мнению, в отличие от науки, не может быть безлична. Проблема смысла жизни решаема лишь как вопрос о «личности и ее чаяниях»[39]. Понятие личности было для М. Рубинштейна неразрывно связано с атрибутом жизненности: «живая личность вдохнет в факты душу»[40].
При этом в его наиболее значительном философском труде «О смысле жизни» главенствующее положение занимает собственно категория жизни. В этот период он оказался восприимчив влиянию, прежде всего Бергсона, и старался обогатить гносеологические установки неокантианства обращением к онтологии.
Концепция Бергсона, по мнению М. Рубинштейна, в своем стремлении к живой полноте действительности упускала из вида столь близкий неокантианству мир идеальных ценностей, лишаясь телеологии, поскольку отсутствие норм и ценностей означает утрату цели и критериев развития. В то же время избыточно систематическая кабинетная философия неокантианцев зачастую игнорировала многообразие эмпирической реальности и роль непосредственного ощущения – самоочевидности – в гносеологии.
Основной атрибут жизни в концепции М. Рубинштейна – возможность действия, а следовательно, изменения и развития (в данном положении отчетливо чувствуются также фихтеанские мотивы). Жизни необходимо наличие перспективы, и М. Рубинштейн парадоксальным образом постулировал необходимость вечного несовершенства человека, поскольку абсолютная гармония подразумевает отсутствие стремлений и превращается в мираж, отдаленностью своей сулящий лишь разочарование и опустошение. Подлинный человек немыслим без стремления к совершенству, в противном случае это лишь застылый безжизненный фантом схоластических изысканий и метафизических грез. Воплощение идеальных целей недосягаемо во всей полноте, но предполагает бесконечность степеней восхождения.
ИДЕАЛ-РЕАЛИЗМ И ОТКАЗ ОТ ЭСХАТОЛОГИИ
В книге «О смысле жизни» М. Рубинштейн стремится к построению системы мировоззрения, решающей чертой которого является оптимизм, основанный на непосредственном чувстве бытия, на доверии к жизни. Интересно, что собственно для неокантианской традиции подобное задание выглядело «подозрительным», поскольку мировоззренческая система может выходить за рамки критической философии, включая и метафизические моменты, и элементы веры, являясь неопровержимой и недоказуемой. Другое дело – исследование гносеологических условий возможности построения системы мировоззрения…
В то же время М. Рубинштейна отличает столь нехарактерная для большинства отечественных религиозных философов методологическая отчетливость – неокантианская закалка и искушенность в теории познания требовали устранения, на его взгляд, фантастических предпосылок и отправных точек философствования, таких как, например, идея об утраченном абсолюте, находящемся «позади мира», вне истории и естественных законов, но парадоксальным образом предстающем также конечной целью развития человека и мира.
М. Рубинштейн подчеркивал близость самообмана в попытках избавиться от изначального противоречия в концепциях, постулирующих идею абсолютного совершенства, оказавшегося почему-то вынужденным творить человека, способного отпасть от божественного плана бытия в царство хаоса и смерти. Абсолютная гармония, порождающая несовершенное существо и подразумевающая возможность вселенской катастрофы изгнания из рая, разоблачает себя как мнимость. Уловки религиозно-философского толка, «оправдывающие» абсолют, приписывая ему благородство дарующего свободу, не спасают от возникновения печального образа «бога, играющего с самим собой». Потребность в сотворении несовершенного человека приоткрывает глубинный надлом в самом абсолюте, который оказывается далеко не всемогущ и не всеблаг, допуская возможность иных планов бытия, наполненных горем и бессмыслицей. В конечном счете, человек расплавляется в сиянии абсолюта, представляет собой какой-то досадный срыв в космогонии, а миф о потерянном рае оборачивается развенчанием земного существования, жизнью «с наморщенным лбом и насупленными бровями»[41]. М. Рубинштейн подчеркивает наивность теодицеи, утверждающей странную иерархию степеней блага, поскольку зло оказывается необходимо абсолюту ради возможности преодоления и достижения тем самым «большего добра». Не лучше ли необъяснимое оставить необъяснимым и сосредоточиться на доступных человеку средствах познания?
Эмпирическая действительность достоверна, мир представляется творческой задачей – возможностью воплощения идеальных ценностей. Подобное мировоззрение М. Рубинштейн именует «идеал-реализмом», не вдаваясь, впрочем, в историю развития данного термина. Его использование выражает уверенность в отсутствии непреодолимого разрыва между различными планами бытия – окружающей реальностью, доступной непосредственному восприятию, и миром идеального, наделяющим эту реальность телеологией.
Основой для развития теорий идеал-реализма явилось еще учение Канта о трансцендентальном идеализме, утверждающее изначальное соответствие познавательных способностей человека (априорных форм сознания) и законов объективной действительности. Но в концепции Канта подобное соответствие предполагалось все же лишь по отношению к миру явлений – вещи в себе оставались непостижимыми, лишенная метафизической основы методология не позволяла наделять их какими-либо характеристиками.
Развернутые теории собственно идеал-реализма стремились преодолеть элементы критического агностицизма, несколько упрощая дело и концентрируя внимание на способности человека к непосредственному «до-теоретическому» восприятию не только эмпирического, но и идеального мира. Особенно отчетливо данная тенденция заметна в творчестве Н. Лосского, развивающего на основе причудливого сочетания платонизма и учения Лейбница свою концепцию интуитивного познания и иерархического персонализма – концепцию, не лишенную фантастических черт, которые временами переводят его изыскания в эзотерическое русло. Несмотря на некоторое терминологическое сходство, позиция М. Рубинштейна далека от гносеологических представлений Н. Лосского, позволяющих последнему толковать о субстанциальности идеальных или духовных сущностей и увлекаться теориями перевоплощения.
Отказ от попыток спрятаться от предстояния небытию за псевдорациональные конструкты или религиозные мифы требует мужественного смирения, основанного в то же время на здоровом чувстве жизни, на непосредственности живых впечатлений. Эсхатологический пафос был М. Рубинштейну всегда чужд, сотериологические идеи он рассматривал как оставляющие чувство неловкости попытки «вести речи за бога» – история первородного греха представлялась ему интересной разве что в метафорическом ключе.
Идея бессмертия души оказывается в этой перспективе также лишь рассудочным ухищрением и проявлением психологизма, раскалывающего духовное и естественное начала человека. Факт смерти неоспорим, дело лишь в нашем к этому отношении: преждевременная или насильственная смерть вызывает недоумение и протест, смерть же стареющего организма естественна и может представляться необременительным избавлением. Надо сказать, что концепция М. Рубинштейна выглядит в данном случае избыточно радужной и не лишенной поверхностного позитивизма – он не раз цитировал по этому поводу А. Мечникова, уподобляющего «нормальную» смерть спокойному засыпанию и чуть ли не блаженству в предвкушении долгожданного отдыха.
Попытка разобраться в вопросе о бессмертии вообще нередко подменяется стремлением избавиться от страха смерти… На данный аспект концепции М. Рубинштейна обращал внимание и Д. Чижевский, отмечая, что бессмертие человеческого бытия вряд ли удастся «равноценно» заменить вечностью творческих, культурных ценностей, воплощенных, например, в величии готических соборов[42]. Действительно, отрицая, что называется, бессмертие души, М. Рубинштейн не делает следующий шаг в стиле стоицизма, признавая трагизм неизбежного прекращения любого индивидуального существования, но предлагает некий малоутешительный эрзац – вечность мира культуры. Д. Чижевский оспаривает правомерность подобного подхода, полагая что в этом вопросе оправданна лишь религиозная постановка проблемы, которая, по его мнению, и может способствовать завершенности философской системы.
С одной стороны, отказ от метафизических предпосылок и тем более от религиозных установок, предопределяющих направление и исход познавательных устремлений, представлялся М. Рубинштейну основным условием чисто философского творчества. В то же время, показывая наивность концепций, которые пытались обосновать метафизическую необходимость зла и не умалить при этом благости абсолюта, он в свою очередь действительно впадает в сходное противоречие: смысл придается жизни благодаря возможности преодоления и сознанию противоположностей – красота проявляется в сопоставлении с безобразным. Окончательное достижение идеала означает в представлении М. Рубинштейна уничтожение жизненной силы[43], любой успех всегда относителен и не может лишить стремление цели. Но тем самым невольно оправдывается и вечное несовершенство мироздания, допускающего смерть и распад.
Так или иначе, согласно его концепции, преодоление времени возможно лишь благодаря творчеству и становлению мира культуры, в котором человеку отводится уникальная роль как носителю идеальных ценностей. При этом творческий антропоцентризм, развиваемый М. Рубинштейном, свободен от метафизических мотивов, свойственных широко известной философии творчества Н. Бердяева. Личность творца как жизненное явление представляется не менее значимой, чем само творческое произведение, в то же время подчеркивается ложь религиозно-философских проекций природно-материального существования на абсолютный план бытия.
ПСИХОЛОГИЗМ КАК УГРОЗА ЛИЧНОСТНОМУ ПОДХОДУ
М. Рубинштейн отмечает, что вековые философские вопросы по-прежнему взывают к своему решению. В конечном счете, все определяется мировоззренческой позицией того или иного мыслителя, не сводимой к безукоризненной системе философских построений. Недоумение перед смертью, неубедительность теодицеи, сомнение в свободе воли, реальность чужого «я», ощущающего себя центром мира, как и собственное «я» – все это остается источником того, что современным философским языком именуют экзистенциальной тревогой.
Собственно эти вопросы не решаемы при отсутствии изначального доверия к жизни и целостности восприятия. Одной из основных угроз для любой философской и педагогической концепции М. Рубинштейн считал своеобразно понимаемый им психологизм – расщепление целостной личности на какие-либо самостоятельные структуры – душу, рассудок, волю, будто способные действовать независимо друг от друга. Это не означало настороженности М. Рубинштейна по отношению к психологическим дисциплинам, он выступал лишь против смешения экспериментально-научных и мировоззренческих подходов.
Следуя Риккерту, М. Рубинштейн разграничивал чисто логический и психологический способы познания – последний больше концентрирует внимание на сфере фактов и наличной действительности, логика же призвана заниматься сферой должного, заботиться о критериях истинности и выработке общеобязательных норм. Представление факта не зависит от его истинности – оно есть или его нет. Суждение, напротив, ориентируется не на бытийный аспект, но стремится к истинности собственного содержания. Подобное разграничение лишь функционально и не нарушает целостности личностного восприятия – философия не должна возвеличивать «сепаратизм и самодержавие частей», будь то теория личности или гносеологические поиски определения границ субъекта и объекта.
Вообще анализ всех философских концепций в историко-критических очерках, составляющих первую часть «О смысле жизни», проводится М. Рубинштейном с точки зрения личностной проблематики. Интересно, что данные очерки были опубликованы за счет автора в 1927 году, когда идеологический пресс уже налился угрожающей тяжестью. Впрочем, основная работа над текстом велась еще в Иркутске. Об этом свидетельствует и упоминание М. Рубинштейном в издании «Очерка…» 1920 года о подготавливаемом им фундаментальном труде «Философия человека», и ссылка на данный труд в статье «Основная задача философии», опубликованной в 1921-м, и «обещание» в предисловии ко второму изданию монографии «История педагогических идей в ее основных четах», увидевшему свет в 1922-м, окончания большого труда по философии, занимающему большую часть его времени… В 1923-м также в Иркутске выходит очерк «Проблема «Я» как исходный пункт философии» – концептуальная основа «Смысла жизни»…
В условиях послереволюционной России изыскания на тему о смысле жизни представлялись небезопасной роскошью. Это не останавливало М. Рубинштейна от свободного философского творчества – он позволял себе самоубийственные высказывания по отношению к главенствующей тогда картине мира. Критикуя антиперсоналистические построения марксистов, М. Рубинштейн отмечал естественность перехода подчеркнуто объективистской концепции Гегеля к низводящим личность социальным теориям. Так же и религиозно-философские учения зачастую напоминают, по его мнению, «вывернутую наизнанку марксистскую теорию»[44] в намеренном или невольном развенчании роли личности и утверждении необходимости очистительной катастрофы, предваряющей воссоединение твари с божественным бытием.
В то же время позитивистские построения М. Рубинштейна иной раз выглядят довольно наивно – достоверность какого-либо ощущения возводится им порой в ранг полноценного философского аргумента. Особенно ярко это проявляется в рассуждениях о свободе, переходящих в несколько экзальтированную патетику. «Великая уверенность» в свободе человека, по мнению М. Рубинштейна, самодостаточна[45]. В то же время он пытается найти для нее дополнительные теоретические обоснования, в частности, следуя В. Соловьеву, говорит о чувстве вины как об отголоске внутренней ответственности, а значит, и свободы. Нет необходимости уточнять, сколь многообразно может быть толкование данного чувства…
Особую роль М. Рубинштейн отводит способности к сознательному суждению и оценке, возвышающей личность над причинными цепями. Но всякий раз, когда уместно повести речь о власти мотивов над мыслями и поступками человека, он отвергает такую возможность, как бесплодный психологизм, нарушающий целостность восприятия личности.
Мир свободы М. Рубинштейн трактует во многом с неокантианских позиций, как мир культуры или идеальных ценностей, являющихся задачей, творческим вызовом для человека. При этом, правда, не всегда убедительно представляется космическая роль личности, воплощающей смысл мироздания. Несмотря на строгость собственных гносеологических требований, он пытается рассуждать о мире, лишенном антропологического фактора, и приписывает ему нейтральность, безликость, даже бессмысленность, поскольку в таком – лишенном человеческих оценок – мире не существовало бы истины и лжи, добра и зла, красоты и безобразия и т. д. При этом с последовательно неокантианской точки зрения можно толковать скорее об отношениях человека и мира – причем в сознании самого человека, – но вовсе не о характеристиках «мира в себе», к тому же деформированного гипотетическим отсутствием познающего субъекта…
«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ» МЕЖДУ ФИЛОСОФИЕЙ И ПСИХОЛОГИЕЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ М. РУБИНШТЕЙНА
Философское знание в отвлеченности своей зачастую стремится прочь от жизни, такая тенденция представлялась М. Рубинштейну пагубной и противоречащей исконному соблазну классической философии поучать, становиться действенной жизненной мудростью. Чистое знание разоблачает себя как мнимость, направление философского поиска и его исход неизбежно определяются ценностными предпочтениями самого философа. Полемизируя с Г. Шпетом (прежде всего с воззрениями, выраженными в известной статье «Мудрость или разум?»), М. Рубинштейн оспаривал возможность полного «очищения» философии от личностных предпочтений, от мировоззренческих элементов. Тяга к назидательности, по его мнению, неизбежно присуща философскому знанию, но она не может найти воплощение в отрыве от чувства реальности.
Уже в самом начале творческого пути М. Рубинштейн одновременно занимался как теорией познания в духе неокантианства, так и развивал свои педагогические воззрения. Педагогика представлялась ему прикладным аспектом философии, вбирающим в себя данные экспериментальных наук, – идея учительства позволяет философии не терять связь с жизнью. Интересно, что точка зрения Риккерта, столь почитаемого М. Рубинштейном, по этому вопросу заметно отличалась – он был далек от проблем педагогики, отказывал философии в праве на создание «наставлений к блаженной жизни» и утверждал своеобразный «пафос беспафосности» познания. В то же время педагогическая проблематика была особенно актуальна для Марбургской школы.
Необходимо отметить, что для концепций образования, развиваемых в русле неокантианства, зачастую была характерна неотчетливость собственно в определении наук – речь шла о «экспериментальной педагогике», «педагогической психологии», «практической педагогике» или даже о «прикладной философии». В любом случае подобные изыскания свидетельствовали о признании необходимости перехода от абстрактных предпосылок к исследованию возможности толковать об основаниях педагогической практики.
Фундаментальные философско-педагогические концепции развивались в России на рубеже XIX-XX веков или в рамках религиозной философии (прежде всего В. Розановым и В. Зеньковским), или в русле неокантианства (М. Рубинштейном и С. Гессеном). Оба направления ориентировались на поиск идеальных ценностей, призванных положить основу процесса образования. Однако у религиозных философов эти ценности часто исчерпывались апологией стилизованного православия и требованием строить учебный процесс в соответствии с конфессиональными предпочтениями. Педагогические концепции, близкие неокантианству, отличались большим демократизмом, отводили приоритет личностной проблематике и пытались использовать данные экспериментальной психологии, которая в то время получила особую популярность.
Надо сказать, что неокантианские концепции образования нередко получали упреки в избыточном систематизме. Например, Г. Шпет полагал, что подход Наторпа отличается перегруженностью философско-педагогическими конструктами, подавляющими живые истоки процесса образования. Так, знание грамматики еще не означает владения языком[46]… Насколько обоснован подобный упрек, можно судить, разумеется, только после знакомства с трудами самого Наторпа, посвятившего немало глав обоснованию творческого педагогического подхода, который учитывает изменчивость, а порой и неуловимость как «объекта» воспитания и образования, так и направляемых на него воздействий. П. Прокофьев (Д. Чижевский) адресовал сходный упрек С. Гессену, также развивающему идеи Наторпа[47]. Стройность архитектоники его труда «Основы педагогики» иной раз оказывалась, по мнению критика, самодовлеющей – концептуальные схемы могли превалировать над фактами живой действительности, в увлеченности построением систем временами проглядывала идеалистическая наивность.
Так или иначе, подходы, разрабатываемые М. Рубинштейном и С. Гессеном, объединяет стремление выявить два значимых уровня любой современной педагогической концепции – нормативно-ценностный (идеальный) и психофизиологический (экспериментальный). Подобное разделение позволяло толковать о разнообразных видах образования (научном, художественном, правовом, нравственном, религиозном и т. д.), не противопоставляя задачу формирования личности потребностям в технических и утилитарных навыках.
М. Рубинштейн много внимания уделял методическим вопросам, практической стороне дела, в то время как С. Гессен более фундаментально занимался теорией педагогики и разработкой глобальных культурно-философских категорий в педагогической перспективе. Обоим философам была близка идея бесконечности культурно-исторического прогресса и, следовательно, неисчерпаемости перспектив образования.
Как средства, так и цели педагогики должны эволюционировать вместе с жизнью – такая позиция именовалась М. Рубинштейном «плюрализмом целей». Он подчеркивал, что само содержание учебного плана находится в тесной зависимости от структуры общества. Так, в условиях открытого мира преподавание современных языков приобретает важнейшее значение, превращаясь из необязательной роскоши в жизненную необходимость. То же, согласно взглядам М. Рубинштейна, происходит и с географией (которую В. Розанов в «Сумерках просвещения» предлагал вовсе изъять из школьной программы). «Недоросль-Митрофанушка мог еще сомневаться в целесообразности изучения географии…», но современная жизнь повелительно требует расширения горизонтов познания[48].
Отсутствие склонности к жесткому фиксированию раз и навсегда установленных задач и методов образования объяснялось тем, что для М. Рубинштейна вообще была характерна уверенность в неисчерпаемости познавательных способностей человека. Это, в частности, выражалось в постоянном метафорическом противопоставлении некоего «клочка действительности» благодатной свободе творческого восприятия – «мир животного, как мы его себе представляем, это сравнительно ничтожный клочок действительности, мало вырастающий и обогащающийся, в то время как мысль человека заставляет его мир расти в бесконечность»[49]; «опираясь на непосредственно воспринимаемый клочок простой, как говорят, предметной действительности, человек своей мыслью поднимается над ней… расширяет таким путем в безграничность свой опыт»[50]; стремление к идеалу и совершенству призвано освободить человека от «прикрепления к данному клочку земли»[51] и т. д.
Именно романтически-позитивистская составляющая подхода М. Рубинштейна позволила ему до конца 1920-х годов более или менее свободно продолжать педагогические исследования и в послереволюционной России. Так, например, в серии «В помощь просвещенцу Профобра» в 1928 году вышел его труд «Юность по дневникам и автобиографическим записям», при этом анкеты, составленные для данной книги, предваряло позитивистское и не лишенное романтической патетики воззвание: «Ради молодежи, науки и жизни ответьте подробно и правдиво и пошлите этот лист проф. М. М. Рубинштейну».
Так же как и В. Розанов, он подчеркивал неординарность современной эпохи, отмеченной радикальными изменениями в педагогике и стремительным развитием естественнонаучного подхода во всех областях жизнедеятельности человека. Но, в отличие от В. Розанова, М. Рубинштейн отмечал, что теории образования были, как правило, излишне «нормативны» – увлечены прежде всего воспитательной стороной дела и лишены научного обоснования «эмпирическими, опытными исследованиями, обогащенными и укрепленными быстро выросшим экспериментальным методом»[52].
Вдохновляемая успехами точных наук, психология обретает новый статус, отказываясь от отвлеченно-метафизических толкований души, раскрывая всевозможные зависимости поведения человека от его физиологической основы, позволяя обнаружить динамику душевной деятельности и увлекая исследователей перспективой точного измерения этих процессов. В то же время М. Рубинштейн обращал внимание на опасность излишнего увлечения такими перспективами, способными незаметно переходить в утопические проекты.
Как раз на рубеже XIX-XX веков начали появляться надежды на возможность безошибочного определения степени одаренности человека и силы склонности к какой-либо профессии. Казалось, что беспристрастные показатели могут обнаруживать ведущие предрасположенности и соответственно указывать «путь истинный», избавляя от мучительных поисков и ошибок, – подобные надежды были сходны с ажиотажем, вызванным рядом достижений генной инженерии уже в конце XX века. «Это была уже головокружительная высота максимальных надежд, откуда открывались необъятные горизонты строительства новой жизни и осчастливливания человечества: море трагедий… было бы высушено»[53]. Безудержность надежд, подчеркивал М. Рубинштейн, нередко обращается в ничтожность достижений…
ЛИЧНОСТНАЯ ПЕДАГОГИКА И ЗНАЧИМОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ
М. Рубинштейн, как яркий представитель интеллигенции своего времени, не остался в стороне от социальной проблематики. В то же время его увлечение социальными теориями никогда не было безоглядным. Так, изданный в 1909 году критическо-философский очерк «Идея личности как основа мировоззрения» развивал социокультурный подход, основанный на личностных ценностных иерархиях: «Социализм подстригается под грубую гребенку материализма, который не способен ни охватить самой ценной области человеческого я, например, этики и истории, ни удовлетворить его самых насущных потребностей в деятельном миросозерцании, для которого нужны ценности, идеалы, нормы»[54]. М. Рубинштейн уже тогда предостерегал от проповедей классовой морали, упоения циничным материализмом и зацикливания исключительно на экономических потребностях человека. Цель общественного прогресса в его понимании – создание достойных условий для развития «целостной» личности. В этом М. Рубинштейн близок философско-публицистическим традициям, положенным еще П. Лавровым и Н. Михайловским во второй половине XIX века.
Вслед за Наторпом он рассматривал педагогику как основу общественного строительства. Близки ему и идеи воспитывающего обучения, берущие исток в творчестве Платона и развиваемые Гербартом. Любая педагогическая система основана на определенных ценностных предпочтениях, поэтому и немыслима лишь как способ передачи информации в отрыве от воспитательных побуждений. В то же время общественные установки и потребности государства не должны исключать возможность самостоятельного формирования личности. Положение о недопустимости узкоклассового подхода в деле образования представляется ныне элементарным, но не следует забывать, что защита подобных воззрений в послереволюционной России, как правило, приводила к трагическим последствиям для автора. М. Рубинштейна это не останавливало – в его трудах то и дело бросался упрек ограниченности партийных точек зрения, заостренных в «меч идеологии» и оправдывающих насилие общества над личностью.
Испытывая «слабость» к социальной проблематике, М. Рубинштейн неизменно ратовал за преобразование общества в соответствии с этическими идеалами, которые, по его мнению, составляют сущность социализма. При этом он указывал на опасность соскальзывания в сектанство и на обнищание философии в дробно классовых точках зрения, например, в «пролетарской правде»[55]. Подобные тенденции являлись «скверными симптомами философской захудалости»[56], ведь истина едина и возможна лишь в общечеловеческой перспективе.
Конечная цель социализма – освобождение от несправедливого бремени ради духовного совершенства и возвышения личности. Данная концепция М. Рубинштейна временами напоминает позднейшие изыскания в рамках гуманистической психологии Маслоу, утверждающей невозможность «перепрыгивать» уровни в иерархии потребностей человека, стремясь к достижению идеалов.
Необходимо отметить, что ряд положений в теории М. Рубинштейна оказывается все же довольно радикальным, особенно это касается требования отменить частную собственность на средства производства. Слог его при этом приобретает характерную романтическую пылкость. Речь идет о вековой борьбе за свободу масс, охотно цитируется М. Горький… Тем не менее недоверие к частной собственности парадоксально сочеталось в его воззрениях с апологией духовно-личностного начала и восторженным антропоцентризмом – с концепцией «культурно-творческой ценной индивидуальной личности»[57], утверждаемой в русле гносеологического идеализма.
Исходный пункт педагогики М. Рубинштейна – представление о существовании «сокровенного ядра личности»[58], которое раскрывается благодаря «искусственному, культурному развитию»[59], позволяющему сдерживать безграничность индивидуальных притязаний объективными ценностями. Основное отличие понятия индивидуальности от понятия личности заключается, согласно его концепции, в нормативно-ценностном аспекте – индивидуальность развивается в соответствии с природными закономерностями, личность является уже порождением мира культуры с его идеальными нормами и ценностями. Педагогика оказывается ответственной за воплощение «идеала цельной личности», следование которому предполагает воспитание человека как жизнеспособной, самодеятельной, культурно-нравственной силы[60].
Рассуждая об этапах формирования личности, М. Рубинштейн следовал за Наторпом, признавая правомерность периодизации личностного развития по стадиям «гетерономии» и «автономии», но не соглашаюсь с возможностью толковать о стадии «аномии», которую Наторп приписывал ребенку, подчеркивая его независимость от каких-либо воспитательных влияний. М. Рубинштейн полагал, что стадии «аномии» как таковой существовать не может, ребенок не способен к истинному произволу, потому что в силу своей «беспомощности и незрелости»[61] несамостоятелен. Поэтому «гетерономия» – подчиненность авторитету – состояние, наиболее приемлемое для ребенка. Стадия «автономии» свидетельствует уже о том уровне личностного развития, которое подразумевает способность к подлинному – деятельному и активному – самоопределению.
Несмотря на апологетическое отношение к личностному началу, М. Рубинштейн подчеркивал угрозу педагогического анархизма, отвергающего возможность целенаправленных воспитательных влияний и оставляющего ребенка на произвол стихийного развития. При этом коллективистические тенденции, набирающие после революции угрожающую силу, практически не влияли на основы его теории личности.
Официозная педагогика в послереволюционной России ратовала за неограниченность воспитательных воздействий на ребенка, призванного сделаться носителем новой идеологии на рефлексологическом уровне, концепция М. Рубинштейна выступала поразительным контрастом по отношению к данным установкам – он неизменно отстаивал требование постепенности личностного развития, формирующего способность к самоопределению, свободному от автоматизмов.
ПРОБЛЕМА РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
М. Рубинштейн принимал активное участие в дискуссии по вопросу о религиозном воспитании и образовании, иной раз приобретающей на рубеже XIX-XX веков болезненный оттенок. Он признавал, что данная проблема порождена глубинными изменениями в мироощущении современного человека. «Крепкие духом и твердые своей верой люди устойчивых эпох не испытывали всего трагизма душевного смятения и мучительной нерешительности, которые тяготеют в вопросе о религиозном воспитании над нами, людьми переходного времени, отставшими от одного берега и не приставшими к другому, разбившими старых кумиров и не сотворившими себе новых богов»[62]. Особенно обострен этот вопрос был в среде интеллигенции, где ребенка или принуждали к соблюдению внешней религиозности, или вовсе отвергали какую-либо ценность религиозного опыта.
М. Рубинштейн, признавая за собой отсутствие религиозности, отмечал, что вопрос о религиозном воспитании и образовании подразумевает необходимость стремления к идеальному – стремления, которое в учебном процессе совершенно незаменимо. Именно представления об идеале способны освободить человека «от рабства фактам и животной тупости»[63]. В ребенке надо развивать преклонение перед высшим началом – в этом позиция М. Рубинштейна отчасти совпадала с воззрениями В. Розанова.
Подобное преклонение может препятствовать укорененности в бесплодном эгоцентризме и помогать обрести более гармоничное восприятие окружающего, в котором раскрывается единый изначальный замысел. Все противоречия и даже несообразности, присущие религиозному опыту, не должны на первых порах открываться детям – мир без творца им непонятен, а попытки заставить их отказаться от поисков объяснения истоков бытия приведут лишь к потере творческой активности. Не случайно религиозный импульс зачастую является источником художественного вдохновения. При этом, по мнению М. Рубинштейна, не следует упиваться исключительно эстетической стороной обрядовости, ведь эстетизм сам по себе чужд нравственного содержания.
Глобальной задачей педагогики он полагал воспитание «индивидуального творца культуры», способного следовать идеалам «добра, красоты, истины и т. д.»[64]. Интересно, что перечисление идеалов завершается у него, как правило, неопределенным «и т. д.», а сами идеалы расставляются в различном порядке, (возможно, чтобы избежать предположений о зависимости от концепций В. Соловьева). На первое место выходит то красота, то истина, в этом ряду иногда появляется идеал «святости» – отголосок воззрений прежде всего Лотце и Виндельбанда. Несмотря на сдержанное отношение М. Рубинштейна к попыткам религиозного обоснования этики, в его рассуждениях об основах личности проскальзывают элементы религиозно-метафорической патетики. Мир сам по себе находится во власти естественных законов, лежащих по ту сторону добра и зла, и только благодаря развитию личностного начала может раскрыть собственную идеальную ценность, «если личность своей творческой силой освятит его»[65]. М. Рубинштейн считал допустимым «внедрение» идеи бога в картину мира ребенка как вспомогательное средство для реализации ценностного подхода – ребенок должен воспринимать мир так, будто бог существует. В данном допущении чувствуется отзвук кантовских постулатов практического разума как целей нравственности[66]. Кант также утверждал, что пытаться толковать с детьми на языке рафинированных религиозных понятий – безнадежное дело. В то же время необходимо воспитать в ребенке преклонение перед высшим началом, ответственным за справедливое устройство бытия[67].
В отличие от В. Розанова, М. Рубинштейн не слишком высоко оценивал заслуги исторической церкви в деле воспитания и просвещения. В то же время детей необходимо оградить от скептицизма, и чтобы не подрывать их жизнеспособность, дать им «естественный положительный ответ о Боге»[68]. Здесь уместно вспомнить, что М. Рубинштейн с симпатией относился к биогенетической теории как к своеобразной метафоре, обозначающей стадиальность развития детской психики в соответствии с периодами филогенетического развития человека. Пока дети живут «примитивной жизнью», бог их будет антропоморфным и в первую очередь воплощающим образ отца, в то время как идеально-утонченное представление о боге детям чуждо и недоступно.
(Надо отметить, что благосклонное отношение к биогенетической теории вызывало ярость у радикальных идеологов образования, достигших руководящих должностей в послереволюционной России, и М. Рубинштейну впоследствии пришлось с крайней осторожностью толковать как о естественных законах развития детской психики, так и об идеальной составляющей учебного процесса.)
Религиозная жизнь по мере развития личности постепенно эволюционирует и одухотворяется, наполняясь нравственным содержанием. Задолго до событий 1917-го года М. Рубинштейн не раз повторял, что догматически религиозное обучение совершенно недопустимо, в крайнем случае, оно может являться лишь делом семьи и церкви, но не школы, олицетворяющей государство. Он призывал отдать преподавание всецело в руки светского учителя, а попытки религиозно-проповеднического воздействия заменить изучением истории религии, как одного из наиболее значимых факторов в социокультурном развитии человечества.
В любом случае, согласно его воззрениям, только благодаря уверенности в светлом изначальном замысле мироздания может рождаться «сильная, устойчивая, всеобъемлющая жизнерадостность»[69]. Свойственные серебряному веку декадентские тенденции настораживали – «мы своим пессимизмом по возможности не должны отравлять наших детей, а через них и будущее общество»[70]. Не меньше опасений вызывало у М. Рубинштейна и развитие массовой, низкопробной культуры, которая начала принимать особенно уродливые, «боевые» формы после октябрьской революции.
Так или иначе, независимо от революционных катастроф его подходу всегда была присуща рациональность, уравновешенная идеально-ценностными требованиями к воспитанию «цельной личности», способной согласовывать свои стремления с общественной пользой, не отказываясь при этом от собственного своеобразия и индивидуального призвания. В трудах М. Рубинштейна особенно привлекает оптимизм и стремление к независимому познанию в условиях, когда внешние обстоятельства к этому, мягко говоря, не располагали. Надо надеяться, настоящее издание будет способствовать появлению новых исследований, посвященных его творчеству.
К. В. Фараджев
Тексты настоящего собрания работ М. М. Рубинштейна печатаются по журнальным, газетным и книжным первопубликациям с сохранением авторской орфографии за исключением случаев, когда она противоречит современным нормам русского языка. В авторские примечания внесены библиографические уточнения без специальных указаний.
Поскольку в авторских примечаниях не всегда содержится полная библиографическая информация о цитируемых изданиях, редакторы прилагают список изданий, на которые ссылается М. М. Рубинштейн.[71]
ПРЕДИСЛОВИЕ[72]
Фихте: «Человек изначально ничто. Тем, чем он должен быть, он должен сделаться и… сделаться своими собственными силами».
Напутствуя мою книгу предисловием, я руковожусь мыслью, что читателю легче будет понять мои построения, если он будет знаком с тем, что привело к возникновению моего труда. Естественная сама по себе дума над жизнью и миром нашла себе решительное подкрепление в моем интересе к педагогике. Мой труд вызван и мотивирован в значительной степени теми логическими и жизненными обязательствами, которые я принял на себя во всех моих предыдущих педагогических работах. Постоянное раздумье над целями педагогики и ее системой, над ее философией неизбежно вело меня к убеждению, что стройную, вполне завершенную систему педагогики можно построить только тогда, когда удастся более или менее удачно решить вопрос о смысле мира и жизни, а этот вопрос стоит в прямой зависимости от ответа на вопрос о сущности мира и жизни. Мои педагогические труды сделали для меня совершенно необходимой попытку подвести под мою педагогическую теорию философский фундамент и этим укрепить ее. Таким образом я искал на том пути, на котором создалась моя книга, не только удовлетворения моих чисто теоретических запросов.
Поэтому, вполне понятно, меня увлекала в моем труде не новизна или оригинальность, я искал в своей философии не столько законченной, отточенной системы логических построений, сколько правдиво – жизненного мировоззрения, способного осветить действительную жизнь и углубить ее. При таких условиях понятно, что я не хотел писать книгу о книгах, а стремился написать, как ни многообязательно это звучит, книгу о жизни и насытить ее настоящими соками подлинной действительности и действенности. Отмечая, что моя книга в значительной степени связана с моей педагогикой, я подчеркну здесь мысль Гербарта, что не только педагогика зависит от философии, но и правильно разрабатываемая педагогика должна привести к истинной философии.
С внешней стороны отмечу, что работу свою я писал в отдаленной провинции, вдали от больших книгохранилищ, в крайне неблагоприятных условиях. Некоторые повторения, с которыми читатель встретится в книге, я считал излишним устранять, так как они не усложняют книги, но помогают ее пониманию.
По чисто издательским условиям выход в свет моего труда задержался на продолжительный срок. Современные условия моей работы лишают меня возможности внести все нужные дополнения, и потому я решаюсь выпустить мой труд без них, так как в основных чертах мне нечего менять в нем.
Особенно жалею я о том, что издательские затруднения вынуждают меня выпустить данную первую часть моего труда без завершающей всю работу второй части, хотя они составляют единое целое и первая подготовляет почву для второй: в этой последней части, озаглавленной «Философия человека», я изложил в основных чертах мое философское мировоззрение: на основе конкретного понимания субъекта и объекта я строю теорию монистического идеал-реализма и творческого антропоцентризма, совершенно свободную от трансцендентных моментов, – теорию творчества сущности, которая с моей точки зрения, удачно решает и проблему смысла. Я не теряю надежды, что эта основная часть моего труда, давно вполне готовая к печати, скоро также увидит свет. Во всяком случае основательное суждение о моем труде предполагает знакомство с моей работой в целом.
М. М. Рубинштейн
I. ВВЕДЕНИЕ
Есть вопросы, которые сильнее времени: к ним неприменим критерий новизны или устарелости; есть вопросы, которые становятся перед нашим сознанием с неустранимой необходимостью, пока течет сама жизнь. К числу таких вопросов принадлежит проблема смысла жизни. Конечно, нужно помнить, что у нормального, здорового человека жизнь несет свою ценность и свое оправдание в самой себе, или, лучше сказать, вопрос о них до поры до времени совершенно не возникает, потому что непосредственное здоровое чувство жизни гасит в корне какие бы то ни было сомнения. С другой стороны, в действительной, в особенности современной жизни, захватывающей наше внимание в самых разнообразных направлениях, люди мчатся в неудержимой сутолоке житейских забот и поверхностных впечатлений, не способствующих углубленному раздумью над смыслом всего этого. Но все это только до поры до времени: у каждого мыслящего человека приходит такой момент, когда он вдруг вырывается из власти неудержимого жизненного потока и житейской поверхностной суеты, и вот тогда неизбежно встает перед ним вечно новый, не умирающий – пока идет жизнь и работает мысль – вопрос о том, зачем все это, где смысл жизни, что действительно нужно и важно и что ненужно и иллюзорно. Ширясь и разрастаясь, этот вопрос неизбежно должен охватить всю большую полноту философских вопросов, потому что уже в обыденном понимании жизни он охватывает и личность, и ее среду, и мысль последовательно переходит, обобщая все дальше, к проблеме всего мира. Мы с нашей культурной мощью и разнообразными проявлениями, в которых мы вступаем в общение и взаимодействие с этой действительностью, выступаем с определенными и большей частью с очень большими требованиями к миру и жизни, но они нам на каждом шагу напоминают, что место наше ограничено, и мощь человеческого «я» не является неограниченным полновластным хозяином и его принуждают удовлетвориться более скромным местом. Личность и вещь ведут непримиримую борьбу друг с другом из века в век с определенной перспективой, что каждая пядь, отвоеванная одной, обозначает ограничение сферы другой. Борьба эта совершается не только в форме приспособления мира вещей к потребностям и желаниям человека, но ей сопутствует вопрос о смысле и ценности этого безличного мира, вопрос о том, исчерпывается ли значение вещественного мира сферой физического бытия. Встреча с этой мыслью неизбежно диктуется и сущностью человеческой нравственности, требованием определения сферы своих нравственных поступков. Нет нужды подчеркивать, как законны все эти думы с чисто теоретической точки зрения, с точки зрения желания знать. Мы хотели бы только указать здесь на практическую сторону вопроса, на важность человеку знать, с какими ожиданиями он в праве идти в жизнь и мир: прав ли он, когда он берет положительное на своем пути как то, что принадлежит ему по праву, а отрицательное будит в его душе горячий протест?
Все эти размышления особенно обостряются в великие катастрофические времена, какие переживали мы, – в пламени мировой войны и революции, когда напряжение борьбы за существование дошло до колоссальных размеров, когда будущее затянулось темными грозовыми тучами и навис грозный вопрос над всей культурой, над всеми лучшими чаяниями и завоеваниями человечества. Сомнения наши – оправдано или нет – это иной вопрос – идут очень далеко и заставляют в тревоге спрашивать себя о человеческом в человеке, о роли разума и знания, об их соотношении с нравственностью и человечностью.
Где мы окажемся в будущем, этого, конечно, никто не знает, но у каждого из нас живет ясное сознание, что мы проходим не только через великий политический и социальный переворот, но что мы переживаем огромный кризис всего нашего культурного сознания. Десятки лет нараставшее сомнение во многих основных ценностях дошло до своего предела. Блаженство верующего для большинства интеллигентных людей стало недоступным завидным состоянием. Та светлая уверенность и устойчивость, которые несла и несет с собой искренняя, непосредственная вера, оказались разъеденными разлагающей работой мысли и разума, и в итоге увеличились шатания и сомнения. Если и верующий отнюдь не отказывается от стремления осмыслить и понять, то тем выше потребность прозреть у колеблющихся и неверующих. Современный человек мечется между двумя крайностями, будучи не в силах остановиться ни на одной из них: в одной жизнь рисуется в чисто земном и часто животно-отвратительном виде, в другой – она вся устремлена в иной мир, вылита целиком в форму долга и от нее отдает холодом и безжизненностью могилы. Давно уже антитеза «животное довольство – мученичество» не ставилась в такой обостренной степени.
Душевная разодранность личности уже давно обращала на себя внимание наблюдателей: на нее указывал неоднократно Вл. Соловьев, Р. Ойкен и другие. Мы тем тяжелее ощущаем этот надрыв, что мы теперь со всей нашей душевной силой стремимся к раскрытию цельной личности. Чем дороже нам человек, тем больнее мы воспринимаем его современную приниженность и темноту в массе; чем дороже человечество и человечность, тем тягостнее нам мысль, что люди в наше время поделены на особи, способные вырезывать друг друга, подавлять и уничтожать и духовно, и материально; чем дороже идеи свободы, равенства и братства, тем ужаснее сознание, что культурный мир находится в атмосфере рабства и отчужденности. Можно без преувеличения сказать, что молох наживы, интересы живота заполонили огромные полосы жизни, и от этого молоха стон стоит по всему культурному миру. Жизненная аберрация нашла место и в нашем отношении к образованию, вызвавшему во многом справедливое негодование Л. Н. Толстого своей суженностью и обособленностью до пределов чисто головной культуры.
Материализовав принцип «знание – сила», люди в наше время стали стремиться в величайшей поспешности, в подлинной суете понахватать побольше знаний, приложимых к практической жизни, свидетельств, дипломов, чтобы потом мчаться дальше с той же суетливостью по поверхности жизни, не задумываясь и не углубляясь в смысл и ценность всей этой борьбы за существование, протекающей в очень тяжелых и жестоких условиях. Так называемых культурных людей в этом положении можно было бы сравнить с взрослыми и интеллигентными игроками в футбол, в омрачении принявших мяч за цель и смысл своей жизни и бешено мчащихся за ним из стороны в сторону, толпясь, нанося удары и сбивая друг друга с ног.
Фихте говорил[73], что по тому, что человек любит, к чему он стремится всей душой, можно составить себе яркое представление о его жизни и ее ценности. Но многие не живут, потому что не любят, а не любят потому, что не знают и не думают. Теперь, когда у нас понизилась энергия жизни, размах силы и жизнерадостности, бившие через край у античных греков, мысль о жизни и мире диктуется сама собой.
У нас вообще не было бы нужды оправдывать такое обращение к проблеме смысла жизни, если бы она не являлась в глазах большинства ученого мира заношенным вопросом, опошленным поверхностными гаданиями. Характерно, что история философии далеко не так богата прямыми исследованиями его, как этого можно было бы ожидать, но зато косвенно ни одна система не могла обойти его даже тогда, когда она его сознательно не называла.
Иначе и быть не могло. Человечество от пути в потемках в своем историческом развитии все больше переходило к осознанию хода жизни и своего участия в ней, пока, наконец, с широким раскрытием самосознания оно открыло возможность для себя попытаться сознательно воздействовать на свою судьбу, а для этого необходимо решить проблему смысла жизни.
Здесь во вступлении мы отметим только еще ту мысль, которая бегло была упомянута нами и которая напрашивается сама собой: в то время как одни видят в интересующем нас вопросе непреодолимые для человеческих сил трудности, другие твердо убеждены, что решение уже давным-давно найдено откровением и неизгладимо живет в душах верующих. Они думают, что у них есть то, что так важно, бесконечно важно для истинно человеческой жизни, – именно не просто жить, но и чувствовать, и сознавать свою жизнь оправданной: вера как будто дает им надежное ручательство в том, что вся земная жизнь со всеми ее светлыми и темными сторонами не бесцельна, что все это нужно и что в конечном счете, все придет к абсолютному торжеству добра, справедливости и всех абсолютных ценностей.
Да, блажен, кто верует. Но больше блажен, кто ищет. Непосредственная вера не только не может замкнуть пути к дальнейшему просветлению своего сознания, но, уверовав, что есть смысл, человек пожелает и, главное, должен пожелать, сознать и понять его.
Становясь на точку зрения непосредственно верующего человека, мы говорили: вера гарантирует мне несокрушимое убеждение, что у мира, у жизни и личности есть как свой абсолютный исток, так и свое абсолютное значение, и свой глубокий смысл. Но дальше возникает вопрос, который я должен решить сам: верховный вождь знает последние цели и план, и ход всего, что совершается, но я, рядовой или только начальник отдельного отряда, должен по мере своих сил идти сознательно в пределах своих ограниченных заданий; я должен не только делать, но именно для дела и понимать то, что я делаю, и что я должен делать; я со своей индивидуальной позиции должен попытаться осмыслить свое отношение к общему ходу, к целому мира; я должен свободно, т. е. сознательно и осмысленно хотеть того, о чем говорит мне моя непосредственная вера[74].
Таким образом постановка проблемы смысла жизни диктуется со всех точек зрения. С жизнью в этом случае обстоит как с работой, про которую Достоевский говорит[75]: «Если бы захотели вполне раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей бесполезности и бессмыслицы». Смысл должен быть, иначе жизнь уничтожается; положение дела нисколько не меняется оттого, что подавляющее большинство удовлетворяется или непосредственной верой, или смутными чаяниями.
Возможно ли ее философское решение и в какой форме, об этом и должно говорить содержание этого труда.
II. ПРОБЛЕМА СМЫСЛА КАК ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ФИЛОСОФИИ[76]
Философия, приковывавшая и приковывающая и теперь думы мыслящих людей к самым сокровенным вопросам, является в своей истории живой иллюстрацией к легенде о фениксе, который, сгорая, возрождался из собственного пепла: вся она соткана из смертных приговоров ей, которые тут же нередко превращаются в ее триумф. Философия не только учение о величайших вопросах, способных волновать человека, но она и до сих пор остается сама великой проблемой, едва ли не самой трудной и первой из всех тех, которые она пытается разрешить. Обращаясь к ней за разгадкой вопроса о смысле жизни, о личности и ее чаяниях, мы прежде всего должны спросить себя, кто она, эта таинственная особа, от которой все мы так много ждем и которая не явила до сих пор всем одинакового устойчивого, единого лица.
Вопрос наш о ней является тем более оправданным, что проблема смысла в самой философии оказалась не просто оттесненной на второй план, но заношенный дешевыми писаниями костюм почти совсем лишил ее права показаться в аристократическом обществе господствующих философских проблем, а тем более поднять вопрос о своем бесспорном первородстве. Непреодолимым препятствием к этому было то, что философия с головой ушла в мелкие скептические, большею частью теоретико-познавательные вопросы, и целые тучи – в определенной стадии, может быть, и необходимые – специализированных исследований заслонили истинно философское солнце; средство понемногу превратилось в цель, и мы из-за деревьев перестали видеть лес. Наше соседское общение со специальными положительными науками и их методами оказалось значительно более обязательным, чем это можно было предположить на первый взгляд: они не только оплодотворяли ее, но вместе с тем и ограничивали, нередко завершая свое отношение к ней прямым отрицанием ее права на существование, обвиняя ее в захватах чужих областей. В наше время философия повисла между науками и художественно-житейскими рефлексиями: науки относятся к ней то сдержанно, то прямо отрицательно и отсылают к жизни и искусству, а искусство и жизнь сторонятся ее, как науки.
И нужно сознаться, что философия долгое время скиталась и продолжает скитаться по сию пору вдали от жизни. Живя только гордыми воспоминаниями о своем былом царственном положении, отголоски которого сохранились в ее названии, она, вербовщица друзей мудрости, вступила в стадию резкого охлаждения между ней и жизнью: если когда-то философия пыталась предвосхищать жизнь, определять хоть отчасти ее ход, и философ был вместе с тем, или именно потому учителем, то теперь философия чаще всего просто плетется в хвосте событий, являясь запоздало на пир жизни. То, что сова Минервы начинает свой полет, по указанию одного из великих жрецов ее (Гегеля), только с наступлением сумерек, это справедливое, вместе с тем тяжкое, бичующее признание нашего времени.
Чтобы выйти из этого тягостного положения, философия должна найти достойный ее язык, она должна самоопределиться, а не хиреть на задворках то наук, то жизни. Она должна заговорить мощным языком неподдельной живой действительности, а не засушенной мумии, от которой отворачивается все живое[77]; она должна для этого прежде всего не пренебрегать теми думами, над которыми бьется каждая ценная человеческая душа, а в центре их – проблема смысла жизни. Она должна сбросить с себя путы подлинной схоластики и дать простор своему теперь подавленному стремлению к живому и жизни и с радостью приветствовать устремление жизни к ней в ее глубоких течениях; она должна снова воскресить себя как учение о жизненной мудрости в самом широком и глубоком значении этого слова. Тогда она, без сомнения, понесет количественно большие потери; она потеряет тех лжефилософов, для которых их научные распределители-квадратики дороже живого и жизни, но зато, освободившись от коры схоластической лжемудрости, отпугивающей и глубоко разочаровывающей тех, кто рвется к ней, она вернет жгучий интерес к себе, она пробудит неподдельную любовь к философской мысли и истинную философскую пытливость; она перестанет жить только на одних университетских кафедрах и в устрашающих диссертациях. То, что она не задохлась еще в тучах частностей и насильственной сциентификации, объясняется тем, что подлинный дух ее все-таки успевал хоть отчасти прорваться через толщу мертвых и мертвящих рассуждений.
Возвращение к понятию жизненной мудрости – в этот лозунг так легко вложить опасность нового рабства, подчинения узкому житейскому практицизму. Мы не должны повторять ошибки послеаристотелевской философии стоиков, эпикурейцев и т. д., сузивших задачи философии на этику и все подчинивших ей, но самое понятие мудрости, как и проблема смысла жизни, не могут уложиться в рамки этики, они значительно шире ее; подлинное понятие мудрости и его истинный исходный пункт должны гарантировать нас от таких опасностей. Философия не должна впадать в крайности, и вот именно потому, как мы надеемся показать дальше, ей особенно важно не идти безостановочно по пути резкого обособления теоретических функций от практических, которое стало намечаться уже в античном мире и к нашему времени дошло до последних пределов чистой теоретичности. В принципе «знание ради знания» живет глубокая правда, только до того момента, пока мы на него смотрим как на эвристический принцип. Знание философское не может не быть действенным; оно должно твориться ради правды, правды широкой, правды-истины, правды-справедливости и правды – живой полноты смысла. Предостерегая против порабощения философии этическими мотивами или узким практицизмом и со всей энергией отстаивая ее автономию, мы не менее горячо должны ограждать ее от опасности впасть в русло холодно-безучастного знания, в русло теоретического сепаратизма.
Возрождению философии, ее подъему к истокам мудрости и жизненного поучения в самом широком смысле этого слова много мешает тот предикат научности, который теперь прилагают к ней, скрыто привнося в нее элементы, способные только сковать ее развитие и устремление к своим подлинным проблемам. Мы с поразительной слепотой втискиваем философию в традиционную форму науки, преувеличивая значение науки, убежденные, что нет голоса знания превыше научного. Отсюда и выросли бесплодные потуги сделать из нее только специальность среди других.
В самом деле, понятие науки в общем оказывается довольно смутным и попытки определить ее обнаруживают коренные разногласия. Чтобы решить вопросы о том, в каком смысле можно назвать философию наукой и в чем заключаются несходные черты, отличающие ее от наук в обычном смысле, мы должны на момент остановиться на анализе понятия науки.
Уже с древних времен большим авторитетом пользуется определение науки, как его дали стоики, полагавшие, что она есть система твердых, достоверных знаний. В наше время к этому определению примыкают многие, например, Гуссерль и Г. Шпет[78], которые на первый план выдвигают ясность и доказанность, противопоставляемые ими мудрости и глубокомыслию, неизбежно, по их знаменательному мнению, связанным со стадией незрелости и незаконченности; в том же направлении, только еще более суженном, идет Вл. Соловьев[79], определяя науку достоверностью, системой и доказательностью. Признак системы готовых знаний, доказанных и проверенных, неизбежно приводит нас к выводу, что не только философия не наука, но науки вообще у нас нет, так как все они живут, спорят и сменяются. Скептический вывод из scientia est rei perfecta cognitio[80] вполне последовательно приводит к выводу, что науки нет[81]. Наука есть прежде всего стремление к знанию, отливающееся в известные формы; ищущая и исследующая наука, не достигшая еще своей цели, от этого нисколько не утрачивает своего достоинства науки.
Вместе с тем должна быть отвергнута и попытка определить науку одним ее объектом по содержанию, потому что один и тот же предмет может изучаться различными науками, а вместе с тем возможно возникновение и новых ветвей научного знания. Ошибочно упоминать в определении науки и о том, что она изучает действительно существующий предмет или явление, потому что это способно внести полный хаос во многих сферах. Ведь, может быть наука о понятиях, может быть наука – и очень значительная – об искусственно сконструированном объекте. У нас есть логика, есть математика, есть пан-геометрия, изучение пространства n+1 измерений и т. д.
Таким образом определения объектом должны уступить место, если не первое, то на равных правах рядом с собой, указанию на точку зрения, с какой данная теория изучает свой предмет. Расширив понятие науки, мы можем таким образом определить науку как самодовлеющее искание истинных знаний, устанавливаемых в систематической, общеобязательной, доказательной форме в исследованиях, проводимых с определенной точки зрения и по определенному, логически оправданному методу. Бескорыстное стремление к истине, объективности, определенный основной принцип рассмотрения предмета, метод и система – вот те признаки, которыми наиболее обще определяется наука, хотя уже признак бескорыстия вызывал и вызывает целый ряд возражений, так как он угрожает лишить достоинства науки целый ряд прикладных ветвей знания.
Если мы остановимся на приведенных нами чисто формальных признаках, то философия обладает всеми бесспорными правами на достоинство науки[82]. Она, пожалуй, даже более чем какая-либо иная наука, живет идеей истины, принципиальности, объективности, метода и системы, и этим она резко отделена от непосредственной жизни и от художественного творчества, с которыми были попытки сроднить ее. Вся ее, в особенности позднейшая, история указывает не только на тяготение философии к науке, но в наш век она питалась наукой и ее задачами в их основоположениях, расплачиваясь за это утратой интереса ко многим своим кровным задачам.
Но у нее есть целый ряд свойств, и при том таких свойств, которые далеки от второстепенного значения и заставляют подчеркнуть, что философия вовсе не исчерпывается предметом науки в обычном смысле этого слова.
Философия с первого же шага резко отделяется от круга отдельных наук тем, что она старейшая дума человека, и вместе с тем до сих пор она вынуждена вечно рождаться снова и стремиться прежде всего познать саму себя; она сама является своей первой проблемой (как в своей сути и задачах, так и в своей возможности)[83]; в современных условиях создается часто совершенно нелепое положение, когда для нее ищут объекта, чтобы дать ей место среди подозрительно относящихся к ней наук; иными словами, получается так, как будто не наука возникла, чтобы осветить известную область, а изобретают объект, чтобы дать возможность существовать философии, проявляя этим необъяснимый фаворитизм. Существование науки определяется потребностью в исследовании, а не наоборот. У философии, конечно, есть свой предмет, но он был откинут, и она толклась и толчется в чужой сфере, всюду терпя гонения и возбуждая вопрос о своем праве на существование. В этом предмете полагается вторая особенность ее как научной теории: в то время как науки дробят действительность, отвлекаются от целого и берут часть, они без сомнения становятся отвлеченными; известный, хотя бы условный род фикции – в виде ли мнимой неподвижности или изоляции, или фиктивного объединения и т. д., заключается в самой их сущности, разрознивающей действительность, разделяя ее на части или изолируя одну точку зрения; философия же жизненно заинтересована в цельности, полноте и потому должна быть противопоставлена им как учение о живой полноте, как учение в этом смысле по преимуществу конкретное.
Именно потому философия не мирится с положением специальной науки среди других, а, несмотря на тягостные недоразумения, может смело претендовать на трон, принадлежащий ей по традиции. Она именно потому может дать больше науки в обычном смысле, что она в глубине своей вырывает нас из пучины житейских и научных частностей и мелочей и из скованности отдельными областями. Великое удивление обозначает пробуждение духа философа перед миром; это падение власти частностей и отвлеченностей, когда человеческому духу впервые открывается перспектива бесконечности целого, возможность устремиться к пониманию его, а это значит не только познать его умом, но открыть многое и чувству, и воле.
Особое положение философии подчеркивается и ее взаимоотношением со всеми отдельными науками. Входя в них своими отдельными ветвями и находясь с ними в кровном родстве в целом ряде направлений, она вместе с тем не умещается в их рядах уже потому, что она должна обосновать те принципиальные основы, которые предполагаются отдельными науками; она должна стоять над ними, как теория основоположений, как наукоучение, но она не только наукоучение. Нет сомнения, что сам Фихте, характеризуя философию как наукоучение, создал определение, не вмещающее его собственного учения, и вступил в противоречие с другими своими указаниями на нее как на мудрость и действенное учение. Как глубоко правильно заметил Виндельбанд[84], всякий непредубежденный человек, ознакомившись с судьбами философских учений во всей их сложности, изменчивости и связи с культурной эволюцией, должен понять, что здесь не место педантично настаивать на тесных рамках, намечаемых предикатом науки, и что это, в конце концов, неминуемо приводит к несправедливости и стеснению, как для философии, так и для науки: это навязывает философии ожидания, которых она выполнить не может, именно ожидание системы безличных готовых знаний, и рамки, которые она всегда переступает и делает это как раз в наиболее значительные, плодовитые периоды своей жизни, а на науку в узком смысле это налагает ответственность за невыполнение философией ожиданий и за ее мнимые правонарушения. Удержать философию в границах тесного понятия науки тем более трудно, что они расходятся и в своем источнике. Как мы уже заметили, наука в строгом смысле всегда стремится к учету фактов и действительного положения вещей, и вместе с тем она принципиально исключает зависимость своих построений от личного начала, абсолютно устраняя возможность оценивать удельный научный вес открытия в зависимости от того, кто его дал[85]. История для науки как таковой собственно не существует или имеет только побочный интерес. Из этого общего положения не исключается и сама история, которая стремится охватить прошлое, но мало уделяет внимания своей истории или историкам, придавая этому скорее педагогическое значение, в деле воспитания настоящих и будущих ученых. Философия никогда не бывает в этом смысле безлична, она тесно связана с личностью своего творца – индивидуального или коллективного (народного); она поэтому не только признает историю, но она долгое время была в опасности отождествиться как отдельная теория, с историей философии; да и изучение ее идет по преимуществу историческим путем. И потому именно философия ценит свое прошлое и никогда не считает его прошлым, в то время как для науки настоящее ее положение обозначает полное исключение предшествующих стадий, как пережитых. Как живая человеческая личность есть связь убеждений и поступков не только в настоящем, но и в прошлом, и потенциально и в будущем в их неразрывной цельности, как ее «я» в широком смысле охватывает всю ее полноту и обязывает ее, так и философия живет этой связью со своим прошлым и не может отказаться от него, не уничтожая себя, как не может личность стать личностью только данного момента.
И вот именно потому философия не есть только учет действительности, как бы мы широко не истолковывали это понятие; в противоположность науке она не только психологически – в жизни автора и читателя, – но и сама по себе является как нечто конкретное, особой сферой жизни, культурного созидания. Она не исчерпывается и не удовлетворяется тем, что есть и что действительно, она сама стремится творить действительность и обогащать фактический мир. Было бы несправедливо и нежизненно изолировать одну сторону этой ее жизни от другой, как это нередко делается теперь некоторыми писателями[86]. В горделиво самоуверенном заявлении умозрительного философа в ответ на речи о противоречащих его теории фактах «Тем хуже для фактов» не все анекдотично и курьезно; в нем кроется глубокая черточка правды, голос сознания, что философия не исчерпывается одними фактами и не должна становиться их рабой. Об этом особом положении философии и говорит то, что в ее ведении оказываются все сферы должного, все сферы абсолютных ценностей, человеческой мысли.
Все это делает понятными строгий, безличный характер науки, ее холодный «объективизм» и теплоту, и взволнованность – в этом смысле «субъективизм» философии. В этом великая правда слов Шопенгауэра, что голова, конечно, должна быть всегда наверху, но это в философии не ведет на путь рассудочной холодности; она в ее подлинном виде захватывает всего человека; она не алгебраический пример; и великий пессимист заканчивает свою мысль словами Вовенарга «Великие мысли приходят из сердца»[87]. Она отделяется от искусства тем, что она оперирует понятиями, что она дискурсивна и должна быть доказательна, но в своих глубинах философия покидает поле понятий и рассудочную доказательность, она творит и безусловно сродняется с искусством. Она действительно может овеществить личное и очеловечить вещественное[88]. Потому она и относится чутко к запросам души человека и открывает большой простор личному элементу. Если философия в наше время думает о восстановлении прав опороченных субъективных качеств, то тем более должна быть реабилитирована субъективная убежденность. Философия не только доказывает, она убеждает лично, непосредственно. Для Фихте философия была вопросом совести. Он и Шеллинг – оба полагали, что абсолютное не может быть разгадано рассудочным путем – «erräsoniert»,как говорит Шеллинг. В этом разгадка того, что философы и в наше время, как и раньше, полагают так много надежд на интуицию.
Все это вместе взятое проливает свет на глубоко смущающую непосвященных людей смену философских систем, их неустойчивость – на то, что философия обещает абсолютное и никогда не бывает сама завершенной, готовой, что ее учения рождаются на почве взаимного противоположения и дополнения, что в ней сколько голов, столько и умов, что ее история говорит о бесконечных и притом постоянно возвращающихся разногласиях и ожесточенных спорах без надежды на завершающий общеобязательный итог.
Это расплата философии за ее интимную близость к глубинам жизни, которая течет и меняется; это следствие того, что она трактует глубочайшие личные вопросы человека даже тогда, когда она говорит о вселенной: будь она только наукой, о ней никогда нельзя было бы сказать, что она дело совести. Система Менделеева, закон тяготения или квадратное уравнение и т. п. ни в каком отношении в своем значении не зависят ни от личности открывших их, ни от принявших эти открытия; они доказываются объективно, холодно. Философия вступает целиком на такой путь только в тяжкие эпохи своей жизни. По существу самый вопрос о том, правильна или неправильна данная философская система, переносит ее уже на ложную почву: каждая система не только верна и доказательна, но о ней приходится главным образом спрашивать, последовательна и дельна ли она, убедительна ли она и какова ее самостоятельная ценность как творения философского духа. В философии живут, не увядая, и Платон, и Аристотель, и Декарт, и Спиноза, и Гегель, и т. д.[89] И неготовность, и незавершенность философии на этом фоне превращается не в укор ей, а в ее достоинство.
Философия должна вспомнить о смысле своего многообязательного названия: она должна выявить мудрость, она не исчерпывается основоположениями наук, она должна быть конкретна, в то время как все науки в узком смысле отвлеченны; она есть учение о миросозерцании – не только о формальных основах его, но она есть одетое в плоть и кровь мысли и чувства миросозерцание само, созерцание мира во всей его полноте фактического и творимого и должного идеального. Этим и объясняется та роль, какую играло и играет понятие бога и веры в философских учениях прошлого и настоящего.
Все это приводит нас к пониманию философии как учения о мире в широком смысле этого слова: она есть само миросозерцание, проводимое теоретически по определенному методу в направлении на единую, цельную, общеобязательную систему. В центре этого учения должно стоять жизнепонимание.
Рассматривая философию как учение мудрости, как учение миросозерцания, мы не стремимся сковать ее практически жизненными вопросами; она захватывает в свой круг все вопросы об основоположениях; она остается «наукой о принципах», но уже перестает быть только этим, только сводкой о целом мира, только хранителем фундамента наук или только учением о должном. Как само миросозерцание, она захватывает всю ширь вопросов личности, но уже в их не рассеченной, живой, конкретной полноте, – вопросы того, что есть, и того, что должно быть. Дальше мы надеемся выяснить подробно то, что мы имеем в виду.
Теперь становится ясным, что с нашей точки зрения жизнепонимание должно занять в философском учении центральное место. Это обозначает протест и отклонение от освященного вековыми традициями идеала чистого созерцания или умозрения, философствования ради философии; а цель может полагаться только в одном: в жизни, в истинной жизни, а умозрение и чистое созерцание сохраняют свою автономию – она важна с эвристической точки зрения, – но они всегда остаются только этапом, только средством для жизни и жизнепонимания[90]; важно только, чтобы это не было понято как отрицание автономии умозрения; оно жизненно необходимо, но оно не есть самоцель, в конечном счете. Исторический грех наш заключается в том, что средство – хотя и первостепенной важности – мы обратили в цель, в фетиш, побудивший нас оторваться от живых запросов жизни.
Отказавшись от поклонения разоблаченному идолу, мы должны сделать шаг дальше на пути прояснения основной философской задачи, которой увенчивается все здание, хотя ею и не исключается самостоятельная ценность и важность иных проблем философии. Такой всезавершающей, последней по времени и первой по значению проблемой является вопрос о смысле мира и жизни, о тех следствиях, которые отсюда вытекают для человеческой личности, для ее созревания, роста и воспитания и для определения ее роли и путей в мире и жизни[91]. Философия не должна повторять обычной ошибки, что наиболее близкие вопросы личности остаются больше всего в тени и не замечаются нами. Она не должна впадать в философскую суету сует, заполонившую нас в наше время и вполне аналогичную той переоценке средств, возведению их в цели и незамечанию близкого, кровного, в нас самих тлеющего вопроса, которые наблюдаются в жизни и заставляют людей скользить в неудержимом потоке соревнования из-за средств и по поверхности действительности.
Понятая так философия немедленно освобождается от принижающего ее привкуса лжемудрости и пробивает путь широкому потоку свежего воздуха из жизни и к жизни. Там в жизни зажегся огонь, согревающий подлинные философские думы, и с нею должна быть осознана живая неподдельная связь.
Вопросы о мире и жизни людей жизни и те же вопросы специалистов философов, философствование простого человека и творца системы различны не в сути, а в том, каким путем мысль обоих идет к одной и той же великой цели: первый идет ощупью, бездоказательно и бессистемно, путаясь без определенного метода; второй – не исключает индивидуальности, чутья и прозрения, но он приходит к ним на помощь во всеоружии метода и системы. Там и тут философствование, одно бессистемное, другое – систематическое и потому претендующее с известным правом на общеобязательность. Философия и жизнь должны заговорить на понятном – в сути своей – языке друг для друга; от этого выиграют обе стороны[92]. Для этого философии нужно только отказаться от своей ложной гордыни и понять себя как учение о миросозерцании и жизнепонимании. Глубоко прав был Фихте, убеждавший[93] своего читателя крепко держаться жизни в философии.
То, что жизнь идет сама по себе, а мы в гордой изоляции философствуем сами по себе, затрагивая самое кровное в жизни, ее сердцевину, не выдерживает решительно никакой критики. Все это было возможно – и остается возможным для узкой, частичной, отвлеченной науки, пока мы берем части, пока мы переходим от одного дерева к другому и в нашей душе не разгорается вопрос о лесе, о целом. Тогда вражда между теорией и практикой ясно ставит вопрос о том, что одна из них ложна. В вопросах великой субъективной важности – а таковы все основные вопросы философии – между ними не может, не должно быть противоречия; мы здесь и не можем жить двойной правдой. Истина одна для всех; нет истины специальной для профессора на кафедре и для него же как человека в обычной жизни. Созрев в уме ученого и философа, истина идет в жизнь как большая творческая сила; и потому она – во всяком случае, философская – никогда не бывает чисто теоретической.
Таким образом для философии есть только один жизненный путь: это – мудрость, учение о мире и жизни во всей их широте[94]. Именно в философии так велика роль и ценность убеждения, потому что она обращается ко всем сторонам человека и говорит обо всей мировой и жизненной полноте: шаблонное понятие правильности и истинности уже не может вместить всей ее глубины. Отдельные периоды, когда она, как в наше время, расплывалась в частных вопросах и готова была потонуть в теории познания, это – только подготовительные периоды или временные уклонения, чтобы затем с тем большей силой перейти к основной задаче, определяемой ни чем иным, как древней идеей учительства. Дешевые возражения на это указанием на неприспособленных к жизни мыслителей ничего не опровергают: пусть будет философ беспомощен, как дитя, в мелочах практической жизни и частностях мира и жизни, но мы говорим о глубинах и цельности и полноте их: с высот и при безбрежных горизонтах всегда неизбежно не замечают того, что частно, мелко, что находится вблизи и под ногами. Здесь в характере жизненной мудрости кроется разгадка того, что в философии и философах в ее наиболее цветущие периоды никогда не угасал великий реформаторский дух и стремление к повышению и интенсификации культуры и человечности, о которых мечтал Фихте, полагая, что всякая философия и наука утрачивают весь свой смысл и значение, если они не служат, как высшей цели, этим целям истинной жизни[95]. Философия, завершаясь в проблеме смысла мира и жизни, никогда не остается мертвым холодным фактом; она никогда не может остаться в сфере чистого значения, она логически и внутренне необходимо является вместе с тем живой деятельной силой, переходящей в сферу влияния и действия; завершение системы обозначает момент соответствующего высвобождения этой силы: философски знать, понять и осмыслить это, значит, открыть личности возможность не только знать, но и определенным образом действовать. Хотя бы этим действием явилось самоубийство, завершающее учение пессимиста, как у Майнлендера. Философия поэтому всегда захватывает нас с непосредственной жизненной стороны и насыщает теплом или отталкивает своей личной и жизненной неприемлемостью для нас. Именно потому и оказывается возможным аргументировать в ней за и против указанием на удовлетворение или неудовлетворение интимных запросов человеческой души, не только теоретического духа, но и воли, и чувства, и всей полноты личности. Философская правда есть всегда не просто объективная истина, но и субъективно приемлемое положение.
И это так понятно. Уже в науке принцип «знание ради знания» правдив только относительно; именно – он глубоко правдив, пока им отклоняется вмешательство посторонних житейских интересов в работу научной мысли и попытки навязать ей цель со стороны, нарушить ее автономию. Но вместе с тем становится ясным, что наука и ученый не могут и, главное, не должны отрываться от жизни[96]. Тем более важно философу, трактующему саму жизнь в ее глубинах и сердцевине, не терять направления на жизнь.
Это и выражается в идее учительства, об этом и говорит и суть дела, и голос жизни. Ученый прежде всего человек, и понятие его входит в понятие человека, а не наоборот. Вечно сменяющиеся продукты философского творчества только потому не отталкивают нас от себя своими сменами и не приводят и не приведут к полному разочарованию, что они дышат не только теоретическим духом, но что в них скрыто или явно горит пламя мудрости и идеи учительства, дух глубокой жизненно действенной правды. Философия не может не учить, потому что она всегда – хочет этого философ или нет в своих сознательных крупных стремлениях, безразлично – кульминирует в проблеме смысла. Оттого нам так тяжело в атмосфере философской мелочности – в те периоды философии, когда в философских частностях, в самодержавии и сепаратизме частей, как это происходило, например, с теорией познания недавно, тонут живые философские запросы, когда философия во многом зарывается с головой до самозабвения в раскопки археологического характера, безнадежные попытки оживления отживших и мумифицированных фигур или в философскую микроскопию.
Жизненно развернувшаяся философия неразрывно связана с идеей учительства, и потому именно философия обязывает[97] – обязывает потому, что она, завершаясь, никогда не остается только знанием, а превращается вместе с тем в реальный фактор, в большей или меньшей мере предназначенный определять жизнь. Это не может быть иначе уже потому, что основным вопросом, волнующим человеческую мысль, является вопрос о взаимоотношении мира и человека, мирового начала и человека, составляющий корень вопроса о смысле жизни; это не вся философия, но это ее узловой пункт или ее завершение. Вскрыть философскую правду – значит звать к ней и отклонять все иное, как ложное. Философии всегда присущ лично-императивный характер, не отделимый от идеи учительства, продиктованной ее сутью, как учения о смысле мира и жизни. Она по самому своему устремлению к живой полноте, к абсолюту не может не становиться императивной. Идеально вскрытой философии должна быть действительно присуща великая жизненно-очистительная сила, которую когда-то ей приписывали пифагорейцы.
В таком понимании философия обретает свою сферу, не только неоспоримую, но и необъятно ценную: это не только основоположения наук и изучение самой мысли и познаний, но ее предмет – живой мир и жизнь в их конечном смысле. В конце концов и ученый, завершая свою область, поднимается в сферу целого и неизбежно встречается с этими вековечными вопросами. Философия в таком понимании не мертвые научные квадратики для похоронных распределений остатков живого, она не тупик, а выход по мосту проблемы смысла жизни на простор просветленной жизни. Таково ее возвышенное назначение: она должна пытаться приоткрыть завесу над назначением мира и человека не только в познавательных, но и в действенных целях, а для этого необходима вся широта познания и понимания не только того, что должно быть, но и того, что есть[98].
ЧАСТЬ I ИСТОРИКО-КРИТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ
Как мы уже отметили раньше, история философии, особенно новой, не богата прямыми исследованиями проблемы смысла жизни личности, но косвенно или прямо ответ на этот вековечный вопрос можно услышать от автора каждой более или менее законченной системы философии. Мы видим свою задачу в попытке дать свой ответ на этот вопрос, а потому хотя мы и обратимся далее к значительным философским учениям, но подойдем к ним не как к истории, а как к типическим или основным попыткам решения интересующего нас вопроса. При этом мы главное внимание уделим учениям нового времени, полагая, что это достаточно мотивируется самым существом нашей проблемы и нашим пониманием философии как систематизированного миросозерцания и жизнепонимания; в таком понимании оно, естественно, должно не только стремиться к общеобязательности, но и в характере своем чувствовать свою близкую связь с характером своего времени и данной культурной стадии человечества и жизни. С ростом культуры, с усложнением жизни неизбежно получается, что в проблеме смысла вскрываются новые возможности, которые могут оказаться чуждыми далекому прошлому, как бы оно велико и значительно ни было. Это, конечно, далеко не обозначает пренебрежения к прошлому, как мы указали в первой главе, оно для нас приобретает особый, важный смысл, но в наших задачах обращение к прошлому диктуется не историческим интересом, а прикладным, – желанием выяснить, какие пути в крупных чертах должны быть признаны неудачными и какие условия необходимы для утверждения смысла.
Самое существо нашей темы приводит также к тому, что интересующий нас вопрос о смысле жизни и личности неизбежно требует расширения его до пределов вопроса о смысле мира, и таким образом ответ наш, который мы даем во второй части этого труда, естественно слагается в очерк мировоззрения.
III. МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОПРАВДАНИЕ ЖИЗНИ (ДЮРИНГ, ЛУКРЕЦИЙ)
Если бы человека непредубежденного и незнакомого ни с историей философии, ни с материалистическим миропониманием познакомили с основами традиционного материалистического учения, а затем спросили, к чему может привести такое миросозерцание, к пессимизму или к оптимизму, то разумно и последовательно он мог бы ответить только одно, что оно неизбежно должно завершиться черными тонами пессимизма или, лучше сказать, воцарением колоссального безразличия, механизации не только всего внешнего мира, но и человеческого «я», а это обозначает полное уничтожение всякого смысла жизни личности.
История материализма показывает нам между тем, что в развитии таких учений – за известными исключениями – центральную роль играла идея оправдания жизни, обоснования ею радостного содержания и смысла, вообще оптимистическое задание было той направляющей силой, которая скрыто или явно вдохновляла многих материалистических философов. Историческая седая связь материализма с эпикуреизмом, апологетом радостей жизни и их законности является союзом, продиктованным не только историческими условиями, но и общей по характеру внутренней идеей – идеей апологии земной жизни. Эпикуреец Лукреций, без сомнения, видел в материализме благодатную почву для устранения всех факторов, способных подорвать интенсивность земной жизни. С этой точки зрения вступление, которым Лукреций открывает свою материалистическую поэму «О природе вещей», нужно рассматривать не только как дань патриотическому чувству его соотечественников, дань их связи с покровительницей Энея, но в нем нужно видеть и иное: Лукреций взывает не только к «Aenadeum genetrix»[99], но и к Венере, к богине любви и земной радости и жизни. Лукреций вскрыл в глубине древнего времени глубокую, подлинную пружину материалистических стремлений в своем прямом заявлении, что он истинным, т. е. материалистическим миропониманием надеется освободить человечество от страшных мучений, порождаемых беспочвенными боязнью и суевериями; он надеется рассеять все призраки, устрашающие заблудших и мешающие их жизни, – рассеять их истинным философским познанием, показав, что мировые силы ведут мир по определенным законам, что нет иного мира и что в этих силах дана гарантия того, что все должно идти и идет по надлежащему пути.
Он говорит об устранении всех учений, подрывающих жизнь, потому что это[100] «грезы, способные загубить корни жизни и омрачить страхом все твое счастье».
Все эти мотивы в различных вариациях постоянно повторяются в последующем развитии материалистических учений. В xix веке их ярко выявили немецкие материалисты, указавшие со всей желательной определенностью на свою задачу с помощью материализма уничтожить все, что подрывает жизнь и жизненный оптимизм. Для них материализм есть бесспорно радостное жизнепонимание. Упрек в подрыве жизни представлялся философам этого порядка наиболее чувствительным, и их и без того красочный язык переходит в местах, где речь идет о таком обвинении, в форму настоящей «воинствующей философии». Рисуя жизнь и человека как продукт естественных процессов и отношений, устраняя во имя материалистического монизма иной мир, идею бессмертия, свободы и т. д., материалисты видели в своем учении только одну сторону, освобождающую от обязательств по отношению к иному миру и страха перед ним, и потому считали своим последовательным правом проповедовать лозунг брать эту единственную жизнь как таковую и не пропускать жизни мимо себя, потому что везде и во всем, в конце концов, получается один и тот же итог. Такой вывод ясно и определенно слышится у Бюхнера. Молешотт, отклоняя идею особого нравственного миропорядка, подчеркивает, что материализм открывает единственно логический путь для гуманной морали: по его учению, материализм, например, дает при его всеобъемлющей обусловленности возможность видеть в преступнике не чудовище, а собрата-человека, подвигнутого на дурные поступки болезненной или дефективной организацией, недостаточным питанием и известными изменениями в мозгу; оставляя невыясненным положение идеи ответственности при таком взгляде на поведение человека, Молешотт видит в этом только простор для расцвета человеколюбивого отношения даже к преступникам.
Как велика эта оптимистическая тяга у материалистов, это лучше всего видно на симпатичной фигуре Чольбе. В то время как у других философов-материалистов часто обнаруживается обыденный гедонизм, Чольбе возвышается до подлинного идеализма настроения; это по существу и есть то, что его отчасти выводило за пределы материализма и давало теоретическую подпочву для его широкой, благородной философской терпимости. Он со всей энергией указывает, что материалистические следствия, отрицание сверхчувственного мира, души, ее бессмертия и т. д., вполне оправдываются нравственным отношением к естественному миру и миропорядку, чувством долга, повелевающим довольствоваться тем, что дано, что есть. Он убежден, что падение идеи бессмертия вносит с собою в жизнь человека не пессимизм, а оптимистический тон, так как вечная жизнь была бы подлинной мукой, а смерть так, как она приходит в нормальной жизни, обозначает наиболее совершенное и удовлетворительное завершение земного пути. При правильном взгляде на жизнь и мир человек постарается использовать жизнь на земле наиболее продуктивно, как единственную жизнь, – он положит в основу взаимоотношения людей стремление к личному и всеобщему счастью и довольству; но это счастье достигается наилучшим образом тогда, когда строго исполняется долг по отношению к себе и другим, когда творится добро и человек готов к самопожертвованию. Таким образом материалист Чольбе не только пробился к исторической жизненной нравственной формуле «Не делай другим того, чего ты не желал бы себе», но он возвышается – правда, путем счастливой непоследовательности – до признания свободы личности, возможности ее самоопределения собственной волей и характером. Чольбе с присущей ему прямотой и искренностью завершил свое миросозерцание убеждением, что материализм, как и его антипод, спиритуализм, произошел не столько из знания и рассудка, сколько из душевной потребности, из определенной веры. Иллюстрацию к аналогичным стремлениям материализма дает и его детище, марксизм, направивший все свои усилия на строительство земной жизни.
Эта тенденция выявилась ярко и с большой односторонностью у Дюринга. На нем мы и остановимся более подробно, так как он уделил специальное внимание вопросу о ценности жизни в особом труде[101] и некоторые следствия выявил наиболее резко. При том ему рисуется перспектива даже поэтического понимания мира и жизни на материалистической основе, и он упрекает своих единомышленников за то, что они не вскрыли до сих пор этого скрытого аромата материализма.
Практический мотив оправдания земной жизни нашел у Дюринга особенно яркое выражение. Вся его книга полна – особенно в первых главах – доводами, обращенными к чувству человека, указаниями на жизненно выгодные стороны материализма, что только на этом пути можно найти истинное удовлетворение и покой[102], он указывает на защиту жизни как на свою специальную задачу; у него стремление, так сказать, окопаться на земле и найти удовлетворение здесь явилось настоящей всеопределяющей силой. Категория жизни для него высшая категория. Книга не даром названа «Ценность жизни». Выступление против нее в той или иной форме приводит его даже по стилю в настоящее неистовство. Как показывает самое заглавие второй главы его книги, он видит в материализме опору высокой гуманной оценки жизни и жизнепонимания. Основную тенденцию он вскрывает с первых же слов своей книги: он называет мысли о ничтожности земного бытия отвратительными («ekle»), он сравнивает их с широко распространяемым ядом, он приписывает им опустошение души, они для него дыхание чумы, нравственное гниение жизни; он видит свою задачу в том, чтобы уничтожить пессимистическую лимфу во всех ее видах, будет ли это просто аскетизм или «романтическая отрава»[103].
Уже в этих своих заданиях материалист Дюринг предвосхищает основной мотив Фр. Ницше, но сродство это идет и дальше – в их неудержимом бурном походе против «клеветников на жизнь». Подойдя с критерием служения земной жизни и способствования ее развитию, Дюринг разделил философские учения на две резко распадающиеся группы – на благоприятную жизни и враждебную ей, и по отношению к последней он в полном смысле мечет громы и молнии. К ней он причисляет все учения как чисто философские, так и религиозные, которые так или иначе ведут к признанию существования иного мира – тем более, если они своим трансцендентизмом обесценивают этот мир. Все это и привело Дюринга, как позже и Ницше, к резко враждебному отношению к христианству, на враждебность которого жизни Дюринг указывает на первых же страницах[104]. Как велика была вражда этого материалиста к идее трансцендентности и развенчания земного мира, видно из того, что он готов был признать в Шопенгауэре громадный талант, несмотря на ненавистный ему пессимизм, только потому, что тот усердно и с близкой Дюрингу несдержанностью и резкостью развенчивал Фихте, Шеллинга, Гегеля и др. философов, в которых он чувствовал аромат трансцендентизма и блуждающий призрак спиритуализма. Дюринг не устает сражаться на своем неистовом языке с ними; к их числу он причисляет и «профессора философии» Канта. Он обвиняет их во всех возможных и невозможных грехах, в том числе и в «метафизике»[105], очевидно, в искреннем убеждении, что материализм неповинен в этом направлении. Все антиматериалистические философы это – «Philosophaster, Philosophieprofessoren, amtierende Philosophierer, philosophastrische Debetirer»[106] и т. д. – одним словом, уже тут развертывается в полной мере дурной тон полемики, давший затем широкий расцвет. Отбросив эту очень неприятную для читателя форму, мы находим в ней ту мысль, что, по убеждению Дюринга, все мысли об ином мире рождены пресыщением и враждою, что дуалисты не чувствуют себя в силах естественно завершить свой жизненный путь и мыслят смерть не как смерть, т. е. не как полное, безостаточное уничтожение индивидуального бытия, а как какую-то новую жизнь, – мысль, в которой наш философ видит, как позже Ницше, по существу самую грубую претензию на возмещение за всяческий ущерб в этой жизни[107].
Последний упрек направлен особенно против религиозной мысли, у которой Дюринг отрицает и положение основы нравственности. Он находит, что религиозно-философские декорации здесь совершенно ни при чем[108]; нравственность и не поддерживается ими, и не родилась из религиозной веры. Он готов отметить, что как раз самые страшные преступления совершались людьми, связанными с религией или прямо верующими[109]. И развивая свою программу воспитания человека, Дюринг энергично требует устранения всего того, что подрывает жизнь, а это обозначает прежде всего изгнание метафизических (трансцендентных) и религиозных элементов, полное освобождение человека от угнетающей его мысли о боге и потустороннем мире.
Эта черта, между прочим, нашла себе место и у старого материалиста Лукреция: хотя он и взывает к богам и решительно протестует против обвинения в совращении на безбожный путь, но уже он в свое время начал с обвинения религии – традиционной, по крайней мере – в суевериях и преступлениях, напоминая о судьбе Ифигении[110]: «Вот к какому злу давала побуждение религия!» Он прославляет своего учителя Эпикура за освобождающую силу его учения от гнета религии. Конечно, это не было отрицанием богов, но Лукреций многозначительно добавляет[111], что боги должны наслаждаться своим блаженством и бессмертием вдали от человеческих дел и вмешательства в них. Все это ясно говорит нам, что мы имеем здесь дело не со случайной чертой материализма.
Таковы те враги, против которых неистовствует Дюринг: это – трансцендентная философия, религия и пессимизм; всем им объявлена война во имя земной действительности как единственной формы жизни. И вот так как все эти, как их называет наш материалист, разрушительные призраки рождены нелепой оторванностью от истинного пути познания и ложным истолкованием смысла действительности[112], то освобождающим средством может явиться только подлинная философия действительности, основанная на ясном познании ее составных частей и их действительного характера. Подлинная жизнь требует подлинного мира и его подлинного познания; оно, по убеждению Дюринга, необходимо приведет к оптимизму и пробудит желание участвовать в жизни. Во имя этой задачи и необходимо не ограничиваться одними положительными знаниями, но с помощью философской мысли осветить суть мира и жизни[113].
На основе таких предпосылок Дюринг развертывает обычное материалистическое учение, полагая, что оно ставится вне всяких сомнений, особенно современными положительными естественнонаучными данными. Эта уверенность находит себе некоторое оправдание в том, что в то время как современные естествоиспытатели энергично отмежевываются от материализма и попыток свести, например, душевные явления на положение эпифеноменов – наоборот, целый ряд их дает любопытное продвижение от физиологии и естествознания к идеализму[114] и даже к критическому идеализму[115] – в пору Дюринга видные представители естествознания часто сгущали свои теории в материалистическую метафизику. Используя в незаконном перенесении с эмпирии в область умозрения гипотетический механический принцип, Дюринг видит суть материализма в трех существенных отрицаниях и в одном основоположном утверждении, и он отрицает спиритуалистический «призрак души», индивидуальное бессмертие и бога как трансцендентное, нематериальное господствующее начало мира. Все сводится у него к традиционным столпам материализма: к материи как носителю и синониму всего действительного и к механической силе, связанной с материей. Как бы предвидя возможность сомнений относительного последнего фактора, Дюринг подчеркивает[116], что привнесение понятия силы не только не подрывает материализма, так как сила эта мыслится в материи и материально – механически, но что оно обогащает материализм возможностями. По его мнению, материализм до сих пор останавливался на своем основоположении и не переходил к изложению богатых перспектив, которые открывает материалистическая точка зрения во внутренних отношениях природы в направлении живого понимания всей системы природы, и, главное, материализм слишком мало внимания уделял моральным законам человеческой природы; в особую вину материалистам XIX века Дюринг вменяет то, что они не вскрыли истинно поэтического понимания мира и жизни на основе своих теорий[117].
Мы не станем здесь останавливаться на общеизвестных чертах развития материалистического утверждения, что все, – материя. Можно полагать, что претензия на поэтические следствия навеяна Дюрингу не материализмом как таковым, а его монистическим характером, открывающим широкий простор для идеи единства всей действительности, тесной сплоченности, сродства и связанности друг с другом всей широты жизни – идеи, способной родить высокий подъем к жизни. Так невольно протягиваются Дюрингом нити к ненавистным ему противоположным учениям трансцендентистского и религиозно-философского характера[118]. К этой идее единства присоединяется незаконно вводимая идея цели и развития, и с этого момента задача поэтизации материалистического мировоззрения становится уже вполне осуществимой. Незаметно для себя вводя настоящий аромат преданных им анафеме «философастов» Шеллинга – Гегеля, Дюринг различает[119] две сферы мира или природы, бессознательную и сознательную, начинающуюся с ощущения и составляющую цель бессознательной части мира. Все планеты не знали сознательной жизни, но природа произвела ее. «Жизнь есть, – говорит Дюринг[120], – результат работы природных сил, и ее порождения продолжаются в направлении повышения и обогащения содержания». Внешний мир только средство для цели, цели жизни, и при том внутренней жизни, которая одна может быть целью. Так вошел – с понятием развития, сознания и цели – элемент ценности, дающий поэзию материализма и давший неожиданное, с точки зрения материализма, совершенно неоправданное, подразделение на мир внешний и внутренний как средства и цели.
В понимании душевной жизни Дюринг становится на точку зрения полного поглощения ее материальным принципом. Он находит, что современная наука ясно вскрыла зависимость психики, ощущений, чувств и интеллекта от органов чувств и их функций. Обмен веществ и питание – вот основа всего органического. Сознание же «элемент за элементом» основывается на действиях особых частей мозга (все механизируется)[121] и т. д. в духе тех плоских рассуждений, которые дал материализм средины XIX века. Интересно то, что Дюринг считает возможным игрой физиологически фундаментированных аффектов на почве более близких или далеких стремлений объяснить все проявления духовной жизни вплоть до возникновения отвлеченных идей[122]. Указав на различие симпатических и асимпатических страстей, Дюринг видит в первых рычаг широкой человеческой жизни. Во всех них, по его мнению, дано прежде всего утверждение и признание чужого существования. Таким образом дается не только идея человека, но и человека среди равных и подобных ему, а это сразу меняет всю картину мира. В мире появляется личность, в которой пробуждаются самые благородные мотивы путем познания всей широты действительности, с подлинным образованием, искусством и культурой; при этом человек не останавливается на ограниченном этапе, а движется все выше, все вперед, ко «все более высоким целям»[123].
Дюринг очень высоко ценит все культурно-духовные продукты человека, но все-таки все это для него только предварительная стадия, а высшее он видит, как позже это в очень яркой форме выявил Ницше, в создании человека-творца, который бы собой и в природе и в жизни творил художественные и высшие ценные образы, воплощая идеалы в плоть и кровь[124]. На этой почве и должно родиться величайшее счастье в мире. Таким образом прорываются в материализм скрытые идеалистические мотивы; мир с человеком и мир без него и для материалиста Дюринга – две принципиально совершенно неравноценные единицы. Ясно, что это и есть то поэтическое завершение материализма, о котором говорил Дюринг, потому что на этом пути и для него неизбежно судьбы мира и его ценности решаются на почве человеческих страстей, заданий, деяний и творчества. Человек и у материалиста необходимым образом становится в центр мировой жизни, но только мы напрасно будем искать в этом учении логического оправдания таких выводов следствиями из основных положений: пробившись на пути резкой непоследовательности и философского легкомыслия к идее человека-творца ценностей и культуры, Дюринг вспоминает об основах материализма только там, где это не грозит явным безвыходным конфликтом с ними, но материалистические следствия прорываются сами собой, как мы это увидим дальше.
Во всяком случае, в вопросе о ценности жизни определенно слышится вопрос о ценности всего мира: бессознательный мир служит по учению Дюринга сознательному, а на вершине сознательного стоит развитая или все развивающаяся человеческая культурно-творческая личность, которой решается судьба мира. И здесь таким образом в наиболее интересной своей идее Дюринг пришел к мысли, исстари вскармливаемой и религией, и философскими учениями различных направлений.
Чему учит материализм человека? Все учение о цели жизни насыщено прагматическо-гедонистическими мотивами. Категория жизни как факта, поставленная над всем, решает здесь вопрос; и в морали, и в вопросе о жизненном идеале отдается скипетр и держава тому, что служит повышению интенсивности жизни и счастью.
Защищая практический – в кантовском смысле – материализм, Дюринг настаивает на строгом различении эгоизма и утверждения интересов[125]: эгоизм, по его учению, существует только там, где устанавливается несправедливая погоня за собственной материальной пользой, с вредом для других. Где нет таких мотивов, там в невинном стремлении удовлетворить себя сказывается только естественный закон природы. Дюринг гневно обрушивается на тех, кто порицает материализм за утопание в практическо-материальных интересах; он старается повернуть это оружие против противников, подчеркивая, что они из потустороннего мира сделали для себя своего рода вексель на оплату своих земных невзгод. Весь вопрос, по его убеждению, должен в подлинной философии свестись только к тому, чтобы утилитарно-гедонистическими мотивами не исчерпывалось все содержание жизни, но нравственные веления вполне совместимы с материализмом. Только выродившаяся мораль, говорит Дюринг, может требовать отказа от материальных благ как побудителей к жизни, только она может пытаться возвести в принцип или норму противодействие всем естественным стремлениям, подрывая таким путем корни жизни.
Дюринг находит[126], что грубые потребности должны быть удовлетворены перед тонкими, и нет ничего безнравственного в заботе о пропитании; наоборот, такая забота сама является, в сущности, моральным велением, и если бы современное общество выполняло его в достаточно широком и организованном масштабе – в духе социализма, – то масса людей не обращалась бы в грубых животных, поступающихся ради пропитания существенными человеческими чертами. Чтобы не искажать жизни и человека, необходимо считать добром и злом то, что сама простая безыскусственная жизнь установила таковым[127], не расплачиваясь за вознесение в высокие, несуществующие сферы разжижением и разрушением действительной жизни. Дюринг считает материализм тем более здоровой почвой для подлинной нравственности, что, по его мнению, из бога и потусторонней морали сделали, в сущности, средство для легкого оправдания своих грехов и утешения, и примирения со своей совестью. Естественные законы человеческих поступков культурно развиваются благодаря тому, что человек приобретает больше понимания своего собственного действительного существа, больше сочувствия в общении с людьми и больше власти и силы в упорядочении совместной работы над природой и своими собственными побуждениями. Человек, говорит Дюринг[128], только тогда станет поступать с человеком по-человечески, когда он встанет на сознательную земно-монистическую точку зрения, роднящую всех людей и все существа; тогда не только жизнь приобретет полную ценность и смысл и избавится от угнетающих ее призраков, но тогда и веление человека не обижать, а любить другого человека, быть справедливым к себе и другим и т. д. встанет на твердую, реальную основу. Узаконивая таким образом материализм как естественный фундамент нравственности, Дюринг, с одной стороны, считает себя вправе говорить о нравственном долге; так он указывает[129], например, что некоторые самоубийства говорят о тяжком и возмутительном забвении долга и кричащей несправедливости по отношению к оставшимся в жизни. С другой стороны, он энергично подчеркивает свое несогласие с очернением страстей, не отрицая их губительного действия, когда они проявляются в крайней форме. Он глубоко жизненно и правдиво отмечает[130], что высоты и глубины ощущения и чувства необходимы для чувства жизни, и без них не может быть удовлетворения жизнью; бесстрастие есть пребывание на границе смерти, тем более что оно ведет к бездействию, а Дюринг вполне согласен с ненавистными ему «философами», что жизнь только там, где действие. Поэтому он узаконивает игру страстей; поэтому он энергично подчеркивает, что созерцательный элемент не дает полного удовлетворения, как это рисует религия и философия, а потому сюда должно привступить деятельное начало, активное участие в жизни. Так как чувство жизни неотделимо от проявления силы, то отсюда для Дюринга ясно вытекало «абсолютное значение труда», дающего жизнь и ее содержание[131] того самого труда, который, как нерв человеческой жизни, так блестяще и вполне правомерно защищал идеалист Фихте.
При сознании этих условий и при соблюдении велений материалистической этики Дюринг считает возможным прийти к единственно правильной окраске мира – к оптимизму. Этот оптимизм поддерживается тремя устоями по учению Дюринга: законом дифферентности, по которому жизнь основывается на дифференции сил; законом абсолютной необходимости всего происходящего, дающим внутреннее успокоение, и важнейшим доводом является убеждение в счастье человечества в будущем. Дюринг убежден, что необходимо грядущий социализм гарантирует человечеству высшее совершенствование и совершенство. На этом фоне он и рассматривает вопрос о ценности и смысле жизни. Подчеркивая выгодные стороны материализма, он говорит в одном месте[132] что только на этом пути можно найти «истинный покой», так как материализм с непреложностью убеждает, что содержание и законы природы вполне удовлетворяют неизвращенным душевным потребностям человека. При этом человек в своем развитии и совершенствовании не только получает бодрящие жизненные побуждения в ценности и стимулирующем влиянии всей совокупности страстей и чувств, но он сам порождает отвлеченные идеи и другие продукты своего творчества, которые повышают значение и интенсивность его жизни. Дюринг находит, что эпикурейцы и стоики были в этом отношении одинаково односторонни: первые игнорировали мощную силу влияния отвлеченных идей на душу, вторые в чрезмерной строгости обратили высшую и благородную натуру человека в гримасу[133]. Расширяя таким образом диапазон жизни, он подчеркивает волнообразную игру сознательных побуждений как основное русло всякого чувства жизни и наслаждения жизнью; но представление о возможном жизненном удовлетворении оказалось бы в высшей степени односторонним, если бы сюда не входило также представление о среде, о себе подобных и на этом фоне, главное, о деятельном проявлении своей личности[134].
Оптимизм Дюринга идет настолько далеко, что в своем стремлении реабилитировать жизнь он не только указывает на ее положительные стороны, но он находит, что теневые ее стороны вытекают вовсе не из ее существа. «Тенью, что омрачала жизнь, – говорит он[135], – никогда не была природа человека или сущность знания и образования сами по себе; таким фактором являются всегда особые исторически возникшие и исторически преходящие условия». Все это говорится Дюрингом, очевидно, в полном пренебрежении к мысли, что история также творится людьми или, во всяком случае, при ближайшем их участии. Тот же оптимизм и стремление к оправданию и возвеличению жизни ведет его к утверждению, что разочарования второй половины жизни зрелой поры объясняются ложными, преувеличенными надеждами, вызванными фантастикой или противоестественными, извращенными позывами.
При здоровом отношении к миру и жизни важно, по учению материализма в понимании Дюринга, не только ценить целое: жизнь не есть только переход из одного состояния в другое, и она не является средством для заключительного этапа, но природа и жизнь в своих подготовительных и частных стадиях обладают своей особенной ценностью. Распространяя эту идею на человеческую жизнь, Дюринг глубоко правдиво замечает, что детство не может и не должно быть средством для отрочества, для юности, а юность для зрелости и т. д., но что вся жизнь человека должна быть устроена так, чтобы он переживал каждую стадию не только как средство, но и как самоцель, чтобы он не жил, только готовясь к жизни или только ожидая, но умел бы чувствовать и брать настоящее, не пропуская бесплодно жизнь мимо себя. Дюринг сам особенно подчеркивает значение этой мысли для педагогики и для организации школы. «Дитя, – говорит он,[136] – есть нечто большее, чем простой объект воспитания», ему необходимо дать жить на каждой стадии, и, верный своей основной двигательной пружине, Дюринг настойчиво рекомендует и в школе, и в жизни всячески ограждать детей от всего, что способно подорвать жизнь, особенно от трансцендентных, метафизических и религиозных догм и учений; по тем же основаниям он гневно обрушивается на чрезмерный отрыв детей в содержании образования от современности, на изучение греческого и латинского языков, на замыкание в «морге остатков античной литературы»[137].
Жизнь ценна в своих отдельных стадиях. Дюринг стремится показать, какое огромное значение принадлежит противоположности и диферентности. Так как переход от одного состояния к другому является необходимым условием чувства жизни, то с точки зрения Дюринга, понятно, вечная смена не только не может давать повод к ламентациям, в которых утопают по поводу неустойчивости мира религиозные и метафизические учения, но, наоборот, – в этой смене следует видеть залог удовлетворения и повышения чувства жизни, или, во всяком случае, поддержание его на известном уровне. Всякая пройденная стадия дает вместе с тем важное для чувства жизни изменение: личности открывается возможность нового напряжения чувства жизни, и этим не только устраняется опасность угаснуть, но и получается новый подъем. Дюринг напоминает[138] своему читателю, что всякий предпочтет жизнь живую, красочную покою: отсюда вытекает и призыв к бодрости, смелости и труду. С этой точки зрения и случайность, и превратности жизни требуют своей переоценки; в этом испробовании шансов бытия и в сознании возможности вмешаться в игру жизненных комбинаций заключается высшая привлекательность жизни: жизнь не была бы жизнью, если бы она не заключала в себе не предопределенной возможности удач и неудач.
Но в учении Дюринга вскрывается не только отрыв от строгой механистической определенности: он считает себя вправе говорить и об идеалах, при том свободно поставляемых человеком и рекомендуемых ему материализмом, очевидно, в полной уверенности, что он может свободно принять их или не принять. Дюринг вводит только относительно целей и идеалов следующее ограничение[139]: истинные идеалы должны находиться в полной гармонии с монистическо-материалистическим миропониманием, с духом действительности; это должны быть «такие мыслью порожденные образования, в которых путем фантазии предвосхищено нечто достижимое, фактическое». Только такие идеалы, манящие своей достижимостью, способны будить жизнь, желание, усилия и стремление творить.
Дюринг высоко ценит науку и искусство, но высшее он, предвосхищая Ницше, видит в создании человека-творца, претворяющего в себе в плоть и кровь высшие идеалы. Он, материалист, также указывает, что эти нематериальные факторы – вся сфера культуры и образования, познание мира и жизни – пробуждают благородные мотивы большой действенной и воспитывающей силы; да и сами повышенные требования к жизни оправдываются только тогда, когда человек поднимается на известную высоту развития и облагороженный им ставит себе еще более высокие цели[140]. Но это не бескорыстное созерцание вечной истины, а обязывающий дух материализма приводит Дюринга к указанию чисто гедонистическо-утилитарного характера, что нелепо искать знания, которое в целом или в частностях не обладает привлекательной силой в отношении определенных «естественных жизненных целей»; подлинное же образование, покоящееся на правдивом описании действительности, увеличивает ценность жизни[141].
Но у Дюринга, как и у всех апологетов жизни, в особенности на розовом фоне его материалистического оправдания жизни, появляется грозный призрак мысли о смерти. Для него эта мысль оказывается тем страшнее, что, по учению материализма, все сосредоточено на земле, нет иного мира и нет иного места спасительной идее бессмертия или загробной жизни, которая могла бы в достаточной мере компенсировать утрату земной жизни.
В борьбе против разрушительного влияния идеи смерти Дюринг воскрешает старые аргументы материализма. Уже Лукреций говорил, что ложные представления о смерти становятся часто источником зла и преступлений, потому что люди живут мыслью «Еripitur persona, manet res»[142], и поэтому в уничтожении заблуждений, связанных с мыслью о смерти, он видит очень важную задачу. Он стремится доказать, что смерть нас совершенно не касается, что ее не нужно бояться и этой боязнью портить себе жизнь. Уже Лукреций подчеркивает, что в корне этого страха лежит совершенно нелепое перенесение ощущения и чувства живого на период после смерти.
Дюринг последовательно пошел по тому же пути, на который указывал Лукреций, да и современники Дюринга, как Чольбе и др. Он рассматривает смерть как полное отсутствие какого бы то ни было бытия; это есть абсолютный конец данной индивидуальной жизни, простое несуществование. Определив жизнь как совокупность ощущений и душевных движений, Дюринг указывает на то, что со смертью все это исчезает, исчезают все условия, необходимые для жизни индивида, а это значит, что все опасения, которые мы связываем со смертью и загробной жизнью, лишены всякого основания. Дюринг сравнивает все такие страхи с ночным кошмаром, где человек во сне также страдает от всякого рода мнимых опасностей и бед[143]. Более правильным он считает говорить о боязни предсмертных мук, но и это не разрушает оптимистического настроения материалиста: он видит в страданиях умирающего не естественное явление, а – в противоположность Шопенгауэру – плод извращенной человеческой жизни и тяжелых, несправедливых социальных условий; где жизнь человека протекает в здоровых условиях и не отягощена наследственно, там, как на этом в наше время настаивал на основе научных данных И. Мечников, смерть приходит на пути постепенной убыли сил, лишена страдания и вообще в своей естественной форме больше напоминает засыпание.
Поэтому Дюринг в отношении смерти рекомендует точку зрения жизни, а именно: он предлагает судить о ней по тому, что она уничтожает[144], т. е. рассматривать ее в связи с жизнью, с ценностью предшествующих состояний, у кого жизнь протекала интересно и достойно, благородно и твердо, тот сумеет и умереть по-человечески. В известном смысле, говорит он[145], смерть есть фактор, без которого жизнь никогда не имела бы своей настоящей цены, рискуя превратиться в «пустое, скучное дело». При наличности смерти сопряженное с риском и превратностями путешествие, именуемое жизнью, завершается в общем итоге примирительным актом и «последней гаванью»[146] – смертью, помогающей иногда распутать самые сложные условия и разрубить самые тяжелые узлы. Жизнь – это единственное, что касается нас[147]. Здесь будет уместно напомнить повторяющуюся у Дюринга мысль старого Лукреция, что претензии людей на потустороннюю жизнь явно несправедливы, что было бы гораздо правильнее, насытившись за столом жизни, желать вовремя уйти и уступить свое место другому[148]. Но следом за идеей смерти выдвигается, как серьезный противник, мысль о самоубийствах. Дюринг в этом случае идет по стопам Шопенгауэра, усматривая в самоубийстве красноречивое подтверждение ценности жизни; он только отказывается видеть в нем грех, считая этот предикат измышлением жрецов рабских религий.
Всем этим призракам, мешающим жить и рисующим ад, Дюринг противопоставляет другой акт жизни, любовь, которая в противоположность смерти и ее ужасам создает свой «осчастливливающий нас мир мечты»[149]. Разница заключается здесь в том, что наш материалист склонен придавать этому миру грез уже вполне реальное значение, так как он видит в основе его реальный, большой фактор: половую жизнь и деторождение. Дюринг видит в этом не простое удовлетворение естественной потребности, а своего рода творчество и мощную силу, противопоставленную в роли созидательницы всей новой жизни разрушительному действию смерти. Этим огромным значением любви и половой жизни он объясняет и большое разрушительное действие злоупотреблений половой жизнью. Так как любовь, и любовь половая, выступает как функция жизни, в которой человек уже перестает быть изолированным отдельным индивидом, и на этом пути намечается универсальная связь, то любовь превращается в величайшую задачу расцветающего земного бытия[150]. На почве этого мощного фактора и вырастают ряды разных проявлений чувства. Один из наиболее ценных видов – это любовь к человечеству[151]. Отсюда оставался только один шаг, который Дюринг и делает[152] до требования восстановить любовь во всех ее правах, так как она ведет к победе жизни, к ее очищению, облагорожению и осчастливливанию человечества и созданию здорового, высшего человека.
Оптимистический тон всей теории Дюринга достигает своей вершины в его стремлении доказать, как это в свое время делалось не раз противоположными ему течениями, что зло служит добру и что оно есть его составная часть. Так материалист встретился с метафизиком Лейбницем, с мистиками, с религиозными философами. Это тоже своего рода «совпадение противоположностей», но только окрашенное в своеобразные материалистические краски. Дюринг убежден, что один добрый характер и добрая воля значат много, но не все: наряду с благоволением к сфере морали принадлежит и сила ненависти; где ищут исключительно любовь, там находят много лицемерия и порчу человеческой души пагубным обманом. Так как отношения людей покоятся на взаимности, то даже чувство мести, сдерживаемое в границах «меры и порядка», может иметь положительное значение. Таким образом он приходит к выводу, что злые чувства и стремления являются необходимыми в хозяйстве природы, так как они выступают в роли сдерживающих и защитных или предупредительных начал, так как нет и не может быть причин без следствий[153].
Но некоторые пессимистические нотки пробиваются сами собой. Уже в стремлении оправдать зло, гнев, месть и т. д., как сдерживающую плотину, обнаруживается немое недоверие к природе человека. Дюринг не верит не только в бессмертие души, но и в бессмертие мира; он полагает, что мир когда-нибудь придет к концу, и с гибелью его потонет в материи все; материалист опять-таки напоминает нам о том, что нас касается только жизнь, а что дальше, для нас безразлично. С углублением в эту мысль, своего рода философское «после нас хоть потоп», мы видим надвигающуюся пресловутую шопенгауэровскую Нирвану, в которой должно потонуть все. Но и в жизни, по убеждению Дюринга[154], с увеличением ценности жизни, с вырастанием прекрасных сторон ее возникают рядом самые интенсивные и утонченные злые стороны, которые необходимо преодолеть или претерпеть. Здесь опять невольно вспоминается Лукреций, более безыскусственно и правдиво отдающийся пессимистическим следствиям: убеждая не бояться смерти и не верить в существование ада, он напоминает[155] в поэтической форме, что подлинные муки ада даны в жизни, а не в мнимой глубине Ахерона; а в другом месте он добавляет[156], что не было бы никакой потери, если бы нас вообще не было.
Страшное описание чумы, завершающее поэму старого материалиста, способно блестяще подтвердить мысль его об освободительном значении смерти, но оно вместе с тем дает и страшную картину жизни, завершенную картиной чудовищных человеческих страданий.
Таков итог этой материалистической попытки понять мир и жизнь и указать истинные пути человеку. Здесь много ценных мыслей, но там, где Дюринг пробился к установлению целей, идеалов, хотя бы и «практически осуществимых», сразу встает вопрос не об их практической приемлемости, а об их логической правомерности и последовательном обосновании основными положениями материалистического мировоззрения – вопрос о том, как они связаны с материализмом и вытекают из него. По самой сути материализма Дюринг мог максимально говорить с известным правом только об известной простоте или сложности явлений. Уже понятие развития предполагает известную цель и критерий, без которых оно есть только изменение; иначе речь о высшем и низшем лишена всякого оправдания. Дюринг сам в одном месте[157] произносит знаменательную фразу: «Из простого бытия никогда нельзя добыть долженствование». Тем не менее материалисты, как Дюринг, именно этот грех и берут на свою душу: они вводят такие основы, совершенно исключающие момент ценностей, возможность и правомерность целей и идеалов, высшего и низшего и т. п., которыми они все-таки пользуются. Посвятив первые две главы своего труда необычайно резким нападкам на всех трансцендентистов, Дюринг дальше переходит к изложению собственного учения и с первого же шага делает знаменательный поворот, мало заметный внешне, но очень значительный по своим следствиям, а именно: он различает два отдела мира, бессознательный и сознательный, ставит их в отношение средства и цели, внутреннего и внешнего, низшего и высшего и говорит о жизни как о работе природы в направлении повышения и обогащения содержания[158], не задаваясь сокрушительным вопросом, каким образом материалист должен помириться с понятием «внутреннего мира» или с понятием ценности, заключенном в речах о высшем и низшем. Ведь по существу везде одна и та же идея материальной природы, устраняющей всякую возможность неоднородности. Но скрытые и неоправданные элементы дают дальше пышный цвет, и Дюринг, не оглядываясь, говорит о благородстве, о человечности и даже о «долге».
Было бы, конечно, очень несправедливо связывать с таким материалистическим мировоззрением обвинение в практической безнравственности. По счастливой непоследовательности, над которой остроумно иронизировал Вл. Соловьев, указывая, что мы на основании общего происхождения от обезьяны способны призывать к идеализму, самопожертвованию и т. д., материалист типа Дюринга может практически быть человеком чистой души, но теоретически он, без сомнения, в корне разрушает нравственность: он уничтожает почву для нее, для жалости, сочувствия и т. д., потому что всюду только перемещения атомов, природных сил, и не все ли равно, как и куда они переместятся, – материя остается неизменной и тождественной себе. Будет ли совершено преступление, проступок, грех или подвиг, самопожертвование, погиб или спасся кто-либо – все это в конце концов только перемещение комплексов атомов, материи. То, что теоретически обосновывает самую возможность личности, здесь совершенно исчезает. И крайне трудно указать на этой почве, где грань между животным и человеком. Вся нравственность, как и все оценки, становятся с этой точки зрения простой, крайне неустойчивой условностью.
Вопросам нравственности Дюринг все-таки посвятил много внимания, но другие сферы ценностей, эстетика, а тем более религия, отпали совершенно, несмотря на все речи о полноте жизни и личности, на этом месте получилась зияющая пустота. Опустошительный характер материализма в этом направлении получает полное завершение в идее всеобщих необходимых законов, в полной иллюзорности свободы, в механизации душевной жизни. Когда Дюринг прославляет опасности и риск жизни и оценивает неопределенность будущего как преимущество жизненного пути и шанс на повышение интенсивности жизни, то он опять-таки успел позабыть, что эта неопределенность мнимая, что в действительности все решают «неумолимые законы»; в итоге получается неопределенность, разрешаемая не нами, а нам остается на долю только фаталистически тупое ожидание или самообман. Вполне понятно, что Лукреций не мог удержаться от восклицания, что «не было бы никакой беды, если бы мы не были созданы».
Неустраненным оказывается на этой почве и пугающий призрак смерти: утрачивается ведь не только нечто положительное, жизнь, но и уничтожаются вместе с данной личностью все связанные с ней возможности, личные и родовые, порываются тысячи нитей, идущих из прошлого и убегающих в разные стороны в будущее. Все это особенно важно помнить такому философу, как Дюринг, который все заострил в идею жизни, как высшей, всеобъемлющей категории. Жить и быть – вот то, что главенствует у Дюринга, а какие следствия получаются из абсолютного господства такого принципа, это блестяще показал Шопенгауэр. От безграничного, беспросветного пессимизма философ типа Дюринга может спастись только ценой элементарной непоследовательности[159].
IV. ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ В ФИЛОСОФИИ ОПТИМИЗМА И ПЕССИМИЗМА (ЛЕЙБНИЦ И ШОПЕНГАУЭР)
Борьба между различными течениями по поводу ценности и смысла мира и жизни принимала в истории человеческой мысли самые разнообразные формы, и уже в прошлом выявились резкие противоположности полного отклонения зла и бессмыслицы и полного признания за ними реального существования. Интересно отметить, что проблема зла не носила в античной философии того характера, какой она получила в дальнейшем развитии: греку с его взглядом на мир как на космос трудно было уместить в своем миросозерцании зло как реальность, и мы в их миросозерцании часто встречаемся со взглядами на зло как на побочное явление миропорядка; даже у Аристотеля «несуществующее» еще не получило той окраски, какую ему придали последующие эпохи. Только на закате античной эпохи, в эллинистическую пору, вместе с уклоном в религиозные искания пессимистическая и оптимистическая черты приняли более резкую форму. Зло стало «мощной реальностью»[160] в философии христианства, бесповоротно ставшего на точку зрения, утверждавшую, что мир во зле лежит. Ярко вспыхнул оптимизм в учении Плотина, отказавшего злу в реальности: где бытие, там веяние бога и, следовательно, злу не может быть места.
Из переливов философской мысли, склонявшейся то к пессимизму, то к оптимизму, мы выберем для иллюстрации, как более или менее типичные, два течения, противопоставляемые друг другу не только по духу, но еще и потому, что более позднее из них определенно поставило себя в оппозицию к предыдущему. Я говорю о системах Лейбница и Шопенгауэра: убеждению Лейбница в том, что этот мир лучший из всех возможных миров, Шопенгауэр противопоставляет свою непоколебимую уверенность, что этот мир самый худший из всех возможных[161]. Обоим им присущ характер поучения: один неустанно поет славу творцу, восхищается его творениями и призывает радоваться миру; другой клянет безрассудность, тьму мира и его основы, не щадит мрачных красок в описании злоключений всего живущего в этом мире и зовет к небытию. Как ни энергичен был натиск Шопенгауэра на этику Канта и как ни подчеркивал он, что всякая философия теоретическая и ее задача только истолковать и объяснить то, что есть, сущность мира[162], тем не менее все его учение пропитано императивным характером. Не даром он счел себя в праве пойти даже дальше, чем это позволяло его философское учение, и дал свои «Афоризмы житейской мудрости», в которых он, отрицатель жизни, все-таки учит, как надо жить. Он считает губительным, коренным заблуждением, что миру присуще только физическое существование и он лишен всякого нравственного значения. В этом он идет рука об руку с Лейбницем, но там, где первый в упоении восклицает «рай», Шопенгауэр с мрачной, беспросветной твердостью говорит «ад». Сопоставляя этих двух учителей жизни, получаешь на первый взгляд картину ярких противоположностей, и от отрицательного ответа одного мысль с уверенностью переходит к положительному убеждению другого.
Лейбниц идет решительными шагами по колее того настроения, которое вскрылось у Дж. Бруно. Уже там сложился гимн гармонии мира и шла речь о совершенном созвучии, к которому ведет ход вещей. Это было вполне понятное и ясное следствие из пантеизма. Если Шопенгауэр, положив в основу всего темную, нелепую, безрассудную волю, стер грань между духовным и телесным миром, чтобы с тем большей уверенностью наложить на все печать зла и бессмыслицы, то Лейбниц также отбросил в принципе эту грань, усматривая разницу между ними только в степени ясности и отчетливости представления монад, но его лицо обращено в прямо противоположную сторону: уже одно то, что даже в самой темной монаде в принципе заключено все, что ясно и отчетливо дано в высшей, спасает ее от бессмыслицы и придает ей своеобразную непреходящую ценность. Лейбниц учит, что из всех возможных миров бог избрал наилучший, но перед ним открыта перспектива бесконечных возможностей, и по существу едва ли что-либо может помешать философу объявить этот мир абсолютной ценностью. «Все гармонично во вселенной», – говорит он[163], давая этим повод Шопенгауэру сказать, что, «серьезно и честно» рассуждая, можно доказать только одно, что мир – совершеннейшая нелепость.
С точки зрения Шопенгауэра это единственный правомерный вывод, потому что, куда бы мы ни обратились, в существе своем на нас отовсюду смотрит темная безрассудная воля и ее объективизации; все одно и то же, все повторяет бессмыслицу и безвыходное утверждение жизни, маня обманчивым призраком смены, новизны и развития, когда на самом деле мир топчется на одном месте страдания и зла. Здесь нет и не может быть ничего нового. Шопенгауэр в этом смысле сознательно стремился быть неисторичным. Единственно, в чем он допускает изменение, это возрастание и углубление зла и страдания. Он подчеркивает, что всякое стремление рождается на почве недостатка и недовольства, несет страдание при неудовлетворении, а когда оно удовлетворено, оно тотчас же становится исходным пунктом нового стремления, неудовлетворенности и страдания. Так сменяются стремления одни другими, не давая покоя, безнадежные потому, что для них не может быть ни последней цели, ни границ[164], и безутешные потому, что самое большее, что они дают в итоге, это не положительное, а только устранение предшествовавшего страдания. Он устанавливает линию возрастания страдания в мире: если страдания инфузории малы и незначительны, то с усложнением организации растет и страдание; оно повышается с ростом интеллигентности, а «тот, в ком живет гений, страдает больше всех»[165]. Жизнь и мир представляются Шопенгауэру страшным судом[166].
Прямо противоположные мотивы звучат в философии Лейбница: он учит, что мир вечно юн и нов и идет в своей юности и новизне по пути все возрастающей гармонии, добра и совершенства. При бесконечном числе монад и при бесчисленности степеней ясности и отчетливости, наконец, при завершенности всей их плеяды наивысшей монадой у него получаются даже не мир, а миры, охватывающие все возможные ступени совершенств. Яркий штрих в эту радужную картину вносит убеждение Лейбница, что души умножают вселенную на бесчисленное множество ладов и «дают вселенной все совершенство, на какое она способна»[167], а мы знаем, что способность эта безгранична. Он убежден, что в мире дано и наибольшее могущество, и наибольшее знание, и высшая степень счастья, и беспредельная благость в творениях[168].
Особенно рельефна противоположность между оптимистом Лейбницем и пессимистом Шопенгауэром во взгляде на смерть, хотя здесь в их аргументации сказалась и поразительная близость этих течений: они идут в диаметрально противоположном направлении только в истолковании фактов. Шопенгауэр возвел смерть во всеобъемлющее явление, утверждая, что мир весь в ее власти, во всех своих индивидуальных проявлениях. Он удивляется, как можно не видеть, что мир не живуч, что в нем все умирает и все преходяще. По убеждению Шопенгауэра вымершие виды животных являются прекрасными документами того, что происходит. В противоположность шопенгауэровскому утверждению всевластия смерти Лейбниц утверждает, что всюду жизнь и что смерти нигде нет места. Он допускает ее только в условной, ограниченной форме. Он убежден, что во вселенной нет ничего невозделанного или бесплодного; нет смерти, нет хаоса, нет беспорядочного смешения[169]. Есть только развертывание и увеличение или свертывание и уменьшение[170]. Нет метемпсихозы, а есть только метаморфоза. То, что называется смертью, превращается у Лейбница только в некоторое преобразование[171]. Внимание Шопенгауэра и Лейбница направлено как будто на один и тот же факт мира: но первый видит в нем только момент гибели, склоняясь на сторону того, что существовало; второй же выделяет момент рождения и жизни, отдавая предпочтение нарождающемуся и грядущему; они как бы стоят на одном и том же наблюдательном пункте, но смотрят в прямо противоположные стороны: один лицом к будущему, другой спиной к нему. Идею Лейбница о вечной жизни позже высказал с присущей ему прямотой и обостренностью Фихте, подчеркнувший, что всякая смерть в природе есть рождение, что в ней нет умерщвляющего принципа, что все живет, и жизнь с каждым шагом становится только интенсивнее и просветленнее[172].
Тесная связь оптимизма и пессимизма в колее прямой противоположности подчеркивается их отношением к добру и злу. Оптимист Лейбниц признает полноценную реальность только за добром и готов свести зло на простое лишение, ограничение, отказав ему в положительном существовании. Пессимист Шопенгауэр видит, наоборот, в добре только временное отсутствие или устранение зла, зло же оказывается заложенным и прочно обоснованным в своем существовании, коренной основой и сущностью мира. В итоге оба сошлись в безусловном признании нравственного значения мира, но один определил это значение в радикально отрицательном духе, другой насытил его всей полнотой положительной нравственной ценности. Шопенгауэр в сознательной части своего философствования готов не только утверждать отсутствие какого-либо положительного смысла у мира и жизни, но он склонен вообще отрицать даже самую возможность спрашивать об этом. Возможность смысла тесно связана с возможностью развития, с возможностью хотя бы некоторого историзма, но Шопенгауэр решительно отвергает историю, развитие, длительность, отвергает самый вопрос, откуда и куда и признает для философии только один вопрос о сути мира[173]. Тем не менее он снисходит к человеческой слабости и дает ответ на этот вопрос, ответ резкий и категорический, твердящий неустанно: мир – зло и совершенно лишен положительного смысла. Для него характерны такие излюбленные повторяющиеся заглавия, как «О ничтожности земного бытия». Единственная узкая, едва заметная тропа к некоторому смыслу открывается только в том, чтобы не быть, исчезнуть бесследно. Даже два ярких явления – рост самосознания и познания и искусство – два великих фактора, бесконечно ценимых Шопенгауэром и способных подорвать пессимизм, он попытался насытить черными тонами, подчеркивая их значение не в созидании положительного, а только в распознании тщеты и суетности всего мира и жизни. Как известно, самым крупным связующим звеном между философом и христианством было его убеждение в глубоко пессимистической сущности христианства[174]. Он сам был в своем философском учении проникнут идеей спасения от мира, которую он подчеркивал как самую ценную идею христианства, общую с буддизмом.
Что Лейбниц идет в диаметрально противоположном направлении, это ясно само собой. Мы отметили уже в предыдущем изложении: в мире идет направляемое божественной благодатью коренное непрерывное нарастание смысла, просветление и выявление отчетливости монад, их приближение к богу. В принципе даже самой темной монаде не закрыта возможность подняться на божественную высоту, потому что и она в родстве с богом. Как велико было у него признание глубокого положительного смысла мира, это видно из того, что мир для него это «божий механизм»[175].
Все эти мысли предрешают и ответ на вопрос о жизни индивида. Отрицательное отношение Шопенгауэра нашло общефилософское выражение в его взгляде на prinсipium individuationis[176] вообще, этот показатель покрывала Майи; в существе своем мир один и в конце его все сливается в небытии в одно; только в зле множественность и индивидуальность, да и сам мир со всей серьезностью стремится только к сохранению рода, а не индивида. Как мы увидим дальше, пессимизм Шопенгауэра оказался далеко невыдержанным, особенно в этом пункте. Но, поскольку речь идет о его сознательных господствующих заявлениях, он настаивал на отсутствии смысла и в жизни отдельной личности. Для него и тут жизнь – это сплошное низвержение настоящего и мертвое прошлое, непрерывное умирание, только борьба со смертью, в лучшем случае несколько отдаляющая катастрофу, но абсолютно бессильная устранить ее[177]. Вся жизнь является сплошным обманом в целом и в частностях[178]. С точки зрения Шопенгауэра, тщета упований на мир и жизнь ярко иллюстрируется тем, что человек оказался способным богато обставить ад, но совершенно бессилен наполнить положительным содержанием свое представление о небе и рае[179]. В итоге получается, что самый счастливый момент – это момент засыпания, самый несчастный – момент пробуждения[180]. При таких условиях есть только один осмысленный путь – путь к уничтожению самой воли к бытию. Это привело Шопенгауэра к двум путям спасения: к чистому познанию, к гениальному интуитивному постижению зла и бессмыслицы мира и жизни в философии и искусстве, и к гениальности практической, к гениальности аскета, готового все претерпеть и одолеть волю в ее корне.
Лейбниц придал индивидуальному глубокое метафизическое достоинство. Между монадами царит предустановленная гармония, но они нигде не совпадают друг с другом, слагаясь в стройную иерархическую лестницу все повышающихся совершенств. Каждая из них представляет мир по-своему, являя вечно новое и неповторяющееся. Это в особенности нужно сказать о тех монадах, которые представляют человеческие души. Существование человека должно было представляться оптимисту Лейбницу полным глубокого, прекрасного смысла не только потому что все от бога и все дано в наиболее совершенной форме, но личность – дух, а дух не только воспринимает, но он есть некоторое подобие, образ бога, он «сам способен производить нечто подобное» восприятием дел божиих[181]. Смысл жизни – в совершенствовании, в приближении к богу, и в этом же заключается счастье; но совершенствование, а с ним и счастье твердо обеспечены волею божиею. Лейбниц к убеждению в гармонии мира присоединяет убеждение в воле бога, «чтобы все достигли познания истины, чтобы все обратились от пороков к добродетелям, чтобы все были спасены»[182]. Он глубоко убежден в действительном перевесе добра и счастья над злом и страданием, как он об этом неоднократно заявлял[183]. Более того, в том, что простая монада никогда не может достичь наивысшего состояния, что человек не может стать богом и счастье никогда не будет полно, он видит ярко оптимистическую черту, залог того, что счастье неиссякаемо, так как оно будет заключаться «в непосредственном переходе к новым радостям и новым совершенствам»[184]. Таким образом с точки зрения Лейбница можно сказать, что великий положительный неиссякаемый смысл мира кроется в чистой любви к богу.
Оба мыслителя столкнулись на пути безбрежного оптимизма и пессимизма с трудностями своеобразного характера, естественно выросшими на почве их систем. Пессимисту трудно было справиться с оптимистическими элементами, неудержимо пробивавшимися в его теорию, оптимисту пришлось отвести известное место пессимистическим ноткам. Это было как бы явление просачивания, которое должно было произойти при тонкой перегородке, отделяющей пессимизм и оптимизм по их существу друг от друга. Оптимист абсолютного типа находится в непосредственной опасности отрезать всякую возможность совершенствования и, следовательно, жизни мира, потому что наилучшее дано и дальше идти уже некуда; на этом пути открывается ужасающая бездонная черная пустота, обращающая оптимизм в пессимизм. Лейбниц учел эту опасность, он не пошел на резкий конфликт с действительностью во имя абсолютного оптимизма и допустил явление зла и несовершенства, открыв возможность совершенствования, но встав лицом к лицу с другим призраком пессимизма, с возможностью и существованием зла в мире и жизни при боге как создателе и правителе мира.
В этом допущении вскрылся смысл той оговорки, которой он ограничил свой оптимизм, признав этот мир лучшим из возможных миров, но не абсолютно добрым. Так возник старый тупик в виде существования зла при всемогущем боге, из которого Лейбниц попытался выйти, как это сделал позже и Вл. Соловьев[185], признанием, что бог допускает зло в своих особых планах для того, чтобы извлечь из него «большее благо»[186]. Злосчастная идея зла для вящего добра всплыла и здесь как показатель просто отчаянного, безвыходного философского положения. Вся тягота этого положения сказалась в указании Лейбница, что бог допускает зло как необходимое условие существования и совершенствования мира, которые без него были бы невозможны. Слабость этого аргумента вскрывается тотчас, как только мы вспомним, что восхождение мыслимо и от одного добра к другому и можно идти не от зла к добру, а от добра к добру и в самых его разнообразных формах, которых как раз у Лейбница должно быть бесконечное множество. Но самое главное – здесь богу приписывается религиозным философом нарушение основного нравственно-религиозного догмата, воспрещающего достигать добра злом. Интересно, что философы, как Лейбниц, оперирующие понятием «бог» и ведущие за него речи, объясняющие его планы и намерения, готовы утверждать свободу человека, чтобы потом искать в ней спасения в разрешении проблемы зла. Так поступил и Лейбниц, так было до него, так поступил позже Вл. Соловьев[187]. Лейбниц утверждает[188], что зло от твари, а от бога только добро. Бог своим первым решением устроил так, чтобы человек был свободен поступать так, как это кажется ему лучше всего. Но он часто знает наилучшее, а делает наихудшее, и вот тогда подымается вопрос о вине, который и заставит нас в конце концов подняться от первоисточника и возложить вину на бога, или непредусмотрительно предоставившего свободу творению, недостойному ее, или же, если, как утверждает Лейбниц, творение всегда несовершеннее творца, и бог создал человека в форме наилучшей из возможных, но все-таки не в идеальной, то его мощь ограничена, и он опять-таки не бог, ибо не всеведущ и не всемогущ. Этот простой вывод напрашивается, тем более что сам философ неустанно твердит, что все от бога, и через бога[189], тогда, значит, он виновен в зле. В одном месте[190] он признал даже, что человек был в первом акте творения не только награжден свободой, но что он уже в божественном представлении был грешным и несовершенным. Какие трудности представляла эта проблема, выявившая свою природу уже в споре пелагеян и манихеев, для Лейбница, это видно из того, что он в конце концов поставил точку над i предложением «не доискиваться подробностей». «Раз бог, – говорит он[191], – признал за благо, чтобы Иуда существовал, невзирая на грех, который он предвидел, то, значит, зло это с избытком вознаградится во вселенной, бог извлечет из него большее благо». При этом Лейбниц не замечает, что с философской точки зрения никакое вознаграждение и возмещение не устраняет того факта, что зло было. В перспективе все та же роковая дилемма: зачем всемогущему богу проводить мир через зло и вину? Или он не всемогущ и не бог, или всемогущ, но не хотел неомраченного добра, и тогда вине его нет меры. Таков итог речей за бога.
Если у Лейбница создалось такое положение, что то исчезала возможность совершенствования, то при допущении зла и несовершенства подымались недопустимые обвинения бога и сомнения в нем, у Шопенгауэра совершилось обратное. Никакие усилия не могли спасти абсолютный пессимизм от притока оптимистических веяний. Как у него, так и у буддизма не может не бросаться в глаза уже то, что Нирвана достижима, т. е. что скорбь, безотрадность и бессмыслица не безграничны. Но искорки оптимизма разрастаются дальше все больше. Как ни энергично отклонял Шопенгауэр то, что он называет историзмом[192], развитием, тем не менее эта идея выявилась и у него и в довольно яркой степени, а с нею воскрес и известный телеологизм. В самом деле. Как можно было отклонить идею развития и при том все повышающегося, когда весь мир расположился в толковании Шопенгауэра хотя и по направлению к небытию, но все-таки в виде иерархической лестницы: одна и та же воля оказывается на различных ступенях; с все прибывающей ясностью и отчетливостью вырисовывается, что эта полнота и ясность возвышаются в человеке до высшей ступени, где мрак родит свет, из недр темной воли является самосознание. В этом самосознании достигла просветления не только личность, но и весь мир; злой обманщик все-таки пришел к саморазоблачению и, следовательно, к коренному устранению зла. И это не иллюзия только, потому что все это способно привести к реальным следствиям абсолютно положительного свойства, а именно: к уничтожению мира. Если мир абсолютное зло и бессмыслица, то тем больше ценности и смысла в его уничтожении. Жизнь личности таким путем обрела ясный смысл и у Шопенгауэра и при том смысл прямого космического значения: через свое просветление и отказ в себе от воли к жизни она спасает мир от мук и бессмыслицы, хотя бы уничтожением всего; она срывает покрывало Майи. Логическое начало оказывается способным победить алогическое и у другого пессимиста, Гартмана. Сам Шопенгауэр в письме к А. Беккеру 24 авг. 1844 г. определяет жизнь мира как «с необходимостью совершающийся процесс просветления», завершающийся Нирваной. Смерть, призраком которой пугал нас Шопенгауэр, и та в одном месте описывается в ее естественной форме как естественное незаметное угасание, по существу лишенное мучения и страдания[193].
В полном согласии с этим всплывает оптимистическая черта и во взгляде на человека. В его самосознании не только достигнуто мировое просветление, как мы уже это отметили, но на пути проникновения в тщету и злую основу мира и постижения внутреннего противоречия явления с самим собой самосознание возвышается до возможности святости и самоотречения[194], и если бы даже они не привели ни к чему положительному, сами по себе они обозначают нравственное завоевание и вносят очень существенную оптимистическую черту во взгляд на человека. Чем ближе Шопенгауэр подходит к человеку и к тем главам своей философии, где он затрагивает вопросы императивного характера, тем яснее слышится там голос высокой оценки разума и познания человека; там он везде зовет к самоуглублению, к самосознанию личности, как спасительному фактору не только метафизически, но и житейски[195]. Личность со всех точек зрения возводится в ранг первостепенного фактора, почти абсолютной ценности[196]. Значение этого вывода нисколько не умаляет то, что подавляющая масса людей остается всецело во власти темной воли к жизни. Идея личности и ее самосознания привели Шопенгауэра к бреши в пессимизме в коренном пункте: несмотря на свою радикально пессимистическую оценку principium individuationis, Шопенгауэр уделил человеческому индивиду совершенно исключительное положение. В то время как Лейбниц, спасаясь от тягостной проблемы зла, увидел себя вынужденным принизить индивида, возложив всю вину на него и его свободу, Шопенгауэр, наоборот, ища выхода, как правильно констатирует Фолькельт[197], отвел отдельному человеку в конце концов место особой идеи, меж тем как в природе идея вообще снисходит только до рода; человек уже выходит за пределы явления и обретает бытие, восходящее к царству вечного и единого: решением его воли, просветленной его постижением, может быть спасен мир или уничтожен. Пусть мир плох, но мощь и значение человека от этого выступают тем рельефнее. Пусть даже это значение принадлежит только умопостигаемому характеру, тем не менее индивидуальность личности коренится в вещи в себе. В своей статье «О видимой преднамеренности в судьбе отдельного человека» Шопенгауэр говорит о предназначении и о том, что нашей судьбою управляет какая-то высшая метафизическая власть, наш гений, хотя добавляет, что эта статья есть только плод метафизической фантазии, но ведь фантазия нормально выступает только немотивированно. Шопенгауэр даже признает возможность «сравнительного счастья»[198]. В самодовлении личности он открывает даже и более широкие перспективы, подымаясь на высоту настоящей житейской мудрости: «Довольствоваться самим собой, быть для себя всем во всем и иметь право сказать «все мое несу с собой», без сомнения, самое плодотворное свойство для нашего счастья»[199].
Это продвижение оптимиста и пессимиста как бы навстречу друг другу может быть дополнено относительно Шопенгауэра еще одним фактом, без сомнения, самым важным. Проблески оптимизма нашли себе выражение у него не только в отрицательной форме, в уничтожении безумной, чудовищной основы мира, в прекращении бессмыслицы, но у Шопенгауэра ясно и определенно наметился положительный смысл всей мировой драмы. Шопенгауэр энергично и многократно подчеркивал, что в смерти и отрицании мы познаем только то, что мы теряем, но не то, что мы приобретаем таким путем. Определив Нирвану как ничто, он уже первый том своего труда «Мир как воля и представление» заканчивает указанием на то, что абсолютное ничто совершенно невозможно[200]. Он заканчивает свой труд характерными словами, что с уничтожением, отрицанием воли ничто получается только для всех тех, кто утверждал волю, был полон ею; для тех же, в ком совершился мистический переворот, исчез мираж, «этот столь реальный мир». Шопенгауэр описывает достижение Нирваны состоянием экстаза, просветления, соединения с богом и т. д. Отсюда открывается нечто непознаваемое, непосредственный мистический опыт, а потому и непередаваемый[201]. Он намечает свою мысль через отрицание, указывая, чего в Нирване нет: он говорит только, что Нирвану можно определить как ничто только в том смысле, что в мире этом нет ни одного элемента, который был бы пригоден «для определения и построения ее»[202], но что вообще она не есть абсолютное ничто[203]. Мы просто только не знаем, что дальше[204]. Но мы, свободные от пессимизма Шопенгауэра, чувствуем, как мысль наша необходимо переходит от того, что он отрицает, к мысли о том, что он этим самым намечает. Когда он говорит нам, что там за сорванным покрывалом Майи уже не будет рождения, возрастов, болезней и смерти[205], когда мы знаем, что все зло скопилось в этом мире, что ни один элемент отсюда не войдет туда, что человек не исчерпывается явлением и не подлежит целиком времени и что дальше не только потеря, о которой мы знаем, но еще какое-то обретение, о котором мы не знаем, то ничто не может уже нам помешать сказать, что дальше во всяком случае не могила, не беспросветный мрак, а что-то по замыслу философа лучезарное, неизмеримо величественное. Так пессимизм Шопенгауэра в конечном счете вылился в полнозвучный аккорд оптимизма. Вдумываясь в эти мысли Шопенгауэра, невольно вспоминаешь о другом вдохновенном философе-оптимисте, Вл. Соловьеве, у которого царство божие также приобретает роковое сходство с Нирваной[206].
Лейбниц и Шопенгауэр встретились и еще в одной черте. Оба интеллектуалисты, оба отвели познанию и познавательному фактору центральное место, оба ждут восхождения и совершенства от познавательного прояснения. В итоге они оказались также оба в крайне рискованном положении в отношении человеческой личности. В их прямых сознательных заявлениях личность оказалась возведенной на большую высоту, но по существу ее положение в их системах, с другой стороны, оказалось совершенно подорванным. У Шопенгауэра индивидуальные стремления все-таки должны бесследно исчезнуть с этим миром вообще, как и всякие стремления, хотя бы в слабой степени напоминающие волю; исчезает движение, прогресс, жизнь, достигается какое-то неведомое статическое положение, совершенно нестерпимое для личности. Вскрывшийся в заключении оптимизм касается внеличного, несубъективного и даже внемирового состояния, он не для личности. Приходится думать, что с миром ее миссия кончилась и дальше ее нет. Очень показательно, что сам Шопенгауэр, прославлявший аскетизм, устанавливает тесную, неразрывную связь между мистицизмом, аскетизмом и квиетизмом[207].
Мало утешительного получается для решения проблемы смысла жизни личности и у Лейбница. Там всеведение и всемогущество бога по существу закрыло все свободные входы и выходы, оно определило все, и, сколько бы Лейбниц ни отрицал этого, для личности не осталось решительно ничего, возможного по ее собственному решению; все, что было, есть и будет, установлено богом, и от него не укроется ничто. В трудных этапах своей философии Лейбниц рекомендует личности тотчас вспомнить о таинственной премудрости божией и о необходимости положиться на его благость[208]. Что может дать он сознанию личности, когда он убежден, что и будущее все определено? Наш философ пробует спасти крупицы осмысленного собственного дела личности тем, что он рекомендует нам исполнять свой долг по разуму, «так как мы не знаем ни того, как оно определено, ни того, что предвидено и решено» (т. е., иными словами, мы будем думать, что мы что-то решили и сделали, на самом же деле все совершается по заранее установленному божественному плану). Недаром у Лейбница вырвалось сравнение человека с «духовным автоматом», потому что все в человеке, как и везде, заранее твердо установлено и определено[209]. Все наши планы и стремления основываются просто на нашей неосведомленности, а если бы мы все знали, то, по мнению самого Лейбница, нам абсолютно нечего было бы желать больше[210]. Это обозначает категорический смертный приговор личности; она сама как таковая утрачивает свое значение, потому что от ее воли и ее самосознания вне общемирового хода ничто не зависит; мы только звенья в общей цепи, способные только строить обманчивые фантазии, что мы можем что-то решить и сделать от себя. Бог у Лейбница возвеличен, но личность оказалась уничтоженной в корне.
Такой итог далеко не случаен. То же самое получилось и у необычайно интересного другого талантливого религиозно-философского оптимиста, Вл. Соловьева[211]. Положительный смысл жизни личности мыслим только при условии, что она может внести, если проявит добрую волю, кое-что от себя. Сказать же – как это делают объективный оптимизм и пессимизм, построенные не на уповании, а на утверждении определенного характера действительного положения вещей, – что мир все равно останется собой и ему гарантирован или неуклонно предуказан определенный путь и конец, пессимистический или оптимистический – безразлично, чтó бы личность ни предпринимала, это значит совершенно уничтожить смысл и суть личности. И крайний пессимист, и крайний оптимист делают свои усилия и планы в действительности совершенно мнимыми и излишними и включают их просто в общий типовой ход. Оба умерщвляют бесцельностью; только один добивает еще безнадежностью и мраком, а другой отсутствием стимулов и ослеплением лучезарным светом. Пессимист твердит о неизбежности гибели мира, о коренной злой основе мира. Оптимист твердит о том, что в общем мировом ходе гарантировано добро в самой лучшей и совершенной форме. Все наши «хочу», «не хочу», «одобряю», «отклоняю» и т. д. – все это иллюзорно, все это покрывало Майи, только у одного написано на нем «ад», а у другого «рай». Крайний оптимизм и пессимизм неизбежно приобретают характер фатализма, потому что все призывы при неизбежно гарантированном ходе вещей утрачивают всякий смысл; нельзя стремиться к тому, что есть и обеспечено или определенно немыслимо[212]. Всякое сознательное стремление должно исчезнуть уже в силу психологического закона – в силу того, что ясное сознание бесцельности действия или недостижимости цели совершенно парализует волю личности. Вместе с этим неизбежно угасает жизнь по собственному почину, остается только предоставить все ходу вещей и делать то, что он навязывает, в невозмутимом тупом ожидании неизбежно грядущего миропорядка. Удалось ли крайнему оптимисту и пессимисту прозреть и постичь ход мировой жизни и ее смысл, это большой вопрос, остающийся навсегда гадательным и подлежащим компетенции веры, но смысл жизни человека, не как части мира, а как личности, погибает при этом безвозвратно, и самые помыслы его о том, что он что-то может, хорошее или дурное, его самосознание, жесточайший обман и зло. Объективный оптимизм и пессимизм обнаруживают здесь свое кровное родство.
Лейбниц сам сознавал, что он близится к тому положению, которое погубит двигательные пружины в жизни личности. Это ясно видно из того, что он неоднократно делал попытку опровергнуть такие опасения и энергично выступил против рассуждения, в древности названного[213] «ленивый разум»: если личность будет действовать согласно воле бога, то она сделает то, что и без нее совершилось бы; если же она попытается пойти в противоположном направлении, то из этого все равно ничего не выйдет. Ошибка этого рассуждения заключается только в том, что оно, рассматривая религиозный фатализм, не отдает себе отчета в том, что человек не может по основной посылке остаться в стороне, его деятельность учтена и дана в божественном плане, так что деятельность его неизбежна, и абсолютному квиетизму тут действительно не может быть места, но центр тяжести здесь переносится в другую плоскость, в фаталистическую точку зрения на итоги, на цели, мотивы и пути его деятельности, на то, что он только звено цепи и свершит только то, что предписано; всякие свои надежды на привнесение в мир чего-то своего, на возможность иного бессмысленны; человек совершает только то, что не им установлено, а общим миропорядком. Лейбниц прав, когда он считает несостоятельным упрек в квиетизме в действительной жизни индивида[214], но он бессилен опровергнуть фатализм и квиетизм духовный или иллюзионизм в деятельности и целях личности: Лейбниц признал, что все наши собственные стремления и планы построены на нашей неосведомленности в божественных планах[215]; мы только исполнители не нами данного плана, и от нашего признания или непризнания ничто не зависит. Все эти рассуждения применимы и к пессимисту Шопенгауэру; потому что спасающий свет самосознания, освобождающий мир и личность, появляется в его системе вопреки его основным положениям; темная безрассудная воля ни с какой стороны не делает нам понятным и оправданным рождение самосознания, света разума, целенаправленной деятельности, кроме одной цели голого самоутверждения.
Так идут, переливаясь друг в друга, оптимизм и пессимизм. И это вполне понятно, потому что пессимист должен по меньшей мере признать факт познания, что принуждает его к дальнейшим уступкам, а оптимист не может исключить идею восхождения по лестнице благ и совершенств, чем волей-неволей открывает некоторую возможность уделить место несовершенному и неполному. Но основная ошибка обоих течений как описаний действительного положения вещей заключается в том, что здесь отблеск собственного субъективного исповедания и веры в преобладание добра и зла, счастья или несчастия в мире переносят на объективную действительность[216]. Такие аргументы, как указание Шопенгауэра на то, что он уже в отрочестве был пессимистом, вполне подтверждают субъективную природу пессимизма и оптимизма. Оба течения являются продуктом оценки и логически и психологически немыслимы без субъекта, оба они слишком легко забывают, что истоков своих они должны искать прежде всего в душе человека, в субъекте. Оба, и пессимист, и оптимист, как бы не замечают, что они смотрят на мир и факты через разноцветные очки, и что цвет, окраска мира объясняется в сущности цветом, отблеском и большей или меньшей выпуклостью или вогнутостью стекол. При таком положении вопроса в решении проблемы смысла жизни получается коренная несообразность: пессимизм или оптимизм рассматривают действительность и в зависимости от этого решают проблему смысла жизни, между тем как философская правда повелительно требует обратного пути, а именно чтобы отклоненный или признанный смысл решал судьбу вопроса. Не оптимизм – базис смысла, а смысл базис оптимизма; то же самое нужно сказать о взаимоотношении пессимизма и отрицания смысла: оно обратно тому, что утверждал пессимизм до сих пор.
Оценивая пессимизм и оптимизм таким образом, нельзя не согласиться с мыслью, что природа всякого пессимизма и оптимизма эгоистическая и самолюбивая[217]. В той и другой системе философ подходит к миру и жизни не просто как к материалу, а со своими определенными практически-субъективными ожиданиями. Пессимистический или оптимистический взгляд на вещи зависит в значительной степени от того, с какими ожиданиями и каким критерием мы подходим к вещам: если перед нами бог, добро, рай, идеалы, человек как образ и подобие божие и основанные на этом безгранично гордые и смелые упования, то открывается богатый простор для пессимизма; но если мы подходим к жизни и человеку, видя истоки их развития в естественном зачаточном состоянии и все ценности рассматриваем не как то, что должно быть, но – к чему мы идем, открывается возможность оптимизма. Пессимист как будто всегда помнит, что возможный рай утерян и впадает в отчаяние, оптимисту внушает радость постоянно рисующийся ему на горизонте грядущий рай. В ламентациях пессимиста всегда слышится голос неосуществленных абсолютно оптимистических притязаний, голос обиды за нарушенное право на жизнь, счастье и блага; в восторгах оптимиста звучит радость от сознания осуществляемого и осуществленного права на жизнь и всяческие ценности; положительную жизнь, счастье, блага и т. д. они рассматривают как должное, противоположное – как недолжное. Только при этом условии понятна неудовлетворенность пессимиста временной жизнью, потому что он жаждет и требует вечной; только при требовании полноты счастья и всех ценностей понятно нежелание пессимиста признать и многое ценное, что есть в мире: частью не может удовлетвориться только тот, кто требует всего. На пессимисте оправдываются слова Заратустры[218], что мы любим жизнь и любим ее больше всего тогда, когда мы ее ненавидим. Не будь у пессимиста высокого взгляда на человека и высоких ожиданий от него, он не приходил бы в отчаяние при взгляде на действительность. Глядя на животных и их существование, он не находит в этом одном прямого повода к философским ламентациям; тигр ни его, ни нас не возмущает, как никого особенно не восхищает хлеб и вода, хотя первый убивает, вторые питают. Только вид человека в животном или немощном состоянии заставляет его мрачно смотреть на мир. Шопенгауэр хотел бы видеть позади себя в далеком начале всех вещей бога и дальше его направляющую власть, но увидел там дьявола и проклял мир; Лейбниц видел позади себя ничто, а впереди бога, который создал мир из ничего и ведет его к себе, и он поет гимн миру, как и Дж. Бруно, усмотревший в мире самораскрывающегося бога. И тот, и другой понимают добро как факт и бытие и не поняли творческо-субъективной сущности. Именно потому они должны уступить свое место – а во многих своих элементах, может быть, и слиться воедино – иной точке зрения, утверждающей, что мир и человек, как на это указал Кант[219], ни добр, ни зол или и то, и другое, но он может стать тем или иным; и вот в зависимости от того, какую роль может и будет играть человек в этом творческом созидании положительной, ценной действительности, и решается вопрос о смысле жизни. Объективные пессимизм и оптимизм оказались не только бессильны решить проблему смысла жизни, но они подорвали в корне главное условие удачного решения – самую сущность личности. Их теории не для жизни и удовлетворить личности не могут.
V. ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ В ФИЛОСОФИИ КРИТИЦИЗМА (КАНТ)[220]
Хотя Кант, как это показывают его работы, не посвятил вопросу о смысле жизни отдельного исследования, тем не менее желание установить в общих чертах, как решается этот вопрос на почве его миросозерцания, не является насилием над ним, тем более что эта проблема должна привлекать взоры не только каждого философа, но и каждого человека. Кроме того, мы находим в собственных изречениях Канта мысли, подкрепляющие возможность поставить такой вопрос. Об этом в сущности говорят те четыре вопроса, о которых упоминает Кант в письме к Фр. Штейдлину (4 мая 1793 г) как об основной своей задаче: что я могу знать, что я должен делать, на что я могу надеяться, что представляет собой человек? Если мы вспомним, что «Критика чистого разума» с ее познавательным самоограничением расчистила поле для учения о нравственности и религии, то мы еще больше убедимся в том, что кенигсбергский мудрец не мог оставить без внимания этот вопрос. Кто хочет понять личность, мотивы ее поступков и стремлений и указать ей на идеал, тот, само собой разумеется, приходит в тесное соприкосновение с вопросом о смысле жизни, хотя бы он прямо и не называл его. Как говорит Кант, разуму не безразлично, «что выйдет из наших поступков». И в произведениях Канта действительно нет недостатка в изречениях, характеризующих его взгляд на жизнь и на вопрос о ее смысле.
Как раз в данном вопросе, где естественно ставится вопрос о ценности земной жизни человека, необходимо вспомнить о том учении, в атмосфере которого вырастал Кант, впитывая в себя его дух, и которое заняло резкую позицию в оценке земной жизни. Как известно, он вырастал в атмосфере ярко пиэтического настроения, безраздельно господствовавшего в семье Канта. Как говорит Форлендер[221], «вся атмосфера жизни семьи этого простого ремесленника дышала строгой чистотой нравов, честностью, терпимостью и подлинной набожностью». Пиэтизм давал своеобразное сочетание очень мрачного взгляда на человеческую природу и земную жизнь с непреклонной верой во всемогущего бога и победу добра. Сам Кант рассказывал своему ученику Яхману об огромном влиянии на него его матери. Тот же пиэтизм царил в гимназии, в которой учился Кант, в которой руководителем был друг и духовник его семьи, проповедник и профессор Шульц. В университете Кант также не остался без влияния пиэтизма; пиэтистом был, например, один из его учителей, Кнутцен[222]. И хотя он отклонил карьеру проповедника и набожность пиэтистов награждает презрительным эпитетом «Frömmelei»[223], тем не менее огромная доля влияния пиэтизма осталась у него на всю жизнь.
Это ярко сказалось у Канта в его отношении к земной жизни человека. Уже основные черты его «Критики…» недвусмысленно говорят, что эта жизнь рисовалась кенигсбергскому мыслителю далеко не в розовом духе. Душа человека представлялась ему отражением глубокого коренного разлада; на нем построена вся его как теоретическая, так в особенности вся практическая философия; разум и чувственность – два вечных антагониста – вошли как составные элементы в человеческую душу и живут в вечной непрерывной борьбе друг с другом, часто затихающей только в праздничные моменты эстетических созерцаний. Чем строже и ригористичнее требование Канта к человеку, тем ярче выступает пиэтическое недоверие к его земной природе. Переход к идеальным требованиям, к мысли о великом конечном назначении человека делается в такой форме, что она не оставляет никаких сомнений в слабости и коренной отягощенности человека как земного существа. Подчеркивая широту и власть чувственных, земных стремлений человека, Кант в «Критике практического разума»[224] произносит знаменательную фразу: «Человек – существо полное потребностей, но все-таки он не совсем уж животное…»
Все эти животно-земные элементы образуют мощный противовес против всех влияний долга. В общем итоге у человека, предоставленного самому себе, много шансов остаться в цепях этой земной власти.
И земная жизнь рисуется Канту в соответствующих красках. О самодовлении ее у него, конечно, не может быть и речи. Не трудно понять, что искать смысла в ней как таковой было бы большим, роковым заблуждением. Положительный ответ – если он возможен – может получиться только на почве установления связи личности с неземными целями и помыслами. Если бы человек оставался просто человеком, не становился бы личностью, т. е. если бы он оказался бесповоротно замкнутым в мире явлений без всякого просвета в иной мир, то жизнь его была бы лишена всякого самостоятельного смысла и ценности. В этом отношении очень интересно то, что писал Кант в «Мыслях по поводу смерти господина фон-Функа»[225]. Возможно, что некоторое сгущение красок в этом рассуждении объясняется стремлением утешить мать, оплакивающую раннюю кончину своего сына, – рассуждение это и начинается обращением к г-же фон-Функ, но существо его взглядов остается неизменным и дальше. Кант здесь энергично подчеркивает, что у земной жизни нет самодовлеющего характера. Каждый человек, поглощенный видом и интересами земной жизни, говорит он, рисует путь своей жизни, строит планы, но на самом деле истинная судьба человека резко отличается от той, какою он представляет ее себе: наши ожидания оказываются на каждом шагу обманутыми. Взамен разбитых мечтаний мы строим новые, но и их судьба оказывается не лучше первых. И так продолжается эта жалкая игра до тех пор, пока не явится смерть, сбросит покрывало с жизни, обнаружит, что это были только призраки, и навсегда положит предел нашим пустым мечтаниям. Часто богатство и брак, обещавшие великое счастье, рушатся невероятно быстро, в то время как «нищета и горе ткут длинную нить в платье парок, и многие, по-видимому, живут на муку себе и другим»[226].
Конечно, на этом Кант не остановился, но здешняя жизнь оказывается окончательно осужденной самое большее на служебную роль. Смысл ее не в ней и, конечно, не в том, что она дает и может дать. Кант энергично и решительно выступает против гедонизма. Он не стремился, правда, к полному уничтожению «естественных склонностей», а требует только их обуздания[227]. Для него «пуризм циника и умерщвление плоти анахоретом без благ общественной жизни – это искаженные образы добродетели, не способные привлекать к ней, покинутые грациями, они не могут претендовать на гуманность»[228]. Потребность в счастье признается им за необходимую потребность всякого разумного, но конечного существа; эта потребность неизбежно выступает в роли фактора, определяющего его желания и стремления[229], но все это далеко от обоснования смысла жизни. Определив счастье как состояние, получающееся в итоге того, что все в жизни разумного существа совершается соответственно его желанию и воле[230], Кант отвергает его как цель, потому что оно направляет нашу деятельность на внешнее, делает нашу волю гетерономной и порабощает человека. Кант везде пользуется случаем подчеркнуть нравственно опасный характер стремления к счастью как самодовлеющей цели. Те, чей «культивированный разум» усматривает цель жизни в наслаждении ею, в счастье, идут, по его мнению, прямым путем к мизологии, т. е. ненависти к разуму; чем больше люди усматривают цель жизни в наслаждении, тем дальше уходят они от возможности истинного удовлетворения. Ценность этой жизни только в том, что мы таким путем открываем возможность иного, более достойного существования. Если бы целью жизни было счастье, то лучше было бы выбрать в руководители природный инстинкт, а не разум. Было бы большой несправедливостью по отношению к Канту объявить его абсолютным пессимистом. Как мы увидим дальше, он спасается от безнадежности своей верой в бога и умопостигаемый характер человека. Но пессимистические нотки никогда не покидают его, раз речь идет о земной жизни. Как указывает Оманн в своем предисловии к письмам Канта[231], последний говорил, что он ни за что не хотел бы прожить свою жизнь еще раз. И нужно признать, что эта фраза в устах Канта, поскольку можно судить по его произведениям, не является случайной или возможным продуктом горькой минуты. Она естественна потому уже, что душа человека носит по его учению в самой себе возможность своей духовной жизни, но вместе и возможность своей моральной смерти, причем поскольку речь идет о собственных силах человека, последний фактор оказывается чрезвычайно сильным. Действительная мощь человека представляется Канту очень ограниченной.
В самом деле. Там, где у Канта берет верх безусловный оптимизм, вера в окончательную победу добра, в идею вечного мира и т. д., там всегда этот оптимизм основывается на постулированной вере в бога или же на объективном ходе развития жизни. Так, в «Мыслях по поводу всеобщей истории»[232], написанных в 1784 г., т. е. вскоре после появления «Критики чистого разума» и «Пролегомен», он говорит о том, что природа принуждает человека стремиться к осуществлению величайшей задачи человеческого рода, к достижению гражданского общества, построенного на всеобщем праве. Впечатление, что объективный ход жизни и природы выявляет с помощью человека что-то свое, особое, высшее, – мысль, которую позже Гегель поставил во всей ее полноте, встречается у Канта, возвеличившего свободу человека, неоднократно. Еще больший аромат будущей гегелевской философии чувствуется в словах Канта несколькими страницами дальше[233], где он говорит: «На историю человеческого рода можно смотреть как на свершение в большом масштабе скрытого плана природы»… Пусть даже все это предназначено для полного развития задатков, заложенных в человечестве, но здесь все-таки как бы расчищается почва для утверждения Гегеля, что отдельные индивиды таскают каштаны из огня для объективного духа. Аналогичную мысль он высказал в ясной и определенной форме в «Мыслях по поводу смерти господина фон-Функа» (1760 г.), где он говорит о неведомом нам предопределении или нашем жребии в истинной действительности в отличие от этого земного мира, полного противоречия и, в сущности, являющегося только призраком.
По основному учению Канта вопрос о моральной судьбе человека решается в том, каким человек сделает себя сам. Он требует от него революционного перелома в его настроении и образе мыслей и считает этот факт, может быть, необъяснимым, но все-таки возможным путем свободы. Но он никогда не забывает о чувственности, об этом «радикальном зле», заложенном в натуре человека, потому что это зло портит основу всех максим. Этим объясняется то, что Кант фактически далек от мысли полагать на собственные силы человека чересчур большие надежды. «Из столь кривого дерева, из которого сделан человек, – говорит он[234], – нельзя построить ничего вполне прямого. Только приближение к этой идее возложено на нас природой».
Эта возможность «приближения» открывается человеку тем, что он может стать личностью, т. е., как говорит Кант[235], обрести революционным переворотом в своем духе свободу и независимость от механизма всей природы или, иными словами, развернуть свой умопостигаемый характер. То, что человек может породить «я», это поднимает его на неизмеримую высоту над всеми земными существами – такой мыслью начинается его «Антропология». Понимая под моральной свободой «в практическом смысле» независимость воли от принуждения со стороны требований чувственности[236] или определяя ее положительно в «Критике практического разума» как автономию воли, Кант наделяет этой свободой человека и этим отводит ему в мире и жизни совершенно особое место, а именно – ему приписывается в осуществлении того, что дает смысл жизни, почти космическое, основное значение. Чтобы понять это, мы и обратимся теперь к основному вопросу, интересующему нас, – к вопросу о высшем благе, о последней цели, о смысле жизни.
Как известно, Кант сделал из субъекта, хотя бы только из его умопостигаемого характера, своего рода философскую Архимедову точку, на которую у него опирается вообще все его миросозерцание. Вполне естественно и последовательно, что и ответа на приведенные нами вопросы можно искать только на том же пути. И тут центр тяжести должен быть перенесен в самую личность. В своем жизнепонимании Кант ищет и находит главную задачу жизни личности не вне ее, а в ней самой. Грубый гедонизм, который, как это мы видели раньше, решительно отвергается Кантом, обыденное счастье становится по самому существу невозможным, потому что оно лишено самодовлеющего характера, оно вечно недостижимо, неполно, а главное – оно лишено морального оправдания. Таким образом это приводит нас к очень важному выводу, что цель жизни, смысл ее, если он есть, имманентен личности, что высшее благо не вне личности, а в ней самой. Важность этого положения можно подчеркнуть неизбежно вытекающим отсюда вопросом, не есть ли сфера добра, красоты, истины, святости и т. д. – всех этих абсолютных ценностей – настоящая сфера, мыслимая только в личности и на почве ее противоречивых возможностей. Уже здесь напрашивается ясный вывод, что «царство небесное истинного смысла» может быть только «внутри нас». Только на этом пути достигается истинная вечность и конец всякого времени[237].
Таким фактором, несущим смысл жизни, является у Канта идея, в которой он, строгий формалист, не ограничивается одним формальным определением, а дает слияние формы и содержания. Этим солнцем, освещающим, с его точки зрения, всю жизнь и личность, является нравственный закон, доведенный до полноты понятия высшего блага. Прежде всего из всего построения Канта ясно, что нравственность представляет тот этап, дальше которого нет ни доказательств, ни требований, ни ценных, достойных стремлений. В утверждении смысла жизни приходится отвести основную, почти исчерпывающую роль нравственному закону, осуществлению чистой, безусловно доброй воли. Кант считает возможным мыслить такую волю даже в роли общеобязательной, абсолютной законодательницы, нравственный закон – как мировой закон. Вопрос о смысле жизни – это прежде всего вопрос нашей совести, в нем господствуют мотивы не чистого, теоретического знания, а мотивы определения и осмысливания всей нашей жизнедеятельности; это, говоря языком Канта, вопрос прежде всего практического разума. И вот Кант находит, что подлинная двигательная пружина чистого практического разума такова: она есть не что иное, как сам чистый моральный закон, поскольку он дает нам почувствовать возвышенность собственного сверхчувственного существования[238]. Эту мысль о центральном положении нравственного закона Кант повторяет и подкрепляет везде. «Для людей, – говорит он[239], – нет никакого иного спасения, как вобрать теснейшим образом подлинные нравственные основоположения в свой образ мыслей». «Если справедливость погибнет, то нет смысла в существовании людей на земле».
Цель жизни должна быть последней целью; следовательно, ею может быть только нечто самодовлеющее, не нуждающееся ни в какой дальнейшей опоре. И нравственный закон так, как он освящается философией Канта, должен вполне удовлетворять этому условию. Но тут же становится ясным, что этим вопрос и у Канта далеко не разрешается. Нравственный закон дает то, что он называл определяющим основанием, чем определяется характер воли, форма ее, но по-прежнему остается открытым вопрос об объекте этой воли, о содержании, о последней высшей цели. Нравственный закон дает ясное категорическое указание только на то, как должна быть мотивирована воля в ее стремлении, но сам по себе он ни с какой стороны не определяет содержания ее стремления, на которое она направлена. Между тем в вопросе о смысле жизни этот вопрос подымается сам собой, потому что «материя практического принципа есть предмет воли»[240]; в том, что дает смысл, должны объединяться форма и содержание, веление и привлекательность, моральная и естественная.
И вот тут Кант покидает почву чистого безусловного формализма и вводит новое понятие, правда, неразрывно связанное с нравственным законом. Смысл жизни может дать только то, что способно дать полное удовлетворение. Моральное удовлетворение, как оно ни мощно и ни ценно, не исчерпывает всего. Очевидно, учитывая человеческое существо, Кант вместе с тем твердо помнит и о другой его стороне, а именно[241]: «что желание быть счастливым есть необходимое требование каждого разумного, но конечного существа и таким образом неизбежное основание, определяющее его желания». Кант, правда, отверг счастье как цель жизни, но только для того, чтобы потом вернуть его в облагороженной, нравственно оправданной форме, в виде следствия из исполнения долга, в виде счастья на основе верности нравственному закону. Высшей целью жизни, дающей смысл, является высшее благо. В конце «Критики практического разума»[242] Кант говорит о том, что «человеческая природа предназначена стремиться к высшему благу». Приобщиться к этому высшему благу должен стремиться каждый человек, но он должен всегда помнить, что это приобщение соразмерно не его поступкам как таковым, а «нравственной ценности его личности»[243]. Таким образом блаженство определяется верностью нравственному закону и должно рассматриваться только как его необходимое следствие. Таков смысл утверждения Канта, что «осуществление высшего блага в мире есть необходимый объект воли, определяемый нравственным законом»[244]. В этой высшей цели, таким образом, должны объединиться безусловно нравственное веление и основное неизбежное, естественное стремление открыть простор бесконечному блаженству.
Конечно, нельзя забывать, что понятие высшего блага у Канта, как и многие другие мысли в его философии, возбудили целый ряд разногласий и различных толкований; но в общем итоге нам представляется указанная нами точка зрения правильной[245]. Сам Кант ставит в большой упрек древним смешение добродетели и блаженства и требует их ясного разграничения: первого как основания, определяющего волю, второго как ее объекта[246]. Но это познавательное разграничение нисколько не противоречит идее их жизненного сочетания. Что Кант видел смысл жизни в моральном совершенстве, усложненном до полноты высшего блага, это подтверждается всем характером его рассуждений в практической философии. Об этом ясно говорит и его философия религии: там он ставит вопрос[247], какое состояние лучше всего отвечает добродетели, каков «темперамент добродетели», мужество, радостное настроение или боязнь, подавленность и угнетенное состояние: ответ на этот вопрос, по его мнению, не может внушать никаких сомнений: он может быть только утверждением оптимистического характера, потому что подавленность будет заключать в себе долю скрытой ненависти к нравственному закону, т. е. нравственность и подавленность будут исключать друг друга; «радость же на душе» при следовании своему долгу служит ясным симптомом подлинности добродетельного уклада личности. Та же мысль проводится у Канта в еще более определенной форме в «Критике практического разума»[248] в различении двух смыслов в понятии высшего блага: высшее как supremum и высшее как consummatum. И вот в понятии своего высшего блага Кант объединяет обе эти стороны: поскольку основой его служит нравственность, добродетель, перед ним высшее благо как supremum; чтобы оно стало не только высшим, но и полным, consummatum, к нему должно привступить блаженство.
Этим самым, как мы это бегло отметили уже раньше, определяется и место человека и его значение в жизни мира вообще, потому что смысл жизни мира решается на том же пути через личность. Хотя фактически человек входит как одна из бесчисленных частиц в мировое целое, но разумом своим и умопостигаемым характером, своим отношением к нормам и способностью от себя начинать новое и ценное он подымается над всем остальным миром. «Каждая вещь в природе, – говорит Кант[249], – действует по законам; но только разумное существо обладает способностью действовать по представлению законов, т. е. по принципам, или обладает волей». Но именно в силу этой двойственности человека Кант отводит ему место своего рода посредника между двумя мирами, чувственным и умопостигаемым, свободой и необходимостью, между «небом и землей». Весь смысл практического учения Канта вылился в мысль, что единственным источником и носителем добра или даже самым добром является не что иное, как чистая воля. В «Метафизике нравов» Кант начинает главу «Переход от обычного нравственного познания к философскому» словами: «Нигде в мире, да и вообще вне его немыслимо ничто, что можно было бы без ограничения считать добром, кроме только доброй воли». Таким образом на человека возлагается у Канта колоссальная космическая ответственность, потому что в его воле должна достигаться вершина добра. Уже здесь слышится приближение той мысли, которую потом абсолютировал Фихте, именно, что мир – это материал для нравственной воли. У Канта человек как личность по своему нравственному назначению приобретает характер конечной цели творения, а это, в свою очередь, ведет нас на еще один чрезвычайно важный шаг вперед: это заставляет нас прийти к выводу, что у чувственного земного мира и жизни нет иного смысла, помимо того, какой дается жизнью человека-личности. Это положение подкрепляется еще мыслью, что добро и зло существуют только в наших деяниях; только человек-личность открывает этот ценный мир и озаряет его лучистым светом жизнь или, наоборот, затемняет ее. И быть или не быть миру и жизни добром, это в общем итоге должно решаться тем, какое направление примет воля человека-личности, потому что, помимо нее, нет добра, а будет ли она доброй или злой, это решает сама личность. Что Кант видит смысл жизни и мира в моральном совершенстве, это видно также, между прочим, из следующих его слов: «То, что одно может сделать мир предметом божественного определения и целью творения, это человечество (разумная мировая сущность вообще) во всем его моральном совершенстве…»
Таким образом, если сопоставить пессимизм Канта во взгляде на силы человека и его задатки с оптимизмом во взгляде на значение человека и его роль в мире, получается как будто резкое противоречие вплоть до полной непримиримости. Но не следует забывать, что в первом случае Кант только констатировал положение, во втором же он говорит об идеале, о долженствовании, и все его неутешительные соображения о действительных силах и могуществе человека-личности осуществить высшее благо остаются в полной силе. Кант здесь находит выход из опасности или потонуть в пессимизме, или абсолютировать человека в том, что он признает его силы недостаточными, и обращается к богу.
Для человека мыслимо только приближение к высшей цели[250]. Достижение ее обусловливается полным соответствием всего образа мыслей и духовного уклона нравственному закону, полным осуществлением чистой автономной воли. Но это соображение есть не что иное, как святость, т. е. то совершенство, которое не дается «ни одному разумному существу этого чувственного мира, ни в один момент его существования в нем». Чтобы не впасть в пессимизм, остается одно: обратиться к помощи бога, что Кант и делает. Чтобы смысл был, надо, чтобы высшая цель не только манила нас, но чтобы она была так или иначе осуществима[251]; иначе именно она и станет силой, сокрушающей жизнь и повергающей нас в безвыходное отчаяние; вечно привлекая к себе и вечно заставляя сознавать всю тщету наших усилий. Между тем человек оказывается существом, нуждающимся в господине[252]. Поэтому оптимистическую сторону своего учения Кант обосновывает постулированным понятием бога, завершающим бессмертие и свободу и являющимся гарантией всего лучшего. Такое обращение, с его точки зрения, тем более является понятным, что центр тяжести религии лежит, как он говорит в письме к Лафатеру 28 апр. 1775 г, в безусловной вере в то, что бог все доброе, что находится не в нашей власти, дополнит сам. И все произведения Канта полны такими ссылками на бога. Кант пессимистичен во взгляде на человека, но он полон глубокого религиозного оптимизма, поскольку речь идет об объективном развитии и объективных (не индивидуально-человеческих) силах. Эта черта бросается в глаза у Канта во все периоды его философского творчества. Уже в «Естественной истории неба» (1775 г) Кант рисует[253] перспективу, когда все планеты обрушатся в свой центр, в солнце, усилят его огонь своим материалом, сгорят в его пламени, разложатся на элементы и эти элементы унесутся в мировое пространство, чтобы затем образовать новые миры. Мир таким образом возродится, как феникс из своего пепла новый, освеженный. Кант цитирует при этом стихи фон-Галлера: «Когда мир сгорит и возродится, ты будешь так же юн, как и теперь, так же далек от смерти, так же в будущем, как и в настоящем». В небольшой работе, написанной в защиту оптимизма под заглавием «Об оптимизме», он горячо защищает его, исходя из мысли, что всевышний всегда выбирает самое лучшее. Там он произносит знаменательную фразу: «Благо нам – мы существуем! И творец радуется нашему существованию». Позже этот оптимизм значительно умерился; Кант заявил, что он не хотел бы прожить свою жизнь еще раз, но это не устраняет его оптимистической веры в сверхличные факторы. Как он считает и дальше, истинный мудрец не станет сомневаться, что все устроено к лучшему, даже если многое совершается вопреки желаниям человека и его угнетают противоречия. «Человек, – говорит он[254], – хочет согласия, но природа знает лучше, что для его хода хорошо: она хочет раздора». Создавая противоречивые положения и идя как бы вразрез с желаниями человека, природа таким путем побуждает его напрягать свои силы и создает условия прогресса; она, по мнению Канта, заставляет человека развить свои «природные задатки», и Кант видит в этом «предначертания мудрого творца». Кант заканчивает основную часть «Критики практического разума» характерными в этом отношении словами: «Поэтому и здесь также будет уместным указать на правильность того, чему нас достаточно вообще поучает изучение природы и человека: неисповедимая мудрость, дающая нам существование, одинаково заслуживает почитания как в том, в чем она нам отказала, так и в том, что она нам уделила».
Нет веры в бога – нет и веры в смысл жизни – такова завершающая мысль и конечный вывод из всех этих рассуждений. Как ни велико по значению положение личности у Канта, но только при последнем условии она находит оправдание своей жизни и ее смысл. Отнимите эту гарантию, и личность, а с нею и смысл жизни теряют свою главную опору и рушатся. В чистой автономной воле дано только право верить во всемогущую помощь бога.
Таков ответ Канта. Можно ли смотреть на него как на удовлетворительное решение вопроса? Нам представляется, что ответ этот не сможет удовлетворить живую человеческую личность.
В самом деле. В начале Кант пошел тем путем, на котором только и можно искать смысла жизни: это понятие личности, ее деятельность, но в дальнейшем развитии своих мыслей он завершил все понятием бога в такой форме, что положение личности становится в крайней степени подорванным вплоть до уничтожения всякого смысла в жизни и деятельности человека. Эти грозные признаки недоверия к человеку и слишком большого доверия к объективному ходу вещей, на которые мы уже указали, попадаются на всем протяжении учения Канта; с завершением же вопроса о смысле жизни в понятии бога положение обострилось еще больше. Радикальное противоречие между космическим назначением человека-личности и его фактическим бессилием остается у Канта по существу совершенно неустраненным. Но, кроме того, оно оказывается и жизненно губительным для личности. Ставя великую недосягаемую цель, Кант этим самым совершенно обесценил человеческие стремления, так как все эти усилия, как бы они велики ни были, все равно останутся бесцельными, и прямым результатом такого перенапряжения мотивации воли должна явиться полная атрофия воли, бесцельность ее напряжения. До тех пор пока речь шла о долге, об одном нравственном законе, там Кант мог с своей точки зрения просто ставить категорический императив и требовать, чтобы личность следовала ему. Там нет нужды ни в доказательствах, ни в иных доводах; главное, там недопустим вопрос «к чему?» – тот самый вопрос, который властно звучит в вопросе о смысле жизни и которого в ней обойти уже нельзя. И вот тут-то и обнаруживается, что бесконечно высокий идеал высшего блага в той форме, как его ставит Кант, не по плечу смертному; это идеал для «святой воли», как заявил сам Кант; кроме того, он сам считал необходимым ставить такие цели, которые были бы достижимы, а иначе направить на них волю невозможно. И тем не менее Кант сделал именно такой шаг.
Введение понятия бога, в сущности, не спасает положения, а, наоборот, ухудшает его. Хотя бог Канта постулирован на основе этических мотивов и у него этика обосновывает религию, а не наоборот, тем не менее к этому понятию применимо обычно простое выражение, что все усилия людей являются или тщетными, если они идут вразрез с волей божией, или же излишними, ненужными, если они стремятся к тому же. Кант сам говорит, что если бог является фактором, определяющим все, то тогда «человек-марионетка или вокансоновский аппарат, сделанный и заведенный высшим мастером всех искусств и произведений»[255]. Кантовский бог, правда, не исключает свободы человека, но он также не устраняет глубоко смущающего сомнения, к чему усилия человека, нуждающиеся все равно в пополнении божеством, когда бог с его всемогуществом все осуществит безупречно и твердо. И у Канта заметны колебания между двумя полюсами – верой в человека и недоверием к нему. У него попадаются даже указания на предопределение.
Таким образом у Канта даны две тенденции установить смысл: субъективным путем, личностью самою, и объективным путем, при помощи бога и хода вещей; в конечном итоге последняя тенденция берет верх и является завершающей, но тогда жизнь и сознательные усилия человека лишены всякого смысла. Чтобы открыть возможность утвердить этот смысл, надо прежде всего незыблемо утвердить самую личность человека, что Кант и сделал, подняв при этом личность на недосягаемую высоту и признав в идее за ней реальную способность и возможность самоопределяться, а затем это признание оказалось уничтоженным все возраставшим преобладанием другой тенденции. Но где личность становится ничем, где объективный ход вещей или божественная власть решают все независимо от личности, там жизнь личности утрачивает всякий смысл. Пусть даже у мира и вне личной, объективной жизни вместе с тем утверждается богатейший смысл – жизнь личности в ее реальном значении утрачивает всякий смысл, потому что утрачивают смысл ее сознательные усилия, и она становится только средством или материалом.
И у Канта, как это ни странно, невольно получается такое положение. Хотя он все перенес в субъект, рассудок сделан законодателем природы, личность стала единственным носителем добра в этом мире, все это очень ценные элементы, и тем не менее в окончательном итоге верх взял взгляд, уничтоживший все сделанное. Это оказалось неизбежным, тем более что нравственный закон сам по себе не может обосновать смысл жизни, так как он определяет характер воли, но оставляет открытым вопрос о ее предмете. Только расширившись до полного высшего блага, он способен претендовать на роль ключа в жизни. Но в кантовском понятии высшего блага блаженство есть только необходимое следствие, а основой остается добродетель и нравственный закон.
И вот тут обнаруживается и другой крупный недостаток попытки решить вопрос о смысле жизни на одной этической основе, хотя, конечно, понятие добра, а с ним и понятие нравственного закона должны входить в число основных факторов, обосновывающих этот смысл. Кант различает в понятии высшего блага два смысла: высшее благо как занимающее последнюю ступень поднимающейся лестницы и высшее благо в смысле всеохватывающей полноты. И в том, и в другом случае из учения Канта вытекают для жизни личности роковые следствия: в первом случае утрачивают самостоятельную ценность все ступени, кроме последней: за ними сохраняется самое большее служебное значение, т. е. чрезмерная категоричность уничтожает полноту в данной этической области; во втором случае полнота кантовского высшего блага, объединяющего добродетель и блаженство, не только исключает степени нравственности, утверждая, что они или существуют в полном категорическом виде, или их вовсе нет, но оно в ужасающей степени обедняет и суживает ценный мир и жизнь личности: высшее благо охватывает область этики и только как следствие нравственности дарит обедневшему и обеспложенному человеческому духу сумеречное блаженство, здоровое в корне, потому что оно нравственно оправдано, но лишено аромата и красочности действительной жизни. Кант по существу мог сохранить значительно более широкую позицию, потому что он уделил много тонкого внимания эстетической жизни, но эти вечные ценности не находят себе места в его учении о высшем благе, принявшем слишком узкий категорический характер.
Но и в области этической Кант вступил на путь нежизненной узости. Как справедливо отметил Зиммель в своей работе о Канте, между ступенью стремления к чувственному удовлетворению и идеальным соблюдением нравственного закона лежит масса разнообразных благ, которые и с нравственной точки зрения должны найти неодинаковую оценку. Стремление к счастью может быть очень различным: один находит его в объятиях проститутки; другой – в духовных благах, в сонатах Бетховена; один – в «бренном металле», другой – в служении ближним и т. д. Таким образом открывается широкий мир благ, далеко не безразличный для выяснения вопроса о смысле жизни. Один нравственный принцип и чистая воля как путь не в силах дать все: идея смысла должна оживлять, вдохновлять, а для этого она сама должна дышать не мертвой формулой, а плотью и кровью.
Как ни грандиозна мысль Канта, но нельзя не подметить также, что в развенчании естества, в невключении его в царство ценностей, слышится ясная неприемлемая черта; нависает невыносимая тяжесть ощущения, что человек находится в сфере совершенно чуждой ему, а потому и враждебной косности, что он в себе несет разлагающий элемент, коренную отягощенность. Кант, как и позже Фихте, не вместил природу, объективное течение. А между тем и у Канта косвенно – отрицательным путем – получается возможность оценить натуру, естество: одна нравственная воля сама по себе тоже действовала бы как естество, если бы она вообще могла мыслиться действующей, без влечений и фактов и тогда речь о нравственности утрачивает всякий смысл. У фактов, у естества свои права и свое место, и, не вместив их, Кант, безусловно, оставил чувствительное пустое место.
Во все этом и следует видеть истинный ригоризм Канта – в том, что он, тонкий теоретик эстетики и человек, тонко ценивший познавательные стремления и знание, странным образом отверг их в своем понятии высшего блага; он не дал той богатой полноты, какую мы встречаем, хотя и в наивном единстве, у античного мыслителя Платона: соединение истины, добра и красоты. Для ригоризма Канта характерно, что он и для сохранения жизни приводит только одно оправдание – повиновение долгу[256], т. е., помимо нравственности, не видит оснований признавать за ней какую-либо ценность, хотя сам он и в этике, и в эстетике развернул для этого необычайно широкие перспективы и вполне оправданные возможности. При исключении иных ценностей и благ, в сущности, получается глубокий трагизм именно тогда, когда Кант сулит вершины блаженства: при недостижимости высшего блага утрачивает смысл стремление к нему, а если оно достижимо, то над личностью нависает не менее грозная туча: с достижением высшего блага откроется бесцельность и пустота; дальше пустыня, потому что нечего желать, не к чему стремиться, все становится абсолютно безразличным. В интересах обоснования смысла необходимо сохранить для личности возможность вечного достижения и вечных дальнейших ценных перспектив деятельности. Этого Кант не дает. Объяснение этого факта кроется в том узком понимании личности, с которым мы встречаемся у Канта. Как мы это отметили раньше, он сущность ее перенес всецело на этическую почву и этим закрыл те широкие возможности, которые он же сам открыл; он свободу оценил и определил только как нравственную свободу, как автономию воли.
Наконец, на почве этого суждения у Канта получается еще одно недоразумение, объяснимое только желанием все решить на почве нравственного закона. Если мы припомним, что блаженство только следствие из соблюдения нравственного закона, что иных ценностей нет, тогда у Канта получается заколдованный круг. В самом деле, высшая цель – это осуществление высшего блага, но им в конце концов оказывается нравственный закон и чистая воля; но нравственный закон – это формальное условие для употребления свободы. Тогда на вопрос, для чего же служит эта свобода, получается ответ: для исполнения нравственного закона. А исполнение нравственного закона? Ответ: для употребления свободы, потому что он условие употребления свободы[257].
Этим указанием на недочеты решения вопроса о смысле жизни мы не хотим исчерпать всего. В положении личности у Канта, в утверждении свободы, в понимании добра, красоты, истины как истинно человеческой сферы, в знаменитом субъективизме Канта кроются богатые положительные возможности, но сам он оставил их неиспользованными. Выяснение пути развития этих положительных идей есть уже дело систематического труда. Для характеристики этих возможностей отметим только одну из них: Кант пришел к выводу, что эстетика – единственная и прямая почва для примирения чувственности и рассудка; но тогда прямым следствием отсюда должно было бы быть утверждение, что эстетическое – этот величайший «дар богов» – возможно только у личности и через личность: у существа, причастного к двум мирам, чувственному и сверхчувственному. Ни в мире чувственном отдельно, ни в мире сверхчувственном его быть не может; оно мыслимо только в мире человеческом. В этом направлении открывается также богатая возможность решения вопроса о смысле жизни.
VI. ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ В ФИЛОСОФИИ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО ИДЕАЛИЗМА (ФИХТЕ)
Обратимся к Фихте. Уже по всему складу его пламенной и активной натуры можно было ожидать, что проблема смысла жизни займет у него одно из важных мест в его системе философии. Такое отношение к ней диктовалось ему его основным исходным лозунгом: «В начале было дело». Фихте писал не только в поздний период своего творчества, что бытие не подходит для роли исходной точки[258], но эта мысль, как и его деятельная натура и весь деятельный характер его философии, слышится уже в письме молодого Фихте к его невесте[259]. Там он с глубоким убеждением ясно формулирует основную идею своей жизни: убеждение в ничтожестве всего земного; убеждение в том, что предмет его стремлений это не счастье, которого он не надеется найти, что у него есть только одна страсть, только одна потребность, только одно полное чувство – это действовать – убеждение, что чем больше он проявит деятельности, тем глубже будет его удовлетворение. Это и понятно, он, этот отвлеченный философ, шел в жизнь по существу с глубокими реформаторскими ожиданиями, порой действенными, порой наивными, как его план возрождения немецкой нации путем выведения детей из испорченного общества и их изолированного коллективного воспитания вне этой среды, но всегда насыщенными непоколебимым убеждением в правоте своего дела. Вся его философия была философией человека по преимуществу. Потому именно слова: какую философию выберешь ты, это зависит от того, что за человек ты, дышат в устах Фихте глубокою искренностью; они явились плодом не теоретических только построений, но были плодом всей его натуры. Проблема смысла жизни должна была занять центральное место в его философии, тем более что этот отвлеченный мыслитель, отдавший всю свою жизнь умозрению, не колеблясь заявил, что цель следует видеть в жизни, а не в умозрении, которому он отводит только место средства[260]. Ту же мысль он повторил несколько позже в сочинении, которым он хотел «принудить публику к пониманию»[261]. Здесь он красноречиво говорит о своем стремлении к живой действительности и убеждает читателя держаться ближе и крепче жизни и не давать ложной философии отдалять себя от нее; как дорога ему идея крепкой связи с жизнью, это видно из того, что по его убеждению именно она поможет читателю понять его философию – философию, искавшую не столько систематической формы науки, сколько глубочайшей внутренней сущности знания, именно – убеждения; но убеждения обязывают, это уже не бездеятельное невозмутимо-спокойное созерцание, а глубоко взволнованное отношение к миру и жизни, требующее полноты действия и деятельности. Но для них, особенно в фихтевском смысле, диктовавшем отождествление деятельности с разумной деятельностью, необходимо ясное сознание конечных целей, нужна целенаправленность. Он и подходит к человеку, к личности с безусловным велением[262] – выполняй твое назначение, где бы ты ни был, своими особыми индивидуальными путями. К этому он добавляет также: совершенствуйся и совершенствуй, но это также предполагает конечную цель. Это был не только лозунг его этики, но и всей его этизированной системы. Стремление найти ответ на вопрос о назначении человека стало таким образом основной задачей его философии. Так он говорит: познание моего долга это – конечная цель всего моего познания, всего моего мышления и искания[263]. Уже в одной из ранних своих работ он с первых слов подымается к этому вопросу: в своих лекциях, посвященных выяснению назначения ученого, он отводит первую главу вопросу о назначении человека вообще, подчеркнув своим слушателям, «что вся философия, все человеческое мышление и учение, вся ваша работа, в особенности все, что я буду излагать вам, направлено как на свою цель ни к чему иному, как только к ответу на указанные мною вопросы и самое главное – на последний высший вопрос: каково назначение человека вообще и каким путем он может достичь его вернее всего»?[264] Весь смысл философии Фихте таким образом практического характера. Это философия не только личности, но при том еще ярко выраженной деятельно-реформаторской личности, своим характером и в этом отношении напоминающей нам Платона.
И Фихте мужественно борется за решение этой коренной проблемы личности. Правда, он говорит нам, что полное исчерпывающее понимание своего назначения, того, чем я должен быть и чем стану, представляет недостижимую цель для нас, превышая все наши мыслительные способности; часть его останется для нас навсегда с скрытой, но тем более необходимо вдуматься в то, что по силам нам. Задача облегчается по Фихте его глубоким оптимистическим убеждением, что назначение это не только есть, но что оно вечно и велико, как сам божественный дух[265].
Ответ Фихте по существу не оставляет никаких сомнений. Выбросив за борт вещь в себе и объявив полное самодержавие «я», он в поисках отправной точки для построения своей системы философии остановился на изначальном чистом деянии «я», он обращается к своему читателю с требованием помыслить свое «я» в чистой форме, дать акт своего незамутненного самосознания, и тогда вся система должна получиться сама собой с непреложной логической необходимостью. Этим самым сразу же отпадает и возможность какой-либо внешней цели, способной обосновать смысл жизни. Фихте, естественно, должен был искать решения на этой колее своего абсолютного субъективного идеализма. Человек – личность оказалась у него и значительным актом самосознания, она была возведена на высоту причастности к абсолюту, она была признана носителем разума, и таким образом Фихте приходит к выводу, что, поскольку человек обладает разумом, он является сам своей целью, он существует не ради чего-либо постороннего, а он должен быть во имя себя самого. О непреложности этой мысли для нашего философа говорит то, что он не допускает самого вопроса о цели бытия личности, видя в нем внутреннее противоречие, потому что это обозначает вопрос о цели и смысле разума и всей его системы[266]. Но тем, что «я» полагает самое себя, оно уже выходит за свои пределы, полагая этим самым деянием «не-я»; человек не только существует, но он еще существует как нечто определенное; таким путем к незамутненному чистому «я», чистому разуму присоединяются чувственные элементы, т. е. некоторая доля определения внешним фактором; самодавление, верность себе «чистого я», разума оказывается нарушенной и вырастает по убеждению Фихте то долженствование, которое одно представляет абсолютное веление, абсолютную цель и которое одно способно обосновать назначение человека и смысл его жизни. Это – веление быть верным самому себе, своей сокровенной сущности. «Последнее назначение всех конечных разумных существ, – говорит Фихте[267], – это абсолютное единство, постоянное тождество, полное согласие с самим собой». Но первоначальная сущность человека выражается не только в его разумности, но тем самым и в деянии, в активности, потому что быть по Фихте значит действовать, и элемент деяния входит в самое существо разума; поэтому абсолютное назначение человека он выражает также императивом «деяние ради деяния». Быть деятельным, действовать – вот та последняя цель, ради которой мы существуем, и Фихте призывает радоваться, что мы чувствуем в себе силу и что наша задача бесконечна. Только деятельность и деяние способны дать человеку ценность и смысл. Даже знать нужно только для того, чтобы действовать согласно приобретенному познанию[268]. Указание этой абсолютной цели Фихте варьирует различным образом – он ту же мысль выражает императивом: будь свободен и осуществляй всегда свою свободу, потому что в разум входит истинная свобода, а истинная свобода всегда разумна и мыслима только в деянии. Таким образом истинный смысл жизни личности в полном согласии с самим собой, с разумом, в свободе, в деянии, в том, чтобы из простого продукта природы сделаться свободным разумным существом. Самодовление и автономию личности Фихте подтверждает ссылкой на то, что в каждом человеке живет непреодолимое влечение к абсолютному, к абсолютной независимой самодеятельности, что нам невыносима мысль о нашем существовании только как средстве для чего-либо иного, для «не-я»[269].
Руководимое этим велением наше «я» борется по всей линии с царством не-я, отвоевывая у него пядь за пядью. Так в познании «я» обращает в «я» то, что было пределом для него; где создается знание, там рождается убеждение, а где родилось убеждение, там поселилось «я», самодеятельность, свобода, разум[270]. Познание является путем освобождения от отграничивающей власти «не-я» и обозначает все увеличивающееся бытие и мощь разума. Таким образом в конечном счете человек становится тем, чем он сам, свободно, собственной самодеятельностью себя сделает и непрерывно делает[271], потому что самое важное для Фихте не столько быть свободным, сколько становиться свободным. Отсюда из деятельного назначения человека и вытекла у Фихте дышащая огромным величием идея права каждого человека на труд и деятельность, потому что оно является первым условием обеспечения ему жизни и выполнения своего абсолютного назначения, это же повело к тому, что Фихте видел в косности и бездеятельности самое страшное зло и настоящую смерть.
Но назначение человека и смысл его жизни не исчерпываются деятельностью, направленной только на собственную личность. Как мы это отметили относительно познания, «я» необходимо бесконечно расширяет рамки своей деятельности, стремясь повсюду к единству с самим собой, стремясь всюду утвердить царство разума. Чтобы быть в согласии с собой, человек должен стремиться привести весь вне него лежащий мир в согласие со своими основными принципами, с разумностью, открывая этим безграничный космический простор своей деятельности[272]. Пусть эта цель недостижима и вечно останется недосягаемой для человека, если ему не суждено стать богом, это не мешает ей быть конечной целью человека, тем более что в бесконечности стремления лежит благодатный залог бесконечной деятельности. Таким образом человек находится на пути бесконечного приближения к этой цели, а если согласие с собой назвать совершенством, то истинное назначение человека и истинный смысл его жизни выразится в стремлении к бесконечному совершенствованию[273]. Эта миссия человека по отношению к внешнему миру, особенно к природе, приобретает тем большее значение, что для Фихте природа, не испытавшая на себе руку человека, «груба и дика» и только человек может освятить ее своей деятельностью, приобщив ее к светлому царству разума. Здесь основное веление выражается в мысли: мир должен стать для меня тем, чем является для меня мое тело[274], т. е. только средством, материалом для выявления разума. Идея создания единства решает собой и вопрос об обществе: и здесь цель и смысл в единстве всех людей; но едины они могут быть только в чисто разумном «ибо оно есть единственный общий им элемент»[275]. Таким образом высшая цель личности и в отношении себя, и в отношении других, и в отношении мира и природы – воцарение разума и бесконечное насаждение и расширение его власти. Только при последнем условии личность может пойти по пути выполнения своего высшего назначения и установления осмысленной жизни – тождества личности с самой собой.
Выражая в различных формах свое решение проблемы смысла жизни, Фихте в основу их всех положил формулу: действуй или, что то же, будь разумен, осуществляй то, чем ты являешься в свой сущности. Фихте использовал кантовское различие теоретического и практического разума в том смысле, что он в сущности просто отрицал, как внутренне противоречивое явление, непрактический разум. Понятие разума не этического и не действующего было настолько нелепым для Фихте, что он большею частью не считает нужным доказывать и пояснять эту сторону разума. С его точки зрения это то, что ярко обнаруживается в изначальном акте самосознания. Я нахожу самого себя как такового только практически, только в проявлении воли[276], т. е. уже в самом акте самосознания выступает как главная практическая действенная сторона; в ней и заключается сущность разумности. Фихте особенно глубоко, почти исключительно почувствовал в самосознании прежде всего и по преимуществу акт деяния. Смысл же этого акта деяния кроется в самополагании, в вечном тождестве с самим собой. «Характер разумности, – говорит Фихте[277], – состоит в том, что субъект деяния и предмет его представляют одно и то же»; в таком описании круг разума является исчерпанным. Но таково у него не только определение разума, но и «я», потому что само «я» есть также не что иное, как деяние, направленное на самое себя[278]. Действенная сущность разума особенно сильно подчеркивается тем, что Фихте отклоняет всякую мысль о пополнении идеи деяния идеей какого-нибудь субстрата. Такова разумность Фихте.
Таким образом завершающим понятием в решении вопроса о назначении человека и смысла его жизни явилось понятие разума, тождества с собой, со своей сущностью, верность самому себе, верность «я», – не расплывчатому и отягощенному эмпирическими, чувственными элементами, а чистому «я». Фихте поэтому поставил только точку над i, когда он, как верный ученик Канта, усмотрел в тождестве с собой не только разум, но и нравственность, чистую, истинную, потому что иной для Фихте и быть не может. То, что у Канта было формальным условием нравственности, автономия, свобода, здесь стало самой нравственностью. Это привело Фихте к этизации высшей цели, которая дает назначение и смысл жизни личности. Стремиться к тождеству с самим собой, быть свободным, активным, автономным и значит быть нравственным. Абсолютный смысл личности завершился у Фихте таким образом нравственной идеей. Он выдвинул в качестве последней цели, как для отдельной личности, так и для всего общества, задачу нравственного облагораживания всего человека[279]. Мое единственное назначение, по убеждению Фихте, вся цель моей жизни – это прислушиваться честно и беспристрастно к голосу своей совести. Без нее моя жизнь утрачивает истинный свой смысл и значение[280]. Она и только она оправдывает роль рассудка и существование силы. Только нравственность способна вырвать нас из власти всего отрицательного, из «ничто» и вознести нас над ним[281]. Но мы уже видели, что эта миссия личности быть верной самой себе выполнима только при распространении принципа ее на весь мир. Таким образом и он весь оказывается подчиненным нравственной задаче; цель не только осуществлять собой нравственность, но и вообще творить нравственный миропорядок. Высшая этическая цель стала таким образом не только личной, но тем самым и космической задачей, откуда льется свет смысла на всю вселенную.
Но тождество с собой, «я», разум есть нравственность, идея нравственного миропорядка, есть сущность всего, сам бог; в то же время все это дано личностью и через нее. Природа и мир – только материал для нравственной воли[282]. Стремление к господству над природой, желание подчинить ее своей воле в глазах Фихте должно было вполне оправдываться, тем более что только дух, только «я» деятельны, природа же обладает только одной силой – силой инерции[283]. На человеке лежит также печать природы, косность, основа зла в нем, корень его несвободы. Освобождаясь от нее, он ведет к спасению и мир, работая над ним. Миру он отводит то же место, чем является для меня мое тело[284]. Личности таким образом отводится коренная космическая роль. Все существенные изменения в моем мире абсолютно немыслимы без соответствующих деяний «я»[285]. На этой почве родилась та максима, которую Фихте предписывает[286] нашей воле: стремиться к неограниченному никакими иными законами, автономному верховному господству над всем. Парадоксальный оттенок такой абсолютизации нашей воли совершенно отпадает в глазах Фихте просто потому, что он этизировал понятие воли и для него сказать «воля» то же самое, что сказать «нравственная, чистая воля», сама нравственность – иной воли он не признает. Так стоит личность по ее сущности на грани двух миров, двух миропорядков, одного духовного, царства «я» и господства чистой воли, и другого чувственного, где я творю своим деянием. И Фихте рисует блестящую картину, как «я» схватывает высший вневременный мир и окончательно отряхает от ног своих прах чувственного мира и жизни. С этого момента воля личности становится живым источником истинной жизни и вечности[287].
Такая возвышенная роль личности стала у Фихте возможной потому, что ядро личности, сущность, «я» в самодеятельности, но в самодеятельности, способной безгранично, вечно расти; это – все возрастающая мощь духа, для которой путь намечен идеалом превращения мира «не-я» без остатка в мир «я». Абсолютная деятельность – нет нужды добавлять, с точки зрения Фихте, что речь идет о нравственной деятельности, так как в последнем выражении он видит плеоназм – вот единственный, по его убеждению, простой непосредственно присущий мне как таковому предикат[288]. Чистая деятельность или, правильнее, самодеятельность есть единственное абсолютное и единственное истинное, что может быть[289]. Этизировав всю свою систему, Фихте убежденно заявляет, что первоначально человек не дан ни чем, он ничто, он полагает сам себя своим свободным актом. Это значит, что человеческая природа находится по ту сторону добра и зла[290], она только становится той или иной, смотря по тому, обрел человек свободу, и воскрес он, или нет. Фихте возвышается здесь до мысли, безграничной по своему величию и открываемым ею перспективам: каждое животное, говорит он, есть то, что оно есть; только человек изначально – ничто. Тем, чем он должен быть, он должен сделаться… и сделаться сам собой, своей свободой[291]; я могу быть только тем, чем я себя сделаю сам, – таков глубоко жизненный и правдивый лозунг Фихте.
На этой высоте открылись сами собой, как логическое следствие, новые перспективы: человек-личность выступает перед нами в роли основной творческой мощи, созидателя сущности мира. Как мы уже видели, человек-личность не дан, а полагает сам себя, – его сущность не дана, а создается им самим; с точки зрения Фихте, у человека можно отнять все, не подвергая опасности его истинное достоинство, но только не самополагание, не самодеятельность, только не возможность совершенствования[292]. Но личность может совершенствоваться, только совершенствуя мир. Но так как для Фихте быть значит действовать, а действовать значит утверждать и творить нравственный миропорядок, в котором и лежит сущность мира, то ясно, что личность, совершенствуя себя и мир, творит не только свою, но и его сущность. Уже Кант был близок к этой мысли о космической творческой роли личности; это сказалось в том, что он усмотрел в рассудке законодателя природы и в личности, в ее воле единственный источник добра. Но только Фихте, абсолютировавший ясно этические мотивы, поднял в своей системе личность на высоту творца сущности. Отсюда Фихте вывел и оправдание культуры как системы средств и достижений подчинения естества «я» для установления согласия «я» с самим собой. Чувственность должна быть культивирована, в этом ее высшее и последнее назначение; этой цели и служит культура[293]. Тогда и чувственность будет приобщена к разуму и обретет истинную свою сущность, но обретет ее не сама, а через личность. И у Фихте и позже у Шеллинга познать приобрело поэтому значение «одухотворить». Только при таких условиях и можно было познать абсолют не как голое бытие, мощь, а как деятельность, вечную жизнь, свободу. На этой стадии философского развития жить значит действовать, творить, строить царство разума; это и значило жить в идее, понимая под этим сознательное участие в решении мировых задач, участие в бесконечном мировом творчестве. Жизнь в идее таким образом становится у Фихте «бесконечно нарастающим бытием». Так он и рисует нам нарастание систем бытия по направлению к полноте абсолюта: материальный мир, организованная жизнь, жизнь человечества, моральное, духовное царство личностей, полнота бытия при господстве «я» над всем, система интеллигенции как высшая. Все это у Фихте венчается понятием бога[294].
Но абсолютизм личности нашел ряд ограничений. То «я», которое по Фихте составляет ядро личности, есть сам разум.
Из всего смысла его системы становится ясным, что «я» Фихте было очень далеко от личного характера в узком смысле, его можно было бы назвать даже в известном смысле безличным. «Чистота» сблизила его с родом и отдалила от возможности индивидуалистической интерпретации. На этом пути императив Фихте уже открыл возможность того, что особенно сильно сказалось у него позже вплоть до уклона в мистицизм и стремления потопить свое я, личность в боге. На этом пути Фихте и пояснил, что цель индивида полагать свою жизнь «в цели рода или в идее», «забыть себя самого для других». Конкретная индивидуальная личность стала в такое положение, что по существу ее конкретная жизнь утратила свою самодовлеющую принципиальную ценность. Это особенно сильно выявилось в дальнейшем философском творчестве Фихте, когда у него обнаружилось сильное влияние Евангелия от Иоанна. На этой почве он придал решению проблемы назначения и смысла жизни личности новый оттенок. В эту пору он видит разумную, праведную жизнь в отказе от своей личной жизни, в полном отклонении стремления к удовольствию, в полном самопожертвовании для идеи, для «цели рода»[295]. Заложенное здесь обесценивание лично конкретной жизни в ее самодовлеющей ценности идет еще дальше, когда Фихте говорит, что пока человек хочет стать чем-то собственными своими силами, он не пробьется к истинной жизни и блаженству, потому что «всякое собственное бытие есть только небытие и ограничение истинного бытия»[296]. О пренебрежении к лично-конкретному, индивидуальному говорит и тот пример, к которому он прибегает. Фихте указывает на пример святой, возносящейся в религиозном экстазе женщины, восхищающей своей красотой ангелов: по его мнению, дело не в красоте ее тела, потому что фигура ее только медиум, только средство, среда прохождения для мысли о боге[297]. Только эта идея оживила тело и придала ему ограниченную, относительную ценность средства, самого по себе не обладающего ею.
Такой уклон в сторону приуменьшения конкретно-личного элемента должен был неизбежно создаться на почве постепенного сгущения «я» в понятии бога, уже не как нравственного миропорядка, как это было раньше, а в реальную, всеобщую, всемогущую и всеохватывающую власть, непокрывающуюся уже нравственным законом, а несущую в себе «высший, нам не известный закон», в преданности к которому и заключается религия. Нам остается только смолкнуть в смирении перед богом, почувствовать глубокую любовь к загоревшейся в нас искре его жизни[298]. Эта любовь и есть непосредственное явление и откровение бога. К нравственной цели, которая раньше решала вопрос о назначении и смысле жизни человека, теперь на почве все большего сгущения «я» в бога присоединился в качестве главенствующего, верховного религиозный мотив, окончательно уничтоживший самостоятельную ценность земной жизни. Истинный смысл жизни личности только в религиозно-нравственном стремлении к слиянию с вечным; наша жизнь осмыслена только постольку, поскольку мы живем «тоской по вечному»[299]; ибо блаженство возможно только в «доме отца». Только поскольку человек носит в своей душе любовь к вечному, он истинно живет, он становится богом: «Живая жизнь – это любовь»[300].
Естественно, на таком фоне Фихте не мог оставить в нетронутом прежнем виде завет осмысленной жизни. В то время как прежде он являлся страстным апологетом лозунга «деяние ради деяния», ради самодеятельности, свободы, абсолютным активистом, теперь у него слышится уже голос некоторой уравновешенности пожилого возраста: он видит истинный смысл жизни в достижении того блаженства, которое дается «покоем, устойчивостью и пребыванием в едином», в перенесении любви на одно[301]. Человек по его убеждению предназначен не для страданий и бедствия, но в душе его должны поселиться мир, покой и блаженство; надо только, чтобы он этого захотел[302]. Нет нужды пояснять, что понятия покоя, мира в устах прежнего Фихте были совершенно немыслимы. Блаженство он считал мыслимым отчасти уже в этой жизни, но оно дается не этой жизнью как таковой – наоборот, рассеяние на множественность ее сторон увлекает на ложный путь, – а любовью. Скажи мне, говорит Фихте, что ты любишь, к чему ты стремишься всей твоей душой, в чем ты надеешься найти истинное удовлетворение собой, и этим ты объяснишь истинный смысл и значение твоей жизни. И многие люди, по его мнению, не живут, потому что не любят[303]. В духе нового дополненного религиозно-нравственного лозунга жизни Фихте и рекомендует воспитывать человека. Питомец, воспитанный здоровым образом к чистой нравственности, должен в конце концов понять свою жизнь как вечное звено в цепи откровения божественной жизни и истину только в соприкосновении с богом. Таким образом воспитание в истинно-религиозном направлении есть последняя цель педагогики[304], но она есть только следствие из цели, дающей смысл и назначение жизни. Цель эта – религиозно-нравственная, слияние с богом в любви к нему.
Конечно, хотя Фихте выставил как последнюю цель покой и мир в боге, он этим только ослабил свой ранний абсолютный лично-индивидуальный активизм, но не отказался от него вообще. Любовь обязывает, мир не снизойдет на человека, если он этого не захочет, т. е. не проявит воли, деятельности. Он по-прежнему указывает на путь деятельности, тем более что полное достижение, в итоге которого может явиться покой, мыслимо только для бога. Высшее блаженство человек должен стремиться взять «собственными руками»[305]. Но теперь оптимизм Фихте, рисующего и сознающего мрачную картину современного ему человечества, строится на твердой вере в бога, в объективный разум, а не в одну только творческую силу личности. Здесь повторилось обычное явление, что нарастание значения объективной силы приводит к сужению и умалению личности как фактора. Фихте, насыщенный верой в бога, убежден, что, несмотря на царящую испорченность, добро победит в конечном итоге; тьма, говорит он, уже вступила на путь поражений, раз она вовлечена в борьбу со светом[306]. Он убежден, что хотя всего своего назначения мы не знаем, но оно величественно и гарантировано нам[307], порука за это, очевидно, в боге и любви к нему. Он убежден в том, что жизнь нарастает и что час моей смерти есть час рождения, как и в природе смерть и рождение есть только борьба жизни с самой собой, итог которой – более проясненная и углубленная жизнь[308].
В этом миропонимании Фихте сказалась вся его великая натура. Уже одно то, что он воскрешает фигуру философа как учителя жизни, и с редкой ясностью и категоричностью указывает как на основной вопрос всей философии, в частности всей своей системы, на проблему смысла жизни, является его необычайно ценным, жизненно важным делом. Он далее уже твердо намечает некоторые из устоев, на которых должно быть построено новое жизнепонимание, чтобы возможно было решить коренную загадку жизни и назначения человека. Сам резко выраженная личность, он поставил идею личности, «я» в чисто активистическом духе в центр своего построения, он блестяще утвердил тождество понятий жизни, бытия и деятельности, ясно заявил, что смысл жизни, каков бы он ни был, возможен только там, где есть деятельность, потому что только там есть жизнь, где есть цель и ценность, потому что только при их наличности мыслима деятельность – только та деятельность, которую Фихте считает вправе претендовать на имя деятельности; нравственная деятельность. Фихте дал своим миросозерцанием еще одно глубоко правдивое ценное указание, что деятельность должна быть неистощима, бесконечна; полное осуществление разума, нравственного миропорядка остается у него идеалом в cтрогом смысле этого слова, как бы кантовской регулятивной идеей. Наконец, самое главное, он подошел вплотную к идее творчества сущности, определив эту сущность как нравственную, – творчества нравственного миропорядка. И тем не менее Фихте, как и Кант, не дал удачного решения вопроса, потерпев неудачу в той же части проблемы, где и Кант, и, может быть, при более резко выявленной односторонности своей натуры, ярче вскрыв своей системой типичные недочеты своей точки зрения.
Мы видели в предыдущем изложении, как неизбежно с усилением и сгущением сверхличного, божественного фактора роль личности пошла на понижение и стал меркнуть блеск ее абсолютизма. Фихте был слишком пропитан активистическим духом, чтобы подорвать эту роль совсем, но подрыв уже обозначился в таких ярких симптомах, как появление понятий «покой, мир» и полагание конечной надежды на бога. При дальнейшем развитии этого принципа неизбежно было бы довершено вскрывшееся здесь начало, т. е. прошла бы дальнейшая объективизация абсолюта. Это лучше всего показало последующее развитие немецкого идеализма у Шеллинга и Гегеля, где личность оказалась окончательно обесцененной[309], и на место ее вступила неумолимая логика самораскрытия абсолюта и диалектического метода. Гегель, как известно, завершил свой взгляд мыслью, что индивиды таскают только каштаны из огня для объективного духа. Зерна этого плода были заложены уже в блестящей системе Фихте. Обращение же личности только в среду, в средство, неизбежно диктуемое усилением объективного фактора, подрывало возможность установления положительного смысла жизни личности, в котором вообще Фихте был глубоко убежден.
Но в этом лозунге, который провозгласил Фихте, вскрываются еще иные недочеты. Он по существу попадает в тот же заколдованный круг, в каком оказался Кант на почве своего этического формализма. Так как в любви к богу, сменившей прежнюю мысль, сгустился старый первый лозунг, то мы к нему и обратимся. Выставив категорическое веление тождества личности с самой собой, видя в этом разум, Фихте в конце концов пришел к установлению все того же веления верности нравственному закону, с каким мы встретились у Канта. Но быть нравственным, значит, по убеждению Фихте, быть верным самому себе, быть в согласии с собой, а быть в согласии с собой значит быть нравственным. Отыскивая плоть и кровь в лозунге Фихте, мы оказываемся на линии замкнутого круга, постоянно возвращающего нас к нашему исходному пункту.
Рядом с этим недостатком поселилась полная бесплотность его идеала. Увлекательная картина деятельности ради деятельности, выведшая нас на колею веления верности нашей совести, сказала нам, как идти, не указав, куда по существу должна быть направлена сама жизнь. Единственным исходом отсюда, как это ни странно прозвучит, является та мысль, против которой сам Фихте стал бы протестовать со всей присущей ему резкостью и энергией, что верховной целью является утверждение просто на просто возможно большей полноты жизни. Самое стремление к нравственности должно повести к повышению интенсивности жизни, к все большей интенсификации ее. Фихте и видел, как мы знаем, в «все нарастающей жизни» нечто божественное. Да, наконец, деятельность составляет сущность жизни. Таким образом жизнь заняла здесь роль верховной категории, и то, что Фихте заставлял философию и знание служить жизни, было не случайным явлением. Но бесплотность его идеала все-таки у него не исчезает, и мы здесь встречаемся с повторяющейся в истории попыткой объяснить и оправдать живое мертвым, конкретное отвлеченным. Нравственность есть характер, форма деяний, но сама деятельность нуждается в содержании. Пусть оно лежит в царстве относительного, но все-таки это не избавляет нас от необходимости наметить принцип его. Фихте этого не сделал, как нас покинул в этом отношении и Кант. Их сосредоточенность на едином, вечном, на чистом «я» свела весь мир личностей и вещей со всем их богатством и разнообразием к невероятной бедности, к полному обнищанию. Отвлеченный голый принцип поглотил все, что в действительности зовется жизнью, и рассеял ее в туман. Личность во всем ее богатом разнообразии утратила свою ценность. Фихте характерно закончил признанием[310], что все меняющееся, преходящее не существует, не обладает подлинным бытием. В этом в сущности сказывается значительно больший ригоризм, чем в требовании антагонизма для нравственности. Как будто в Платоне, Рафаэле, Шекспире, Гете, Толстом и т. д. была ценна только одна голая вечная идея, а не вся полнота их личности, появившейся и исчезнувшей. Жизнь вся таким образом обращается только в подставку, только в материал для одного, единого высшего принципа, сведшего все на роль только служебного средства. И здесь живому повелевается поклониться мертвому. Здесь также оправдались слова Гегеля, что в тиши мысли беднеет богатство природы и жизни, замирают ее весенние всходы, бледнеет игра; научная обработка все обращает в «сухие формы и бесформенные общности»[311]. Но такая мысль никогда в действительности не подойдет к жизни, потому что устранить живой мир и жизнь не значит понять и оправдать их. Нет этого и у Фихте, принесшего в жертву отвлеченному общему все конкретное, частное, живое. Это распространилось у него и на личность, потому что законна только идея, только род, общее. Безличность «разума я» Фихте выступает здесь в ярком свете.
Фихте мог бы по этому пути и не пойти. Его собственный лозунг, повелевающий личности развивать «все ее задатки полно и равномерно, поскольку ты можешь»[312], дышит глубокой правдой, но пламя его гасится всей теорией Фихте. И беда здесь заключается в абсолютном сужении, полной этизации «я» и вылущении из него всяких следов конкретной живой полноты, так что это «я» превратилось в абсолютно голый формальный этический принцип. Указание, что такой принцип становится неизбежным в интересах познания и построения системы, не спасает положения, тем более что Фихте сам провозгласил первенство практики и интересов жизни и оценил вопрос о смысле и назначении человека как высший и самый важный вопрос философии. Заявив, что критерий всякой теоретической истины сам не есть нечто теоретическое, Фихте остановился не на живом акте, а на отвлеченном принципе, идее его. А между тем он сам подчеркнул, что «я» не может сознавать себя без «не-я», вне эмпирических определений[313], особенно ценно и глубоко было заявление Фихте, что личность не может быть разумной и осуществлять разум, если не допустить как необходимое условие существование по крайней мере еще одной личности «вне нее», которая открывает впервые возможность свободы[314]. Вне сферы других личностей и мира «не – я» свобода и деятельность становятся безжизненными мумифицированными принципами, абсолютно не пригодными служить разрешению вопроса о назначении человека и смысле его жизни. Тут возникает все тот же вопрос, на котором терпит крушение не одна философия Фихте: как возможно говорить о желаниях, волевых устремлениях, о признании или непризнании со стороны того, что взято только как «чистое я», только как теоретическое начало, добытое крутым мучительным подъемом на высоту отвлеченной мысли. Здесь уже утверждение абсолютной свободы, самодеятельности, не только не обосновывается, но оно просто утрачивает всякий смысл. Быть абсолютным неограниченным самодержцем в абсолютном «ничто» – это печальная, совершенно уничтожительная картина. В такое положение попадает и Фихте: правильно отыскивая исходный пункт в деянии личности, он не сумел одолеть старой традиции отвлеченной философской мысли и принял плод рассудочной деятельности, рассеченную действительность за самостоятельные части, поставил нас между ними и заставил выбирать. Как ни подчеркивал Фихте деятельность, жизнь, волю, а все-таки и у него человеческий дух оказался сведенным в конце концов не только на интеллект, но даже на отвлеченный принцип, как на свою сущность. На этом фоне становится уже совершенным недоразумением, когда он, как и Кант, говорит, что каждый человек есть самоцель, потому что с точки зрения принципа есть только одно ценное, а «каждый» отличается от другого «каждого» живой полнотой свойств – тем, что абсолютно обесценено всей системой нашего философа. Фихте и добавил к кантовской мысли, что каждый человек есть цель, но как средство для осуществления разума[315]. Утратив жизненную полноту исходного пункта, Фихте характерно оказался в положении вожака к той цели, достижение которой сулит и ему, и нам очень мало привлекательного – полное обнищание мира и растворение его в отвлеченный формальный принцип: если бы все личности стали совершенны, они «были бы все совершенно одинаковы друг с другом», они совпали бы и превратились бы в «одно, один единый субъект»[316]. Но то единое, которое способно удовлетворить личность и дать смысл, есть не единство мертвой тишины и вылущенности, а единство живого многообразия, вечно нового и вечно растущего. Задача для нас будет решена тогда, когда единство и множество, бесконечность и достижение нам удастся совместить без противоречий. Единство это не должно создаваться за счет гибели богатства и разнообразия личностей. Прав здесь не фихтевский принцип, а те его мысли, где он многообразие называет великим благом, где он говорит, что он не знает более возвышенной идеи, чем идея расчлененного и многообразного воздействия человечества на самое себя, идея вечной жизни и стремления и т. д.[317] Таким образом у Фихте с его ригористическим единым идеалом получилось невероятное положение, что самое лучшее, самое «возвышенное», как говорит он сам, это не высшая цель, а несовершенная стадия. Иначе получиться и не могло, потому что гармония не унисон, а составляется из многообразия звуков. Отвлеченный принцип, как мертвое, не осилил жизни, и у самого Фихте его теоретическое, безличное «я» оказалось побежденным его живой личностью. Для сохранения равновесия у него человек должен жить в сознании вечной трагедии, что он должен осуществить разум и никогда не может этого достичь. Но тогда бессмысленны все его стремления, не говоря уже о том, что они психологически невозможны, так как сознание недостижимости цели уничтожает волю к ней. Тут вскрылся тот же недостаток, что и у Канта. Оба они, особенно Фихте, заставляют жить как будто в ожидании жизни. Если вспомнить, что по его учению разум находится в постоянной бесконечной войне с природой и мы, если бы было возможно ее окончание и наша победа, стали бы богами[318], то ясно, что Фихте должен был бы видеть в возвышении человека до бога очень нежелательное, печальное явление. Таков итог единой бесконечной высшей цели, остающейся вечно недостижимой, итог той самой бесконечности, которую Гегель совершенно справедливо называл «дурной». Но мы знаем, что здесь не «бог» осужден и обесценен, а побеждено мертвое живым, отвлеченное – конкретным, полным.
Но и высший принцип взят у Фихте, как мы уже упомянули раньше, узко, только как этический принцип. Конечно, этике в вопросе о назначении и смысле жизни человека должно быть уделено основное место, так как именно она трактует вопросы поведения и направления деятельности с точки зрения их основной, нравственной ценности. Но ею вопрос вовсе не исчерпывается; жизнь, деятельность, личность в действительности значительно полнее, и на философа, звавшего к жизни и яркого как личность, ложилось особое обязательство учесть эту полноту. Фихте этого не сделал и не мог дать, потому что этический принцип для этого слишком узок. Этим и объясняется то, что Фихте пренебрег, например, в своей системе эстетической стороной как самодовлеющей ценностью и не учел своеобразной ценности жизни личности и природы как таковых. Ригоризм сурового моралиста Фихте сильно почувствовал уже Шеллинг, противопоставив ему реабилитацию природы, а позже вместе с романтиками и эстетической жизни. Какова узость Фихте в этом отношении, это показывает полная этизация понятия бога в первую половину его творчества. Убеждение его, что бытие «безусловно просто», что «есть только одно бытие»[319], также вполне гармонирует со сведением всего к религиозно-нравственному принципу; можно даже думать, что Фихте утверждает единство и простоту из-за этического мотива, из-за единства и простоты нравственного закона, заставившего его пренебречь смыслом единства, охватывающего сложность и упустившего богатое разнообразие мира и личность, не вмещающееся в узкие рамки нравственности, на положение простого аксессуара. У Фихте в сущности был прямой выход к признанию всего этого разнообразия в его ценности: если бы он взял шире понятие нравственности, он неизбежно натолкнулся бы не только на сверхличный нравственный принцип, но и на обязанности по отношению к самому себе, а здесь открылась бы возможность пройти ко всей полноте личности. Но этого нет: безличный отвлеченный принцип привел его к обезличению мира.
Таким образом Фихте, как и Кант, показал принципиальное бессилие изолированного нравственного принципа решить проблему назначения человека и смысла его жизни. Этика долга, в частности, требует просто безусловного следования и не допускает дальнейших вопросов; вопрос же о смысле требует, наоборот, не только велений, но и истолкования, и обоснования, т. е. этика не покрывает его. Этика долга одела жизнь в рубище, приказала жить с насупленными бровями и наморщенным лбом сурового борца за правду. Она обратила жизнь в мучительную, подвижническую колею, чуждую радостей иных, кроме морального удовлетворения, и по существу во многом совершенно обесценившую жизнь. Если бы мы поняли жизнь не только как средство, но отчасти и как самоценность, мы, например, могли бы понять, почему самоубийство всесторонне отрицательное явление. Фихте же с его этической односторонностью и ригоризмом последовательно признает этот акт недопустимым потому, что я исполнитель нравственного закона, и самоубийство является просто уклонением от своего долга[320]. Человек, значит, должен жить, как мученик долга, даже если жизнь для него лично опустела, а при точке зрения Канта и Фихте она и без того сурова и не дышит солнцем, теплом и индивидуальной привлекательностью. Фихте прямо указывает, что нравственный императив никогда непосредственно не требует жизни ради жизни; жизнь обосновывается только тем, что императив требует поведения, поступков, а они немыслимы без жизни[321]. Если правильно говорит король Лир, что пока человек сводится только на то, что ему нужно, он все еще животное, то вне всякого сомнения правильно и то, что когда человек сводится на один долг и чистую нравственность, он уже перестает быть человеком. Жизнь обращается, поскольку она осмыслена, в совершенно непосильное для человека мученичество.
Этика долга, как и вообще один этический принцип, бессильна справиться со всей полнотою жизни и личности. Суровый взгляд моралиста не видит других сторон их, в которых также может поселиться божественная сила. В самом деле. Разве Платон или Толстой как художники или чистые мыслители должны померкнуть и исчезнуть в свете Платона или Толстого-нравоучителей? Неужели рядом с Сократом, Кантом и Фихте нет самостоятельного места Бетховену, Рафаэлю или Пушкину? Божественное пламя, загорающееся в душе человека, когда на него снисходит вдохновение и творческое стремление, есть вечное, не менее ценное, благодатное состояние, чем религиозно-нравственный экстаз и возвышение. Путь в истинное царство божие не может быть один, одна нравственная дорога; это сужение недопустимо просто по существу понятия бога, понятия всеобъемлющей идеальной полноты, путей к нему много. Пусть те, кто замкнулся в традиционный заколдованный нравственный круг, никогда не забывают следующего символического явления: обращение к богу, речь о нем и чувство его выражалось и выражается не только в храме и молитве, но они издавна пользовались пением, музыкой, живописью, архитектурой, пластикой, мыслью и т. д. Этика мученичества проблемы жизни не решила и никогда не решит; наоборот, она приводит под лозунгом «оправдания» к полному отрицанию ее самостоятельной ценности и смысла.
Положение мало меняется от того, что Фихте провозгласил примат жизни, что он все завершает идеей «все нарастающей жизни», что жизнь выступает у него в роли верховной категории. Весь вопрос сводится к тому, что понимать под жизнью. И вот тут и обнаруживается, что Фихте абсолютный моралист, этизировал и это понятие: он имеет в виду истинную жизнь и ради нее и попускается живой полнотой действительной жизни. Но в общем здесь, уже у Фихте, слышится голос той «хитрости разума», о которой говорит позже Гегель: во имя разума сохраняется жизнь и обнаруживается стремление к все большему расширению и углублению бытия. Фихте не только не дал оправдания жизни, но он повторил старый шаг: вместо объяснения дается устранение. Избежать этого можно только в том случае, если мы вступим на дорогу широкой философии жизни, т. е. если философия будет считаться по возможности с действительной полнотой ее, а не ютиться духовно в уголке мира, в ученом кабинете, в келье отшельника или на троне мученика долга. Волю человека надо понимать значительно шире: не умерщвленная отвлеченными построениями и не задавленная грубо земными интересами, она может быть направлена не только на добро и святость, но и на красоту, и на истину, и на радость, и на жизнь и т. д.
VII. ОПРАВДАНИЕ ЖИЗНИ В ФИЛОСОФИИ ПАНЛОГИЗМА (ГЕГЕЛЬ)
Интересную и поучительную в своем крушении попытку охватить всю полноту действительности и решить проблему смысла жизни мы находим в философии Гегеля, в которой панлогизм сочетался с безграничным оптимизмом и окутался при этом дымкой своеобразного фатализма. Система Гегеля выступила в мантии настоящего пророческого откровения в глазах целой эпохи, и появление ее должно было вызвать тем больший энтузиазм, что помимо ее блестящего логического построения и цельности она, казалось, удачно решала проблему смысла жизни в безусловно положительном смысле; она разрубила узел взаимоотношения бесконечного и конечного, монизма и дуализма, земли и неба, решила вопрос на почве признания полноты идеала, примирила конкретное и отвлеченное, вечное и исторически текучее и т. д. Ненависть Шопенгауэра к Гегелю и его «философии абсолютной нелепости», как гневно назвал гегелевское учение этот пессимист, объяснялась не только личной неудачей, постигшей Шопенгауэра в Берлинском университете, сконцентрировавшем все внимание на Гегеле и не оценившем в ту пору великого пессимиста, но в корне своем диаметрально противоположным Шопенгауэру безгранично оптимистическим характером философии Гегеля. Их можно было бы рассматривать как прямых антиподов почти во всех существенных отношениях. Если Шопенгауэру весь ход мира рисовался по основному его замыслу бесцельными и бессмысленными переливами все одного и того же безрассудного темного начала, то Гегель отлил свой панлогизм в своеобразный, ярко оптимистический слиток телеологии и механизма: хотя мир у него движется противоречием, тем не менее он неуклонно и все подымаясь идет твердо по пути постоянной полноты и законченности. Его система может быть понята только как система бесконечно обогащающихся ценностей; тем больше надежд могла она возбудить на положительное решение проблемы смысла жизни.
В самом деле. Вл. Соловьев дал очень рельефный силлогизм, в котором он выразил суть философии Гегеля[322]: мы мыслим сущее, но мы мыслим только понятия; следовательно, сущее суть понятия. Отсюда, из признания понятий сущностью мира ясно и последовательно вытекало утверждение, что законы развития понятий выражают законы развития мира; логика стала и метафизикой или онтологией; диалектический метод, по которому развиваются понятия, превратился в настоящего мага и волшебника философии абсолютного духа. Мы не станем здесь излагать общеизвестные черты этого учения, а возьмем только те его стороны, которые непосредственно связаны с интересующим нас вопросом. Общие основы системы Гегеля и особенно диалектический метод привели к целому ряду выводов, налагающих решающий отпечаток на все его учение и проблему личности и смысла жизни[323].
Весь комплекс принципов вытекает у Гегеля из понятия абсолютной идеи. На первом месте стоит принцип развития, который Гегель в нескольких местах подчеркивает как составную часть идеи. В абсолютной идее даны все условия для бесконечного развития, так как она сама является и субъектом, и целью, и средством развития: система чистых понятий дает субъект развития; бесконечная конкретизация есть цель, а основные принципы – средства. «Истинное есть таким образом вакхическое опьянение, при котором нет ни одного неопьяненного члена, а так как каждый из них, обособляясь, в то же время непосредственно растворяется, то оно есть также прозрачный покой»[324]. Иными словами, здесь мы встречаемся с «хитростью разума», который, пребывая как целое в своем ничем не нарушимом покое, пожинает плоды того, что дает служба составляющих его частей.
Принцип развития нашел у Гегеля необходимое дополнение в дальнейшем определении, которое касается другой стороны абсолютной идеи и заключается в принципе опосредствования. Без этого пояснения нельзя было бы говорить о разумном движении: оно превратилось бы в простую бессмысленную смену, так как голый принцип развития далеко еще не гарантирует того, что переход от одного этапа к другому будет представлять разумный прогресс, который предполагает известную органическую связь между ними или посредствующее звено. А так как во втором этапе выявлено только то, что в неразвитом состоянии, в виде возможности, находилось уже в первом, то таким образом получается при помощи посредствующего звена цепь, сомкнутая в круг. Между первым и последним звеном разница только в том, что первое – только возможность, второе же – осуществленная возможность, «опосредственная непосредственность». Гегель так высоко ценил этот принцип, что прохождение через этот путь считал необходимым условием всего истинного. Даже высшие ценности искусства, религии и философии не составляют для Гегеля исключения из этого всеобъемлющего правила. Этим и объясняется то, что Гегель отвел такое почетное место основной форме умозаключения, силлогизму, как наиболее совершенной форме опосредствования. «Все есть умозаключение»[325].
Определив посредствующее звено как антитезис, Гегель наметил этим основную идею диалектического метода, в котором надо видеть, по собственному выражению философа, «душу и субстанцию» абсолютной идеи. «Что бы то ни было, – говорит он[326], – только в том случае становится понятным и известным в своей истине, если оно совершенно подчинено методу», а что Гегель под общим словом «метод» имеет в виду здесь диалектический метод, это само собой разумеется. Значение его в глазах философа было настолько велико, что знание «противоположности в единстве и единства в противоположности», т. е. знание, построенное на диалектическом методе, он называет абсолютным знанием[327]. Та же идея побудила Гегеля сказать, что двигатель мира – это противоречие[328]; чем был для него диалектический метод, можно видеть лучше всего из того, что в его изложении даже высшая христианская догма Св. Троицы является, хотя и в самой идеальной, но тем не менее диалектической форме.
Центральным положением диалектического метода определилось и понимание абсолютного духа и его отношения ко всему мировому процессу. Гегель решительно заявил, что абсолютное не может быть первым, непосредственным, оно есть главным образом результат развития[329], и абсолютный дух является высшей ценностью только как результат развития, т. е. после того как он покинул первую ступень, свое «в себе бытие», прошел через отрицание самого себя и сделался «в себе и для себя». В этом смысле и природа стоит не ниже, а выше, чем абсолютная идея, потому что природа представляет собою приближение к синтезу, к абсолютному духу. Все это приводит к выводу, что развитие мира в гегелевском понимании превращается в развитие системы ценностей. Различение высшего и низшего обосновано самой сущностью диалектического метода, а так как в системе панлогизма все определяется этим методом, то ясно, что вся система и определяется как система ценностей. Для неценного в ней нет места.
Та же сущность диалектического развития ведет за собой еще одно следствие, которое Гегель последовательно и вывел. Из прохождения тезиса в своем самораскрытии через антитезис получается синтез, который стоит выше их обоих, но это возвышение дает не покой, а только еще более интенсивный импульс к развитию. Противоречие, движущее мир, заявляет свои права, открывая в достигнутом единстве новые, друг друга исключающие моменты, и дает этим повод к продолжению развития. Синтез, становящийся сам новым тезисом, идет диалектически дальше к более высокому синтезу, который в свою очередь тоже познает на себе силу противоречия и стремится к еще более высокому единству и т. п. Таким образом не только целое развитие представляет развитие ценностей, но каждый отдельный шаг вперед обозначает подъем по лестнице ценностей, все увеличивающийся прогресс от несовершенного к более совершенному[330]. Вот почему Гегель говорит: «Добро, абсолютное добро совершается в мире вечно. Дух, пожирая покров своего существования, не переходит просто в другой момент, а выходит из него возвышенным, проясненным, чистым духом»[331]. Диалектическим моментом и объясняется то, что действительно существующее именно в силу своего бытия становится ценным. Итак, философию Гегеля надо рассматривать как систему все повышающихся, обладающих бытием ценностей, так как диалектическая сущность побудила его решительно отклонить долженствование. Как радикально проводится момент ценностей, это видно из того, что и природа не составляет исключения из общего правила, и она, как говорит Гегель, «не покинута богом»[332].
К ряду принципов, вытекающих из понятия абсолютной идеи, принадлежит идея сохранения всех ценностей, возникших в диалектическом развитии, и их бесконечного обогащения. Эти грандиозные принципы также прямые законные детища диалектического метода. В самом деле. За каждым открытием противоречия в тезисе и антитезисе следует отрицание, в первом случае тезиса, во втором – антитезиса, так называемое абсолютное отрицание; в итоге его получается положительный результат. Как это было и с понятием «ничто» в логике, это отрицание нельзя смешивать с отрицанием в обыденном смысле слова. Для характеристики этого процесса Гегель взял труднопереводимое на русский язык слово «aufheben», которое лучше всего описывает этот процесс. Оно обозначает в немецком языке уничтожить, поднимать и сохранять. Все эти значения Гегель вложил в это понятие в своем словоупотреблении. У него это слово называет следующий процесс: то, что уничтожается, отрицается как самостоятельная величина, но не утрачивается совсем, а подымается затем до высшего нечто и сохраняется в нем в дальнейшем развитии. Так шаг за шагом движется развитие абсолютной идеи, переходя все к новому и в то же время ничего не утрачивая.
Развитие идет таким образом вперед, а «моменты, которые, по-видимому, находятся позади духа, кроются в его настоящей глубине»[333]. То, что каким-нибудь образом было посвящено духу, остается навсегда священным. Это одна из тех основных мыслей Гегеля, которые он часто повторяет и поясняет нередко красивыми образами[334]. «Память духа сохраняет все». Традиция, которая, по выражению Гердера, «сплетает священную цепь…», не неподвижное каменное изваяние, а жива и прибывает, как могучий поток, который тем более увеличивается, чем далее он подвинулся от своих истоков[335]. В этих словах уже высказывается мысль о бесконечном обогащении диалектического развития вновь возникающими ценностями. «Общее, – говорит Гегель в своей большой «Логике[336]», – при своем диалектическом движении вперед не только ничего не теряет и не оставляет позади себя, но несет с собой все добытое и обогащается и сгущается в себе»[337].
Несколько выше мы назвали ценности гегелевской системы обладающими бытием в отличие от ценностей с характером долженствования. Мы указали при этом на то, что система Гегеля не может собственно признавать никакого долженствования. Чтобы обосновать наше утверждение, мы обращаемся теперь к вопросу о принципе диалектического движения вперед, чтобы затем установить отношение ценностей в системе друг к другу и к их целому.
Гегель решительно отказывается в той или иной форме говорить о будущем или о положительных идеалах. Философия, по его убеждению, преследует единственную цель, а именно: познание того, что есть, «так как она есть постижение разумного, т. е. именно поэтому понимание настоящего и действительного, а не предположение чего-то не в сем мире находящегося, что должно «быть бог знает где»[338]. Такое отрицательное отношение к желанию познать что-то, что только должно быть, является у Гегеля только последовательным выводом из сущности диалектического метода, который при строго последовательном применении доказывает больше и налагает большие обязательства, чем это могло быть желательно Гегелю. Воля духа не выступает в системе непосредственно в качестве ее двигательного импульса; Гегель дает ей непосредственно проявить свою силу в деталях развития только там, где одно противоречие для понимания дела оказывается недостаточным. Но это уже несогласно с сущностью диалектического метода.
Дух представляет целое, которое, будучи только логическим prius’ом[339], есть само лишь результат развития. Дух как таковой не знает становления; он пользуется, как мы уже сказали, услугами своих элементов – в этом проявляется «хитрость разума», трезвый покой целого, у которого нет ни одного неопьяненного члена[340]. В развитии, следовательно, мы имеем дело сначала только с моментами духа, и только в результате выступает сам дух. «В понятии, которое знает себя как понятие моменты выступают раньше, чем исполненное целое, становление которого составляет движение вышеупомянутых моментов»[341].
Но где нужно искать двигательную силу этих моментов? Ответ на этот вопрос был дан нами уже раньше. Силу эту надо искать не в долженствовании, не в представлении какого-нибудь положительного идеала или стремления к нему – то, что движет мир, есть противоречие[342]. Оно и только оно принуждает тезис к развитию, и последовательность требует от Гегеля, чтобы он и по отношению к конечному говорил только о необходимости (по аналогии с немецким müssen), а не долженствовании (sollen), как он это делает, противореча самому себе[343]. В диалектическом же методе противоречие дает повод только к отрицанию тезиса, точно так же, как и синтез есть продукт отрицания, хотя и он называется абсолютным. Таким образом диалектическое развитие идет от одного отрицания противоречия к констатированию нового, за которым следует новое отрицание и т. д. Все время двигательной силой является противоречие. Ибо диалектический метод заключает в себе «необходимость связи» и единства в синтезе, но в то же время и «имманентное возникновение различий»[344] в единстве. В этом именно и выражается противоречие, которое обусловливает бесконечность диалектического развития. Если мы, например, спросим Гегеля, почему погиб греческий народ, горячим поклонником которого был наш философ, то его философия истории укажет нам на целый ряд противоречий в жизни этого народа, которые сделали гибель Греции и победу римлян неизбежными. Правда, в общем противоречие заключается в том, что бытие не соответствует понятию, а меж тем оно должно быть согласовано с ним. Таким образом понятия как бы превращаются в цели; но ведь понятие само и есть то, что развивается. Таким образом эти цели представляют не положительные идеалы, а только «нужду» избавиться от противоречия. Как ни странно, этот идеализм, который еще при этом носит ярко выраженный историко-генетический характер, не признает и, что важнее всего, не может признавать никаких идеалов, никаких ценностей, которые только должны быть. Философия Гегеля есть система ценностей, обладающих бытием. Ибо «истинный идеал не должен быть, а он есть в действительности»[345], т. е. истинный идеал действует, проявляется и, следовательно, есть. Только совокупность, целое, которое при всей деятельности его моментов остается вечно в покое и представляет единственную, действительную бесконечность, – только дух знает о несоответствии бытия понятию. Моменты же развиваются только их противоречиями. Им кажется, правда, в той области, с которой нас знакомит философия истории, что они действуют по собственной инициативе и стремятся к целям, которые они сами поставили себе; но это только кажется так. На самом деле они исполняют только то, чего хочет от них дух[346]. Это ведет нас к вопросу об отношении ценностей к их целому и друг к другу, к понятиям ценности-совокупности и ценности-индивида[347]. Понятие ценности-индивида обозначает нечто такое, что признается ценным и в этой индивидуальной особенности, как единственное в своем роде; и как таковое оно не требует дальнейшего объяснения. Понятие ценности-совокупности обозначает противоположность к ценности-общности. В то время как последнее понятие называет общее всем данным предметам ценное, причем все индивидуальное, особенное остается совершенно в стороне, ценность-совокупность или, как ее называют, ценность-целое представляет сумму индивидуальных ценностей, строго отграниченных друг от друга, самостоятельных, или же она будет представлять их органическое единство[348].
Гегелевская система представляет систему индивидуальных ценностей, как это видно уже из принципа сохранения всех ценностей. Все понятия сохраняются как таковые; они входят в высшие понятия со всей своей особенностью, в качестве этих отдельных стадий развития духа, вследствие чего нарождается постепенно растущая ценность-совокупность. Гегель сравнивает ее с могучим потоком, который становится тем сильнее, чем дальше он удаляется от своих истоков. Абсолютная идея является такой ценностью-совокупностью в ее чистейшем виде. Она есть, как мы знаем, система чистых понятий, из которых каждое занимает в ней в качестве данного определенного понятия свое собственное, только ему одному присущее место, указанное ему в иерархической лестнице сообразно его роли в диалектическом развитии. Ни одна из ценностей не может быть удалена со своего места, так как каждая из них представляет необходимое и, что самое важное, незаменимое звено в «священной» диалектической цепи. Ни одна ценность не может быть заменена другой потому, что философия Гегеля, как мы показали выше, есть система постепенно повышающихся ценностей: в диалектическом развитии нет и не может быть двух членов, равных друг другу по ценности.
Этим выясняется отношение ценностей друг к другу. Их незаменимость обусловливается их своеобразным положением в системе. А так как все они суть члены одной и той же совокупности, то они однородны. Подчиненное положение одной ценности по отношению к другой нельзя понимать так, как будто бы низшие из них служат средствами для высших. Ибо, хотя низшая ступень и является необходимым предположением высшей, но это доказывает только ее необходимость; в качестве средства она не могла бы войти в ценность-совокупность; в таком случае во всей системе пришлось бы признать только одну высшую ценность, все остальное опустилось бы до степени средств. Но ведь высшую-то ценность представляет у Гегеля не что иное, как ценность-совокупность; а последняя предполагает, само собой разумеется, существование ее членов не как средств, а как ценностей индивидов. Низшая ценность не может быть понята только как средство, так как она сама входит в высшую и содержится в ней, таким образом служит не только высшей ценности, ценности-совокупности, но и самой себе. А в последнем случае нет никакого смысла видеть в них средства.
В каком отношении стоят ценности к их целому, к ценности-совокупности?
Нам едва ли нужно особо упоминать, что ценность-совокупность абсолютно индивидуальна и единственна в своем роде, так как ценности, которые являются ее членами, индивидуальны и представляют единственно действительное. Она есть не что иное, как гегелевский «самосознательный» дух, который поэтому называется в «Феноменологии духа»[349] «общий индивидуум». Гегель неоднократно говорит о том, что дух выигрывает от труда своих членов, а это обозначает не что иное, как то, что возникшие в диалектическом развитии ценности принадлежат духу. Все предшествующие ценности вбираются последующими. Таким образом все ценности становятся в непосредственную связь с их целым, с духом и приобретают таким путем объективность. Этим они освобождаются от власти времени, становятся вечными, точнее – они вечно сохраняют свою силу. В этом и заключается их «покой». Все находится в «движении», все есть «процесс, но в нем покой»[350].
Но ценности приобретают вечность, как это ясно видно из всего сказанного, только через ценность-совокупность; этим совершенно уничтожается всякая самостоятельность этих ценностей. Прибегая к примеру, мы сказали бы, что они не организмы, они только члены организма. В качестве последних они являются незаменимыми ценностями, но только до тех пор, пока они принадлежат к целому. Отделите руку от тела человека, для которого она имеет незаменимую ценность, и она превратится в лишенный всякой ценности гнилой кусок мяса и костей. Только как члены ценности-совокупности, только через нее они сохраняют свою ценность. «Ибо только то, что сделано от него (бога), имеет действительность: то, что несогласно с ним, есть только гнилое существование[351]. Этот отдельный[352] член имеет значение только недействительной тени»[353]. Еще определеннее высказывается Гегель в вопросе об отношении между человеком и духом в той стадии, которая приняла конкретный образ в государстве. «Далее, необходимо знать, что всю ценность, какую имеет человек, всю духовную действительность он имеет через государство»[354]. На этом мы заканчиваем наш анализ понятия субстанции абсолютного духа как абсолютной идеи. Этот анализ освещает также и второе определение духа как разума, так что мы можем ограничиться в данном случае кратким изложением содержания этого понятия.
Оба определения духа как абсолютной идеи и как разума касаются не разных сторон духа, а их должно рассматривать как синонимы, которые Гегель часто употреблял один вместо другого[355]. Из этого равенства разума и идеи получаются соответствующие следствия, которые имеют громадное значение для понимания гегелевской философии.
Прежде всего отсюда вытекает, что гегелевское понятие разума мы не должны отождествлять с логосом в собственном смысле этого слова; в последнем случае мы не сделали бы прямой ошибки, но понятие разума оказалось бы суженным, как это легко увидеть из всего предыдущего изложения. Поэтому и имя панлогизма, которым обыкновенно характеризуют систему Гегеля, кажется нам формально верным, так как оно основано на гегелевском выражении «разум, логос»; но по содержанию это название оказывается недостаточным, потому что в нем совершенно отсутствует одна из самых существенных и притом своеобразных сторон системы. Оно обращает внимание только на теоретическую, чисто логическую основу системы и оставляет совершенно в стороне мысль о практическом моменте, об оценивании, которое у Гегеля неразрывно связано с чисто логическим характером системы. А в этом оценивании и лежит центр тяжести его философии.
Мы показали в нашем изложении, что для Гегеля нет ничего готового, что не испытало бы на себе силу категории становления. А так как наше познание оказывается бессильным именно перед такими готовыми субъектами, то вся область бытия освобождается совершенно от иррационального элемента. Если бы было возможно такого рода «несделавшееся», готовое бытие, оно было бы нам непонятно и казалось бы случайным[356]. В том, что все бытие проходит через становление, открывается разум… Понятность есть становление, и как становление она есть разумность[357]. Но не только это одно дает повод к заключению, что разум представляет основу мира. Становление у Гегеля, как мы помним, зиждется на диалектической основе. Оно представляет поэтому не бессмысленное изменение, не просто переход одного в другое без всякого толка и смысла, а строго упорядоченное развитие того, что находилось «в-себе-бытии» абсолютной идеи. Оно есть целесообразное, полное смысла развитие, результатом которого является постоянное нарастание вечных непреходящих и незаменимых ценностей, причем самый порядок последних, их возникновение и связь заставляют предполагать у мирового развития единую основу. Ни одна ценность не теряется; все ценное находит себе соответствующее место в системе, в которой изложено истинное бытие, Диалектическое развитие содержит в себе и силу к продуцированию все повышающихся ценностей, которые с логической необходимостью переходят из своего «в-себе-бытия» в действительность. Диалектический характер понятия, а совместно с ним и всего истинного дает ему развиться и перейти в действительность. В этом выражается разум – то, что должно быть и есть[358]. «Добро совершается вечно в мире, и в этом виден разум».
Таким образом разум познается, как «роза в кресте настоящего»[359], и таким путем достигается «примирение» с жизнью и действительностью. Только в том случае, если разум обладает характером оценки, он может принести то «примирение» и «оправдание», которого так искал Гегель. Только такой характер разума в состоянии воздать действительности должное, «оправдать» ее. Ибо в чем же ином должно заключаться это оправдание, как не в признании того, что мы хотим оправдать. Логическая необходимость может нас принудить, так как она говорит нам, что вечно не могло быть иначе, но она одна никогда не может освободить нас от мучительной мысли, что это нечто должно было бы быть иначе. По Гегелю это освобождение дает божественный разум, как его понимает его система. Признать можно только то, что стоит в положительном отношении к ценностям, т. е. ценность. Действительность получает эту ценность от разума, характер которого в синтезе теоретического и практического.
Кажется странным, что наш философ, ставший своего рода «абстрактным» пугалом, именно отвлеченное считал за низшее, что он попытался дать грандиозное оправдание жизни, и тем не менее это не подлежит сомнению. Он хотел положить конец вечному спору между философией и жизнью. И разум должен был служить основой, которая должна была сделать мир между ними возможным. Он есть, по учению Гегеля, единство самосознания и действительности, субъекта и объекта: самосознание открывает в становлении свою тождественность с действительностью, т. e. познает в ней самое себя и становится таким образом разумом[360]. «Разум есть уверенность сознания, что оно есть вся реальность»[361]. Действительность есть, следовательно, осуществленный и постоянно осуществляющийся разум. Между миром ценности и миром действительности нет больше отчуждения. «Что разумно, то действительно, а что действительно, то разумно»[362]. Жизнь оказалась оправданной во всей ее широте.
Но что действительно? Что такой вопрос вполне законен, доказывает в достаточной мере история послегегелевской философии, в которой долгое время бушевала страстная борьба из-за этой формулы; сплошь и рядом выставлялись диаметрально противоположные интерпретации. Что значит «разумный», это мы уже знаем, слово «действительный» требует точного определения.
В «Феноменологии духа» есть определение действительного: «Только духовное – действительно»[363]. Но это разрешение вопроса едва ли удовлетворит кого-нибудь по той простой причине, что мы меряем гегелевскую действительность масштабом действительности в обыкновенном смысле слова. Мы формулируем этот вопрос поэтому точнее так: совпадает ли действительность в философии Гегеля с нашей непосредственной переживаемой действительностью или они различны. Если нет, то что надо понимать тогда под словом «действительность»?
Что действительность Гегеля не совпадает просто с непосредственно переживаемым миром, это мы коротко упомянули уже. Здесь возникает вопрос, не исключает ли гегелевская метафизика, как это утверждают вообще относительно метафизики[364], всякого принципа отбора, который один только может дать возможность распознать существенное от несущественного, действительное, которое есть для Гегеля – ценное, от действительного и неценного. Этот вопрос касается не только возможности истории в системе Гегеля, но и затрагивает жизненный нерв его философии, так как вся система проникнута историко-генетическим характером. «Что мы есть, то есть мы исторически», говорит Гегель[365] и характеризует этим основной характер своей философии.
В самом деле. Если бы Гегель объявил какую-нибудь трансцендентную сущность за истинную реальность, а всю эмпирическую действительность за ее явление, то в таком случае вся эмпирическая действительность стала бы существенной или несущественной, смотря по оптимистическому или пессимистическому характеру системы. Необходимым предположением остается при этом дуализм этих двух миров: истинного трансцендентного бытия и ложной или только «являющейся» действительности.
Но это кажется нам неверным по отношению к системе Гегеля. Последнюю часто рассматривают как возвращение к докантовской догматической метафизике и как на решающий аргумент указывают на отрицательное отношение Гегеля к теории познания. Правда, Гегель отказался «учиться плавать, не спускаясь в воду», но этого еще недостаточно, чтобы можно было назвать его догматиком, как не дают права на это и его полные гордого самосознания слова о мощи познания. Теоретико-познавательная основа должна быть у философии Гегеля уже потому, что он вышел из школы Канта и предполагает ее. Кроме того, его «Феноменология духа» носит гносеологический характер, ибо она в большей своей части представляет критику различных познавательных точек зрения. Его логика, как мы видели, есть единая система развития категорий. Характерно также, что Гегель называл вещи в себе «Nichtse»[366]. Но для нас в данном случае особенно важно именно то, что дух в «Феноменологии» движется противоречием между субъективным и объективным, пока он не познает в мире объектов своего собственного продукта. Гегель на наш взгляд не догматик, и дух у него обозначает не трансцендентное бытие, а ценность-совокупность, которая одна может оправдать то, «что есть», оправдать жизнь. В этом ведь и заключалась его главная задача. Ценность-совокупность нужно понимать как баланс развития, как его результат. В ней надо искать смысла всего процесса, но не как смысла трансцендентной или эмпирической действительности, а как смысла истинной действительности. В таком смысле дух и является всей действительностью. Он представляет то солнце, которое согревает своими лучами мировой процесс, он есть истинный виновник действительности, но не как прямая «целевая причина» – диалектический метод – мы повторяем это еще раз, – этот маг и волшебник гегелевской философии вызвал из временного и переходящего всю действительность. Ни дух «в себе», ни эмпирическая действительность как таковая не действительны. Только их диалектическое сочетание, только мир осуществленных и постоянно осуществляющихся ценностей может быть с полным правом назван действительностью. Действительным оказывается таким образом только самое тесное сочетание внутреннего (духа в себе) и внешнего (эмпирической действительности). Как известно, Гегель самым решительным образом отрицал деление на внутреннее и внешнее. По нему все истинное есть то и другое вместе. Только то, что в качестве внутреннего «деятельно» и находит себе внешнее выражение, – только оно есть действительность[367].
Итак, у Гегеля нет ни реальности, которая оставалась бы неизменной и постоянно равной самой себе, ни дуализма двух существующих миров, т. е. ни одного из тех условий, которые могли бы логически принудить Гегеля признать все существенным или несущественным. Становление и изменение-развитие представляют у него такие категории, власти которых подчинен даже сам абсолют. Понятие же явления имеет в системе Гегеля совершенно иное значение, ибо, как мы увидим позже, «являются» у него не таинственные вещи в себе и не просто явления в смысле обмана, которые можно было бы деградировать до степени простых экземпляров рода или обесценить совершенно как «только явление». Наша действительность, действительность нашей обыденной жизни есть для Гегеля только мир обыкновенного сознания, которое «Феноменология духа» называет плоским, меж тем как Гегель имеет в виду действительность абсолютного знания. Вся система и написана с этой точки зрения. Таким образом было бы большим заблуждением отождествлять его действительность с действительностью в обыкновенном смысле слова. Эмпирическую действительность как целое нельзя считать ни разумной, ни неразумной. Надо взглянуть на нее разумно, тогда от нее отпадает неценная часть, тогда она покажется нам в ее настоящем, истинном виде, т. е. как действительность. «Кто взглянет разумно на мир, на того и он посмотрит разумно»[368].
Это вместе с тем дает нам и принцип отбора. Чтобы выделить существенное, ценное эмпирической действительности[369] из несущественного, неценного, должно взглянуть на мир «разумно», т. е. с точки зрения абсолютного знания. А средством к этому служит диалектический метод и связанные с ним принципы. Действительное значит для Гегеля ценное. Все оценивание покоится на диалектическом методе. Таким образом эта основа оценивания служит вместе с тем и его границей. О том, что лежит по ту сторону границы этой, нельзя сказать ни того, что оно ценно, ни того, что оно неценно. Такое нечто просто лежит за пределами той области, которой интересуется философия. Все эти мысли находят полное подтверждение в произведениях Гегеля.
Обратимся теперь от вопроса «права» к вопросу «факта». Куно Фишер вполне справедливо назвал различие между просто существующим и истинно действительным «сердечной истиной» гегелевской логики, и подтверждения этого щедро рассеяны по всем произведениям Гегеля. Мы приведем здесь некоторые из них.
Гегель хочет познать действительность – с своей точки зрения он вполне справедливо считает излишним прибавлять к слову «действительность» еще предикат «истинная»; ибо для него само собой понятно, что в науке доискиваются только одной действительности, а именно не измышленной, а истинной. «В обыденной жизни называют всякую выдумку, ошибку, зло… любое покалеченное и преходящее существование действительностью»[370]. Он считает себя вправе предполагать знание того, «что бытие есть частью явление и только частью действительность»[371]. Он считал себя тем более гарантированным от непонимания в данном вопросе, что, как сам подчеркивает[372], достаточно ясно отграничил в своей логике понятие действительности от бытия, существования и т. д. Разница между его понятием действительности и этим понятием в обычной речи он подчеркивает[373] и в своей энциклопедической логике. Обыкновенная действительность равнозначуща для Гегеля с внешним, чувственным существованием; последнее обусловлено другим существованием, которое «рождается и погибает»[374]. Такое понимание действительности он называет вульгарным[375]. В этом отношении особенно интересно характерное суждение Гегеля о попытке циника Диогена опровергнуть Зенона, отрицавшего движение, тем, что он несколько раз молча демонстративно прошелся мимо своего противника. Такого рода доказательства или опровержения философских положений актами непосредственной действительности он назвал «вульгарным»[376]. В обыденной жизни все действительно, но есть «различие между миром явлений и действительностью»[377]. Слова «мир явлений» здесь следует понимать, как недействительный, только кажущийся мир.
Этих цитат достаточно, чтобы убедиться, что смешение гегелевской действительности с эмпирической совершенно несогласно с его учением. Но различие между этими понятиями еще не ведет за собой полного разделения обеих областей. Ибо «идеальность» не есть что-либо такое, что существует вне реальности или наряду с ней, а понятие идеальности получает у Гегеля характерное назначение быть истиной реальностью[378]. Оба мира таким образом частью тождественны.
На это указывает также значение понятия «явление». Гегель различает два рода явлений. У первого нет содержания ни в себе, ни «за» собой; этот род явлений лишен всякого смысла и сущности и не представляет для философии никакого интереса, в лучшем случае они представляют обыкновенное изменение, развитие же чуждо им совершенно[379]. С этим родом «лишенных сущности»[380] явлений отпадает для нас одна часть эмпирической действительности, как недействительная. Остающуюся часть Гегель называет явлением в смысле являющейся сущности. «Поэтому сущность лежит не за явлением или по ту сторону его, а вследствие того, что сущность есть то, что существует, существование есть явление»[381]. Гегель полагал таким образом вернуть миру явлений его права. Он построил тот мостик, по которому метафизическая сущность, определенная вначале чисто формально, перешла в эмпирическую действительность, принимая в себя при этом с каждым шагом все больше содержания, и избежал обесценивания мира явлений. Он выводит это последовательно таким образом: сущность действительна, она должна, следовательно, действовать, ибо «то, что действительно, может действовать; нечто обнаруживает свою действительность тем, что оно порождает». Это совершает сущность в пространстве и времени, т. е. в эмпирической действительности.
Теперь мы можем вернуться к вопросу о принципе отбора. Мы уже сказали, что этот принцип дан в диалектическом характере всего истинного и действительного. Совершеннее всего этот характер выражен в высшем из чистых понятий, в абсолютной идее. Все действительное сводится к понятию и идее. Понятие есть тот «внутренний пульс», который чувствуется через «покрывающую истинное ядро кору»[382]. Только то, что полагает понятие, может претендовать на название действительного; все остальное есть неценное преходящее существование, обман, иллюзия, ложь[383]. Понятие обосновывает объективность[384]. Мы называем, например, поэта, государственного человека и т. п. только в том случае настоящим или действительным, если он таков, каким он должен быть, т. е. если он соответствует в своей реальности своему понятию, идее «Ничто не живет, что не есть каким-либо образом идея»[385]. Что не соответствует идее, то представляет только «гнилое существование»[386]. Здесь же кроется основание того, что Гегель в истории отводит место только тем народам, «которые образуют государство»[387]. Ибо государство есть вылившаяся в конкретную форму идея.
Итак, действительность есть «сделавшееся непосредственным единство сущности и существования или внутреннего и внешнего»[388]. А внутреннее есть идея, разум. Таким образом есть только одна, а именно: разумная действительность.
Отсюда получился, – пусть нам будет разрешено указать еще и на это обстоятельство – оптимизм, который притом нередко очень близко подходит к оптимистическому фатализму. Уже один принцип сохранения всех ценностей, возникающих в диалектическом развитии и из бесконечного обогащения, внес яркий оптимистический момент в систему. Но ведь ценности, т. е. разумная действительность, возникают по диалектическому закону необходимо – слово, которое Гегель сплошь и рядом присоединяет к слову «разумный»[389]. Этот необходимый ход развития, которого требует прямое следствие из диалектического метода, и приблизил систему Гегеля к оптимистическому фатализму. Это выразилось особенно ярко, по вполне понятным причинам, в философии истории, где отсутствие понятия долженствования сыграло для философии Гегеля роковую роль. Приведем несколько примеров. «У каждого народа такой государственный строй, который к нему подходит и надлежит ему», говорит Гегель в одном месте[390]. Умереть, по его убеждению, может только тот народ, который носит в себе зародыш естественной смерти[391]. «Если дух какой-нибудь нации потребует чего-нибудь, то его не удержит никакая сила»[392]. Особенно интересны в этом отношении следующее два места:
1. «Человечество нуждалось в нем (в пороке), и скоро он был здесь»[393].
2. «Техническое найдется, если появится надобность»[394] и т. д. Это было только неизбежное следствие из «необходимого» прогресса.
Мы не раз уже говорили о бесконечности развития, о бесконечном обогащении ценности-совокупности и т. д. Нам необходимо теперь точнее определить и понятие «бесконечности», которое тоже не лишено своеобразия и важно для разрешения нашего вопроса.
В системе Гегеля «нет бесконечного, которое бы с самого начала было бесконечным»[395]. Абсолютное есть последний член развития, его результат, которому только как ценности принадлежит первенство. Обратимся сначала к понятию конечного. В эмпирической действительности мы видим себя окруженными вещами, которые возникают и исчезают, которые мы поэтому называем конечными, так как «час их рождения означает час их смерти»[396]. Суть конечных явлений в том, что их бытие несходно с их понятием. Своей обусловленностью и преходящим характером они всегда указывают за свои пределы, и таким образом они представляют внутренне обусловленное отрицание самих себя.
Гегель различает в этом понятии бесконечности две стороны[397], которые его разделяют на два рода бесконечности. В одном смысле бесконечность обозначает только бесконечное отрицание конечного, в то время как в другом бесконечность приводится в связь с конечным. Бесконечное в этом случае составляет в качестве долженствования цель, к которой идет развитие, но которой оно никогда не достигает: единственное, что достигается – это только новое конечное, новое преходящее. Таким путем получается бесконечное возникновение конечного, которое напрасно пытается освободиться из-под власти времени. Оба вида бесконечности Гегель называет дурной или ложной бесконечностью, потому что в них выражается только нескончаемое изменение, остающееся безрезультатным и всегда во власти времени.
Истинная же бесконечность предполагает преодоление времени, освобождение от него. Ее можно достигнуть только развитием, которое отрицанием временного и конечного создает вечность. Последняя дана в объективных ценностях, развитых по диалектическому методу. Они вечны, ибо их значение не зависит от времени. Они одни делают возможной истинную бесконечность. «Так сначала господствовал Хронос, время, золотой век без нравственных деяний, и что было рождено – дети времени, были пожраны им самим. Только Юпитер… одолел время и положил конец их прохождению»[398].
Но было бы ошибкой предполагать, что понятие истинной бесконечности вытесняет просто понятие дурной бесконечности. Гегель подчеркивает, что и это понятие истинной бесконечности носит на себе печать истины, налагаемую основным диалектическим характером системы, т. е. оно есть развитое понятие; оно представляет собою синтез и таким образом истину конечности и дурной бесконечности[399]. Оба эти понятия в итоге вошли в их истинной форме в понятие истинной бесконечности, т. е. истинная бесконечность заключает в себе и бесконечное во времени развитие, так что процесс приобщения конечного к вечности не ограничен во времени, т. е. остается бесконечным. Эту истинную бесконечность Гегель иллюстрировал образом непрерывно растущего круга. Он называет абсолютный дух «возвратившимся тождеством», но при этом добавляет, что дух вместе с тем есть и «вечно возвращающееся в себя тождество»[400], в нем нет повторения: дух возвратился в себя, он абсолютен и покоится в самом себе – это и изображается наглядно формой круга, постоянно растущего, всегда законченного и вполне сохраняющего свою форму. И здесь сказался безграничный оптимизм Гегеля.
Грандиозная система Гегеля открыла на первый взгляд блестящие горизонты для освещения проблемы смысла мира и жизни. В ней были даны основные условия для решения вопроса в положительном смысле: весь ход мира и жизни рисуется как полное глубокого смысла и ценности саморазвертывание абсолютного духа; у него дано не только непрерывное, постоянно повышающееся в своей ценности развитие, но ни одна ценность на этом пути не утрачивается, все сохраняется; при этом во всем процессе в гегелевской интерпретации сохраняется цельность и единство, достижение и перспектива дальнейшего развития; он рисует мир всегда у цели, и вместе с тем он у него никогда не умирает, потому что остается всегда простор для следующих этапов. Гегель здесь, казалось, помирил необходимость и свободу, конечное и бесконечное, действительное и разумное, общее и индивидуальное, покой и движение и т. д. Особенно важные перспективы открывала гениальная идея рассматривать абсолют как результат, итог, а не только как идейное первоначало. У него идея субстанции как силы дала свои плоды: абсолют здесь мыслится не как вещь, не как неподвижность, а как вечное движение, действие, он действителен в настоящем смысле – Гегель не даром производит понятие действительность от слова действовать. Он ставил в большой упрек Спинозе неподвижность его абсолюта[401]. Он открыл перспективы для бесконечного творчества, потому что в своем становлении конечным абсолют бесконечен[402]. Он есть «бесконечная сила, которая сама себе служит бесконечной материей всей природной и духовной жизни, как и бесконечной формой, проявлением этого ее содержания»[403].
В общем итоге мир поднялся у Гегеля на необъятную высоту абсолютного смысла, завершенного и постоянно завершающегося на высотах абсолютных ценностей истины, добра, справедливости, красоты и религиозной веры. Казалось, в этом решении могла найти полное удовлетворение и личность, потому что абсолютный дух не оторван от субъективного и объективного; он является только их «an und für sich»[404]; это тот же субъективный и объективный дух, углубленный объективным и доросший до абсолюта; оба, и субъективный, и объективный дух, как говорит Гегель, «вобраны абсолютным духом». Таким образом смысл жизни личности решается смыслом мира и растворяется в нем. Гегель, например, называет великими историческими личностями тех, чьи частные цели содержат в себе субстанциальные элементы и отражают в себе волю мирового духа; задача личности – попасть в своих поступках, стремлениях и мышлении на путь объективно-абсолютного.
Тем не менее как ни велики перспективы, открытые Гегелем, его решение оказывается для личности не только не утешительным, но и прямо губительным.
Прежде всего система Гегеля оказалась неспособной вместить личность в той ее части, без которой личности нет. Его учение говорит о разумности действительности философской; он повествует о «теогоническом» процессе в космосе, и последовательность событий, о которой он говорит, остается всегда «спекулятивной последовательностью духовных событий»[405]. Этим для него и было незыблемо обосновано утверждение абсолютной познавательной проницаемости мира. Эмпирически-конкретная действительность, действительность обыденного человека никогда не увлекала Гегеля, и, как остроумно замечает один исследователь, Гегель «предпочитал не верить своим земным очам», полагая, что бытие божие равносильно небытию конкретно-эмпирического мира[406]. Таким образом живая личность или оставалась вне «божественного процесса», или же должна была отречься от своей эмпирической конкретности и вознестись в свою умозрительную сущность. Таким путем Гегель пришел к выводу, что индивидуальный человек недействительная тень[407] и «всю ценность, какая присуща человеку, всю духовную действительность он получает через государство»[408].
Смертельный удар личности наносит по существу диалектический метод; хотя он обусловливал неповторяемость отдельных стадий, их индивидуальность, тем не менее он в действительности был в своем ядре резко антииндивидуалистического характера. Этот его враждебный личности характер ярко сказался в утверждении Гегеля, что мир движется необходимостью. То, что позже гегелианцы-марксисты свели все личное на надстройку, на простое следствие совершенно безличных (экономических) условий, было вполне оправданным логическим выводом из самой сути диалектического метода. Он создавал неуклонный ход мира и жизни с железной поступью, не знающей отклонения, холодный к радостям и страданиям, к восхищению и гневу, с неуклонным продвижением к неличной, абсолютом обусловленной логикой цели, и эта цель постигается и будет постигнута необходимо, с железной логикой событий, каковы бы ни были личные стремления отдельных индивидов. У Гегеля получился оптимистический фатализм, пропитанный розовой, но все-таки неумолимой необходимостью. Личности ничего не оставалось, кроме признания факта. Необходимо только взглянуть разумно на действительность, чтобы понять, что есть именно то, что должно быть, а чего нет, то и не должно быть. Маг и волшебник, движущий все и вся, диалектический метод не нуждается в долженствовании, в неосуществленных идеях и идеалах как долженствующем быть. Таким образом будущее для личности затянулось непроницаемой пеленой, и личные стремления свелись, как выразился в философии истории сам Гегель, на вытаскивание каштанов из огня для объективного и абсолютного духа. Личность стала просто винтиком в общей машине. Общемировой смысл и объективный ход приобрели у Гегеля такое преобладание, что в сущности личному почину и волевому усилию индивида как таковым не оставалось ничего. Не даром Гегель так часто говорит о «лукавстве разума». «Бог, – говорит он, – предоставляет людям жить их особыми страстями и интересами, но то, что получается на этом пути, – это выполнение его намерений, которые представляют иное в сравнении с тем, к чему стремились те, кем он пользуется»[409]. Личность получает смысл в общем ходе мира, но и только, т. е. не как таковая, а поскольку она вмещается в универс, в общее; в своем же индивидуальном, т. е. именно в том, в чем она есть личность, все не только остается под вопросом, но и просто уничтожается в корне. Так при общем положительном смысле мира жизнь личности как таковой все-таки оказывается обесцененной – таков поучительный результат диалектического, объективно-необходимого развития мира и жизни.
Уже в речах о человеческом познании резко выявилось его убеждение в слабости человеческого духа. В противоположность гордым словам из его берлинской речи, стоящим довольно одиноко, выступает целая фаланга более последовательных изречений, констатирующих бессилие личности в области познания, философия оказывается подчиненной власти времени и притом своего времени. «Всякая философия, – говорит он, – есть философия своего времени». На этом пути личность утратила свое подлинное святилище – единственный путь к победе над всесокрушающим временем. И познание развертывалось по тому же диалектическому методу, потому что это диктовалось сущностью понятий. Но диалектическое развитие движется противоречием и протекает с неуклонной необходимостью, а это обозначало, что у личности исчезала надежда на теоретическое, свободное, автономное творчество. Не лучше, если еще не хуже, обстояло дело с ролью личности в истории, поскольку речь шла о деятельности, руководимой сознательными целями. Именно в истории, в понимании исторической жизни, в этой настоящей сфере человеческих поступков и интересов обнаружилось с полной ясностью, что в системе ценностей Гегеля не могло быть места для ценности личности. Ведь эта ценность личности зависит прямым образом от признания царства целей, долженствования, еще не осуществленных задач, между тем диалектический метод с его необходимостью прогресса и развития из противоречия отрезал этот жизненный нерв полноценной личности и свел ее на ступень орудия абсолютной идеи. Уже примеры, которыми пользуется Гегель для пояснения роли личности в истории, свидетельствуют с достаточной убедительностью о ее ничтожестве в понимании нашего философа. Мы напомним о примере дома, для постройки которого служит железо, дерево, огонь и вода, чтобы «в конце концов создать власть против самих себя». В другом месте[410] Гегель говорит, что идея оплачивает дань прошлому не своими собственными средствами, а страстями людей. Личности остается только понять свою судьбу и безропотно подчиниться ей, потому что она с ее сознательными стремлениями не только не в силах самостоятельно отклониться от тропы диалектического развития, но она не может и остаться позади. Ее деятельность, поскольку речь идет о сознательном стремлении, растворяется в иллюзию, в погоню за мыльным пузырем, потому что истинный результат этой деятельности может оказаться вне всякой связи с сознательными стремлениями личности. Ее интересы и поступки только материал. У человека не оказывалось ничего, ради чего стоило действовать, потому что действительное добро, всеобщий божественный разум является вместе с тем силой и возможностью осуществить себя в действительности[411]. То, что должно быть, было, есть и будет в соответствующее время.
Та же картина встречает нас в философии права. И здесь целью является не человек, не личность, а государство, эта «конкретизованная нравственность»; не государство для личности, а личность для государства; личность как таковая и даже как член семьи все еще «недействительная тень». Абсолютная идея в своем развитии не снисходит в пределах нации и государства до индивида: объективный дух спускается только до сословий, не дальше[412]. То, что Гегель увидел себя вынужденным заговорить о «мировых исторических личностях», было в кричащем противоречии со всеми основными идеями его системы. Отказавшись от идеалов и долженствования, Гегель роковым образом пришел и к прусскому государству, и к преждевременному концу истории, окончательно закрывшему личности просвет в будущее, и к консерватизму, хотя диалектический метод гарантировал бесконечный прогресс.
Многое в этом крушении личности станет нам понятным, если мы вспомним, что Гегель писал свою систему с точки зрения абсолютного духа. При тождестве бытия и мысли такую систему мог написать только абсолютный дух. Грандиозная попытка Гегеля подняться над человеческой точкой зрения приводила к удовлетворительным результатам только до тех пор, пока речь шла об общих теоретических принципах; по мере же приближения к живой жизни, к личности, все менялось, и все рельефнее выступал антагонизм между Гегелем, который хотел быть абсолютным духом, и Гегелем, который оставался человеком. Отрицание долженствования, того, что должно быть, но чего еще нет, и объективизация всего хода мира и жизни и необходимое диалектическое развитие привели к тому, что в мире, озаренном глубоким положительным смыслом, для личности как таковой не оказалось достаточного просвета и она должна была свестись на «недействительную тень».
VIII. ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ В ФИЛОСОФИИ СПИРИТУАЛИЗМА (ЛОТЦЕ, ЛОПАТИН)[413]
Из новейших философских систем учение Лотце по всему своему существу особенно близко подходит к вопросу о смысле жизни и мира. Это объясняется не только жизненным, религиозно-активистическим духом Лотце, но и тем местом, которое он уделяет в своей философии ценностям и целям. Уже самое понятие и сущность бытия, учит нас Лотце[414], необходимо приводит к утверждению, что нет и не может быть ничего, что не стояло бы в известных отношениях к другому. Речь о безотносительном бытии возможна только в логическом отвлечении, но немыслима метафизически. По его убеждению и в понимании мира, если бы даже нам удалось построить всю систему причин, мы все-таки не могли бы обойтись без понятия цели, потому что тогда перед нами еще более остро встал бы вопрос о том, почему причины, дающие определенный результат, комбинируются так, а не иначе. Тем более необходимо отдавать себе отчет о роли вопроса о целях и ценностях там, где поднимаются философские вопросы; здесь Лотце еще более решительно подчеркивает, что безотносительное понимание сущности мира как таковой совершенно невозможно. Понять по его учению значит почти определенно оправдать, т. е. отнести к определенным целям и ценностям, а это в свою очередь выдвинуло другую идею, необычайно важную в решении вопроса о смысле мира и жизни: Лотце считает величайшей несообразностью думать, что могут быть у мира цели, о содержании и выполнении которых никто ничего не знает, т. е. что могут существовать безотносительные цели; то, что должно быть целью и ценностью, находит единственное место своего бытия в живом духе и чувстве какого-нибудь духовного существа[415].
Таким образом вся судьба философского учения Лотце оказалась тесно связанной с вопросом о последних целях, ценностях и вместе с тем о том «я», которое составляет необходимое условие и возможности. Казалось бы, что при такой постановке вопроса у Лотце оставался только один шаг к тому, чтобы при незнании иного я, кроме человеческого, или признать мир совершенно непостижимым, или же объявить антропоморфическую точку зрения единственно правомерной. Лотце не принял ни того, ни другого, хотя и отдал щедрую дань обеим точкам зрения; он объединил их в своеобразном понятии догадки, основанной на вере, в понятии «gläubige Ahnung», которое и поддерживает все наиболее существенные идеи его мировоззрения. Он в самой категорической форме отверг возможность заглянуть в предмирные истоки и в конечные горизонты мира, в его суть. Он убежден, что наше ученое познание взбирается вверх и спускается вниз по этой бесконечной лестнице, вскрывая только внутреннюю связь отдельных этапов[416]. Этим объясняется то, что Лотце говорит о своем философском миросозерцании как о своем убеждении, которое не поддается доказательству. Он идет дальше и определенно заявляет[417], «в чем лежат основания и почему это происходит или делается так, вместо того, чтобы лучше вообще ничего не было, и что вообще что-либо совершается вместо того, чтобы лучше ничто не совершалось, это остается вечно неизреченным» (Курсив мой. – М. Р.). С нашей человеческой точки зрения мы не только ясно сознаем действительность, но и принципиальную возможность ее в совершенно иной форме[418]. Отказ от абсолютного знания не привел Лотце к пессимизму; наоборот, он оптимист чистейшей воды и свое положительное отношение к миру и жизни он просто обосновывает доверием разума к самому себе и к открытой для нас подоплеке мира. Все это он и объединил в понятии «gläubige Ahnung» – догадки, основанной на вере.
Став на почву ограниченного агностицизма, Лотце тем не менее непоколебимо убежден в положительном смысле мира и рисует нам следующую картину на основе своего религиозно-окрашенного предчувствия. Весь мир в его понимании сразу приходит в движение и оживляется, потому что и материя у него получает двоякое существование: внешне она обладает известными свойствами телесного вещества, внутренне же она оживлена подлинной духовной подвижностью; встав на почву решительного активистического понимания мира, Лотце пришел к утверждению непространственных атомов как центров внутренней духовной энергии[419]; пусть мы не знаем сути этой мысли, но это не мешает философу в сознании своей близости к точке зрения мифологии мыслить каждый атом тела как место известной собственной духовной жизни[420]. Проводя стойко идею живой основы мира, Лотце говорит, что вещи получают существование не от неподвижного ядра и бездеятельно через какую-то субстанцию, а они существуют тогда, когда они могут выявить субстанцию в себе[421]. Таким образом истинно сущее и истинная действительность должны рисоваться нам в форме вечной жизнедеятельности, живого начала, в форме вечно само себя сохраняющего движения[422]. Энергично возражая против чисто механического понимания, Лотце говорит, что представление об абсолютной пассивности даже в приложении к природе неправильно, потому что чистой голой восприимчивости нигде нет; это ясно видно из того, что одна и та же причина в различных случаях и при различных объектах приводит к различным следствиям: толчок в одном случае отбрасывает тело, другое заставляет звучать, третье сломает и т. д., и таким образом итог действия, его форма зависят в значительной степени от природы и противодействия объекта[423]. Вещи сами являются факторами, порождающими то, что мы называем их внешними отношениями. Но оживив мир и возведя атомы на высоту действенных и даже духовных центров, Лотце не раздробил мир на бесконечное число ничем не связанных сил, а он сделал попытку объединить монизм и плюрализм: он признает абсолют-субстанцию, но он признает ее прежде всего как то, что способно к абсолютному действию и жизни[424], а затем он ее, напоминая Гегеля, определяет как живую идею, смысл которой не распадается на множество равных частичных мыслей, а только расчленяется на сложно переплетающуюся ткань различных мыслей различной ценности и сложности. Таким образом при всей сложности и плюрализме и несмотря на то, что мировой процесс – это синтетирование качественно разнородного – у Лотце получается живое единство мира; например, элементарные вещества природы он готов сравнить с буквами и словами, которые, слагаясь, дают выражение цельной и живой мысли[425].
На фоне такого активистического и одухотворенного понимания мировой сущности особенно ярко выделяется взгляд Лотце на мир так называемых вторичных качеств. В его глазах субъективизм созданного нами красочного мира нисколько не обесценивает его: как мы оцениваем каждый цветок по его собственному цвету и аромату, не требуя, чтобы он повторил, как копия, свой корень, так и наше отношение к миру субъективных качеств во всем его богатстве должно определяться его собственной красотой и красочностью, независимо от того, с какой полнотой отразилась в нем его подоплека. Лотце все с той же теоретической нерешительностью, но и со всей практической убежденностью и воодушевлением заявляет, что в сущности ничто не может помешать определить взаимоотношения внешнего и внутреннего мира в обратном порядке, а именно: перенести центр тяжести во всю полноту этого светозарного и красочного мира, создаваемого нашей чувственностью, обратив этот мир в ту цель, которой и предназначены служить воздействия внешнего мира, скрытые от нас в своей сути. Лотце иллюстрирует эту мысль красивым образом: «Ведь в театре мы наслаждаемся сценой, не видя самостоятельной цели в машинах, которыми она обслуживается»[426]. Дальше наш философ окончательно закрепил эту мысль, вначале высказанную предположительно, заявив, что подлинная правда мира – в том смысле, который вскрывается в наших восприятиях его[427]; суть мира не в бесцветных основах, а во всей его красочности, свидетельствуемой нашей душой.
Таким образом человеческая личность получает по его учению в этом мире не только вечную живую подпочву, но и оправданный во всем его богатстве и полноте мир – мир не бесцветный и бездушный, а полный именно тех красок, которые радуют человека и создаются при его непосредственном участии. Этим ясно определилось положение человека в мире, подчеркнутое уже самым заглавием наиболее известного труда Лотце: он микрокосм; но он не только микрокосм, а в нем как бы вскрывается истинная суть мира – природа стремится выявить бесконечную красоту красок, теплоту, движение и аромат, но она сама по себе не в силах достичь всего этого, и вот является человек как самый высший представитель ее, и в своем воспринимающем духе открывает ей возможность выполнить свое назначение; здесь впервые немое стремление природы находит для себя как бы живые выразительные слова[428]. Из роли продукта человек понемногу продвинулся к роли сотрудничающей творческой силы. Жизнь его озаряется по учению Лотце глубочайшим смыслом, потому что в его бытии заинтересован не только он сам, но и весь мир. Хотя в основе мира лежит творческая субстанциальная основа, одушевляющая мир, созидающая его в своих частных силах по определенным законам, тем не менее роль человека оказывается необъятно велика: признавая эти законы и подчиняясь им, он должен стремиться внести совершенство во все те ряды, которые начинаются от него или в которых он принимает сознательно-волевое участие[429]. Назначение человека – помогать совершенствованию мира; совершенствуясь сам, этот микрокосм совершенствует мир, чем богаче личность, тем богаче мир.
Творческо-активная роль личности в учении Лотце подчеркивается и другими сторонами его миросозерцания. Он решает вопрос о бессмертии души той степенью, в какой личность выполняла в этом мире свое назначение. Он в сущности и истину поставил на антропоморфический путь, заявив, что истинным, как и предметом безусловного одобрения вообще, для познающего духа может быть только то, что согласуется с необходимыми условиями, заложенными в самом духе[430]. В том же роде он рисует условия, при которых представление о боге может удовлетворить нас[431]. Это значит, что и в решении проблемы смысла ключ ко всему надо искать в самой личности.
Вполне естественно, что общий тон системы Лотце разрешился в полнозвучный оптимизм. В итоге развития и прохождения через разные формы всякое истинное бытие у него выходит углубленным, проясненным и обогащенным. По тому же пути идет и человечество; его земная дорога тем богаче, что у истории нет исчерпывающей одной исключительной идеи, а в ней развертывается аналогичная миру полнота и красочность широкой и многообразной человеческой жизни[432], потому что человечество не сумма бесчисленных безразличных единиц, а живое реальное сообщество индивидов[433]. Как на характерную частность, можно указать на то, что Лотце не верит в неминуемое старение и увядание народов и убежден в возможности повторного расцвета[434]; он предполагает и известную связь между удовольствием и нравственностью[435]. Но это частности, в основе же всего лежит его непреклонное убеждение, что в мире осуществляется высшая и абсолютно ценная задача[436]. Воскрешая гегелевскую идею сохранения всех ценностей на пути развития абсолютного духа, Лотце говорит, что мир обратился бы в бессмыслицу, если бы мы пришли к выводу, что бесконечная работа поколений и эпох даст свои итоги только в будущем; он, наоборот, живет верой в то, что каждому существу будет воздано по заслугам и ничто не будет забыто и потеряно. Лотце видит смысл в мировой истории в осуществлении идеального мира, в котором все недостижимое или утраченное явится и объединится и все будет не только для тех, кто будет, но и для тех, кто был. Необыкновенно интересно утверждение Лотце, что жизнь будет всегда позади идеалов, но что и это нас не должно приводить в отчаяние; он и здесь видит только положительное, потому что истинно человеческое расцветает только в борьбе и среди противоречий. Мы к этой мысли, подчеркнутой в новейшей философии Гегелем и Лотце, еще вернемся в систематической части нашего изложения.
Лотце в своем учении дал, хотя и не независимо от традиции классического идеализма, блестящие предпосылки для удачного решения вопроса о смысле жизни в ярко положительной форме. Особенно важна, как мы надеемся показать в систематической части нашего труда, его мысль об активной роли личности в мировом процессе, активистическое понимание мира и его оживление, но все-таки и Лотце вопроса далеко не решает; может быть, всего правильнее будет сказать, что он не дошел до конца развития своих предпосылок и остановился, благодаря чему противоречия сделались совершенно неизбежными.
Прежде всего вскрылись для роли личности в мировом процессе неизбежные тяжелые следствия из того положения, которое Лотце отвел богу и единой живой субстанции в основе мира; его попытка соединить плюрализм и монизм не разрешает конфликта, так как, пользуясь сравнением Лотце, можно сказать, что как слова, объединенные в предложение-мысль, перестают существовать отдельно и утрачивают свое самостоятельное значение, так и отдельные живые силы и личности тонут в абсолюте и утрачивают свою космическую роль. Тут в сущности все сводится к колебаниям: где побеждает интерес к абсолютному живому началу, там тем больше тускнеет личность, и наоборот. По отношению к Лотце остаются в силе все сомнения, связанные с утверждением активного субстанциального начала, абсолюта и самостоятельной роли личности. Мы по прежнему не находим ответа на вопрос, зачем наряду с живым деятельным началом понадобились относительно слабые человеческие сознательные устремления и силы и что получается, когда они идут не в русле абсолютного начала: если они бессильны, гибнет личность; если они сохраняют свое значение, умаляется абсолют и перестает быть им. Отведя космическую роль личности, Лотце вместе с тем временами поддается давлению пессимистических для личности следствий из всевластия абсолюта. Так, например, в одном месте[437] он говорит: «конечный дух считает себя подлинным форматором своей сущности; он полагает, что он создает ее своей собственной деятельностью от начала и до конца и не замечает, что он даже во времена своего сознательного развития трудится почти исключительно над поверхностным преобразованием ядра, которое он нашел в себе в неведении своего происхождения и своего будущего». История человечества повторяет ту же картину в увеличенном масштабе. Вглядываясь глубже в эту предопределенность «ядра» прошлого и будущего личности и человечества, скрытых от личности, нельзя не почувствовать приближения грозной фигуры фатализма, постоянно навеваемой абсолютом как фактическим началом всего. Личность в лучшем случае окажется средой прохождения абсолюта или сосудом, «скрывающим в себе сокровища любви, чувства долга, самопожертвования, стремления к истине, красоте» и т. д.[438]
С точки зрения решения вопроса о смысле жизни особенно тяжелой оказалась его основная мысль во взгляде на познание. Он решительно отверг возможность познания и встал на точку зрения догадки, укрепленной верой, определенно пожертвовав надеждами приоткрыть завесу над истоками мира и над его конечными целями. Решение нашей проблемы, как и всякое цельное философское учение, есть не только ответ, но и призыв, но призыв силен только тогда, когда он открывает смысл и перспективы, немыслимые без сознания определенных ценных целей. У Лотце же утверждается смысл, идет речь о перспективах, но каковы они, ответа на это мы нигде не находим. Между тем именно от Лотце мы вправе были ждать ответа на этот вопрос. Он сам говорит, что было бы нелепо думать, что могут быть в мире цели, о содержании и выполнении которых никто ничего не знает; единственное место для их бытия, как и для благ, это в живом духе и чувстве какого-нибудь существа[439]. Но кто же знает их? Очевидно, или бог, или личность. И Лотце решил вопрос в пользу первого, оставив неиспользованной вторую возможность, хотя некоторые зародыши у него для этого были. В итоге личности осталась в удел только вера или «предчувствие», что какие-то цели существуют, что мы куда-то идем в неведомую даль и из неведомого места и что в этой неведомой дали кроется что-то ценное и абсолютно важное, но что оно, это для нас остается вечной тайной. Весь призыв Лотце таким образом превратился в призыв от неизвестного начала к неизвестному концу и при всей его глубине оказался совершенно обессиленным и обесцененным.
В тесном, глубоком родстве с Лотце стоит русский философ Лопатин. Он, как и его западный предшественник[440], сетует на апологетов положительных наук за их пренебрежение к метафизическим интересам и глубоким запросам человеческой души. Оба они убеждены, что доведенное до конца исследование чувственного мира неизбежно приводит к открытию и признанию сверхчувственной области. Оба они дышат актуалистическим спиритуализмом; тесное сближение сказывается в их понимании причинности, в идее единого живого бога как личности и в общем энергичном отклонении пантеизма; Лопатин, как и Лотце, настаивает на том, что материя только явление сверхчувственного, что нелепо предполагать движение без движущегося, изменение без меняющегося, что, как это красиво выразил его предшественник Лотце[441], чувственный мир – это только «пелена бесконечной духовной жизни», но вместе с тем оба они не склонны обесценивать конкретную действительность и так называемые субъективные качества. Их сродняет общий колорит их философского учения и особенно общий уклон к оптимистическому решению проблемы смысла мира и жизни и на сущность души человека и его микрокосмическое значение. Естественно, что при таком положении личности Лопатин, как и Лотце, не может не видеть в отказе от попыток проникнуть в мир сверхчувственного, трансцендентного настоящую трагедию современной философской мысли[442]. Яркой отличительной чертой русского философа от его предшественника является то, что Лотце обнаружил отсутствие решительности твердо вступить на путь рационалистической метафизики и строит метафизические догадки, подкрепленные «верующим предчувствием»; Лопатин же без колебаний принял эти следствия из основной точки зрения и дает свои метафизические построения, видя в них действительное знание, или прямо непосредственно очевидное, или же способное поспорить по своей достоверности с математическим знанием. Сообразно с этим целый ряд сторон в учении Лопатина принял своеобразный и во многих случаях более рельефный характер.
Особенно подчеркнута у Лопатина проблема личности. Анализируя непосредственное сознание, он находит в нем с несокрушимой непосредственной очевидностью данную реальность своего и чужого «я», но данным не как мертвое бытие, а как творческая активность[443], вскрывающая в своей сути истинную подоплеку всего мира и заставляющая преобразовать понятие причинности в творческую причинность. Формулируя основную идею спиритуалистического миропонимания, он говорит[444]: «Вся действительность – в нас и вне нас – в своем внутреннем существе духовна; во всех явлениях кругом нас реализуются духовные, идеальные силы – они только закрыты от нас формами нашего чувственного восприятия их; напротив, в нашей душе, в непосредственных переживаниях и актах нашего внутреннего я, в его свойствах и определениях нам открывается настоящая реальность, уже ничем не прикрытая». Лопатин, как мы уже об этом упоминали, далек от мысли отвергнуть вообще этот мир; он, наоборот, подчеркивает его реальность и называет свою систему конкретным спиритуализмом, который должен подчеркнуть духовную суть всего мира, не устраняя его. Человеческому духу в этой системе должно быть отведено очень почетное место; если все в мире есть обнаружение силы, и силы духовной, то в тем большей степени активность составляет суть личности как субстанционального фактора. Весь мир таким образом мыслится Лопатиным как система духовных сил, и реальность, и жизнь существуют только там, где есть действие. Это система внутренне живых центров самоопределяющей силы; вся эта вечно движущаяся сеть индивидуальных сил с очевидностью указывает на универсальные силы и акты и заставляет допустить единство их абсолютной основы, духовного первоначала. Такое единое в себе и бесконечное в своей продуктивности первоначало есть бог, но не отвлеченный абсолют, а бог – личность как «реальное единство разума и воли», говорит[445] Лопатин, увенчивая свой спиритуализм теистической идеей. С этой идеей по традиции и с логической неизбежностью пришли и пессимистическое отношение к этому миру, и безграничный оптимизм к миру сверхчувственному, пришло утверждение не только свободы воли, но и личного бессмертия, и сохранения всего в его внутренней сути. Цель мира рисуется Лопатину как цель божественного творчества, а именно: это творчество не отвлеченного мира вообще, а осуществление мира реального во всем его богатстве и полноте, «поэтому очищение и спасение должны распространяться на все живое в нем»[446]. Цель и смысл мира он видит в реализации гармонии всех духовных творений, она «в бесконечном благе всех духовных существ. Жизнь мира может и должна быть лишь осуществлением абсолютного добра»[447].
Для определения смысла жизни человеческой личности очень важно вспомнить не только об ее непосредственном участии в творчестве абсолютного добра в космическом процессе как субстанциональной ячейки, но также и о том, что мир сам по себе как существование раздвоен, дуалистичен, и в космическом процессе творится преодоление этого дуализма; полное его завершение может прийти только тогда, когда «отношение твари к своему бытию совпадает с внутренними тенденциями абсолютного творчества, т. е. когда каждый действительный центр реального существования свободно и от себя будет полагать весь смысл своей жизни в полной и непоколебимой гармонии с жизнью остального мира и с божественной волей ее единственного источника»[448]. Центральная роль здесь отводится человеческой личности.
Таков ответ Лопатина на вопрос о смысле личной жизни. Он лежит в космической, сверхчувственной сфере. И Лопатин с большим пафосом обрушивается на современность за ее геоцентризм, видя в нем источник не только философского оскудения, но и нравственного упадка и ужасов современности. Вероятно, отсюда же проистекает мало гармонирующее с общим характером его системы мрачное предчувствие грядущих еще более страшных катастроф. С его точки зрения полагание всех человеческих целей на земле и есть самый вредный вид отвлеченного мышления, покинувшего почву живого конкретного единства чувственного и сверхчувственного: как ложен мир ценностей в себе, так ложно и абсолютирование земли. В философии конкретного спиритуализма Лопатина проблема смысла решается на пути совпадения личных идеалов с универсальными задачами.
Не трудно убедиться, что недостатки и крупные достоинства учения Лопатина лежат в той же плоскости, что и у Лотце. Его конкретизм и защиту живого действенного единства мира нужно рассматривать как чрезвычайно плодотворные философские идеи. Нам представляется очень значительным и многообещающим для философии и взгляд на личность. Но и здесь, как это признает сам Лопатин, остается трудная задача совмещения бога и зла, вопрос о том, почему богу понадобился мир, его процесс и слабая мощь человека, к чему и как могла при боге возникнуть «самоутверждающаяся тварь», решающаяся противополагать себя космическим силам и стремлениям. В конце концов получается печальная картина бога, как бы играющего с самим собой, потому что и в самоутверждающейся твари в сущности все та же субстанция; это лучше всего видно из решения проблемы бессмертия, где Лопатин, как и все родственные ему мыслители, ссылается на субстанциональную сущность твари, а субстанция в сущности своей одна. Ссылка в трудных случаях на бога как теоретическое объяснение и вообще производит философски безотрадное впечатление, но оно усиливается еще более, когда к ней прибегает крупный философ, сам настаивавший на строгом разграничении того, во что веришь, и того, что знаешь, как этого требовал Лопатин в своем основном труде «Положительные задачи философии»[449]. Поняв эту ссылку на бога, как это и есть, в духе указания на «неисповедимые пути господни», мы и у Лопатина, как и у Лотце, получаем в высшей степени ценный сам по себе призыв к личности и творческому активизму, но призыв все-таки от неизвестного начала к неизвестному концу, которые ведомы только богу. Таким образом в решении проблемы смысла создается самое большее – религиозная уверенность в существовании таинственного смысла, но в чем он, мы не знаем и знать не можем, а это обозначает для нас полное уничтожение смысла.
Как ни важно то, что Лопатин смотрит на свой спиритуализм как на конкретный, и как ни горячо подчеркивает он свой оптимизм, тем не менее и у него неминуемо получается и разжижение этого мира, и пессимизм. Все это ясно сказалось в последних его статьях, все больше подчеркивавших суетность этого мира. И корень пессимизма теоретически здесь все тот же: при боге как фактическом первоначале и теоретическом факторе возникновение и существование мира может быть объяснено удовлетворительно только отпадением от бога, расщеплением или обособлением, дуалистическим или плюралистическим – это безразлично. От разъедающего противоречия не освобождает и мысль о предстоящем в конечном счете восстановлении просветленного свободного единства, потому что нельзя мыслить бога когда-либо непросветленным; ведь бог самой мыслью своей творит и творит совершенное, и идея просветления бога ставит на его место просто человеческий образ. Связь идеи бога в традиционной форме с пессимизмом обнаруживается и у Лопатина в том, что и у него пробивается катастрофическое мироощущение и некоторого рода «философия конца», как у Соловьева и религиозно-философских мыслителей; и он, несмотря на свой оптимизм по отношению к миру сверхчувственному и на свой конкретизм, констатирует, что мир и человеческий род «вовсе не добреют», и он пророчит катастрофы, и катастрофы еще большие[450].
IX. ОПРАВДАНИЕ ЖИЗНИ В ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОГО ТРАНСЦЕНДЕНТИЗМА (ВЛ. СОЛОВЬЕВ)
Сомнения, навеянные попытками решить проблему смысла жизни на почве рационального знания, заставляют нас пойти дальше. Уже Лотце от полновластного разума отклоняется в сторону «верующего предчувствия», порождаемого верой, и этим переводит нас к тем философским учениям, которые пошли по пути религиозно-философских мотивов. Мы остановимся здесь на учении Вл. Соловьева, давшего во многом не новую, но вместе с тем одну из наиболее интересных, поучительных и значительных попыток решить загадку осмысленной жизни на почве религиозной философии. Его решение представляет тем больший интерес, что проблема смысла жизни была для него не одним из многих вопросов, занимавших его, а центральной задачей, решению которой он придавал и, как религиозный философ, не мог не придавать основного значения. Этот вопрос поставлен не только в «Оправдании добра», но в этой точке сбегаются все красочные нити его многосторонней мысли[451]. При этом Соловьев, напоенный глубокой христианской верой, не знал и не допускал никаких колебаний в том, что у жизни есть смысл; читатель напрасно стал бы искать ответа у него на такие свои вопросы. Только попутно наш философ говорит, что в существовании смысла жизни не может быть никаких сомнений; он подчеркивает, что попытки отрицать его приводят только к его прямому или косвенному утверждению, как это происходит у практических проповедников недостойной жизни и у самоубийц[452]. Загадку для нас может составлять только вопрос о том, в чем заключается смысл жизни. На решение этой стороны проблемы он и направляет усилия своей религиозно-философской мысли.
Путь, на котором Соловьев ищет ответа, во многом определился тем же религиозным складом его души, тем, что он жил и во многом мыслил чувством бога, что чувство божества и абсолюта было для него всеопределяющим фактором, предшествовавшим всяким философским выкладкам, основоположным, как бы органическим мотивом его души, его мироощущением и жизнеощущением. Соловьев блестяще оправдал собою утверждение Фихте: что за философию выберешь ты, это зависит от того, что за человек ты. Он не только убежден в смысле жизни, но он также незыблемо творит и слит с мыслью о боге, об абсолюте, о «царстве божием», – если можно так выразиться, он именно в этом царстве чувствует себя в родной сфере; мысль о нем настолько срослась с ним, что он готов здесь не видеть ничего загадочного: вера здесь покрыла для него все и раз навсегда исключила всякие колебания. Философское его раздумье направилось в прямо противоположную сторону. Когда перед ним, как и перед каждым философом, встал решающий вопрос, каким путем идти в построении своего миросозерцания от абсолюта к относительному, от вечного к временному, от единого к многому, от неба к земле и т. д. или наоборот, то он, как и другие, взял исходным пунктом то, что ему ближе, доступно, ясно и попытался этим объяснить далекое, загадочное, неясное. Такой архимедовой точкой было для Соловьева чувство бога, непоколебимая вера, дававшая ему даже смелость вступать на путь своего рода пророчеств, предвидения. Он видит непонятное, загадочное, нуждающееся в объяснении и оправдании в этом земном мире, в пространственно-временной действительности, в отдельном существовании, в частном. Несколько обобщая мысль Радлова[453] можно сказать, что Соловьев не только отказался от земли как исходного пункта и от попытки, стоя на земле, достичь безусловного, но он, наоборот, в сокровенной сущности своей философии, в ее тенденции хочет достичь земли и осветить, и оправдать ее, исходя из безусловного. Это свое коренное убеждение, одинаково важное как для всей его философии, так и для решения проблемы смысла жизни, Соловьев ясно выразил в первой речи о Достоевском[454], где он говорит: «Для могучего действия на землю, чтобы перевернуть и пересоздать ее, нужно привлечь и приложить к земле неземные силы». Главный грех западноевропейской философии рисовался ему в том, что она признала отрицательную безусловность человеческой личности, но вместе с тем отклонила всякое положительное безусловное начало, без которого для Соловьева не может быть правды.
Чувство бога, непоколебимая вера в него определила весь ход мысли Соловьева. Но это была не теоретическая идея, а именно живое чувство. На это ясно и вполне определенно указал сам философ, энергично подчеркнувший, что к мысли о боге приводят не доказательства и рассуждения и даже не вывод из религиозного ощущения, а «содержание этого ощущения – то самое, что ощущается»[455]. Это, конечно, совсем не значит, что бог исчерпывается этим нашим переживанием; если бы даже все люди не вскрыли в себе это переживание, положение от этого нисколько не изменилось бы[456]; оно обозначает только живое ощущение, несомненное переживание действительного живого бога. Соловьев принял его во всей его христианской полноте. Он, правда, отделяет его от сущего как сверхсущее и называет сверхличностью, он говорит о боге уже в ранних своих произведениях как о всеедином сверхсущем, исключающем всякий процесс и изменение; начало всего и цель всего, он сам по существу вне изменения и только по времени абсолютное становится последним. Он сам по себе трансцендентен миру; имманентен бог миру только в том смысле, что он является в нем действующей творческой силой[457]. Он не есть только личность или только сущность, развертывающаяся в мире. Он выше их, потому что он вне всяких ограничений. Но он вместе с тем и личность, потому что божество в качестве субстанции необходимо обладает самоопределением и саморазличением, т. е. личностью и сознанием[458]. Спрашивая, что должно представляться нашему разуму под именем Христа, Соловьев отвечает: «Вечный бог вечно осуществляет себя, осуществляя свое содержание, т. е. осуществляя все»[459]. В другом месте он говорит о боге как об «универсальном организме». Таким образом бог для Соловьева не был иносказанием, чем-то вроде совокупности абсолютных идейных ценностей или идеалов, только идеей, а это была для него абсолютно живая непосредственная и совершенная действительность. Позже в «Трех разговорах» от лица Соловьева Z. жестоко обрушивается на князя-толстовца именно за то, что тот живет идеей отвлеченного бога, лишенного конкретности жизни и действительности. Там философ поставил вне всяких сомнений, что его бог это сама жизненная непосредственная действительность[460]. С этим вполне гармонирует горячая вера Соловьева в явление Христа, в его второе пришествие и в полное воскресение мертвых.
Полнота чувства живого бога и его, как всеохватывающей жизненной полноты, чувство и непосредственное сознание абсолюта нашли у Соловьева яркое отражение в идее единства, насыщающей всю его философию. Эта идея также непосредственно близка его душе. Она неразрывно связана с его верой, и было бы даже трудно видеть в ней только логическое следствие из его веры в бога, потому что она дана для Соловьева вместе с этой верой непосредственно во всей своей полноте и ценности. Соловьев так и говорит о боге как о «первом или производящем единстве», о человеке как о «произведенном единстве»[461]; единство составляет существенный признак добра, отсутствие его должно в корне характеризовать зло. Где нет единства, там по Соловьеву не может быть смысла; бессмыслица кроется в нарушениях единства «в отчуждении и разладе всех существ, в их взаимном противоречии и несовместимости»[462]. Находиться в осмысленном положении значит по учению Соловьева быть в единстве со всем. «Под смыслом какого-нибудь предмета, – говорит он, – разумеется именно внутренняя связь со всеобщей истиной»[463]. Едва ли будет преувеличением сказать, что и в идее единств обнаруживается у нашего философа не только сознательная философская мысль, но и органическая эмоционально-волевая черта.
Само собой разумеется, что идея единства, составляющая коренную сущность смысла, вместе с тем входит и в ядро, составляющее истину. Характеризуя ее, Соловьев видит в ней не только единство, но и она одевается у него в плоть и кровь соответственно чувству живого полного бога. Живая вера Соловьева неминуемо должна была привести и привела его к отрицанию чисто формалистического толкования истины; ему, с его верой, с ясным ощущением бога, само собой разумеется, оставался только один желанный и правдивый путь: это – что истина и истинное знание должны быть действительными, т. е. они должны выражать живую неподдельную реальность. «Предметная реальность есть первый необходимый признак conditio sine qua nоn[464] истины», – говорит Соловьев[465]. Развивая дальше свое понимание истины, он насытил ее еще большей действительностью, он все больше одевал ее в плоть и кровь. Он настаивает на том, что истина несводима ни к факту нашего ощущения, ни к акту нашей мысли; она не субъективна, а она есть[466]. Кроме характеризующего ее тождества или внутреннего единства с самой собой, из сущности истины вытекает, что ее предметом или содержанием может быть не изменяющееся явление или факт, а пребывающая вещь, субстанция[467]; иными словами, безусловная истина есть безусловное сущее. В полное определение истины Соловьев вводит в конечном итоге признаки, заставляющие почти отождествить ее с богом: она есть сущее, единое, все[468].
При таком понимании истины, естественно, и все познание должно было принять иной характер, приобрести иную ценность, потому что к истине, как живой полноте, уже нельзя стремиться подойти с тем отвлеченным познанием, которое выковала отвлеченная западноевропейская философская мысль; Соловьев видел в ней колею развития, в которой одностороннее положение было додумано до конца, до обнаружения своей несостоятельности, именно несостоятельности отвлеченных начал, и этим оно сослужило свою историческую службу, ясно указав нам, что нам необходимо вступить на путь живой правды и живого отношения к ней, познания ее. Критика и отклонение отвлеченных начал не привели Соловьева к исторической неблагодарности; полный стремления к единству, он и здесь создает его на пути объединения всего в единую великую истину. Так он и приходит на почве философской критики и исследования к тому, что ему до всякого философствования уже ясно подсказывало его религиозное богоощущение: действительное познание должно удовлетворить не только разум, но и сердце и волю, потому что оно есть не только мысль в узком смысле этого слова, но оно есть вера в безусловное существование предмета, в конечном счете сущего, единого, всего, бога; оно есть умственное созерцание или воображение, восстанавливающее сущность или идею предмета; оно, наконец, есть творческое воплощение его в нашем чувственном сознании. «Первое сообщает нам, – говорит Соловьев[469], – что предмет есть, второе извещает нас, что он есть, третье показывает, как он является. Только совокупность этих трех фазисов выражает полную действительность предмета».
Таким образом истинное познание, познание мира во всей его полноте, в его сущности перестало для Соловьева быть отвлеченным знанием. С нашей точки зрения, Соловьев не довел до конца своей борьбы с отвлеченными началами, как мы это надеемся показать в другом месте, но его неоценимая заслуга заключается в том, что он энергично вступил в эту борьбу за истинное знание. Оно превращается у него в живой путь к богу; этим путем может быть только путь конкретный, цельный. На нем именно и должна решаться проблема смысла. Здесь, где речь идет о настоящей сердцевине человеческих интересов и живой жизни, особенно дорого стремление Соловьева дать прозвучать живому голосу полной истины. Идеи, оторванные от целого и по философскому недоразумению выступающие в роли его представительниц, неизбежно вступают в резкие противоречия и борьбу друг с другом и «повергают мир человеческий в то состояние умственного разлада, в котором он доселе находится»[470]. Этому дробленному пути, относительному знанию, эмпирическому и рациональному Соловьев и противопоставляет путь цельного знания, того знания, которое неразрывно связывает нас с абсолютным и которое наш философ называет также «мистическим»[471].
Но цельное знание Соловьев неразрывно связал с цельным предметом знания. Это является одним из наиболее крепких связующих звеньев между ним и Платоном. Только ту полноту абсолютных ценностей, которую Платон, как истый грек, больше переживал, чем ясно выявил, наш философ стремится дать в отчетливо осознанной форме. На этом пути Соловьев и пришел к той мысли, которую он высказывает много раз и которая не может не захватывать и не увлекать до глубины души каждого мыслящего человека[472]: «истинному другу божьему понятны и дороги все проявления божественного и в физическом мире, и еще более в истории человеческой, и если он находится на одной из верхних ступеней богочеловеческой лестницы, то он, конечно, не станет рубить те нижние ступени, на которых стоят его братья и которые еще поддерживают и его самого». В устах Соловьева эти слова являются настоящим лозунгом, которому он не остался в выполнении своей системы верен до конца, но они глубоко знаменательны и должны высоко цениться в данном случае, где речь идет о смысле жизни: его больше шансов понять у того, у кого горит огонь настоящей жизни или стремления к ней.
Все это заставляет подходить к Соловьеву с особыми ожиданиями, тем более что они нашли у него сильную поддержку в его взгляде на человека и его положение. Здесь Соловьев примкнул к тем взглядам, которые были освещены не только религиозной традицией, но и вскормлены всем ходом философской мысли. Это именно мысль об исключительной миссии человека, ставящей его вне всякого сравнения с другими созданиями. По существу и здесь убеждение Соловьева в центральном положении человеческой личности ясно вытекало из его веры и из его изложенного нами основного убеждения. Личность должна взять на себя космическую роль уже по чисто этическо-религиозным соображениям: нет личности, нет нравственности, нет религии и т. д. Личность должна быть. Соловьев видит начало истины в том, что человеческая личность безусловна не только в отрицательном отношении, что ясно доказывается ее нежеланием ограничиться и удовлетвориться каким-либо условным или относительным содержанием, но что она способна подняться и на высоту положительной безусловности, т. е. возвыситься до абсолютной действительности, до полноты бытия[473]. Если бы человек был детищем одной земли, он чувствовал бы себя на ней вполне удовлетворенным и не стремился бы ни к чему иному; предаваясь земле, он не приходил бы к самоуничтожению. А между тем, как это подчеркивает Соловьев, человек, отдавшийся во власть земных радостей и наслаждений, очень быстро приходит к глубокому разочарованию в них, к пресыщенности, к отвращению к жизни, а затем нередко следует за этим и дальнейший шаг – самоубийство, в котором наш философ видит «печальное, но убедительное доказательство высшей природы человека». Человек на земле, и в то же время его взоры направлены в иной мир. Кроме естественного влечения, действующего по возбуждениям и присущего растениям, кроме способности действовать по конкретным и частным представлениям, которая есть и у животных, человек обладает по учению Соловьева еще третью ступенью воли, волей в собственном смысле слова или способностью поступать по идеям и принципам[474], ясно показывая нам этим, что он своей глубочайшей сущностью коренится в ином, вечном, божественном мире[475]. У Соловьева и здесь важным мотивом является мысль, продиктованная его верой, именно мысль, что причастность человека по его сущности к божественному миру диктуется необходимостью признания двух религиозных истин: человеческой свободы и бессмертия. Стоя в этом земном мире, он вместе с тем стыдится именно животной стороны своей жизни, рвется к безусловному, божественному. Таким образом человек самой своей структурой, совмещающей божественный и земной элемент в человеческом соединении, поставлен на грани двух миров в качестве соединительного звена между ними. «Воспринимая и неся в своем сознании, – говорит Соловьев[476], – вечную божественную идею и вместе с тем по фактическому происхождению и существованию своему неразрывно связанный с природой внешнего мира, человек является естественным посредником между богом и материальным бытием, проводником всеединяющего божественного начала в стихийную множественность – устроителем и организатором вселенной».
Таким образом человек оказался способным занять это положение связующего звена между двумя мирами именно благодаря тому, что он и божество, и ничтожество одновременно; что он совмещает в себе всевозможные противоположности, от абсолютной вечной сущности и до условного, конечного и преходящего бытия[477]. Ничтожная пылинка земли, он вместе с тем в своей сущности оказывается способным не только подняться в царство безусловности, но и поднять с собою, «обожествить» весь мир. Все эти мотивы, а также и то, что Соловьев придал истине живой конкретно-полный характер, заставляют ожидать, что речь здесь идет не об отвлеченном, общем человеке, а о живой конкретной человеческой личности. Наш философ так и говорит об этом в «Чтениях о богочеловечестве»[478], что безусловно божественное значение принадлежит не личности вообще, не отвлеченному понятию, а действительному живому лицу, каждому отдельному человеку. Этого требовала и та непримиримая борьба, которую Соловьев объявил всей отвлеченной философии за попранные права живой конкретной полноты, хотя он, как мы увидим дальше, все-таки не удержался с достаточной определенностью на этой позиции, так как он колебался между признанием безусловности каждой конкретной личности и признанием ее только за умопостигаемым характером человека, только за этой «божественной искрой» в человеке.
Во всяком случае такое положение человека предрешило и судьбу вопроса о свободе воли в безусловно положительном смысле. Хотя Соловьев отказался в противоположность Кузену ссылаться на непосредственное чувство свободы, как отрицающее самый принцип философствования[479], тем не менее он с первого же шага ссылается на непререкаемый голос совести, без колебаний удостоверяющий свободу и ответственность личности[480], и отмечает как характерную отличительную черту личности способность поступать по идеям и принципам, т. е. признает за ним свободную волю в ее высшем осуществлении. Это признание заставило его подчеркнуть в вопросе о свободе ту мысль, что человек, обладая естественными склонностями, обладает таким началом действия, «которое не определяется естественными склонностями, хотя и не исключает их»[481]. Сначала, как отмечает Радлов[482], наш философ признал свободу личности только как Кант, только постольку, поскольку человек принадлежит к умопостигаемому миру, а затем он присоединился к учению Бл. Августина, т. е. признал за личностью некоторую свободу в феноменальном мире. Само собой понятно, что в этом вопросе огромное значение принадлежит тому ответу, какой Соловьев мог бы дать в окончательной форме на вопрос, чему он приписывает безусловное значение, – если живому полному человеку, то ясно, что за ним должна быть признана свобода в полной мере; иное положение получается, если безусловная роль уделяется умопостигаемому характеру личности. По общему характеру основного лозунга, именно отклонения отвлеченного и призыва к живому, надо было бы ожидать первого утверждения, но у Соловьева имеется достаточно указаний и на второе решение.
Что путь Соловьева ближе к первому это доказывает также и то, что он не оставил человека с его миссией в одиночестве, а приводит его, как об этом красноречиво говорит и сама жизнь, в неразрывную связь и взаимодействие с другими личностями. Выход за пределы отдельной личности диктуется ему самой религиозно-нравственной сущностью личности, мыслимой в своем проявлении только в обществе. Религиозно-нравственная деятельность предполагает как свое необходимое условие, отвечающее идеалу, нормальное общество личностей[483], на которое и должно быть направлено, как на свой предмет, нравственное деяние – на нормальное общество, определяемое «характером свободной общинности или практического всеединства, в силу которого все составляют цель деятельности для каждого и каждый для всех»[484]. Индивидуальный расцвет личности только тогда вступает на свою настоящую дорогу, когда личность, утверждая себя, утверждает какую-нибудь всеобщую идею; «но всеобщая идея предполагает общение и солидарность лица со всеми, и, следовательно, истинный индивидуализм требует внутренней общинности и неразлучен с нею»[485]. В нормальном обществе личностей найдут свое полное завершение и примирение индивидуальное и общинное начало. Для Соловьева человек идет в мире и может идти не в одиночку, а в сообществе людей и в религиозно-нравственной сфере. Убеждение его в значении соборности доходит до того, что нравственную деятельность личности он считает возможной только при условии «организованной нравственности», т. е. нормального общества. Ссылаясь на опыт, он поясняет[486] это положение указанием на то, что при отсутствии этого условия, т. е. при отсутствии нравственно-организованной общественной среды неизбежно приходят в упадок личные требования добра от себя и от других. Верный духу своей основной идеи положительного всеединства, охватывающего в тесной органической связи все индивидуальное, Соловьев, вне сомнения, отказался бы признать субъектом прогресса и творцом жизни отдельного человека самого по себе, как не существующего и не оправданного в своем существовании, а по пути совершенствования идет и должен идти, как говорит Е. Трубецкой[487], единичный человек совместно и нераздельно с человеком собирательным. «Совершенствование нуждается прежде всего в объединении людей в одно солидарное целое»… Как ни велика и ни ценна здесь роль отдельной личности, но свое полное значение и даже свою возможность она обретает только в целом, и через него отпадение от целого обращает личность в ничто, в то самое отвлеченное, что было в глазах Соловьева коренной ложью и жизни, и всякой философии.
Уже здесь достаточно выяснилось органическое жизнепонимание и мировоззрение Соловьева: каждый должен быть целью для всех и все должно быть целью каждого; иными словами Соловьев отказывается видеть дилемму там, где ее привыкли видеть, – в разобщенности частного и общего, части и целого; осветив целое органическим пониманием, он был убежден, что сохраняет индивидуальное в полной гармонии с целым – общим. Такая постановка вопроса, как и те основы, которые мы уже отметили, поставили вне всякого сомнения, что между проблемой смысла жизни человека и проблемой смысла мира не только тесная связь, но что это по существу одна проблема, только допускающая известное расчленение. Ответить на вопрос о смысле жизни личности можно только, решив вопрос о смысле мира вообще: универсальный и личный смысл неотделимы друг от друга, потому что всякое частное существование, по учению Соловьева, по существу ложно. Наш философ отклоняет, как явную нелепость, мысль о том, что проблема смысла может быть решена на почве переливов личной субъективной воли, что смысл жизни может совпадать с произвольными и изменчивыми требованиями каждой из бесчисленных особей человеческого рода[488]. Но она не решается для Соловьева и самым фактом добрых чувств у личности, ни даже субъективными нравственными нормами, которыми решает руководиться личность. Только безусловное начало, свободное от всяких ограничений, относительности и шаткости, способно дать надежную основу для решения великой задачи. Цель может быть только одна: безусловная цель, на ней и должны объединиться и личность, и общество, и вообще весь мир, все. Здесь Соловьев своей мыслью будит в нас воспоминание о великой попытке античного философа Платона объединить индивидуальное и общее, личность и общество, государство, небо и землю на одной универсальной задаче, на устремлении к высшей идее добра.
В чем же заключается по учению Соловьева разгадка вопроса о смысле мира и жизни личности? В ответе по существу, конечно, не может быть никакого сомнения: смысл в боге, в стремлении к нему, в обожествлении себя и мира[489], в устремлении к безусловному добру, в создании положительного всеединства, гармонии всего в добре, единстве и согласии, потому что бессмыслица в разладе и в раздоре, а единство и лад в всеобщем виде и объеме мыслимы только на почве безусловного живого добра, которое есть всеобщая истина и в связи с которым и заключается истинный смысл[490]. Соловьев до такой степени поглощен идеей всеединства, что готов довести его до крайних пределов и утверждать, что истина и совершенство – это единый безличный мир чистых идей[491]. Там, где он не останавливается на такой крайности, идеальным строем вещей ему представляется такое положение, когда частные элементы взаимно ладят друг с другом, когда они не исключают целого, а утверждают свое частное бытие на единой всеобщей основе и когда целое, всеединая основа, не подавляет и не поглощает частных элементов[492]. То единство, которое составляет цель и смысл всего, должно вместить все в гармоничном сочетании. Поставив в одном из своих «Воскресных писем» вопрос «небо или земля»[493], Соловьев дает глубоко захватывающий, бесконечно увлекательный и жизненный ответ: задача – «в согласовании того, что внизу, с тем, что наверху, в деятельных условиях к всестороннему совершенствованию личной и собирательной жизни, чтобы воля божия была на земле так же, как и на небесах»; истина для него не в дуализме, а в «воплощении божественного, в человеческом, небесного в земном, духовного в материальном».
Вглядываясь внимательнее в учение Соловьева, мы убеждаемся в его оптимистической вере в то, что в мире самом, в самом космическом, мировом развитии проявляются ясные симптомы действия благодатной высшей силы в направлении к высшей божественной задаче мира. В близком родстве с шеллингианско-гегелевской философией философ видит несомненное проявление положительного истинного смысла в законе всемирного тяготения, обосновывающем всемирную материальную солидарность мира, созидающем единство[494]. Рассматривая мир в свете всеобщего совершенствования, он в духе великих немецких идеалистов описывает пять царств в порядке совершенства и их роли в деле обожествления мира: царство минеральное, растительное, животное, человеческое и божье. Постепенно повышая и организуя бытие, они у Соловьева, повторяющего здесь смысл гегелевского термина «aufheben», не только сменяют, но главное – пополняют и повышают друг друга, не уничтожаясь. Каждая предыдущая стадия является материей для последующей: химическое вещество в организме сохраняется, но уже перестает быть просто веществом; животное в человеке не уничтожается, но уже перестает быть просто животным и т. д. Этот путь Соловьев и называет в его дочеловеческой стадии путем богоматериального процесса, осуществляющего нравственный смысл[495] и все больше расширяющего круг жизни: камень являет собой только голое существование, растение существует и живет, у животного к этому присоединяется сознание своих фактических состояний, человек же не только живет и сознает свою жизнь, но углубляется в ее смысл, знает идеи и принципы и стремится поступать по ним[496]. Таким образом, восполняясь, углубляясь и расширяясь, мировой процесс уже представляется не только развитием и совершенствованием, но он вместе с тем – и в самом главном – является процессом собирания вселенной[497]. В «Чтениях о богочеловечестве»[498] он приоткрывает завесу над сокровенным действующим фактором мирового процесса. Там он говорит, что осуществление великой мировой цели обусловливается соединением божественного начала с душой мира, из которых последняя являет собой как бы материю, силу пассивную, а божественное начало выступает в роли созидающего и оплодотворяющего фактора. Но объективный ход не отнимает простора для роли иного фактора. В частности в ходе объективного мира ясно обнаруживается уже сила вечной жизни, но все-таки все это природа, равнодушная к отдельным существам; на этой стадии достигается только родовое бессмертие, но нет настоящей идеальной полноты и личного бессмертия.
В выполнении этой задачи Соловьев отводит крупную роль человеческой личности; смысл ее существования и заключается в обретении вечной жизни и собирании вселенной в идее и в действительности. Способность ее выполнить эту божественную миссию подкрепляется стремлением человека к безусловному, к всеединству; от объективно-безусловного его отделяет только то, что он стремится быть всем, а объективно-безусловное действительно заключает в себе все[499]. Вдохновляемая божественной идеей всеединства, человеческая личность должна стремиться осуществить ее в естественном порядке, пользуясь разумной свободой в материальном мире. С пробудившимся самосознанием, с откровением идеального мира человек становится лицом к лицу с двумя порядками бытия: с миром фактическим, разрозненным и дробным, миром преходящего и относительного бытия, мира злого, мира генезиса (платоновского) и с миром истины и совершенства, единства всего или всеединства в боге. С этого момента ему должно стать ясно, что смысл мира есть мир, согласие, единодушие всех. Это есть высшее благо, когда все соединены в одной всеобъемлющей воле, все солидарны в одной цели. Это есть высшее благо, и в этом же вся истина мира[500] и истина и смысл человеческой жизни. Стоя на грани двух миров, приобщенный к обоим, человек должен ставить себе задачу стать действительным звеном, в котором оба мира сомкнутся и завяжется богочеловеческая цепь, состоится сочетание неба и земли и последняя найдет свое оправдание. Эту миссию человек выполнит, служа живому, вечному, всесильному и всестороннему добру[501] или богу[502]. Для него в это понятие вошли не только добрая воля, честность, бескорыстие, всяческая добродетель, но и бессмертие, нетленность и т. д. Одним словом, то «все», которое в живой полноте воплотилось в Христе. На этом же пути он ищет разгадку смысла и исторических событий: и смысл истории в богочеловеческом процессе, в оправдании и воплощении добра. Его отличие от общемирового процесса заключается именно в том, что он совершается «при все более возрастающем участии личных деятелей»[503]. Полнее формулируя общую задачу как ключ к решению проблемы смысла мира и жизни, Соловьев прямо говорит: смысл в осуществлении и откровении царствия божия в мире, так об этом говорит его формула безусловного начала нравственности «в совершенном внутреннем согласии с высшею волею, признавая за всеми другими безусловное значение или ценность, поскольку и в них есть образ и подобие божие, принимай возможно полное участие в деле своего и общего совершенствования ради окончательного откровения царства божия в мире»[504]. Уже участие абсолютной божественной силы показывает нам, что мир далеко не отдан на свободное усмотрение человеческой личности: абсолютное событие – откровение совершенной личности уже совершилось в телесном воскресении Христа, и уже дано «абсолютное обещание»; все это должно решить судьбу человеческой миссии в конечном счете в благоприятном смысле. И тем смелее и с тем большей верой человек должен стремиться к выполнению «абсолютной задачи и способствовать исполнению этого обещания через перерождение всей нашей личной и общественной среды в духе Христовом». То, что сбылось, и то, что обещано, стоит твердо и незыблемо; только «мы сами должны действовать для нравственного перерождения своей жизни»[505].
В итоге должно создаться божественное царство положительного всеединства. Это единство потому и названо Соловьевым положительным, что оно являет собою органическое единство, оставляющее простор индивидуальному и даже обусловливающее его: хотя все несет в себе или выражает одну и ту же абсолютную идею, но каждый делает это по своему «особенным образом»[506] и этим обретает в целом достоинство истинно сущего. Таким образом Соловьев мыслит положительное всеединство как живую совокупность всего участвующего в осуществлении царства божия, в обожествлении мира. Как мы заметили раньше, положение индивидуальности в учении Соловьева вне всякого сомнения колеблющееся, но все-таки его теория вела его по пути ясного и категорического признания индивидуального. В этом отношении он прямо противоположен таким философам, как Шопенгауэр, объявивший все разнообразие только покрывалом Майи, иллюзией. Он решительно отклоняет только сепаратизм индивидуального, т. е. индивидуалистический абсолютизм. Он восстает только против той формы индивидуализма, которая предоставляет преобладающее положение личному началу и таким образом создает коренное зло; но он видит неоспоримый в своей ценности и безусловно необходимый для положительного всеединства элемент в индивидуализме, при котором личность утверждает не только себя, но в себе главное – высшее содержание, всеобщую идею в своеобразном виде. Это тот индивидуализм, который неразрывно связан с положительным всеединством, потому что «всеобщая идея предполагает общение и солидарность лица со всеми, и, следовательно, истинный индивидуализм требует внутренней общинности и неразлучен с нею»[507].
Намечающаяся здесь полнота завершается прямыми указаниями философа на полноту ценностей. Его положительное всеединство – это оживленная и насыщенная плотью и кровью ценность – совокупность. Оно охватывает не только добро, но и истину, и красоту, и святость – в принципе можно, пожалуй, даже сказать – всю полноту жизни. Все это то же всеединство, но взятое с различных сторон: словами «истина есть лишь форма добра» Соловьев заканчивает свое сочинение «Русская идея». Истина для него это единство, объективно представляемое или идеальное; благо есть всеединство как желаемое; красота это есть всеединство реальное; другими словами благо есть единство в положительной возможности, силе или мощи, истина тоже единство как необходимое, и красота – оно же как «действительное»[508]. И именно потому все они сильны только в своем живом единстве; они божественны не сами по себе, а в том, в ком и сила, и красота, и истина нераздельны с добром, – в боге. Этим и объясняется то, что Соловьев с такой энергией отклонил, как нелепость, чистое искусство, искусство для искусства, объясняя этот взгляд просто извинительной реакцией на стремление грубо поработить искусство. Он готов уделить ему всю полноту автономии, полагающейся ему по существу, но клеймит, как ложь и зло, стремление к эстетическому сепаратизму, как блестяще формулировал свою мысль Соловьев[509]. Он признает за ней великую роль в деле обожествления мира, он вполне присоединяется к словам Достоевского «красота спасет мир», потому что только она может одухотворить материальный мир, но это красота живая, оживленная идеей бога и неминуемо ведущая к добру просто потому, что она есть с ним одно. Сказать – чистое изолированное познание, изолированная чистая красота – это значило для Соловьева сказать: ложное познание, мнимая красота и т. д. И здесь он ярко проводит идею органического единства. Только на этом пути мира и личность обретает смысл и спасение.
Но я бы сказал, что единство у Соловьева все-таки принимает с первых же шагов характер этический: во главе его стоит, как преобладающая, идея добра. Это оно выявляется то в истине, то в красоте; им живут и та и другая; добро мыслимо само по себе, красота и умственные интересы лживы без добра. Конечная цель все-таки в общем итоге – добро, и «абсолютное осуществляет благо через истину в красоте»[510], т. е. первое – цель, а вторая – только пути для осуществления ее. Они и сильны только при условии «торжествующего добра»[511]. Соловьев завершает это господствующее положение добра утверждением, что оно все собою обусловливает и только оно само совершенно безусловно; оно есть солнце, которое озаряет, согревает и освещает все[512]. Этим господством, в частности, объясняется и то, что Соловьев требует от красоты реального улучшения мира[513]. Добро в сущности объединяет и спаивает все во всеединство.
Выражением этой всемирной солидарности, всеединой связи и является любовь. Она есть внутреннее единство всего. Смысл любви Соловьев вообще видит в том, что она заставляет нас перемещать весь наш жизненный интерес в другое лицо, признавать за ним безусловное значение и побеждать естественный эгоизм[514]. Он таким образом берет любовь, исполненную самопожертвования; любовь в современной ее окраске, любовь пожирающая, мучающая осталась для него в стороне. У него она гипостазируется на почве христианской веры и традиции дальше и, вырастая в живую личную силу, становится богом. Резким диссонансом врывается в учение о любви только то, что слово «любовь», этот истинный спаситель, вложено и в уста Сатаны в «Трех разговорах», который говорит даже о своей чистой и бескорыстной любви[515] и тем не менее он не сгинул и не опалился. Но в сущности антихрист действовал видимостью добра, отрицая его глубину и сущность.
Творя единство, хотя это не есть творение из ничего, а претворение или преосуществление материи в дух, плотской жизни в божественную, принимая живейшее участие в собирании мира и действительности, человек вступает на путь созидания не только божественной действительности, но и прежде всего он сам приходит к обожествлению себя самого: только через это он и может выполнить первую миссию, так как обе задачи нераздельны. Таким образом человек возвышается у Соловьева до ранга всеединого, но только всеединого в процессе становления, потому что частное и многое, не способное существовать ни в боге, ни само по себе, обретает истину, просветленную сознанием, действительность в человеке, который совмещает в себе абсолютное и относительное и становится богом[516]. В этом и заключается цель и смысл жизни. От проповеди созерцания бога Соловьев перешел последовательно к следующему этапу, подготовленному мистическими учениями прошлого, к призыву делаться божественным, к лозунгу богочеловечества, к теургии, к богодействию[517]. При этом богочеловек не идея только, не недосягаемый идеал в традиционном смысле, который Соловьев называет пустословием, а идеал уже осуществленный в спасителе и ставший неугасимой надеждой человечества[518]. В идее богочеловечества завершились все наиболее глубокие и ценные мысли и чаяния Вл. Соловьева; в ней завершилось, как правильно отмечает Е. Трубецкой[519], все то, что он учил о жизненном пути человека и человечества. Развивая эту мысль, он видит смысл вселенной в том, что она должна родить и воплотить в себе бога, «стать богорождающею средой», и в исполнении этой миссии человеку отводится центральное место; в этом смысл его жизни[520].
Все это, особенно идея богочеловечества и ее сокровенный смысл, красноречиво говорит о том, что огонь и свет, согревающий и озаряющий всю философию Соловьева, это огонь и свет религиозно-нравственной веры. На это ясно указывает нам сопоставление идеи божественного единства и того, что наш философ понимает под религией; для него она есть сама жизнь и живая действительность, но если ее определить в понятии, то и он выдвигает старый основной признак связи человека и мира с безусловным началом и средоточием всего существующего[521]. Таким образом его идея единства и связи есть идея религиозная; с этим вполне гармонирует и то, что мы отметили вначале: что для Соловьева непосредственное и ясное – это бог, загадочное и требующее объяснения и оправдания – это мир. Здесь исходный пункт и завершение, начало и конец всего. «Жив бог – жива душа моя. Отказавшись от этого основоположения, мы перестали бы понимать и утверждать себя как существо нравственное, т. е. отреклись бы от самого смысла своего бытия»[522]. У Соловьева все завершается и питается мыслью о боге, но о боге не отвлеченном, а о боге как живом и действительном существе, от которого зависит все[523]. Именно потому он и Добро пишет с большой буквы. Все здание теперь уже с логической необходимостью венчается глубоким убеждением в положительном завершении мировой и человеческой жизни. Во всем учении Соловьева о мире и жизни чувствуется непоколебимая вера в то, что благодатная божественная сила направляет мир и жизнь туда, куда следует, – к царству божию.
Таков смысл мира и жизни по учению Вл. Соловьева.
Можно ли на нем остановиться? Чтобы найти ответ на этот вопрос, необходимо разобраться в том, что дает в итоге его учение для человека в его действительности и взгляде на мир.
Если добро и смысл в единстве, то ясно, что зло и бессмыслица в обособлении, в резком противопоставлении себя другим, во взаимном противоречии и несовместимости. Таким образом как смысл, так и бессмыслица встречаются в мире не по существу, а вытекают из взаимоотношения элементов. Зло и страдания он рисует нам как состояния индивидуального существования[524]. Но Соловьев не остановился на этом: как добро превратилось у него в Добро (с большой буквы), в бога, в живую очеловеченную фигуру, так и зло оказалось в значительной степени сгущенным в живой реальный, объективный фактор. История философской и религиозной мысли ярко показала нам на протяжении ряда веков, какой роковой характер носит проблема зла у всех учений, объясняющих мир и жизнь понятием реального бога. И Соловьев столкнулся со всеми почти непреодолимыми трудностями этого векового вопроса, откуда при боге, начале всего, зло? Углубляясь в проблему зла и страданий, Соловьев остановился на убеждении, что корень зла метафизического порядка, что первоначальное происхождение зла должно быть отнесено в область вечного доприродного мира[525]. Насколько глубоко убежден он в этом положении, это видно из того, что эта мысль повторяется неоднократно во всех его произведениях. В «Трех разговорах» он прямо отклоняет возможность рассматривать зло как отсутствие добра, потому что оно действительно существует и заключается «в положительном сопротивлении и перевесе низших качеств над высшими во всех областях бытия»[526]. Вчитываясь в это произведение Соловьева, начинаешь приходить к выводу, что как бог его не есть только совокупность абсолютных ценностей, а является живым существом, живой, хотя и сверхличной, но все-таки личной силой, так и его антихрист и его вдохновитель, корень зла, живые силы, убеждение в которых нашло оплот все в той же практической вере нашего философа.
Метафизическое происхождение зла Соловьев объясняет таким образом: мировая душа на основе дарованной ей свободы возбудила в себе волевые импульсы и тем самым отпала от всего. С этого момента частные элементы, гармонично и цельно сочетавшиеся во всеедином, как в организме, утратили общую связь и разъединились. Так возникли основное зло и мириады его дальнейших разветвлений, в итоге которых получается один плод – страдания как вечный и неизменный спутник зла. Мир потонул во зле не по своей воле, а по воле мировой души, вызвавшей катастрофу свободным актом. Таким образом источником зла явилась свобода и в ряде же свободных актов мировой пожар должен быть потушен и приведен снова к всеединству, возродившись в форме абсолютного организма[527]. Если мы к этому добавим, что по убеждению Соловьева свобода есть только один из видов необходимости, то выступления ее, этой непреходящей основной великой ценности, в роли источника космической катастрофы вызывает на глубокие сомнения, потому что стремление отпасть от бога у мировой души оказывается лишенным необходимого признака свободы, осмысленности и разумности; это был грубый произвол, затмение, рабство души. Но самое главное, что и у Соловьева, как и в старой христианской философии, узел оказался не развязанным, потому что при всемогущем, всеведущем, всесильном и всеблагом боге не могла произойти катастрофа без его ведома, без его попустительства; получается все тот же старый кощунственный вывод: если не предвидел, что дает свобода мировой души, не всеведущ; если предвидел, но допустил, не всеблаг или не всемогущ… Соловьев стремится уйти от этих выводов, решительно подчеркивая, что бог, конечно, отрицает зло, но он допускает его как «преходящее условие свободы, т. е. большего добра». Бог терпит зло, чтобы не нарушить человеческую свободу, что было бы значительно большим злом. Все эти рассуждения завершаются совершенно невероятным, несовместимым с понятием бога утверждением, что все-таки именно бог допускает зло, и допускает его как «орудие совершенствования», потому что имеет возможность извлечь из него большее благо или наибольшее возможное совершенство[528].
Просто трудно поверить, что такой ум и такой искренно и глубоко верующий человек мог договориться до таких нелепых выводов. Таков неизбежный итог попыток человека вести речи за бога и разбираться в его планах и помыслах больше даже, чем в своей собственной душе. В итоге рассуждений Соловьев находит, что бог, стесненный условиями и ограниченный возможностями, мешающими получить высшее добро помимо зла, по существу совершает коренную безнравственность (а не только терпит ее), являясь главным истинным виновником зла; именно: он прикрывается здесь необходимостью и хорошими целями, которыми должно быть оправдано абсолютно дурное средство: зло ради добра. Где здесь всесилие? И как судить о человеке, если сам всевышний допускает ради доброй цели не только дурные средства, но просто нравственную гибель мира. И что же, наконец, такое свобода – есть ли она благодать божия или мировое проклятие, потому что она выступает в роли источника всех бед, и она же должна спасти мир? В своем ответе на старую загадку Соловьев оказался на традиционном пути и запутался безнадежно в традиционных противоречиях включительно до того, что абсолютно признанная им свобода личности в общем итоге, как мы надеемся показать это дальше, потерпела полное крушение.
Итак, зло характеризуется как разъединение, обособление. В итоге стремлений индивидуального утвердить себя и только себя получается гибель и смерть всего индивидуального. Этим и объясняется то, что смерть характеризуется в учении нашего философа как коренное «крайнее зло»; спасение от него достигается в действительном и притом личном воскресении[529], которое должно дать воссоединение с всеединством. Тогда создается истинное бессмертие, царство вечной неугасающей жизни. Тесное неразрывное слияние смерти, зла и греха[530] в учении Соловьева естественно наводит нас на мысль, что с другой стороны добро и вечная жизнь спаяны теми же неразрывными узами по существу. И действительно, все учение Соловьева говорит о том, что и для него жизнь выступает в роли не только добра, но и какой-то верховной категории, всеобъемлющей абсолютной ценности, хотя бы и в ее высшей форме. Он искренно поражается, что даже смерть Сократа не открыла глаз его ученикам на то, что помимо политической и нравственной неправды существует в мире третья типичная неправда – физическая, это смерть[531]. Вся его философия в ее конечных выводах должна как будто стать апофеозом жизни; вся история мира рисуется ему как непримиримая борьба жизни и смерти; и не только все чаяния философа на первой стороне, но и торжество вечной жизни обозначает у него торжество царства божия. Миссия беспощадной борьбы за жизнь против смерти охватывает все. Утверждению жизни – хотя и вечной, но все-таки жизни – должна служить красота, спасающая мир от смерти и случайности. Окончательный смысл вселенной в торжестве вечной жизни. И Соловьев описывает восходящий ряд царств как ряд ступеней все повышающегося бытия и жизни[532]. В человеке это стремление к жизни, к полному освобождению от власти смерти, к бессмертию выливается уже в ясно осознанную форму. Соловьев говорит о личности как о существе, которое хочет стать обладателем вечной жизни[533], видит в этом свое абсолютное неотъемлемое божественное право и с глубокой верой, без всяких колебаний, должно ждать его осуществления в силу абсолютного «обещания». Каков диапазон этих ожиданий, об этом лучше всего говорит тот факт, что в конечную цель вводится не просто элемент вечной жизни, но и нетленность, физическое сохранение и даже безболезненность[534]. «Прежде всего нам нужно жить, – говорит он, – потом познавать жизнь и, наконец, исправлять жизнь»[535]. Жизнь, жизнь и жизнь… Соловьев возводит жизнь на высоту критерия божественности. Восставая против попытки Ницше решить мировую проблему на почве одностороннего эстетизма, он указывает на гибель здешней красоты и отказывается признать за силу власть, бессильную перед смертью[536]. Он не сомневается в том, что никто не станет поклоняться божеству, не способному спасти свои воплощения и своих поклонников от смерти, разложения и гибели[537]. В глазах Соловьева в перспективе смерти каждого и всех утрачивает смысл культура и прогресс[538]. Только надежда на вечную жизнь способна дать его. К этому остается только прибавить, что по всему учению Соловьева с повышением идеального содержания, с постепенным совершенствованием прямо пропорционально возрастает реальная сила[539], возрастает реальность, бытие, жизнь; совершенство – идеальное неразрывно связано с вечной жизнью. Таким образом весь мир в своем освещенном смыслом развитии идет по пути увеличения и углубления бытия и жизни: растение более реально и больше живет, чем кусок земли; животное более действительно и больше живет, чем растение; человек превосходит их всех в этом отношении, но он сам по силе, власти, реальности и полноте жизни остается позади перед богом.
Итак, единство, органичность, любовь, смысл, жизнь с одной стороны, и дробление, сепаратизм, раздор, грех, бессмыслица, смерть – с другой, бог и дьявол – таково основное противоположение, основная дилемма в философии Соловьева, и дилемма не теоретическая только, а, несомненно, реальная жизненная, два реальных царства, прямо противоположных, вечно борющихся и не совместимых друг с другом, как свет и тьма.
Учение о жизни определило собою отношение Соловьева к земле, к природе. Оно встретилось с коренным стремлением нашего философа к всеединству, к полноте, к всеохватывающему взгляду, который был бы способен отречься от узости отвлеченной философии, не вмещавшей «все», и дал бы ту живую полноту, где воля, чувство и разум нашли бы свое гармоничное слияние и удовлетворение. Основной лозунг всеединства требовал всеохватывающей полноты, идея же жизни, наоборот, являлась несомненным принципом отбора и повелительно требовала беспощадного уничтожения всего, что находится в царстве или во власти смерти. В отношении Соловьева к земному миру обе эти коренные тенденции так и остались непримиренными, как они вообще остаются непримиренными во всем христианском учении, так как несогласованность здесь достигается или аллегоризацией бога и вероучения, от чего Соловьев категорически отказался, или же деградацией и распылением этого мира и жизни. И в том, и в другом случае утрачивается цельность и колеблется смысл жизни.
Что касается следствий из первого лозунга, полноты и всеединства, то Соловьев ясно определил свое отношение к миру и природе тем, что он определенно приобщил их к богу. Собственно природный мир, хотя и не обладает реальностью сам по себе, но тем не менее он божественен потенциально, скрыто, и в нем говорит возможность бога; мы видели раньше, как Соловьев в шеллингианско-гегелевском духе истолковывает развитие мира и природы и в законе мирового тяготения готов видеть скрытое смутное проявление мировой космической любви. Он выступил даже в защиту некоторых сторон существования материи и готов был воздать должное и некоторым сторонам материализма. Да и по существу Соловьев не мог совсем отрицать этот мир при его отказе от отвлеченного, потому что в этом мире реально должна была разыграться, разыгралась и разыгрывается мировая драма, потому что в этот мир – и реально по его учению – явился спаситель, и в этом мире творится дело богочеловека и живет человек. Соловьев с глубокой проницательностью заметил, что если этот мир совсем оторвать от идеального истинного бытия, то и самый идеализм бесспорно обратится в нелепость. Уже существование человека с его религиозной миссией и философа, созерцающего истинно-сущее, спасает этот мир от полной деградации[540]: без земли не может быть и неба[541]. Признание земли у нашего философа простирается, наконец, настолько далеко, что он высказывает мысль, с логической необходимостью вытекающую из приобщения мира к богу, из идеи полноты и всеединства. Это идея данности земли-природы не только как средства и материала, но и как таковой: он говорит о том, что с природой надо не только бороться, но у нее имеются и свои права, и собственная задача – она не безразличное орудие[542], но эта мысль немедленно переносится на человека и утопает уже безнадежно в указании на его роль как вершителя божественной миссии.
Кончил Соловьев все-таки тем, что этот мир и природу, землю он отверг – во всяком случае с годами отрицательное отношение к ним все более крепло, и гигантская мысль о всеединстве и полноте претерпела по существу значительное ограничение. Глядя на природу, можно констатировать в ней и жизнь, и смерть – все в зависимости от того, с чем подошел к ней сам философ, что он принес в своей душе: один поразится смертью, другой – вечной жизнью. Наш философ нес в своей душе религиозно-христианское неприятие земли и этого мира, и оно в конце концов и выявилось. Он отметил в этом мире царство зла и смерти. Он видит у всего живущее в корне злое стремление к обособлению, стремление быть всем для себя; всякий зверь, насекомое, былинка – все они злые сепаратисты; зло есть общее свойство всей природы[543]; она отпала от бога и жизни в ней нигде нет; везде только порыв, только переход и только в одной смерти постоянство и неизменность[544]. Он в таких описаниях очень сближается с Шопенгауэром и настолько переполняется пессимизмом, что и не замечает возможности с одинаковым правом заговорить о том, что смерть нигде не является концом, а всегда началом, началом новой жизни. Гибель и смерть возводится им просто во всеобщий мировой закон[545]; лозунг жизни по природе обозначает для него призыв убивать себя и других[546]. Недоверие его к этому миру заставляет его и в красоте ценить просвет из иного мира, а о красоте в природе он говорит в одном месте, что она просто покрывало, наброшенное на злую жизнь. «Зло, – говорит он[547], – есть всемирный факт, ибо всякая жизнь в природе начинается с борьбы и злобы, продолжается в страдании и рабстве, кончается смертью и тлением».
Природу как природу он явно не принял, но так как он в своем толковании бога, царства божия, идей, мировой души и т. д. был очень далек от аллегорий и иносказаний, то мы уже не можем все-таки втиснуть в его понимание этого мира «идейного» бога, эту маленькую институтскую запятую наших интеллигентов, которая должна быть и запятой, и как будто и не запятой и скрывать наше сомнение, незнание и нерешительность. В «Трех разговорах» в уходе папы, проф. Пауля и старца Иоанна от мира в пустыню он ясно поставил штемпель неприятия на этот мир. Здесь только ясно выявилась та тенденция, которая жила в его душе раньше, питалась его религиозной верой. Сделанная им раньше попытка[548] спасти положение различением понятий плотского и телесного остается мало убедительной и недостаточно ясной. Она больше говорит о стремлении спасти человеческое, чем об оправдании этого мира и природы вообще. Несмотря на то, что человеку в философии Соловьева отведено центральное место проводника богочеловечества, роль универсального значения, недоверие сквозит у него и к земной природе человека – видно, что в нем ценится не целое, а какая-то часть его. К словам Гейне о борьбе за тучные пастбища и «сахарный горох» Соловьев готов еще добавить борьбу за лавры и еще более страшную борьбу за власть и авторитет. Он даже не сомневается, что люди могут истребить друг друга в борьбе не только за умственное, но, что особенно поражает в утверждении Соловьева, и за нравственное преобладание[549]. В этих вопросах он щедрой рукой налагает мрачные краски.
Это, конечно, не обозначает, что наш философ отклонил всякие помыслы о счастье. При своем основном стремлении к примирению во всеохватывающей философии он признает относительную правоту эвдемонизма, в стремлении к счастью видит в первом периоде своего философствования нормальную цель; но уже тут становится ясным, что понятие эвдемонизма взято у Соловьева в не совсем обычном словоупотреблении, потому что он считает его присущим и христианской этике, «проповедующей вечное блаженство небесного царства», и даже пессимистической отрицательной этике как буддизма, так и пессимизма новой формации, утверждая, что блаженство Нирваны есть все-таки блаженство. Позже Соловьев к этому добавил, что между стремлением к счастью и нравственности нет противоречия, потому что «закон блага… определяется нравственным добром»[550]. Но ведь добро от бога и божеского характера; таким образом признание эвдемонизма приняло настолько растяжимый смысл, что понятие его совершенно утратило свой прежний смысл. К эвдемонизму же в прежнем смысле Соловьев, вне всякого сомнения, относился резко отрицательно. Здесь опять-таки стремление к всеединству и полноте оказалось побежденным религиозным отклонением этого мира, непризнанием земли, как и вообще эти основные тенденции никогда не переставали бороться в философии Соловьева. Всякое земное устроение было ему по существу чуждо. Он уже рано обрушивается на социализм за приписываемый ему земной характер[551]. Протест его против этой стороны социализма уже тогда был настолько велик, что она заслонила перед ним другую сторону социалистических стремлений – открыть человеку возможность человеческого существования и широкого духовного расцвета. Соловьев везде дышит мыслью, что тому, кто мирится с землей, никогда не понять истины, правды, неба[552]. Чувственный мир и земные стремления признаются самое большее как материал. Е. Трубецкой сообщает[553] необычайно интересную в этом отношении деталь о Соловьеве: он находил скучными «Анну Каренину» и «Войну и мир» Толстого и говорил, что он не может переварить эту «здоровую обыденщину»; но так как оба эти произведения далеки, во всяком случае в главных фигурах и картинах, от обыденщины, то ясно, что здесь это понятие надо взять в ином смысле, смысле земной обыденщины; ясно, что Соловьев здесь просто не мог отрешиться от своей основной тяги в иной мир и не принимал здесь земли, как он это показал всей своей жизнью, может быть, именно потому приобретавшей временами характер чудачества. Эта отрешенность от земли блестяще нарисована Е. Трубецким, хотя он и цитирует Соловьева «Крылья души над землей поднимаются, но не покинут земли».
Органическое понимание обязывало нашего философа, но им управляла идея иного царства, иных факторов и иных ценностей, и ясно, что земля и земное должны были потускнеть и испепелиться[554]. В конце концов спасение в «Трех разговорах» рисуется в образе трех апостолов, совершенно отрекшихся от земных организаций и духа: конечный итог, позже всецело захвативший Соловьева, должен получиться за пределами утопическими[555]. Таким образом, как ни горяч и ни велик был призыв Соловьева к цельному, полному, живому, конкретному, полнота в его философии потерпела несомненное крушение. Он прежде всего в конечном итоге оказался не способным принять земное и конкретно-плотское. Несмотря на его протест против отвлеченной западной философии, сам он не мог отказаться от ее традиций. Он не только отказал в самостоятельной ценности земле, но и человека он взял далеко не во всей его полноте; верх взяла та отвлеченная точка зрения, по которой в вопросе о вечности речь идет не о конкретном, эмпирическом человеке, а о нем как об «умопостигаемом существе», «о нем-то мы и говорим»[556]. «Мы должны, – говорит он дальше[557], – признать полную действительность за существами идеальными, не данными в непосредственном внешнем опыте». И здесь у Соловьева боролись две тенденции, но все-таки победа осталась за отказом от мира. Философия Соловьева не вместила действительно конкретного; она не только усмотрела, по христианской традиции, что мир во зле лежит и что «зло есть общее свойство всей природы», но она подчеркнула, что идеальное, божественное содержание природы лежит, как это ни странно, в том, в чем его видела и могла видеть только отвлеченная мысль, а именно «в объективных формах и законах»; конкретно-индивидуальное же есть «недолжное, дурное»[558]. В идеальном созерцании реальные явления в их индивидуальности в особенностях рисуются ему как «сон мимолетный» или только как пример всеобщего и единого[559], но примеров много, они преходящи, и не в них дело, а дело в том, что они поясняют. На фоне объективно абсолютного индивидуально-конкретное должно было поблекнуть с неизбежностью, тем более что Соловьев ведь не был и пантеистом.
Недоумение, вызванное крушением надежды на вмещение живой полноты, усложняется еще следующим. В его учении совмещаются противоречивые мысли: он говорит о том, что мир на пути к спасению идет по дороге смерти, страдания и полного упадка и только в конечном этапе движение в пропасть завершается спасением, спасением властью бога; но рядом он стремится понять красоту как воплощение идей, бога в материю, да при этом еще убежден в реальном существовании красоты. Но тогда земля не гибнет: то, что солнце сияло в природе и она дышала и дышит своей божественной красотой из века в век, то, что были и есть великие творения, ясно говорит, что мир этот не гибнет или гибнет не во всем, что уже тут на земле воплощается бог. Последний вывод в интересах выполнения лозунга полноты был бы вполне последователен, как его и делает Е. Трубецкой, но у Соловьева или колебание, или же прямой уклон от земли.
В такой тупик приводит попытка объяснять (а не только верить) все понятием бога и в то же время стремиться теоретически сохранить конкретно-живое, а это видно из того, что получилось у Соловьева: он живет и завершает все верой в действительное воскресение, в личное воскресение. Организм он рассматривает как «прекрасную форму, связанную живой и светлой силой»[560], а коренное физическое зло, смерть, есть разрушение организма; ясно, что вера во всеобщее торжество добра, с этой точки зрения, ведет не только к личному воскресению, но и необходимо к органическому, телесному воскресению, а это ведет нас с логической неизбежностью к восстановлению этого мира в его органической части и дальше и во всей его полноте, так как органический мир немыслим без неорганического: должна быть «земля». Тогда весь проделанный космический круг приводит назад, и весь путь с воскресением представляется нам совершенно непонятным.
Что этот ход мыслей навевается не случайными соображениями, это показывает то, что тот же вывод напрашивается и из учения Е. Трубецкого. Он не видит необходимости признать выбор между добром и злом, совершенный здесь, земной жизнью, окончательным и готов перенести его в иной мир[561]. Но тогда, значит, зло с «землей» не умерло, а перешло и в иной мир, хотя бы как возможность; тогда, значит, и там рисуется перспектива двух богов, двух начал, а, следовательно, по существу все та же земля, продолжение ее, потому что если и там выбор, то, значит, и там неясность, и там шатание, и там, выражаясь религиозно-философским языком, «покинутые богом». Какой же смысл в этом ином мире? Неужели для контроля над очистившимися? Но ведь всякий контроль указывает на некоторую слабость и недочеты или на возможность их. Е. Трубецкой подкрепляет[562] предположения о переиздании нашего чувственного мира во всеедином сознании в форме «иного» мира: он называет нелепым рационалистическим предрассудком отрицание возможности восприятия или существования всех переживаний, которые связаны с органами чувств у человека на данной земной стадии существования. Он убежден, что безусловному сознанию как таковому открыты не только слабые туманные краски нашего человеческого мира, но перед ним раскрывается необъятная по своей красоте и величию «гамма цветов и звуков»… И мысль наша невольно дополняет это красивое рассуждение дальше, наделяя бога всеми аксессуарами чувственного существа. Как мы надеемся показать дальше, для нас эти мысли совершенно неприемлемы, но во всяком случае они очень любопытны. Но для проповедника «иного» мира получается тяжелое положение: так кузнец Вакула, смакуя мед и сахар, чистосердечно полагал, что царица, без сомнения, кушает начисто только мед и сахар; так маленькому существу, человеку с его чувственными слабостями кажется, что у абсолюта должны быть все земные прелести, соблазняющие нашу малость, и притом в степени, доведенной до максимума. Очеловечивание и бога, и иного мира есть необходимое следствие попыток вести речи за бога и указать его суть и планы.
Еще более роковой характер для решения проблемы смысла человеческой жизни приобретает идея спасения и ее пессимистическая основа. Для нас ясно, что Соловьев не был абсолютным пессимистом, но он не был и абсолютным оптимистом; там, где оптимизм побеждает в его учении, он всегда в существе своем фундаментирован религиозной идеей бога; где речь идет о земном и человеческом, там и в ранние периоды сквозило недоверие, а позже оно приняло яркий характер, по меткому выражению Е. Трубецкого, катастрофического мироощущения[563]. С этим пессимизмом мы уже познакомили читателя. Нам представляется необычайно многозначительным, что Соловьев видел корень нравственности не только в благочестии, но и в жалости и стыде; как ни интерпретируйтe эти понятия, но в них нельзя не расслышать мотивов печальных: поразительно то, что такой важный нерв жизни человека, как нравственность, в своих корнях носит не радостный, а отрицательный характер. По существу получается так, как будто человек должен жить с наморщенным лбом и с насупленными бровями. У Соловьева говорит тут голос не радости, а сострадания, и жизнь становится тяжелым долгом, жизнью каких-то вечных колодников. Тут приходится подумать о близости к пессимисту Шопенгауэру, о котором часто заставляет вспоминать Соловьев. Не менее знаменательно, что мировая история рисовалась ему как всемирный суд[564], очевидно, предполагающий вину, проступок, грех, раздор, мученичество. И невольно напрашивается невыносимая мысль, не выйдут ли из этого судоговорения тяжущиеся стороны с ущербом и болью, ничего нового не завоевав, да и старого не восстановив, во всяком случае целиком.
Точка над i оказывается поставленной в философии Соловьева, как и вообще в родственных ему учениях, тем, что вся мировая трагедия ничего, ни крупинки нового принести уже не может: единое слово и дело истины и правды сказано и сделано; других нет и быть не может[565], Бог не впереди, а позади нас, и перед нами встает сокрушительная дилемма: или спиной к богу, или спиной к жизни. Дальше в пессимизме идти некуда. Значение этого вывода подкрепляется тем, что бог Соловьева ведь не лозунг, не аллегория, не иносказание, а живая реальность[566]. Пессимизм стал неизбежным, потому что добро и благо изображаются в религиозно-философском учении как нечто единое, однократное, абсолютно возвышенное, один раз достижимое – Добро, и раз оно дано спасителем, все остальное считается в этом одном достижении завершенным. Дальше мы увидим, к каким уничтожающим представлениям о конечном состоянии приводит такой взгляд. Остается миру только одно: понять тщету земли, земных усилий, отказаться от утопий, почувствовать утомление этой жизнью, загореться жаждой успокоения, возврата в вечное – одним словом, искать и жаждать спасения.
«Всякий раз, – говорит близкий к Соловьеву Е. Трубецкой[567], – когда человечество верило в близость рая, ад обнаруживал свою силу». Но ведь в итоге получается нечто для жизни совершенно непригодное. Такие учения должны смело принять соответствующие следствия и открыто и прямо или признать неисповедимость путей господних и не пытаться ничего объяснять в теориях именем бога, что самое правильное, или же звать к полному и ясному отказу от жизни. Иначе получается какая-то чудовищно нелепая игра: надо стремиться к прогрессу, не веря в него, или вовсе отбросить всякие стремления. Это действительно катастрофическое миропонимание. Нельзя звать человека к делу, отнимая веру в достижимость и движение вперед. А движения вперед здесь нет; по существу речь идет не о созидании, не о творчестве нового, но о деятельности по несчастью, из-за мировой катастрофы, из-за отпадения мировой души. Человеку здесь велят жить с невыносимым сознанием, что его жизнь – плод беды, и уходит она и уйдет только на исправление беды, что в конечном итоге все окажется там, где оно могло бы быть и без нас, и без мировой трагедии. В наших мучениях нет действительного, положительного смысла. Мы здесь напоминаем собой отечественного лодочника, описываемого Вл. Короленко в рассказе «На реке»: он своим «свободным» актом дал прибывающей воде унести лодку; наблюдая надвигающуюся беду, он горестно восклицал: «Унесет, ей-богу, унесет», но не двигался с места, хотя стоило ему сделать два шага, и лодка без труда была бы избавлена от опасности. Но он допустил катастрофу по инертности, а затем проявляет действительный героизм в спасении лодки и парома. В итоге такого героизма мы, как лодочник, промокшие, озябшие, измученные, вернемся к исходному пункту, спасем старое положение. Но по существу этот героизм способен привести в отчаяние, потому что он мог не быть, он не нужен. От отсутствия необходимости в нем мир и жизнь только выиграли бы. В такой мировой картине заложена какая-то клевета на бога, человечество и мир, потому что иначе трудно отнестись к всемирному «повторению задов»: ведь в боге полная совершенная действительность[568], иначе он не то, во что мы верим, и получается, что или человеческие усилия нелепость, или наш бог не бог и нуждается в пополнении и помощи.
Вся тяжесть такого теоретического построения завершается мыслью, которая не может не вызывать на горячий протест против нее. В самом деле, религиозная философия данной формации учит нас, что бог сверхличность, сверхсущность. Он, как говорит Е. Трубецкой[569], вне изменений, меняется только отношение между абсолютом и миром и притом ввиду изменения самого мира. Но по описанию религиозного философа, особенно ярко выявившемуся в «Трех разговорах» Соловьева и в его катастрофическом мироощущении и миропонимании, мир идет по пути все углубляющегося падения. Но тогда оказывается, что чем больше мир падает, гибнет нравственно, портится, грязнет в грехе, тем он больше приближает себя к богу, к абсолютной действительности, к пришествию спасителя, к спасению. Когда мир придет окончательно в упадок, будет висеть как бы на волоске от полной гибели, от опасности стать полным достоянием абсолютного зла, сатаны, когда останется только соломинка в виде святой чистоты старца Иоанна, папы и проф. Пауля, тогда и приобщится мир к богу: чем хуже, тем лучше, и, наоборот, чем лучше будут жить и вести себя на земле, тем меньше будет нужды в спасении и тем дальше тот великий блаженный конец, о котором говорит философия спасения: чем лучше, тем хуже. Ясно, какие императивы могут получиться для человеческой личности, если додумать это положение до конца: чем скорее мы потонем в грехе, тем лучше.
Но этим самым в сущности уже сказано, что наши сознательные стремления и поставляемые нами цели пусты и призрачны; смысл мира и жизни решается не нами. Последняя мысль напрашивается при чтении Соловьева, как и произведений родственных ему течений, тем настойчивее, чем сильнее выдвигается понятие бога в роли не только предмета веры, но и фактора теоретического объяснения и понимания. В конце концов и у Соловьева ясно преобладают именно универсальный смысл и универсальные силы, а человеческий элемент и сознательно отстаиваемый им смысл отодвигаются все больше в туман почти до полного исчезновения. Он, правда, подчеркнул, что смысл человеческой жизни не отделим от универсального и мыслим только в нем, но фактически все-таки универсальный смысл поглотил смысл лично-индивидуальной жизни, и она в ее сознательно-конкретной форме осталась неясной, неоправданной, а то и окончательно уничтоженной.
Все это с логической необходимостью вытекало из усиления объективного фактора в противоположность личному вплоть до полного поглощения последнего. Первоначальный замысел Соловьева объединить их, как в организме, и таким путем сохранить ценность конкретно-индивидуального, объединить общее и частное, общество и личность, не был выдержан до конца. Семя, заложенное в религиозных корнях философии Соловьева, дало рост, и объективный фактор получил явственно чрезмерный перевес над субъективным. Не даром он с самого начала так энергично подчеркивал, что зло и страдания это состояния индивидуального существа[570]. Мир и природа, а с ними и человек жадно стремятся все глубже и дальше уйти по этой дороге, но «все-таки вопреки всеобщему разделению и противоречию мир существует и живет как нечто единое и согласное»[571], но это все производит не индивидуальная единичность, а вопреки ей невидимая божественная сила. Только потому Соловьев и мог усмотреть в законе мирового тяготения проявление всеобщего смысла[572], аналогичное и родственное любви. Он был убежден, как он тут же и заявляет, что смысл мира пробивается сам собой в силу божественного определения, и наш философ рисует усиление света в природе, в истории человечества, и все это отдает привкусом достижения абсолютного духа Гегеля, который также пришел к выводам, уничтожившим значение личности[573]. По его учению даже нравственный закон предполагает абсолютного сверхличного законодателя.
По существу зло и стремление вызвано попустительством абсолюта, и не личность повинна в его корне, и устранит их из мира в сокрытой глубине вещей не индивидуально-личный фактор, а все тот же абсолют. Выходит действительно так, что личность человеческая в ее высшем достижении доходит только до положения медиума, как говорит Е. Трубецкой, до положения среды прохождения[574], но это уже гибель самостоятельного значения личности. Гибнет не только она, но и встает убийственный вопрос о том, для чего же нужна абсолюту, всесильному, обладающему всей полнотой всего, эта трагикомедия с участием жалкого пигмея – человека? Ответа на этот вопрос мы у Соловьева нигде не находим. Повесть об антихристе ясно показала во всяком случае, что если бы мир пошел по тому пути, по которому его ведет человек, то он погиб бы и стал бы бесспорным царством сатаны, и только божественная власть спасет мир, власть не аллегорическая, внутридуховная, а власть реально живая, сверхлично-мировая. Ведь в конце концов ни старец Иоанн, ни Петр, ни проф. Паули ничего не предпринимали и не предприняли бы, если бы всей катастрофы не вызвал антихрист своими чрезмерными притязаниями, но и тогда они оказались бессильны против него, а все совершает чудодейственная сила, сказочно воскресившая телесно-лично старца Иоанна и Петра; она же сокрушает войска антихриста.
Мы остаемся при старом недоуменном вопросе, зачем все это богу? На горизонте ясно вырисовываются контуры рассуждения, названного еще в старой философии ленивый разум[575], – с тою только разницей, что нас принуждают усмотреть в нем значительную долю основательности и справедливости. Но не только это. Нас учат, что все завершится всеобщим воскресением; праведник один не может воскреснуть, а с ним воскреснет все[576] и даже все, как это моментами слышится в философии Соловьева. Но тогда воскреснут и праведники, и грешники; воскреснут и Толстой, и Соловьев, воскреснут и Азефы, и Мясоедовы – и все, что они содеяли, будет в итоге обезличено, сведено к «общему итогу». В этом следствии слышится уже явственный голос религиозного фатализма, от которого только один шаг до вывода, что все, что ни делается, делается к лучшему; Соловьев в одном месте говорит, что бог допустил зло для большего добра; и зло положительно целесообразно; тогда и самые страшные грешники, убийцы и предатели по-своему и на своем месте служат все-таки миру и спасению, как и те, кем мы гордимся и утешаемся. Все от бога. Родственный Соловьеву Трубецкой, спрашивая, почему евреи, искавшие и ждавшие мессию, не приняли Христа, в ответ говорит, что бог усыпил их, затмил их слух, так что они и до сих пор слепы и глухи к Евангелию[577]. Итак, где же надо искать источник беды, если верить этому учению?[578] Но в таком случае обладание сознанием и самосознанием – «светом разума», является страшным, неописуемым абсурдом; его речь сводится тогда только к тому, чтобы осветить нашу беду, тщету наших собственных стремлений и оценок и удесятерить наши страдания.
Идя последовательно по этому пути, необходимо прийти к тому выводу, который готов допустить и оправдать Е. Трубецкой[579] – идею «спасения вопреки непослушанию». Что все эти следствия неслучайны и объясняются не недочетами философской мысли Вл. Соловьева, а лежат в самом существе построения теории на понятии бога как создателя и управителя мира, это видно из того, что те же следствия получались и у других философов богословского толка на протяжении всей истории философии. К тем же роковым результатам пришел, например, оптимист Лейбниц.
Там, где действует абсолют, бог, божественная, безусловная субстанция рушится без остатка, чья бы то ни была иная самостоятельность. Абсолют поглощает все[580]. Антропоцентризм Соловьева, обещавший так много, оказался вытесненным и побежденным религиозным абсолютом. Свобода личности погибла здесь безвозвратно, а с нею и смысл ее жизни, потому что погибла суть личности. Соловьев, правда, исходил из иного положения и до конца стремился сохранить абсолютное значение личности; он настаивал на ее бесконечности, считая это аксиомой нравственной философии[581], но мы говорим о том, что все эти заявления терпят крушение по существу ввиду того, что объективный фактор берет окончательный перевес и как абсолют решительно исключает и свободу личности, и с нею смысл ее жизни. Здесь повторилось то, что уже было в старых спорах религиозной философии, в частности, у Бл. Августина, ясно ощущавшего эти противоречия. Как правильно замечает Л. Лопатин, пока речь шла о целом, Соловьев не покидал почвы признания свободы, но «едва он принципиально касался проблемы человеческой свободы, он начинал говорить как детерминист»[582]. И по существу это было, на наш взгляд, неизбежно ввиду того, что было нами описано в предыдущем изложении. Ведь даже в области нравственности он смотрит на волю как на определяемое, и определяемое не идеей добра, а добром, живой реальностью, не зависимой от человеческой воли сущностью. К выбору добра человек определяется благодатью, тут нет места его свободе, только зло он может выбрать по своей воле[583]. Вообще свобода у него окрашивается далеко не всегда в розовые краски, и существование ее при боге не объясняется и не оправдывается ничем. Но смертельный удар свободе личности и смыслу ее жизни наносится тем, что у Соловьева, как мы видели, все от бога, все в возврате, в спасении, нового личность ничего создать не может. От себя мы, говорит Соловьев[584], «не можем привести ничего, никакого нового содержания: мы не можем сделать, чтобы абсолютное совершенство стало совершеннее». Но свобода, по глубокому замечанию Е. Трубецкого[585], есть или «способность к творчеству, или она ничто». Творчеству личности не осталось места у него – не осталось места и для свободы.
Но с ними оказалась подорванной и личность, потому что это ее корни. Чтобы сохранить ее, необходимо оправдать хотя и не сепаративную, но все-таки самостоятельную ценность конкретно-индивидуального. Соловьев и начал с необычайно значительного и много обещавшего протеста против отвлеченного и отвлеченно-общего: он провозгласил безусловность, божественность личности, он мечтал об идеальном положении, когда целое вместит части и не подавит, не поглотит их, но на почве своего понимания абсолюта пришел к уничтожению личности – не в виде ясно провозглашенного утверждения, но так получилось по существу[586]. Здесь окончательно выявился смысл речей о «тяжелом и мучительном сне эгоистического существования», о «мучительном сне личной воли» и блаженстве ее угасания «в свете идеального созерцания»[587], о двух мирах, мире генезиса, дурного, недолжного, корень которого есть злая личная воля, и о «безличном мире чистых идей» – область истинного и совершенного[588], где огонь личной воли, очевидно, уже угас. Соловьев поставил личность в зависимость от абсолюта, в сиянии которого она неизбежно расплылась. Е. Трубецкой в этом случае дает необыкновенно удачную мысль, что человеку-личности для того, чтобы быть чем-либо от себя и своими силами, необходимо обладать не только свободой вообще, но и свободой от бога[589], Соловьев же не оставил и следа от такой свободы и свел в конце концов человека на среду, в которой и через которую действует добро и благодать. Таков у него итог старой дилеммы: если взять абсолют серьезно, как сущее, как фактически действующее всеобщее начало, уничтожается личность; если личность взять как творца и деятеля, тогда абсолют в старой форме первоначала, «бога позади мира и нас» становится немыслимым. Самое печальное во всем этом, что в сущности в камне тогда больше смысла, чем в человеке: в то время как все люди упрямятся, мнят что-то свое, ставят свои цели, ни к чему не ведущие, и в конце концов с муками и страданиями сводятся все-таки к общему знаменателю, камень без лишних усилий все совершает безропотно и послушно предписанным ему законам и тоже окажется в боге, так как хотя Соловьев и не пантеист, но это не потому, чтобы бог его был чужд миру, а потому что он не только в мире и с миром.
Не осталась нетронутой при таких условиях, как мы отчасти отметили уже раньше, и грандиозная идея живой полноты абсолютных ценностей. Над всем восторжествовала этическая ценность: истина и красота были подчинены ей; только добро способно определять безусловно, и только в нем получают свое оправдание истина и красота. Соловьев не ограничился отклонением их сепаратизма, в чем следует видеть его неоценимую заслугу, но он поставил их под безусловное верховенство этической ценности, они должны служить последней, потому что добро это Добро, бог[590], добром и должна в своем корне определяться жизненная задача человека, на нем зиждется смысл человеческой жизни[591]. Именно «оправданию добра», этическому труду была поставлена задача решить вопрос о смысле жизни. Нравственностью определяется и царство божие[592]. С исключительной этизацией надвинулись и все опасности, связанные с попыткой решить загадку жизни на почве абсолютированного добра, как это мы видели на примере Канта и Фихте.
Ценная, озаренная смыслом жизнь пришла в большую бедность. И тут все внимание сосредоточилось на конце, на высшем благе, как у Канта, хотя Соловьев и обещал не выбрасывать предыдущих ступеней. Весь смысл и все значение мировой и человеческой жизни были перенесены в конец, а сами по себе они оказались покинутыми богом; они самое большее только ступени лестницы, только средство. У Соловьева нарушено, несмотря на великие элементы его философии, основное условие удачного решения вопроса о смысле жизни, это сочетание конечного с бесконечным, вечного достижения с возможностью вечных устремлений. Как переполняла его идея конца, об этом красноречиво говорит известное письмо Соловьева в редакцию журнала «Вопросы философии» под заглавием «По поводу последних событий» по поводу боксерского восстания[593]. Как правильно характеризует учение Соловьева его друг Е. Трубецкой[594], его учение было «во все периоды философией конца», причем этот конец – цель, во всей полноте он должен раскрыться «в конце времен за пределами земной действительности». В итоге должно быть достигнуто добро цельное, незыблемое, однократное и вечное, исключающее по существу ценность всех тех ступеней, которые раньше Соловьев сознательно стремился сохранить. В достижении вершины все остальное утратило свою ценность, весь процесс должен считаться законным, исполнившим свое назначение.
Тяжести положения, создаваемого таким выводом, не исправляет и тот остроумный пример, к которому прибегает Е. Трубецкой для оправдания конца в лице трех медиумичных представителей человечества: он сравнивает его с растением, у которого цветет только цветок, а мы говорим тем не менее обо всем растении. Нам представляется малоутешительным такой аргумент. Все примеры хромают, хромает и этот. Ведь тут человечество превращено в организм, но в обычном смысле это совершенно неприемлемо, потому что личности в принципе равноценны и одинаковы, способны стать и цветком, и корнями, а в организме эти роли строго распределены: корни не распустятся в цветок, листья не станут корнями, цветок не заменит корня. Или необходимо к людям приложить точку зрения предопределения – кому что суждено… Но тогда тем более нет места личности. Но нам говорят: философия конца не есть философия отчаяния, а наоборот. На это указывает и Е. Трубецкой, и Котляревский, который говорит[595]: «Но эта философия не несет с собой отчаяния, а дает предвкушение великой радости, ибо конец мира есть последняя борьба и окончательная победа над злом». Итак, все-таки конец мира, но конец радостный. Но что же он сулит дальше. Какие же по существу горизонты открывает он? Философия жизни, построенная на радости от уничтожения мира и конца его, не обещает ничего утешительного. Нам думается, что если даже это и радость, то радость не для человека и не человеческая. Ему никогда не понять ее и не вжиться в нее. Может быть, по воле всевышнего все это так и совершится, может быть, нет – нам это недоступно. Но кто строит миросозерцание, тот должен иметь мужество осветить светом своей мысли и чувством своего сердца этот конец; тогда получается нечто иное.
Получается катастрофа, а та радость, которую рисуют нам как ее следствие, это радость квиетизма, это радость отрицательная, радость старости, истощения, радость измученного жизнью, одряхлевшего человека, который радуется освобождению от пути и деяний, готов «не быть», лишь бы покой. Разве совершенство нужно человеку только для успокоения в божестве? Не есть ли это клевета на бога и человека? Это по существу точка зрения сугубо человеческая, а не божеская, да при том человеческая во всей ее слабости. Не одряхлевшего человека в его полном расцвете может удовлетворить только та философия жизни, которая открывает широкие и ценные горизонты; его нельзя увлечь картиной одного устранения и небытия. Нужно раскрыть картину подлинной жизни. Что же дают нам в этом отношении религиозные философы конца? Они говорят о радости конца, о пребывании в боге, но к этому ничего не прибавляют или указывают на церковное учение. Да и не могут они сказать, что же дальше будет в свете лучезарного добра, потому что тут для нашей мысли действительно конец, конец всего. Если вспомнить, что Соловьев называл в итоге безличный мир чистых идей «истинным и совершенным»[596], то картина станет яснее: во всеединстве его, в абсолюте все должно в конце концов обезличиться: все частные существования станут «все одно»; тогда все богатство, разнообразие, стремление исчезнет и «все» станет в сущности «ничто». Чаянная божественная полнота приведет к ужасающей пустыне. Добро, утратившее у Соловьева характер воли и деятельности, объективировалось и исключило в конце деятельность; осталась только картина бездеятельного созерцания, бездеятельного царства божия, потому что дальше некуда идти, не к чему стремиться, нечего желать; получается отсутствие целей, стремлений; получается не только безгрешное, но и «бездоброе» состояние. Это по существу не что иное, как все та же Нирвана, окрашенная положительным указанием на бога, названная царством божиим, но все-таки Нирвана. Ведь и Нирвана буддизма и Шопенгауэра далеко не лишена положительного оттенка радости, и она религиозного происхождения. Религиозный пессимизм и оптимизм в поразительной степени встречаются здесь в своих выводах[597]. Таков итог речей за бога и превалирования понятия абсолюта в теоретическом построении. Вл. Соловьев не оградил себя от опасности впасть в тот порочный круг, который получается у Канта и Фихте: на вопрос, что составляет цель жизни, ответ гласит: откровение царства божия в мире, а на вопрос, в чем заключается царство божие, мы получаем ответ – в добре, а добро от бога, но бог – Добро.
Наконец, нельзя не отметить одной очень интересной частности, продиктованной все тем же понятием абсолюта, вершащим все: вся философия отдает каким-то фатализмом, напоминающим вывернутую наизнанку марксистскую теорию: с одной стороны, образуется масса духовно религиозных полных пролетариев, почти все человечество, а с другой – маленькая группа религиозно-духовных капиталистов; далее порча мирская как повод ко второму пришествию и, следовательно, принцип «чем хуже, тем лучше», а затем ожидание неминуемой благодатной катастрофы и оптимизм, обоснованный верой в объективный, божественный ход вещей; в итоге уничтожение роли личности и смысла собственной ее жизни и сознательной деятельности.
Мы далеки от мысли свести философию Соловьева на одни эти выводы, но возможность их не случайна, а они получаются последовательно из двух борющихся течений: победы этическо-религиозного традиционного абсолютизма. Соловьев дал великие идеи, великие замыслы; особенно велик и ценен его протест против отвлеченного пути и призыв к цельности. Соловьев в этом отношении глубоко поучителен, но и поучительны те роковые выводы, которые получились у него, потому что они характерны для теорий, оперирующих традиционным религиозно-философским понятием бога и абсолюта. У Соловьева не антропоцентризм, оригинальный и возбудивший большие надежды, а в его теории два центра, бог и человек, небо и земля; примирить их ему не удалось, так как оба были поставлены на почву одинаковой реальности, и все закончилось тем, что Соловьев пожертвовал человеком для бога[598]. Проблема смысла человеческой жизни оказалась решенной неудачно. Его учение стало не философией жизни, а философией конца в прямом смысле этого слова.
X. ПРОБЛЕМА СМЫСЛА В УЧЕНИИ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОГО ТРАНСЦЕНДЕНТИЗМА (БУЛГАКОВ, БЕРДЯЕВ)
То, что не только неприемлемо, но и вообще неприступно для подтачивающей работы разума в практической религиозной жизни, при теоретическом использовании, для которого оно не предназначалось, неизбежно должно привести к уничтожающим следствиям и противоречиям. Неудачу такого крупного философа, каким является Вл. Соловьев или Лейбниц, нельзя рассматривать как продукт индивидуальных ошибок этих мыслителей; их ошибки носят для нас характер органический: они неустранимо присущи всякой теории, пытающейся в лице человека трактовать мир с точки зрения бога и абсолюта как первоначала или первоисточника, как бы с точки зрения «бога или абсолюта позади нас и мира». На некоторые дополняющие черты мы и хотели бы указать еще здесь, хотя самое существенное ясно уже из обсуждения учения Лейбница и особенно Вл. Соловьева.
Все попытки теодицеи в этом смысле, неудачу которых констатировал Кант[599], не только не дали, но и не могут дать ничего. Во всех этих попытках все говорит о кричащей лжи речей за бога. Мыслитель в этом положении мечется от одной проблемы к другой с одним тем же результатом: спасая одно, он губит другое, и иного выхода он найти не может. В таком положении находятся бог и человеческая личность.
Личность как таковая гибнет неизбежно, потому что она при боге становится совершенно излишним придатком, и мир принимает фаталистически предопределенный характер. Кант был глубоко прав в своем заявлении, что если бог является всеопределяющей причиной как первоисточник, то человек может быть только или автоматом, или марионеткой[600]. То, что составляет сердцевину личности, его свобода, испаряется как дым. Упоминание о личности человека при всеобъемлющем абсолюте может иметь только один смысл, именно, что личность низводится на строго и неизменно предопределенный и при том искусственно выделенный атом, безгласный сам по себе и живой только постольку, поскольку он не есть сам, а общее. Мейстер Экгардт хорошо чувствовал эту мысль, заявляя, что всякая множественность и индивидуальность может быть только отпадением от бога и потому есть нечто призрачное. В большинстве таких религиозно-философских учений и слышится то более явственно, то глухо отголосок взгляда на человека, как на существо «падшее, порабощенное последствиями греха»[601], и задача должна заключаться в его преодолении, в преодолении этой «боли и стыда»[602].
Пессимизм идет по пятам за таким миропониманием. Мы уже указывали, что бросающаяся в глаза близость Соловьева с Шопенгауэром в описании земного мира отнюдь не является случайной. Целый ряд писателей подчеркивает пессимистическую черту в религиозном миропонимании; как говорит Древс, всякая религия по своему существу рождается из потребности в спасении, из мировой скорби[603]. Поэтому наиболее последовательные религиозно-философские мыслители и не могут принять этот мир и жизнь, не впадая в противоречие. Все развитие при боге как первоначале дышит полной пустотой, ненужностью именно потому, что это в лучшем случае только возврат к исходному пункту. Но в самом возврате также открывается пустота и получается веяние смерти, потому что там уничтожается цель, движение, возможность желания. И потому, несмотря на пышные возвещения о вечной жизни, там получается ничто, потому что там все; невольно напрашивается мысль о Нирване с ее покоем; всякие же попытки положительных указаний ведут к ненужному повторению земных черт[604]. Неприязнь христианства к земле и земной жизни ясно почувствовал Ницше, увидевший в этом повод для своих резких выступлений, а его защита земли вызвала не менее резкие отзывы Вл. Соловьева, потому что здесь столкнулись два мироощущения: проповедь земли и катастрофическое мироощущение.
Положение личности уничтожается, как мы заметили, тем, что не остается места для ее свободы: если она попытается делать то, что противоречит воле бога, из этого все равно ничего не выйдет; если же она сделает то, что нужно, то это будет совершено по воле бога. Глубоко поучительно, что Спиноза, в конце концов все построивший на понятии бога, ясно и категорически выступил с отрицанием свободы, залечивая эту смертельную рану человека пантеистической точкой зрения. Человек только modus, как и все остальные, он только пылинка мироздания; как разумное существо, он может только одним путем возвыситься до смысла и бога – это отказом от всякой обособленности и собственной воли, это сознанием своей включенности в абсолютно необходимую связь. В отдельной человеческой жизни как таковой нет никакого смысла; все поставляемые ею свои цели эфемерны, так как для телеологии у Спинозы нет места ни в какой форме; даже душевные переживания и сами начала нравственности сводятся к такому началу, как механизм страстей и стремление к самосохранению. Указав человеку – не без неясностей и не без противоречия с отрицанием свободы и утверждением необходимости – на интуитивное познание как на средство слиться с богом, он открыл перспективу универсального смысла, но и только его, потому что и человеческие оценки этического, эстетического и др. порядка остаются метафизически беспочвенными и бездейственными. Не спасает от беспросветности в конечном счете и amor Dei intellectualis[605], потому что в понятии как бога, так и субстанции выявляется только признак всеохватывающего начала, его самочинность, но совершенно не обоснован момент ценности в этом всеобъемлющем чудовище, не способном заставить нас обоготворить себя. В итоге вырисовывается только абсолютное стремление к бытию и самобытию, и на этом как будто заканчивается вся эпопея мира, хотя к ней и прилагается предикат божественности и осуществления мировой гармонии. Количество, величина, бытие по существу сами по себе не дают и тени обоснования смысла.
Тяжкий узел завязался на почве идеи «бога позади нас» в философии Бл. Августина, а также в учении других учителей церкви. Понятие свободы вызвало у него целый ряд шатаний. Уже у стоиков с их логосом и мировой необходимостью ярко выявился детерминизм, породивший безнадежные попытки спасти ответственность личности, которой они очень дорожили. У Бл. Августина свобода, а вместе с нею и ответственность личности, и смысл ее жизни также повисли в воздухе. Он допускал свободу воли только до грехопадения, нуждаясь в ней для того, чтобы справиться с проблемой происхождения зла в мире при боге, а затем он приходит к ее радикальному отрицанию: в лице праотца Адама ее утратило уже все человечество и люди уже не могут не творить зла и греха. Сгущая все более единоличное властительство абсолюта-бога, Бл. Августин говорит под влиянием своей пламенной всепоглощающей веры не только то, что все, вытекающее не из веры, есть грех, но он идет дальше: он отказывает человеку в значении и самостоятельности каких бы то ни было его нравственных поступков, так как добро творится не им, а только на нем путем благости господней. Выдвигая и сгущая одну из часто повторяющихся идей отцов и учителей церкви, Августин утверждает, что усилия личности самой по себе лишены всякого значения, потому что все совершается по воле божией, и одних он помиловал по собственной благости, большинство же оказалось отвергнутым, но что особенно характерно для этой точки зрения – все это совершается совершенно немотивированно для человека: и спасение, и отвержение произошло и происходит одинаково и заслуженно, и незаслуженно: бог, таким образом, может явить свою благость грешнику и не дать спасения праведнику. В результате, как правильно отмечает Р. Ойкен[606], Бл. Августин превращает божественную власть в деспотизм и грубейший произвол. Как известно, Лютер даже озаглавил одно из своих произведений «Dе servo arbitrio»[607], в котором он с богословской точки зрения доказывает, что признание свободы воли противоречит основам религии, что оно просто-напросто безбожно. На той же точке зрения стояли Цвингли и Кальвин. При таком понимании открывается полный простор неразумию и бессмыслице; вместо оправдания усилий и чаяний человека такое учение отрезает себе путь к каким бы то ни было жизненным, действенным призывам и внедряет полный фатализм и полное осуждение мира и жизни, как нелепого произвола. Тяжесть таких следствий чувствовал Бл. Августин, искавший и иных путей решения этого вопроса. Мы уже раньше видели на таких мыслителях, как Фихте и Соловьев, как вместе с повышением значения объективного начала понижается роль личности и смысл ее жизни. Это особенно бросается в глаза у Фихте (по направлению к последнему периоду его философии).
Но подорванной в таком учении – при идее «бога позади нас» – оказывается и сама идея бога. К этому приводит, сколько этому ни сопротивляются, проблема зла в мире: при боге непостижимо зло. При дьяволе непостижимо добро. Более или менее остроумные попытки разъяснить зло в духе его ослабления настолько, чтобы оно не мешало идее бога, продолжают делаться вплоть до наших дней[608], и все производят очень тяжелое, совершенно искусственное впечатление, нисколько не устраняющее исстари живущее недоумение: нелепая мысль о вине бога за все, что совершается, за зло и за все ужасы мира и жизни при боге как первоначале идет необходимо за нами по пятам не только при грубом понимании, но и при более утонченной интерпретации. Ведь, даже относя все зло к человеку и миру сотворенному, нельзя забывать, что одно существование этих несовершенств подымает весь комплекс сомнений[609]. Пресловутый аргумент Сенеки[610], совершенно заношенный последующими веками, что судьба и бог дарят добрым людям испытания, чтобы их добродетель не угасала, по существу только отодвигает роковой вопрос об ответственности высшей власти, о том, почему при боге-первоначале создалось небожеское или даже не совсем божеское: почему был создан человек таким, что ему нужны зло и страдания для поддержания в себе живого духа. Беме эти думы привели, как известно, к оправданию зла как необходимого дополнения к богу; он и добро, и зло пытался вывести из одной первоосновы; Лейбниц пришел к жалкой мысли о том, что всевышний выгадывает на зле[611], и этим документировал весь трагизм положения глубокого мыслителя в этом скандале философии, созданном попыткой объяснить необъяснимое (при идее «бога позади нас»).
И в наше время можно указать те же безвыходные попытки у вдумчивых религиозно-философских писателей. Твердо держась понятия бога как основы для построения миросозерцания С. Булгаков[612], например, ясно отдает себе отчет, что верующему нельзя признать самостоятельное бытие за злом и вместе с тем его нельзя приписать богу; и вот, отыскивая выход, он дает следующее необычайно искусственное построение: «Есть только благо», а все, что не благо, не есть. Однако не есть не обозначает необходимо нет в смысле полного отсутствия. Зло может мыслиться опущенным или вкрадшимся в мироздание… Именно не должное «актуализирование того ничто, из которого сотворен мир». Создатель указал этой земной основе роль пассивного послушного начала, но… она вышла из повиновения. Таким образом мы ясно слышим отголосок старого убеждения, что корень зла в свободе, но все по-прежнему остается мысль, что все-таки и это начало есть и оно подчинено богу, так как он один есть, и, следовательно, или он не всемогущ, или на нем вина; но ко всему еще воскрешается из старой истории пресловутое ничто, которое все-таки есть что-то.
Все эти противоречия производят тем более тягостное впечатление, что о них же говорит и жизнь, что это недоумения не только теории, но и действительности, пытающейся опереться на ту же веками освещенную идею бога-первоначала, «бога позади нас». Там в жизни мысль о сознательном творце часто должна рождать и рождает тысячи недоумений во главе с все тем же вопросом, откуда зло и несправедливость, война, болезни, страдания, проституция, уничтожение и т. д. Кому приходилось сидеть у постели больного или умирающего ребенка или видеть пухнущих от голода и холода детей, маленьких невинных существ, съеденных войной и жизнью, тот, без сомнения, не раз ломал руки, в отчаянии повторяя, зачем, зачем все это, кому это нужно! Здесь тоже ссылки на неисповедимость путей абсолюта будут звучать как издевательство, заставляя называть жалкими мысли и о свободе воли, и о мировом творце. Они вызывают тот бунт, который так проникновенно глубоко дает Достоевский в образе Ивана Карамазова. Его восстание на бога – но именно на фоне идеи «бога позади нас» – человечески ясно и неизбежно. Не только в образе Илюши, душу которого растлили и озлобили в раннем детстве надругательством и нищетой, говорит эта обида; она идет дальше. Как говорит Ив. Карамазов, где можно найти оправдание страданию невинных детей «за грехи отцов». «Нельзя страдать неповинному за другого, да еще такому неповинному». Бунт Карамазова потому и страшен, что он понятен, а этим и силен. Он касается самого существа вопроса, когда от непримиримого протеста и обиды за затравленного собаками по воле помещика на глазах матери пятилетнего ребенка переходит к заключительной мысли о том, что никакая гармония, никакой абсолют не сделают бывших ужасов и загрязнения небывшими: уйдут обиженные, зарастут могилы, но идея безнравственного, зверского останется; на лучезарной белизне платья новой божественной жизни останутся кровавые следы невинных, ненужных жертв; мы придем в новый мир спасенными, но запятнанными; идея справедливости не может допустить нас до забвения бывшего. «Не хочу я, наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами. Не смеет она прощать ему»[613]. Нельзя забыть за всем этим неуслышанные вопли маленького существа к «боженьке» о помощи, его, бьющего себя в надорванную грудку кулаками, в «подлом месте», а ведь в наше время сотни тысяч детей, раздавленных войной, взывали и взывают бесплодно к «боженьке» и плачет мир кровавыми слезами, скрывая свое лицо и взоры, чтобы не видеть того, что есть. Все эти думы заполняют наше сознание особенно в наше время, захлебывающееся в крови, пережившее вырезывание целых народностей, знающее целые армии детей, совращенных на преступление и уличные пороки.
Так вырастает великая вина, непосильная для понимания разума и сокрушающая всякие попытки понять мир – теоретически – из бога как первоначала. Она ведет нас к тяжко кощунственным выводам, от которых нас не спасают никакие хитросплетения, как бы они искренни и талантливы ни были, потому что ложь кроется в самом корне. Эта великая ложь заключается в том, что при теоретическом использовании понятия бога как исходного пункта мы вынуждены совершать ту «беспредельную дерзость», против которой глубоко возмущался Спенсер[614], – это ложь речей за бога, это речи за него нашими человеческими устами и нашим человеческим разумом.
Эта ложь чувствуется уже в чисто логических противоречиях, которые получаются у философов, теоретизирующих понятие бога. Мысля бога во всей его полноте, мы вместе с тем не можем этого сделать, не ограничивая его, потому что всякое определение неизбежно ведет к отграничениям и ограничениям; даже неуказание неограниченности связывает логически. Тем более принижается бог, когда человек разбирается в нем, его помыслах и т. д. как в своем собственном портфеле; какой невероятной гордыней мысли надо обладать, чтобы вступать на этот путь, в особенности на фоне нашего явного бессилия разобраться с простой человеческой душой. Ведь для этого нам самим надо быть богом, потому частичной причастности для таких знаний высшего существа и его помыслов не только недостаточно, но надо даже по существу своими мыслями возвыситься над богом; ясно, что при нашем человеческом складе все это могло выродиться только в грубый, скрытый антропологизм и принижение идеи бога. Xаoc и противоречия – и самые кричащие и больно задевающие религиозное чувство – здесь совершенно неизбежны. Несовершенство мира и человека неумолимо навязывает мысль о несовершенстве их творца. Приписывание воли, желаний, планов, предначертаний богу ясно говорит, что ему многого не достает, а это уже не бог.
Уже давно указывали здесь на возможность таких нелепостей: например, всемогущему ставится задача стать злом и демоном; если он ее выполнит, он не бог – если не выполнит, не всемогущ; если бог не мыслит всех своих состояний прошлых, настоящих и будущих и притом всех и всего, то он не всеведущ; а если он мыслит все, то он не бесконечен и т. д.[615] Взяв понятие бога в традиционном смысле, мы неизбежно теоретически впадаем в опасность разрушить возможность личных отношений к нему; оно утрачивает всякий смысл: свобода моя немыслима, потому что иначе могло бы совершиться то, что его волей непредусмотрено и неопределенно, и он был бы или невсеведущ, или невсемогуш, или и то, и другое вместе; но и всякая молитва, милость, прощение и т. д. ведут опять-таки к несообразностям, потому что смилостивившийся бог уже был бы богом, принявшим во внимание до того неизвестный ему мотив или отменяющий, отрицающий свое собственное решение… Не менее странные выводы получаются и относительно земной жизни и мира: религиозно-философские учения не приемлют мира, они, как говорил Ницше, «потусторонники» и несут нелюбовь к земле, но рядом идет проповедь любви к ближнему, который дан нам, ведь в этом мире и через любовь к ближнему диктуется любовь к этому миру; в велении спасти его речь идет о велении не только спасать душу, но и конкретную живую человеческую личность, даже жертвуя самим собой; заповедь «не убий» также говорит о сохранении конкретной жизни, а не только души, потому что ее можно убить только духовно, а это запрещается другими заповедями. Наконец, в вечных ссылках на «иной» мир и негодующее отклонение этого греховного мира слышится уже не только высшая христианская добродетель, смирение, но и высший порок, гордыня, отсутствие подлинного смирения перед богом и веры в него – высшая притязательность: мы посланы сюда богом, но мы напоминаем людей, которых одели скромно, но они сетуют на то, что их одеяние бедно, и рвутся к бархату и парче, они требуют иного мира и порываются уйти с того поста, где они поставлены. Мы напрасно думаем достичь блаженства путем самопогребения (выражение Фихте)[616]. Противоречива и другая сторона: в идею бога вложена идея конца, завершения, но именно потому к ней присоединяется привкус Нирваны[617], меж тем как лучезарное царство божие должно быть вечной жизнью, выходом на свет из тьмы. Мечты о «царстве божием» в таком понимании, мечты о «конце» представляют в сущности мечты о наступлении того сказочного царства, где все застынет на том моменте, на каком оно достигнет высшей точки – божественное, но заснувшее царство: «повар заснул, стоя у плиты, огонь заснул как был в этот момент, конюх застыл с щеткой у коня, советник так и остался с поднятым пальцем и т. д.», впрочем, и они все должны исчезнуть.
В главе о Вл. Соловьеве было уже упомянуто о том, что в философии конца имеется место только для средств, но нет места для «я», для личности, которая не может помириться с этим положением. В этой атмосфере вполне понятны трагические, мучительные вопросы героев Достоевского. Вот бунтарь Иван Карамазов восклицает: «Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страданиями моими унавозить кому-то будущую гармонию». «Слушайте: если вы все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети, скажи мне, пожалуйста!» Вот Ипполит Терентьев, маленький человек, стонет: «И пусть ему (человеческому сознанию) предписано этой высшей силой уничтожиться для чего-то и даже без объяснения, для чего это надо; пусть – я это все допускаю. Но опять-таки вечный вопрос: для чего понадобилось страдание мое. Неужели нельзя меня просто съесть, не требуя от меня похвал тому, что меня съело!» Когда гордость нашептывала Карамазову: «Надо только разрушить в человечестве идею бога, вот с чего надо приняться за дело», то роковая ошибка заключается здесь не в том, что призывают разрушить идею бога, а в постановке – в том, что говорят об идее бога вообще, меж тем как речь должна идти о разрушении идеи бога «позади нас» и как фактора, который позволительно использовать теоретически.
К каким выводам ведет вся эта цепь недоумений, допускающая присоединения большого числа новых звеньев, это мы надеемся показать позже. Пока же отметим только, что в пламенных нападках Ницше на «потусторонников» выявились не только одни черты отвратительной вражды к христианству «злополучного» мыслителя», как думал Вл. Соловьев, но в них, с другой стороны, он метал меткие стрелы в тех, кто, охваченный непомерной теоретической гордыней, брался вести речи за бога, о его помыслах. Им негодующие слова Ницше попадают не в бровь, а в глаз, когда он гневно протестующе восклицает: «Человек был он, и только бедная часть человека и я», потому что в него уложили только думы человека о добродетели и совершенстве и вылущили все остальное, так вот и получился этот противоречивый «обесчеловеченный нечеловеческий мир»[618].
Так как всякая свобода при абсолюте бога «позади нас» становится немыслимой и всякое прибавление и творчество нового превращается в укор богу в неполноте, то ясно, что или личность уничтожается, как это происходит у одних мыслителей во имя торжества идеи бога, или же человек возвышается до бога, но тогда бог и… становится излишним.
Из числа религиозно-философских писателей, близких к последней точке зрения, можно указать на интересные мысли Н. А. Бердяева[619]. Он с большой чуткостью отозвался на все указанные противоречия и с большой смелостью попытался наметить их устранение. Он прежде всего ясно отмечает в традиционном религиозном учении характер искупления, не отделимый от аскетизма, подчеркивая его способность понять жизнь только как послушание за грехи, их искупление, как «несение тяготы», жизнь как кару, но Бердяев – в этом основная идея его увлекательного труда и мотивизация его названия – убежден, что тайной искупления исчерпывается только отрицательная стадия, но, кроме нее, существуют положительные задачи бытия и жизни; он не отклоняет идею искупления, но евангелие сказало по его учению не все, оно вскрыло только отрицательный момент; вопрос же о положительной стадии, которая заключается в творчестве нового и непредвиденного, остается открытым. И в этом автор предлагает видеть божественную премудрость, потому что, если бы евангелие дало и их определение, то творчество неизбежно утратило бы свой характер и превратилось бы опять-таки в послушание[620]. Бердяев подчеркивает[621] отсутствие творческого героизма в традиционной христианской морали: «традиционная мораль христианского мира буржуазна в глубочайшем смысле этого слова», христианская мораль смирения и послушания недостаточна, в ней не все ценности жизни раскрываются. Духовная работа смирения и послушания – лишь моменты пути, цель же – в творчестве новой жизни. Этим Бердяев, без сомнения, решительно перешагнул через традицию, бессильную справиться с жизнью, потому что она останавливалась только на отрицании и в перспективе рисовалась не вечная жизнь, которую обещали, а вечная смерть или Нирвана. Но этот писатель пошел дальше к другому необходимому следствию, без которого для личности первое было бы совершенно обесценено. Ссылаясь на неподдающуюся разгадке божественную антиномию, на тайну божию, он открывает простор личности для творчества и для насыщения всей ее жизни необъятным глубоким смыслом – идея, которую мы считаем основной для построения жизнепонимания, хотя мы, как это будет видно дальше, подходим к ней с совсем иной стороны и без аксессуаров религиозно-философской теории. Бердяев учит[622], что «не только человек нуждается в боге, но и бог нуждается в человеке», усматривая в этом тайну богочеловека. В его понимании жизнь уже не есть голая борьба с грехом, попытка вернуться после долгих мучительных странствий к тому, что и без того было, – мысль, совершенно умерщвляющая всякий смысл, а она есть творчество, созидание иного, «продолжение творения». Человек уже не средство, не голый исполнитель, не илот, он выступает в роли сотворца. Он уже своим появлением в мире и жизни знаменует «прибыльное откровение в боге»[623]. Бог и человек, вместе взятые, больше, чем один бог[624]. По учению Бердяева творческий акт предполагает на единой основе множество свободных и самостоятельных творцов, и таким образом обосновывается возможность существования «наряду с богом» массы человеческих личностей[625]. «Нельзя верить в бога», говорит он[626], «если нет Христа. А если есть Христос, то бог не хозяин, не господин, не самодержавный повелитель – бог близок нам, человечен. Он в нас и мы в нем. Бог – сам человек – вот величайшее религиозное откровение, откровение Христа. С Христом прекращается самодержавие бога, ибо сыновний богу человек призывается к непосредственному участию в божественной жизни. На мир и жизнь устанавливается своего рода «конституционная» точка зрения – личность спасена, но бог ограничен – таково следствие, от которого таким учениям никак не уйти[627].
Бердяев дает большую идею в своей попытке понять человека как сотворческий, сосозидающий фактор, но он вместе с тем удержал традиционную христианско-философскую основу, и его понятие бога оказывается совершенно мутным и несостоятельным; оно отягощено всеми старыми следствиями, умноженными половинчатой позицией автора, вызывающей в конце концов над этими малыми богами и большим богом желание мыслить все-таки еще подлинный настоящий абсолют. Мысль наша не мирится с идеей бога, который творил, но «не дотворил» и обратился к человеческим резервам, ограничившим самодержавие и осуществившим конституционный строй. Это уже не бог, а божок… Как ни симпатична идея творчества у Бердяева, из писателей, основывающихся теоретически на идее бога как реального первоначала, без сомнения, более последовательны те, кто, как, например, С. Н. Булгаков, склоняется к отрицанию творческой роли человека.
Так Бердяев и Булгаков выявляют две безысходные крайности точки зрения Вл. Соловьева, как ни интересны и ни значительны их учения.
Несмотря на вскрытие положительных возможностей, в учении Бердяева ясно слышится обязывающий голос первоисточника. Он и в гениальности, и в святости видит «обреченность»[628], и его не покидает дух катастрофичности, рождаемый коренной основой философии конца, он предвещает катастрофизму будущее[629] В противоположность покаянному настроению писаний С. Н. Булгакова у Бердяева слышится веяние бодрой жизни, призыв, но он то и дело заглушается более глубокими пессимистическими тонами: он видит в культуре великую неудачу; философия и наука явили, по его мнению, неудачу в творческом познании истины; искусство потерпело ее в царстве красоты, семья и половая жизнь – неудачники в творчестве любви. «Культура кристаллизует человеческие неудачи», – говорит он, суммируя свои выводы[630]. И над всем становится мысль, развенчивающая человека, когда автор клеймит альтруизм, как буржуазную мораль, когда человек, этот сотрудник бога, делящий с ним триумф творчества, характеризуется как «стыд и боль»[631]. Только глубокое разочарование и аромат всего того же недоказуемого, но и не подлежащего оспариванию катастрофического мироощущения мог побудить его воскресить диковинный образ мужедевы, андрогина. Он не понял и не принял семьи, не принял пола, потому что все это дышит этим миром и потому не умещается в его учении, скованном все-таки идеей иного мира. И он восстал на бога за этот мир, и он явил бунт.
Объективный фактор в конце концов побеждает, но мы уже раньше видели, что там, где, как у Гегеля, личность только таскает каштаны из огня для кого-то иного, смысл ее жизни найден быть не может. Высшим началом, конечно, может быть явлен всеобъемлющий универсальный смысл, как его и намечают религиозно-философские учения, но он не спасает положения, потому что смысл тогда присущ нам в целом и как части независимо от нас, но у нас нет тогда решительно ничего своего; в том, в чем мы особая личность, «я», мы оказываемся покинутыми. Наличность самосознания в этом случае обозначает страшную муку, потому что мы тогда неизбежно судим и оцениваем, и ставим цели, и ищем своего и тем ярче оттеняем всю тщету и бессмысленность нашего «я», наподобие того, как если бы каждый наш палец, волос и т. д. был бы наделен самосознанием.
Нам остается только еще добавить указание на вывод, что основным грехом таких учений является постоянно повторяющаяся попытка решить проблему мира и жизни каким-нибудь одним фактором, большею частью религиозно-окрашенной нравственной идеей; все это должно неминуемо породить нежизненную узость, особенно тягостную для личности. По существу, например, узкий моралист немногим менее опасен, чем безнравственный человек: последний разрушает прямым путем, а первый разрушает также, но уж косвенным путем, – тем, что он абсолютирует часть вместо целого, не имеет полноты, ни жизни, ни личности и давит живое мертвым; и он тем опаснее, что он освещает свои ошибки авторитетом божественного или вообще высшего служения.
XI. АПОЛОГИЯ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ В ФИЛОСОФИИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ГЕРОИЗМА (НИЦШЕ)
Среди крупных философских учений своеобразное место заняла философия Ницше. В то время как все рассмотренные нами учения искали и по своему открывали смысл жизни в направлении на трансцендентное бытие или трансцендентное долженствование и в зависимости от этого признавали его или отрицали, Ницше встал ко всем им в горячую, пламенную оппозицию. Он особенно остро воспринял умаление ценности земной жизни и роли личности, неизбежно следовавшее за трансцендентной точкой зрения, и выступил как представитель противоположной крайней позиции. В его философии раздался голос апологета земной жизни, ее пророка. Как ни много колебался Ницше, но стремление возвысить жизнь и возвеличить человека проявлялось у него везде. Сам Ницше говорил[632], что разрыв с Вагнером и антагонизм с миросозерцанием Шопенгауэра ясно выявили его собственную жизненную задачу – задачу оправдания жизни во всех ее видах, не исключая самых страшных, двусмысленных и лживых ее проявлений, как об этом в сгущенной форме, по заявлению самого философа-поэта, должно свидетельствовать понятие «дионисийского» элемента.
Ницше вырисовывается в его настоящем значении, когда он выступает как учитель жизни; об этом говорит не только его учение, особенно в центральный период его творчества, но и господствующая форма большинства его произведений. Он всегда взволнован, всегда приподнят, всегда клонится к афоризмам и императивам, не только потому, что такова была его писательская натура, но еще и потому, что философские вопросы, волновавшие его, никогда не были для него чисто теоретическими вопросами, плодом одного холодного разума – это были вопросы практической жизни, кровно интересовавшие человека в Ницше, и, обсуждая их, он всегда говорил как учитель жизни, как ее реформатор, и, может быть, отчасти именно потому голос его звучал подъемом и глубоким волнением. По поводу своего наиболее значительного произведения «Так говорил Заратустра» Ницше, по свидетельству его сестры, прямо заявлял, что назначение этого творения служить путеводителем к новой жизни[633]. В самом труде он влагает в уста Заратустры слова: «Я xoчy учить людей смыслу их бытия»[634]. И многое в учении этого философа-поэта становится понятным только тогда, когда мы вспомним, что он хотел быть не только учителем жизни, но что он выступил в роли пламенного защитника земли и земной жизни.
Из многочисленных произведений Ницше мы вправе выдвинуть его «Also sprach Zarathustra» и «Der Wille zur Macht»[635] тем более что, как говорит Ферстер-Ницше[636], Заратустра принадлежит к числу творений ее брата, наиболее связанных с личностью автора и наиболее дорогих ему. Сам Ницше говорил, что образ Заратустры далек от случайности и даже являлся ему во сне, когда автор был еще ребенком. В «Ессе homo»[637], оглядываясь на свои творения, наш философ возводит этот свой труд в ранг высшего продукта своего творчества, заявляя, что он принес человечеству самый драгоценный дар из всех сокровищ, которые когда-либо были поднесены ему. Центральное положение «Also sprach Zarathustra» и тесно связанного с ним «Der Wille zur Macht» подтверждает и многочисленный хор голосов ницшеанцев, подчеркивающих, что в этих трудах Ницше окончательно сбросил с себя остатки зависимости от посторонних влияний и стал вполне самим собою. Таким образом все эти мотивы вполне подтверждают наше право в вопросах о смысле жизни обратиться за ответом главным образом к этим двум трудам как к ницшевскому Евангелию жизни[638].
Отыскивая путь к решению вопроса об истинном смысле жизни, Ницше столкнулся с различными готовыми ответами, освященными веками и тысячелетней традицией. Их несли религия, философия, наконец, сама жизненная традиция в ее многосложной форме. Подойдя к ним с бурной потребностью в жизни, в яркости, в красочности, Ницше вынес от всех них только одно впечатление глубочайшего разочарования: вместо оправдания и уяснения смысла жизни он усмотрел во всех этих учениях полное развенчание, а то и прямое устранение земли и всего земного. И вот наш поэт-философ в бурном негодующем натиске, очень далеком от философского спокойствия и объяснимом только горячей страстью пылкого реформатора и влюбленного в жизнь человека, обрушился со всей силой своего разрушительного таланта на религию, близкую к ней философию и все то, что лежало у него на пути к оправданию земли и земной жизни.
Сгорая в пламени своего бурного темперамента, Ницше прежде всего предает анафеме квиетизм во всех его формах. Уже здесь вскрывается одна из пружин его похода против большинства традиционных религиозных и философских учений. Он клеймит как глупцов не только прямых квиетистов, но и всех тех мудрецов, которые поучают «бодрствованию ради хорошего сна»[639]. Он считает в корне ложным всякое утверждение и стремление к статическому положению. Во всем мире ему представляется бесспорно доказанным только одно, что этот мир нигде и никогда не останавливается на долгое время[640]. Ницше в этом отношении выступает в роли безусловного проповедника гераклитовского «все течет», и возможно, что в его загадочной идее вечного возвращения вражда к неподвижному сыграла не последнюю роль. Как ревниво он оберегает свое учение и жизнь от привнесения таких статических элементов, это видно из того, что он, несмотря на свой неудержимый порыв к новому типу человека как к цели, в принципе резко восстает против какого бы то ни было целевого состояния, которое можно было бы рассматривать как последний этап, как статическое состояние. Стремясь взять настоящее и отказываясь[641] жертвовать им для будущего, Ницше, конечно, горячо отстаивает смысл и ценность мирового свершения в каждом его моменте. Так в поэтическо-философском жизнепонимании Ницше все пришло в безостановочную борьбу и движение, и именно эти «пунктуации», а не какая либо единая цель или состояние и есть то, что единственно заслуживает эпитета действительности[642].
Вдохновленный своим внутренним беспокойством, враждой ко всякому, хотя и божественному, покою и горячей любовью к земле, Ницше пускает тучи стрел по религии и чувствует неутолимую жажду разить ее, где он может. Он не только поражается в лице Заратустры, что повстречавшийся ему святой старец еще ничего не слышал о смерти бога[643], но он стремится рассеять как дым, как тяжкий, губительный обман и легенду о потустороннем, божественном мире. Он произносит пламенную обвинительную речь по адресу проповедников иного мира, окрестив их именем «Hinterweltler»[644], он с торжеством развенчивает их бога и стремится разоблачить в нем человека и притом «только бедную частицу человека», а потусторонний мир он называет на своем своеобразном языке «entmenschte unmenschliche Welt (лишенным человеческого характера бесчеловечным миром)[645]. Вполне понятно, что если идея бога способна в глазах Ницше сделать все прямое кривым[646], он в речах об ином потустороннем мире чувствует веяние смерти и в проповедниках вечной жизни и царства божия только ее посланников; он клеймит их, как клеветников на жизнь, отождествляя понятие набожности с понятием усталости и умирания.[647]
И Ницше сам дает нам ясный и прямой ответ на вопрос о том, что вдохновляет его негодующие речи и ядовитые сарказмы по адресу проповедников «вечной жизни» и всего, что связано с идеей бога, особенно христианской. В своем «Also sprach Zarathustra» он устами своего героя поясняет, что бог знаменует собой не только ограничение дерзаний сверхчеловека и становится преградой на его героическом пути, но он обозначает итог усталости и отказа от действия и жизни. Вот потому-то Заратустра и налагает на него печать зла и враждебности человеку: в эту идею сложена, по его словам, квинтэссенция учений об «едином, полном, неподвижном, насыщенном и непреходящем», в ней уложились мысль об угасании воли, стремления к ценностям и к творчеству вечно нового. «Ах, если бы эта великая усталость навсегда осталась вдали от меня!» – восклицает Заратустра[648]. В общем итоге Ницше видит в идее бога поворот спиной к жизни и стремление искать законов своего поведения и жизни позади себя; этого уже одного было бы вполне достаточно, чтобы заставить его решительно отвергнуть эту идею: не желая жертвовать настоящим для будущего, он тем менее согласился бы подчинить его прошлому.
Но религия в этих сторонах своего учения шла и идет не одна, и Ницше с тем же неудержимым гневом обрушивается на философов, особенно с учениями трансцендентно-отвлеченного характера, потому что и они возвеличили продукт «больного тела и больного духа», «небо и небесное», «иной» мир[649], завершив все это как естественным следствием приниженностью действительной жизни и человека. Истинный мир философов и религиозных проповедников Ницше отожествляет с «erlogene Welt» (мир, добытый ложью), а идеалы он называет идолами[650]. Таким образом Ницше категорически отклонил попытку решить проблему смысла жизни на почве трансцендентной, отвлеченной философии. Он отверг философию, как «школу оклеветания» жизни, он усмотрел в ее истории непрерывное «скрытое беснование против жизни, против ее предпосылок, против чувства ценности жизни, против заступничества за жизнь»[651]. Естественно, что гнев Ницше перенесся попутно и на науку. Заратустра, предостерегая от ученых, говорит: «У них холодные высохшие глаза, в них всякая птица оказывается общипанной и без перьев»[652].
Из всех этих ошибок имморалист Ницше признает самой роковой мораль. Он потому и поставил в центре своего творчества фигуру Заратустры, как утверждает Ферстер-Ницше[653], что хотел вложить разрешение губительной загадки в уста того, кто явился виновником коренного зла, создав учение о борьбе двух начал, добра и зла. В словах «ты должен» он видел мостик к ненавистному ему потустороннему миру и средство к умалению и сужению земной жизни. Он объединяет религию, философию и мораль под одним понятием упадочных форм человеческого духа[654]. Общий, наиболее сильный аргумент религиозно-этической философии против нее самой – Ницше бросает философам этого направления упрек в нигилизме, считая, что всякая этическая система оценок неизбежно приводит к уничтожению жизни; он отказывает представителям таких учений даже в чистоте помыслов и верований и видит в стремлении добродетельных людей к иному миру плод корыстолюбивого желания получить воздаяние за свои деяния и заслуги: за то, что они следуют добродетели, хотя она им, по выражению Ницше, как узкая обувь, до боли давит ногу[655]. «Вы хотите еще, чтобы вам заплатили, вы добродетельные! Вы хотите платы за добродетель и неба на землю и вечности за ваше сегодня!»[656] Вместо улучшения человека по убеждению нашего поэта-философа получается только его ослабление: мораль завершает разрушительную работу отвлеченной религиозно-философской мысли и подрывает самые корни жизни[657]; это и есть тот нигилизм, в котором Ницше обвиняет и религию, и философию, и всякую трансцендентно-этическую ориентировку мысли. Вся история в глазах Ницше является экспериментальным опровержением идеи так называемого нравственного миропорядка[658]. Весь путь морализма рисуется ему как наклонная плоскость слабости и упадка человеческого духа. Докатившись до крайней грани, «последний» человек окажется духовно совершенно опустошенным; он превратится в презренное существо, из души которого окажутся вытравленными всякие помыслы и понимание любви, творчества, тоски по чему-то высшему, по «звездам». Только одно жалкое стремление к своему худосочному изобретению, к счастью, останется у него[659]. Но Ницше с тою же суровостью отвергает и гедонизм обыденного характера: он в своих пояснениях к проповедям Заратустры подчеркивает, что каста господ откажется от счастья и предоставит право на него всецело стадным, низшим людям[660].
Порывая все нити, которые с его точки зрения могли бы задерживать и обременять развитие и расцвет нового человека, Ницше готов сжечь за собой все мосты, соединяющие человечество с прошлым, потому что он видит в господстве старых традиций как бы власть мертвых; с глубокой иронической горечью он говорит в гл. «О стране образования» устами Заратустры о современных писателях и их лицах; они представляются ему тесно заполненными надписями и знаками прошедшего времени, а поверх первых наложены вторым и третьим слоем новые значки. «Все времена сплетничают друг против друга» в душе современных людей, цепко удерживая их в своих руках и в своей власти[661] от продвижения вперед и создания нового. Ницше без сожаления покидает тропу исторической благодарности, усматривая в ней только отягощающую ношу на плечах человека. Его поклонение грекам и античному миру стоит в этом случае совершенно особняком и объясняется не сознанием исторической связи, а абсолютным, независимым от истории признанием ценности антично-греческого мира.
Благодарность и сострадание являлись для автора «Заратустры» коренными недостатками человека, объявляя беспощадную войну слабости, упадку и их апологетам, Ницше видит в сострадании только источник глупости и заблуждений[662]. Сострадание рассматривается им как яркий симптом упадка, а в борьбе со слабостью и упадком он готов пойти на самые решительные меры, негодуя на христианство, как на религию рабов и слабых: все слабые должны погибнуть, и надо помочь им в этом. Для иллюстрации настроения Ницше против слабости характерно, что он – индивидуалист и поклонник суверенности личности – готов предоставить обществу право в борьбе с вырождающимися и безнадежно больными людьми применить к ним, если они не исполняют запрещения плодиться, кастрацию. В стремлении смести рассадники слабости он не задумался над проблемой наследственности, и уверенный в безошибочности своей радикальной идеи, прельщавшей и Шопенгауэра, он зовет способствовать уничтожению упадочных рас, готов уничтожить Европу и безжалостно раздавить все, что несет в себе систему порабощения и рабских оценок.
Уже из этого краткого обзора восстания Ницше против религии, философии, морали и родственных им традиционных устоев становится ясным, в каком направлении поведет нас путь, предуказанный Ницше. Сбрасывая с человека одно обязательство за другим, одну связь за другой, он возглашает задачу великого освобождения человеческой личности и прежде всего от тех властей, которые она несет в самой себе: освобождение от самого себя – вот первая и главная цель. Но эта цель в устах Ницше очень далека по ее содержанию и следствиям от того, что вложила в эти слова веками освященная религиозно-философская мысль. Он здесь зовет к свержению всех традиций и прежде всего религиозно-философских, к бунту против авторитетов, права, законов, к переоценке всех ценностей[663]. Все это вместе взятое исказило и искажает естественную природу человека и превратило его в ничтожное, карикатурное существо, болезненное, слабое, озлобленное против самого себя, полное ненависти к стимулам жизни, полное недоверия ко всему, что в жизни красиво и обещает счастье. Это просто подлинный «грешник, воспитанный священниками»[664].
Чтобы положить начало своему освобождению от всех этих цепей, человеку надо перестать бояться собственной своей тени; пусть он, учит Ницше, только вдумается и поймет, что все это дело его собственного духа; он остался нищим, потому что позволял себе роскошь быть слишком щедрым, забывая о самом себе, и тоскуя любовался на то, что дал и создал он сам и что было по праву его; пусть он распознает виновника своих бед и несчастий в себе самом, и все авторитеты и сковывавшие его связи исчезнут как по мановению волшебного жезла[665]. Ведь никому, говорит Ницше[666], не придет в голову рассматривать свой желудок как чужой, например, божеский; также нелепо видеть в своих мыслях, оценках и т. д. что-либо «внушенное» или снизошедшее с неба, «вдохнутое богом». Ницше зовет человека к тому, чтобы он познал себя и стал абсолютно свободным существом. Он рисует идеал в образе верблюда, льва и дитяти и зовет к существующим превращениям духа[667]: яви настоящую силу и выносливость, как у верблюда, стань в себе мужественным и свободным, как лев, и смело, наивно, безапелляционно утверждай себя, как малое дитя. Заратустра признает равными себе только тех, кто сам определяет свою волю и отклоняет всякие следы подчинения[668].
Но это только отрицательная сторона освобождения, и, чтобы найти ключ к подлинному смыслу жизни и осветить этим смыслом свою жизненную роль, Ницше дает человеку путеводителя, который поможет ему не только разбить старые кумиры, но и расчистить себе путь и пойти с ясным и свободным сознанием вперед. Уже из гневной борьбы с отвлеченными элементами религии, философии и науки можно вывести заключение о том, где откроет Ницше этого путеводителя. Вглядевшись в себя, Заратустра-Ницше решительно заявляет: «Тело – я во всех изгибах моего существа и не что иное… а душа только слово для чего-то, принадлежащего телу»[669]. В прямой, диаметральной противоположности к религиозно-философской и церковной традиции, перевертывая историческое положение, Ницше провозглашает здоровое тело «большим разумом», голос которого единственно призван подлинно решить проблему смысла жизни, как и вообще все загадки мира, – так же, как голос больного и расслабленного тела, отлившийся в идею отвлеченного чистого духа, ввел в заблуждение, создав нелепую идею «неба», призванную вытеснить идею земли и умертвить жизнь»[670] Ницше не отрицает духа, но он видит в нем продукт творческого тела, пользующегося им, как «рукой своей воли»[671].
С таким вожаком философия, ясно, должна бесповоротно стать яркой философией земли. Человеку теперь нужно только не зарывать головы «в песке небесного царства» и идти смело и прямо по земле с гордо поднятой головой, «земной головой, которая и есть смысл земли[672], подлинный человеческий смысл[673]. Проявляя теоретическое бесстрашие, Ницше-Заратустра готов петь славу и слагать дифирамбы чувственности, властолюбию и себялюбию[674], как китам, несущим земной, сверхчеловеческий героизм. Справедливость требует отметить, что Ницше не потонул в материализме вульгарного пошиба, но он убежден, что надеяться преодолеть человека прыжком через него может только шут – «Possenreisser»[675]. Заратустра сам так и называет себя защитником жизни, но этот защитник ясно зовет прислушаться к голосу здоровой физиологии. Он и жизнь определяет как совокупность сил, объединенных общим процессом питания[676]. Ему представляется роковой ошибкой пренебрежение к телу; и Ницше говорит при этом не о мозге только, а обо всем теле. Глубоким трагизмом дышит призыв этого физически надломленного философа к максимальной культуре тела: ослабленный физически, сам истинный страдалец в этом отношении и вместе с тем непоколебимо верящий в свою гениальность и величие своих творений, он, не замечая противоречия, зовет сбросить иллюзорные – особенно моральные – ценности и заменить их физиологическими; он убежден, что дееспособность индивида является следствием его счастливой организации; в пояснениях к Заратустре он подчеркивает[677], что для правильного понимания его необходимо помнить его предпосылку – «великое здоровье».
Возвеличив физиологию и сведя дух на орудие тела, Ницше, конечно, не остался поклонником сознания. Как ни велико было его обожание греков и античного мира, но он ставил им в большую вину их обоготворение сознательных, созерцательных состояний; для него это обозначает победу слабости и упадка здоровых инстинктов; он убежденно заявляет, что совершенная жизнь создается только там, где она протекает при наименьшем участии сознания[678]. Таким образом культура жизни приводит к культуре тела, а его голос непреложно зовет по учению Ницше к взращиванию сильных здоровых естественных инстинктов. Люди с слабыми инстинктами никогда не подымутся на высоту полного освобождения, они не найдут в себе силы и решимости отважиться на освободительное разрушение старых ценностей; с победой же сильных здоровых инстинктов слабость и болезнь станут пороком, это заставит слабых презирать себя и стремиться исчезнуть без следа[679], и исчезнет стремление обращать бога и истину в ничто, во имя пустого фантома клеветать на этот мир и жизнь. Нет нужды особо отмечать, что все это сопровождается у Ницше полной реабилитацией показаний органов чувств; ненависть к ним он называет тупостью и пошлостью[680]. Стремясь восстановить престиж оклеветанных инстинктов, Ницше и здесь перевертывает традиционное положение и определяет испорченность как утрату своих инстинктов, приводящую к подрыву самого конкретного индивида[681]. Предостерегая от слепого подчинения аффектам и призывая к господству над ними, Ницше убежден, что физиологически здоровый человек легче всего пробьется к господству над ними, и потому не сомневается, что самое опасное – это потерять «тонкость слуха к голосу своих инстинктов»[682].
Все эти рассуждения ясно кульминируют у Ницше в культе силы. Мы уже раньше видели, что Ницше готов возвеличить себялюбие, честолюбие лишь потому, что они говорят о силе и дерзании; но он готов пойти дальше и найти для себя утешение в злой природе человека, потому что это свидетельствует о его силе[683]. Его убеждает в этом то, что специфические свойства жизни – это несправедливость, ложь, эксплуатация, и крупные люди обладают ими в наибольшей степени[684].
Достигнув этого этапа, Ницше в своем учении, звавшем внимать голосу здоровых инстинктов, пошел дальше своим путем – именно, в то время как среди инстинктов традиция уделяла центральное место инстинкту самосохранения, наш поэт-философ решительно отверг это господство. Ницше утверждал, что еще в ту пору, когда он в роли санитара наблюдал картины войны, смерть, страдания и воодушевленно рвавшиеся в бой войска, он понял, что наивысшая воля к жизни находит свое выражение не в жалкой борьбе за существование, а в стремлении или в воле к власти и сверхвласти[685]. И Ницше очень широко использовал в своем учении этот новый рычаг к жизни. Он дал новое толкование шопенгауэровской основной идее: он, как и Шопенгауэр, признал верховенство воли к самоутверждению, волю «быть», но он пояснил ее содержание волей к власти. В ней он выразил не одну только сущность жизни человека, но и сущность жизни вообще. Ницше видит там большее основание утверждать, что где жизнь, там воля к власти, что даже подчиненный в своем поведении поддерживает и выявляет все ту же двигательную пружину – идею господства[686]. Поглощенный этой идеей Ницше возводит ее в критерий всего; ею он определяет добро, счастье, удовольствие и т. д.: добро – то, что повышает в человеке власть; зло – то, что ее ослабляет; счастье – это чувство возрастания власти[687], удовольствие – симптом ее возрастания… Отклонив устойчивые положения, состояния покоя во всех их видах, Ницше, естественно, расширил этот принцип на всю природу, на все бытие, общество и т. д.; везде, в том числе и в природе, борьба неравных по силе элементов за власть[688]. В этом не только суть, но в этом и цель жизни: власть, борьба – и в достоинство вырастает уже не добродетель, а боеспособность и дееспособность – virtus; все добродетели и всякое преодоление самого себя получают свой смысл только по степени глубины своей связи с этой основной ценностью и службы ей[689].
Таким образом волю к власти следует понимать как подробность, как истолкование верховного значения категории жизни. Как героическое «я хочу» стоит в глазах Ницше выше «я должен», так само оно подчинено, как верховному обстоянию, божественному «я есмь»[690]. Мысль об этом верховенстве видна у него везде. Сам он говорит о раннем своем произведении, «Рождении трагедии», созданном под знаком абсолютизации эстетических мотивов – что и там, подчиняя науку искусству, он само искусство рассматривал под углом зрения жизни[691]. Тем более окрепла эта позиция в дальнейшем развитии учения Ницше, особенно в центральном, интересующем нас периоде, в эпоху «Заратустры» и «Воли к власти»: здесь, где он выдвинул на особенно видное место даже чисто физиологическую сторону жизни и человека, он все оценки сводит на указание условий сохранения и роста[692], а дух прямо характеризуется как средство на службе у жизни, направленное на ее повышение. В конце концов и добро, и счастье, и удовлетворение объединились, как в своей вершине, в категории жизни.
Провозглашенная Ницше борьба за власть как основная двигательная пружина жизни во всех ее формах тесно срослась с идеей крайнего аристократического индивидуализма. Построить на непримиримой войне всех против всех можно только резко пессимистическую теорию; при таких основах возможно мыслить только резко индивидуальный, персональный путь. И Ницше всецело пошел на этот путь: он выступил в роли пламенного проповедника самодержавия индивида, он зовет его смело сделать свою жизнь самоцелью, стремиться к усилению ее, к достижению головокружительных высот личного подъема. Цель человечества не оно само, а его высшие экземпляры, великие люди, – в них смысл и оправдание человечества[693]. Ницше чувствует органическое отвращение к толпе, считая ее самым холодным из всех чудовищ. Человек, массовое существо, является только материалом для преодоления. Ницше находит, что время «ты», «любви к ближнему» и т. п. уже прошло и на смену ему должна прийти эпоха «я» и с нею «любовь к дальнему» и «бегство от ближних». Заратустра выступает в роли законодателя только для существ его масштаба. Стремление к единству, говорит Ницше, есть слабость; в дифференцировании, в индивидуализации он видит проявление силы. Вся суть в истории и жизни в создании вершин – это одинаково применяется им как к отдельным людям, так и к народам; прогресс мыслим только в индивидуальностях, а масса только материал или топливо для него[694]. Весь прогресс рисуется Ницше в виде расширения диапазона возможностей расцвета человеческих натур: естественно, что все его речи о равенстве дышат глубочайшим презрением, что он и выразил в термине «стадо» и «многие-чересчур-многие».
Свою философию жизни Ницше увенчал понятием сверхчеловека, которому и учит Заратустра и в котором сбегаются наиболее важные нити его учения. В нем Ницше дает разгадку вековечной проблемы смысла жизни; в него же он уложил всю силу своего призыва остаться верным земле[695], в нем он возвестил миру о смерти богов: «Все боги умерли, итак, да здравствует сверхчеловек!»[696] Вспоминая об античных богах, Ницше дает блестящее образное истолкование своей мысли не отказываться от божественности и вместе с тем отрицать бога: он говорит, что старые боги ушли не сумеречно угасая, а они умерли со смеху и по весьма знаменательному поводу: одному из богов пришло на мысль произнести самое безбожное слово: бог-един; и вот олимпийцы залились гомерическим смехом и погибли от смеха, восклицав: «Да разве же не в том состоит божественность, что существуют боги, но нет бога!»[697] И Ницше зовет произнести вместе с ним – да будет сверхчеловек! В создании его весь смысл нашей жизни и нашего существа, в стремлении поднять бунт, преодолеть самого себя, человека в себе и возвыситься к сверхчеловеческой вершине, где в героически просветленном виде должна сконцентрироваться вся мощь человека. Не даром Ницше образно рисует нам, как Заратустра в поисках за сверхчеловеком проходит мимо таинственных существ земного могущества, святости, совести и т. д. и в конце концов собирает их всех у себя, объединяет их, но остается высоко над ними.
Заратустра видит свою задачу в восстании веками и традициями подавленного человека. Но это только отрицательная сторона назначения сверхчеловека. Ницше видит в нем не только бурный поток, способный снести все слабое и гнилое, но он вложил в него все свое неудовлетворение настоящим, все свои мечты о будущем как о безграничном просторе ничем не связанного творчества. Оно должно стать вполне свободным, когда само творчество вместе с тем создает и определяет свои нормы и ценности и заставляет их идти по стопам творца[698]. Творчество является как бы настоящей сердцевиной сверхчеловека. Вскрывая сокровенную глубину своей души, наш поэт-философ говорит, что только оно несет избавление от страданий и легкость жизни[699], что по существу творчество и добро одно и то же[700]. Эта вечная творческая смена и творческое опьянение в дымке бессознательного и было то, что заставило Ницше обоготворить Диониса: в нем он выразил свой протест против последней цитадели неподвижности, к которой он клонился сам, – против аполлоновского «обмана», против «вечности красивой формы»[701]. Это вечное, неиссякаемое творчество и стоит в центре мечтаний Ницше. Прокламируя абсолютную свободу человека, преодолевшего в себе вековое рабство, Ницше восклицает: «Все красивое и возвышенное, что мы ссудили действительным и воображаемым вещам, я хочу потребовать назад, как собственность и творение человека. Человек как поэт, как мыслитель, как бог, как любовь, как власть (Macht!). О, эта его королевская щедрость, с какою он одарил вещи»[702].
Сверхчеловек Ницше – это творческий гений. В этом пункте он явил свое тесное родство с романтиками, все помыслы которых отливались в гимн гению с тем же фимиамом в сторону бессознательного, этой «таинственно действующей созидающей силы» – те самые глубины бессознательного, в которых Шлегель видел неисчерпаемые золотые шахты творчества. Обще им и обоготворение индивидуальной личности, проистекавшее из эстетического принципа[703]. В взращивании гения – смысл жизни и отдельной личности, и человечества, и всей его истории, которая должна создать обстановку, наиболее благоприятную для рождения гения. То, что этот идеал является по существу эстетическим, находит полное оправдание и в философии Ницше, несмотря на все его колебания. Нам представляется вполне правильной точка зрения Цейтлера[704], что проблема искусства была для Ницше самым важным вопросом и что только выдвинув эту сторону, можно понять настоящего Ницше, которого обыкновенно пытаются исчерпать имморализмом. Эстетизм жил в нем не только тогда, когда он творил, «Рождение трагедии»; он то появлялся открыто, то уходил в глубину, пока не окреп окончательно, но он никогда не становился у Ницше второстепенным фактором. Не даром он влагает в уста Заратустры слова, что он любит даже церкви и могилы богов, небо и землю, когда озаряют их красотой, т. е. когда они говорят эстетическому чувству[705]. Во всех чертах того образа, который рисует Ницше в Заратустре, ясно видна не только сила, мощь, порыв, но и художественность. Из этого же эстетического источника, без сомнения, проистекал и восторг его перед древними греками, которых он называл гением среди народов. Клеймя нашу философию, мораль, религию, как формы упадка, Ницше указывает как на всесильное средство против них на искусство[706].
Но эстетизм Ницше лежит в его зрелом виде, как он выявился в период творений «Заратустры» и «Воли к власти», не в плоскости обычного понимания. Об этом красноречиво говорит возвеличение физиологических элементов. Определяя задачу человека и указывая на очеловечение мира в господстве над ним, Ницше мечтает о том, чтобы мир во властных руках человека обратился в художественное произведение. Уже здесь ясно слышится, что речь идет не об искусстве в музеях и галереях. Ясное указание на то, что он называет красивым, Ницше дает в утверждении, что только человек красив и нет иного безобразия, кроме выродившегося человека. Он уже с 1876 года проводил грань между искусством творчества и искусством жизни и отдавал заметное предпочтение последнему, как высшей форме будущего. В зрелую пору Ницше окончательно перешел в решении проблемы смысла жизни на почву гетевской мысли, что жизнь должна привести человека к творчеству художественного в себе, жизнь должна сама стать искусством, и на место мертвых художественных творений должен стать сам человек, как живое художественное претворенное существо является и творцом, и творением. Центр тяжести переносится из объекта эстетического творчества в субъект, – теперь становится понятным подчеркивание у Ницше физиологических элементов, и теперь становится понятным также, почему искусство должно было стать тем путем, на котором человек мог разрешить загадку жизни, почему оно великий стимул жизни, почему оно воля к жизни, ее возможность, великая соблазнительница к жизни, почему искусство более ценно, чем истина, почему оно «опьянение жизнью»[707].
Ответ на все эти вопросы мы получим тогда, когда мы вспомним, что это искусство, которое Ницше ставит превыше всего, есть искусство жизни, а его сверхчеловек – гений жизни. Об этой гениальности говорит и образ Диониса в противоположность Аполлону; как говорит Ницше, на куски разрезанный Дионис есть призыв к жизни и возвещение жизни, вечное возрождение и возвращение ее в себя[708]. Это и пробуждает Ницше заявить, что он предпочел бы лучше быть сатиром, чем святым. Сверхчеловек и есть творческий гений жизни.
Ницше считал, что на этом пути найдено и полное преодоление пессимизма, потому что подлинное искусство и особенно гениальное искусство жизни есть в существенной своей части «утверждение, благословение, обожествление бытия» и говорить о пессимистическом искусстве значит тонуть во внутреннем противоречии. Даже войдя в сферу страшного, искусство в художественности вполне преодолевает его и становится над ним[709]. Одним словом, личность, по учению Ницше, может решить проблему смысла только став художником, но художником жизни. Здесь она окончательно освобождается от рабства фактам и «упадочным» формам учения, противопоставляющим этому миру вымышленный ими мир «истинный», «вечный» и т. д. Оценив эту «истину» как ложь и пагубу и призывая к творчеству, Ницше говорит: «Искусство выступит в роли спасителя от истины, способной погубить нас»[710].
Ницше, как и Соловьев, с которым невольно напрашивается его сопоставление по противоположности, не мог не остановиться на мысли о смерти, способной разрушить всю гармонию, созданную Ницше. Как бы отвечая на восклицание Вл. Соловьева, что конец всякой здешней силы – это бессилие и конец всякой здешней красоты – это безобразие, что смерть, величайшая физическая несправедливость, рушит все земное, Ницше говорит о смерти как о «глупом физиологическом факте», который необходимо обратить в «нравственную необходимость»; он учит жить так, чтобы в подходящее время у человека явилась воля к смерти[711], и, создав своей жизнью, своей личностью художественную ценность, человек уже преодолевает смерть и вообще становится вне времени.
Итак, все учение Ницше завершается гимном жизни, земной жизни, полной глубокого и красивого смысла, но не извне данного, а сотворенного сверхчеловеком, гимном силе, радости, смелости и красоте. С присущим ему одному блеском поэт-философ отлил свое убеждение в глубоко знаменательное утверждение Заратустры, что он поверил бы только в бога, умеющего танцевать и способного умертвить дух тяжести[712]. Где нет места любви, там по учению Заратустры-Ницше человеку нечего делать[713] и жизнь должна быть озарена этой любовью и может засиять, если она возьмет направление на сверхчеловечество, если мы разобьем скрижали никогда не знающих радости (der nimmer Frohen)[714], если мы пойдем лицом к будущему, спиной к прошлому. «Что отечество», восклицает Заратустра[715]: «Туда хочет руль корабля нашей жизни, где страна наших детей». «Жизнь должна принадлежать смелым и радостным», «смеющимся львам»[716]. Жизнь должна стать празднеством, и из «молящих мы должны превратиться в благоволящих»[717]. Весь этот панегирик земной жизни можно было бы дополнить еще одной черточкой – это протест против «поповского и метафизического» оклеветания органов чувств и призыв к глубокой благодарности к ним, к их тонкости, полноте и силе[718].
Все учение Ницше о жизни и ее смысле можно характеризовать как напоенный эстетическими мотивами земной аристократический героизм. Эта философия сверхчеловека есть апология и проповедь смелой, свободной, дерзающей, красивой, героической личности; ее антиподом служит мещанин земли, идущий через жизнь с опасливой миной, с наморщенным лбом, тонущий в заботах и запуганности иным миром. Сверхчеловек – это герой, у которого на место «ты должен» встало дерзостное и решительное «я хочу», – тот, в чьей душе соединились сила и выносливость верблюда, мужество льва и безмятежность и наивная жизнерадостность ребенка; тот, кто неудержимо рвется к власти и господству, к самодержавию; тот, кто, как бурный вихрь, способен распахнуть врата смерти[719], кто боится только жизни и чувствует себя в родной сфере на вершинах; кто отринул бога, чтобы явить божественность в себе; кто способен жить без трусливой оглядки на иной, потусторонний мир. Мир для этого героя мыслим только как средство к новой борьбе, к новым войнам; добром он считает храбрость и веселие[720]. Ницше готов сослаться в подкрепление своей проповеди радостного эстетического героизма на саму природу, «великую воспитательницу», которая нагромождает препятствия, чтобы вызвать преодоление их[721]. Только фанатическое поклонение идее героизма могло подвинуть Ницше, предлагавшего даже оскопление дегенератов для ограждения людей от вырождения, на идеализацию преступника; презрение к грешнику это для него «еврейско-христианская»[722] черта, а в его устах это обозначает резкое осуждение; он ценит в преступнике восстание, умение рискнуть своей честью и жизнью, это, по его мнению, «человек мужества»[723]. Это как бы другой крайний, отрицательный полюс того аристократизма, который проповедует Ницше. Как революционно-анархический дух, он готов принять все, лишь бы не дать утвердиться мещанскому духу покоя и неподвижности.
Ницше был глубоко, до болезненности глубоко убежден в недосягаемом величии своего творения «Also sprach Zarathustra»; в «Ессе homo» он восклицает, что это величайший дар, какой когда-либо получало человечество. То, на что обыкновенно указывают у Ницше с глубокой печалью и наставительностью, на самом деле должно внушать нам искреннее восхищение и подъем: Ницше, сам больной и надломленный, предает больных и слабых проклятию и слагает дифирамбы здоровью и цельности; глядя на свою тяжелую жизнь и вспоминая свое одиночество, тоску и несбывшиеся мечты, он поет славу жизни и героизму; сам обреченный на тьму и погружение в бессмыслицу, он неутомимо зовет к свету и на вершины вершин. И как ни велик был бунт этого поэта-философа против многого, что необходимо хранить и укреплять, а не свергать, тем не менее место ему в ряду учителей жизни бесспорно обеспечено навсегда. В его протесте против традиций, против абсолютизации отвлеченных элементов, рождающей насилие над живым во имя мертвого, много безусловно справедливого; той же правдой дышит и его призыв к свободе, к полноте, к признанию личности, которая с человеческой точки зрения должна явиться отправным пунктом для жизнепонимания, и к ревнивой охране ее самостоятельности и достоинства. Ницше слишком много колебался и был слишком бурным, чтобы быть во всем справедливым и чтобы о нем можно было вынести общий краткий приговор; мы в данном случае – предоставляя историку выявить все изгибы его миросозерцания – стремились понять только отношение Ницше к проблеме смысла жизни и то, главным образом в центральную пору его творчества. Но пройти через Ницше, несмотря на всю его разрушительную, ниспровергающую силу или именно потому, необходимо каждому ищущему учения о жизни, принося этим как бы известную очистительную жертву, в бурном потоке мыслей Ницше легко падет все неустойчивое, порабощающее и не свое, и он может лучше, чем многие другие философы, помочь обрести самого себя.
Но Ницше не обозначает удовлетворительный ответ на вопрос о смысле жизни. Нам представляется необыкновенно ценным поход его против различных форм отвлеченного трансцендентизма и его неудержимое стремление, к живому и конкретному. Но что он дал сам? Он, без сомнения, стал жертвой другой односторонности, как будто выполняя лозунг: хочешь достичь своей цели, стремись к большему. Он противопоставил одной крайности другую. Такой крайностью является его прославление тела как единственного источника истины, прославление физиологии и бессознательных и полусознательных инстинктов. Защитникам неба и умалителям земли он противопоставил напоенное гневом полное отрицание неба и абсолютное утверждение земли, не замечая, что при этом в обоих случаях гибнет то, что было особенно дорого именно Ницше, – человеческая личность. По существу земля, к голосу которой он предлагал прислушаться, должна быть понята значительно шире и полнее, и у человека, без сомнения, это голос не тела, этого «великого разума» по аттестации Ницше, а цельного полного человека; только при таком понимании мы не окажемся в новом рабстве худшего свойства, в рабстве у материи, животных инстинктов, что называется, на голой, обнаженной нами же земле. Тогда не было бы нужды вступать во вражду с «иным» миром в виде идей, идеалов и ценностей. Борясь против создания головы без тела, сам поэт-философ рождает тело без головы.
Трагедия Ницше заключается в том, что ему блестяще удается роль разрушителя и ниспровергающего фактора, но он слабеет и мечется в тумане неопределенности, где встает вопрос о дальнейшем положительном пути по расчищенному им полю. Вглядываясь внимательно в то, что скрывают в себе блестящие по форме мысли Ницше, вы не найдете в них ясного ответа. Там нет указания на должный путь, но именно потому, что вообще нет цели, и открывается ужасающая пустота. Великие средства, сила, смелость, свобода, здоровые инстинкты, неудержимая воля к власти и мощи, готовность водрузить знамя властных господ были бесцельны и даны ради самих себя. Господство ради господства обозначает по существу банкротство в жизни, потому что оно ни на йоту не освобождает от разъедающего вопроса: зачем все это, для чего? Эти вопросы, конечно, не встанут у того, в ком вообще будут сильны здоровые, жизненные инстинкты, и Ницше по существу мог бы указать на это самодовление жизни, но это не ответ, потому что здесь вообще нет и самого вопроса, тут только здоровое животное состояние, не спрашивающее и не мыслящее, а вегетирующее, и менее всего здесь можно говорить о восхождении на вершины вершин, о котором говорит Ницше. Таким образом гора – великие средства – рождает мышь или, лучше сказать, остается бесплодной, как традиционная смоковница. Сам Ницше соглашается с тем, что смысл может быть только там, где есть отношение к цели и перспектива[724] – у него их в общем итоге не оказалось. Он пошел даже дальше и стал, кстати сказать, в том же труде[725], отрицать у мира вообще какую бы то ни было цель, полагая, что иначе она была бы достигнута. И вот мир и жизнь невольно начинают рисоваться нам в понимании Ницше в виде какого-то вечно колышущегося чудища, наделенного бесконечной силой, без начала и без конца, неизвестно откуда явившегося и неведомо куда идущего. Переливы мира и жизни, все сверхчеловеческое дерзание, героизм и т. д. превращаются в простые перемещения. Пышное возвеличение человека привело только к повышенному до убийственного трагизма сознанию пустоты и бессмыслицы мира и жизни. Идея вечного возвращения – хотя она неясна у Ницше – способна только подчеркнуть этот трагизм. Чем выше сила, тем больше и увереннее отсутствие целей для ее приложения приводит к беде человека, тем тяжелее ощущается бесцельность и пустота.
Итак, гордое одиночество сверхчеловека оказывается еще большим. И тут у Ницше получается неустойчивое положение. Он своим примером ясно показал невозможность построить жизнепонимание на изолированной личности, хотя бы это и был сверхчеловек. Известно, как тяжело ощущал сам поэт-философ свое одиночество, какая тоска по дружбе и людям глодала его душу. Отголоски ее слышатся в поисках отвергающего стадо Заратустры учеников и спутников[726]. Да эта мысль необходимо заложена в самой идее всякого учения, а тем более в философии, которая выступает, как «Заратустра» Ницше, с претензией быть книгой жизни: ведь учить можно только тому, что хотя бы в общих чертах допускает повторение.
А меж тем суть его учения обязывает к одиночеству. Ницше-Заратустра говорит, что, чтобы войти в дома людей, надо согнуть свою спину, стать меньше[727]. Герой перестает быть героем, превращаясь в массовое явление, а оставаясь одиноким, он открывает безбрежный простор для пессимизма, для уничтожения той радости жизни, в честь которой пел свои песни Ницше. На Ницше повторилось старое «не добро быть человеку одному». Практически все это, конечно, повело бы к дальнейшим губительным следствиям – так как твердого критерия сверхчеловечества нет, а прорыв инстинктов на свет поддерживается самой матерью-природой и привлекает простотой и доступностью, то возомнившие себя сверхчеловеками простые и непростые смертные, все эти «освобожденные рабы» и полусвободные вступят и вступают на путь взаимопожирания и уничтожения жизни. Таков практический финал сверхчеловечества.
XII. ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ В ФИЛОСОФИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ (БЕРГСОН)
Жизненные философские идеи загорались в глубине истории в виде едва заметной искорки, которая редко быстро вспыхивала ярким пламенем. Обыкновенно проходят века, пока жизнеспособная мысль развернется во всей ее широте. Так было и с идеей активизма и творчества. Всякому, знакомому с историей философии, не трудно вспомнить о зачатках ее у мистиков, у Дж. Бруно и особенно у Лейбница, решительно повернувшего в русло активистического понимания сущности. С тех пор эта идея нарастала с каждым шагом, и весь xix и начало xx века стоят под ярким знаком философского активизма и идеи творчества. Дело историка проследить в частностях русло, по которому протекало развитие этой идеи. Наша задача – в обзоре отдельных этапов, способном пролить свет на проблему философии жизни, на положение личности в мире и смысл ее жизни. Мы видели уже на примере отдельных философов, как росла и крепла эта идея у мыслителей различного духовного уклада и характера, у Фихте, Гегеля, Шопенгауэра, у Ницше, Лотце, Лопатина и др., все возрастая по направлению к нашему времени. Здесь она нашла наиболее значительное и яркое выражение у Анри Бергсона, к которому мы и обратимся теперь.
Бергсон пока оставил в стороне вопросы практической философии и не отозвался прямым образом на интересующий нас вопрос. Поэтому было бы преждевременно стремиться вычитать из его трудов ответ на проблему, которой он еще не уделил специального внимания. Но вместе с тем его труды дают такой яркий и богатый материал для характеристики роли личности и ее космического удельного веса, что мы можем предположительно с большей уверенностью выявить ряд важных мыслей для решения судьбы личности и получить отсюда некоторые выводы для нашего решения этого вопроса. Мы считаем себя – отказываясь от окончательной оценки учения Бергсона в этом отношении – вполне вправе извлечь из его трудов такой обоснованный условный ответ с прикладной, если можно так выразиться, целью, и это тем более, что всякий, знакомый с трудами французского философа, знает, как глубоко присущ его учению императивный характер.
Такие выводы должны были обрисоваться в более или менее отдаленной перспективе, потому что появление учения Бергсона знаменовало собой новый решительный уклон от частичных вопросов, в которых тонула философская мысль, сдерживаемая критической нерешительностью, в сторону открытой метафизики; она обозначала новый прилив мужества проникнуть в царство абсолюта. Частные вопросы для Анри Бергсона только оселок, на котором он оттачивает свою метафизическую мысль; все его труды, как «Материя и память», «Время и свобода воли» и т. д. идут от частного путем подъема или углубления к вскрытию абсолюта и к построению цельного миросозерцания. О нем больше, чем о ком-либо ином, можно сказать, что от любого его труда и от каждого частного вопроса, который он излагает, вы выйдете на простор построения общего миросозерцания.
Бергсон, как и все современные философы, встретился с тяжелым антагонизмом, отравлявшим человеческую мысль. Это была не только непримиримая противоположность идеализма и реализма, спиритуализма и материализма, эмпириков и рационалистов, но за спорами о свободе и необходимости и т. п. кипели более чреватый следствиями спор о путях познания и главное – бой вокруг противоположности философии и науки, хотя здесь наше время почти целиком встало на сторону науки и признавало философию только в той или иной форме науки – философия должна еще и до сих пор или оправдать себя как науку, или отказаться от права на признанное существование. Бергсон официально остался беспартийным, он стремился вскрыть односторонность, а потому и ошибочность как идеализма, так и реализма, как телеологии, так и механистических воззрений[728]; старые традиции элеатизма и гераклитизма во всех их разветвлениях, взятые порознь, не привлекали Бергсона, обнаружившего непреклонное стремление к живому, цельному, к живой полноте действительности.
Но это только официально: в действительности он отдал щедрую дань своему времени. Это выразилось прежде всего в том пути, по которому пошел Бергсон, и в исходной точке, от которой он отправляется. Он не только вооружается всей полнотой современных естественно-научных и математических знаний, но он везде идет путем тщательного изучения и разбора фактов; в конце концов это поклонение факту привело его к основному недочету всего его миросозерцания и, в частности, к подрыву решения проблемы судьбы личности, как мы это увидим дальше. Эта черта французского философа ярко сказалась и в стремлении натуралистически объяснить сознание, хотя оно у него вытекает из общего метафизического корня, и в той роли, какую он отвел идее приспособления, особенно же в идее инстинкта, освященной биологией и призванной служить мостиком не только между наукой и философией, но и виадуком в царство абсолюта. Вероятно, не только эволюция, но и такие позитивно-научные, биологические тенденции заставили Бергсона вспомнить о Спенсере как о своем предшественнике[729]. Отчасти этим позитивизмом и насыщением духом отдельных наук, особенно биологией, объясняется и то, что он с такой смелостью и непосредственностью решил взять понятие жизни, пренебрегая многими важными обязательствами по отношению к теории познания, мало заботясь о логическом оправдании знания и направляясь в философию без особого критерия, вооруженный только стремлением непосредственно – но, правда, удивительно тонко и чутко, – учитывать факты и только фактическое течение действительности, хотя это само по себе нисколько не помешало Бергсону в иных отношениях возвыситься над узко научной точкой зрения и дать необычайно интересное и плодотворное построение. В итоге такого пути у него во всяком случае теоретически остался совершенно в стороне мир ценностей, мир идеальный. Это и есть то, что мы хотели бы подчеркнуть здесь, как важную для нас сторону философии «Творческой эволюции».
Бергсон начал с установления факта неспособности как прежней философии, так и науки вместить в сознательную мысль живой подлинный мир. Он в блестящей форме поясняет уже в введении к своему основному труду «Творческая эволюция», что до сих пор философия и наука прибегали к незаконному перенесению форм и категорий, применимых в одной области, на другие, где им не могло быть места. Он энергично подчеркивает, как глубоко знаменательный факт, бессилие как философии, так и науки справиться с проблемой жизни и вскрывает больное место у той и у другой в их абсолютном доверии к интеллекту и к сопряженному с ним отвлеченному и дискурсивному мышлению; несмотря на то что то же знание рассматривает этот фонарик как отдельное проявление развития, в умозрительной философии его неожиданно превращают в мнимое солнце, способное озарить наиболее глубокие тайники мира и жизни.
В поисках пути, по которому можно было бы пройти в царство абсолютной истины, Бергсон предлагает перенести принцип жизни на самую теорию познания[730], а для этого необходимо прежде всего понять ограниченность познавательной силы интеллекта и отказаться от бесплодных попыток проникнуть с его помощью в глубины жизни. Тонким анализом он показывает прикладной характер интеллекта, его служение как средства приспособления, борьбы за жизнь, как средства, позволяющего изготовлять мертвые орудия, в противоположность инстинкту, который создает эти средства как органические части, как члены живого тела[731]. Но интеллект не только приводит к неподвижным самим по себе орудиям, но его характерной особенностью является склонность ко всему отвлеченному и застывшему в самом широком смысле этих слов: он мыслит в твердо зафиксированных, неподвижных понятиях, он не мирится с текучестью и непрерывным движением и готов прикрепить движение хотя бы в отдельных его мгновениях к математическим точкам неподвижности. Поставленный перед живым потоком действительности он оказывается совершенно неспособным справиться со всем живым и создает вместо подлинного мира фикцию застоя, неподвижности и отказывается принять будущее, непохожее на настоящее. И это не случайный антагонизм между мыслью и жизнью, а органически обусловленная неспособность понять жизнь интеллектом[732]. С точки зрения приспособления к жизни, действия в этом характере интеллекта кроется глубокий смысл: в прагматических интересах является необходимость не только материю, но и живое рассматривать как мертвое и механическое. Бергсон видит в нашем понимании, построенном на интеллекте, просто целесообразное «прибавление к нашей способности действовать»[733]. Но философия стремится к созерцанию, она стремится подойти к самой жизни бескорыстно, с целью чистого созерцания истины, а интеллект, ее традиционный путеводитель, оказывается для этой цели совершенно непригодным: жизнь текуча – он предполагает и устанавливает мнимые неподвижности; жизнь всегда нова – он всегда ищет повторений; жизнь не мирится с готовым платьем – интеллект всегда стремится надеть его на жизнь и т. д.
Выход может быть найден на том пути, на который указывает сама жизнь. Постичь живое и вечно текучее можно только с помощью того же животворного начала; таким началом и является у человека интуиция, этот осознавший себя, просветленный инстинкт – интуиция, которая не выражает вещи через что-то другое, как это делает интеллект и его анализ, а в ней мы проникаем в самый предмет, сливаемся с ним, с его единственной, не поддающейся голо логическому осмысливанию сущностью посредством своеобразной «симпатии или особого рода интеллектуального вчувствования»[734]. Сама жизнь есть движение, оно одно способно не только подойти к жизни, но и слиться с ней.
Но откуда эта противоположность интеллекта и интуиции, кто из них больше заслуживает доверия. Разрушив все твердо установленные преграды и плотины, все представления об устойчивом, застывшем, неподвижном, Бергсон пытается в блестящем и по форме, и по содержанию изложении показать путем широкого использования данных положительных наук текучую природу всей действительности; все приходит в движение под его талантливым пером, и вся действительность начинает все больше вырисовываться как бесчисленные проявления одного великого жизненного стремления или порыва. Подымаясь все выше к оценке фактов положительных наук, Бергсон не сказал ясно и определенно, что это за сила живет в мире, предоставляя, очевидно, метафизике дать ответ на этот вопрос, только бегло наметив ее характер. Подчеркивая идею неоламаркистов о способности организма явить собственное усилие к приспособлению и восполнению, Бергсон считает необходимым взять понятие усилия в более глубоком смысле, а именно «еще более психологически», чем это получается у неоламаркистов[735]. Вообще же он говорит о ней как о живом едином «центре, из которого выходят миры как цветы из колоссального букета», как об источнике непрерывающейся жизни, деятельности и свободы[736], который он в этом смысле готов назвать богом. Во всяком случае он ясно заявляет об одном, что в действительности жизнь принадлежит к психологическому порядку[737] и что в основе ее лежит «сознание или сверхсознательность»[738]. Как далеко идет французский философ в утверждении психической природы жизненного начала, это видно из того, что он и движение готов понять как «духовный синтез, как психический и, следовательно, непротяженный процесс»[739].
При такой действительной сути мира Бергсон должен был склониться к мысли, что всюду жизнь и что у человечества в перспективе возможность преодоления смерти. То, что пессимисты в духе Ляланда утверждают в противоположность эволюции «диссолюцию», приближение к одной цели, к смерти, Бергсон решительно парирует указанием, что рядом с умирающими мирами идут вновь возникшие и зарождающиеся, и жизнь все-таки везде остается победительницей[740].
Итак, жизнь во всех ее разветвлениях говорит об едином живом начале – силе, только в своем дальнейшем развитии разбегающемся в своих отдельных напряжениях по многочисленным частным ветвям, нигде не прерываясь. Дух и тело, качество, свобода и необходимость и т. д. – все это сочетается в единое вечно движущееся, постоянно взаимодействующее друг с другом живое целое. Но единство это достигается не общим направлением на общую цель, не телеологически, а Бергсон, отдавая дань своей позитивно-научной ориентации, отрицает определенный план у мира; он находит, что при существовании такого плана мир становился бы все совершеннее и гармоничнее, а меж тем этого нет; кроме того, план обозначал бы уже связанность и ограничение, между тем как мир безграничен не только фактически, но и в возможности; единство и гармония остались позади в едином жизненном порыве, а впереди все большее дробление, неудержимый поток времени и жизни, разливающейся во все большее количество рукавов, меняющих свое направление и часто несовместимых. Например, дисгармония между отдельными видами стоит уже вне всякого сомнения; некоторые из них отстали, другие ушли вперед. Настоящий прогресс получается только на немногих направлениях развития[741].
На таких расходящихся направлениях и выросли две односторонности: рассудок с его прагматическим характером и инстинкт, в просветленном состоянии способный стать интуицией. Уже эта мысль ясно говорит о том, что где-то в своем корне они были одно, и в бергсоновской интуиции дается как бы в осуществленной форме тот просветленный синтез чувственности и разума, который в принципе предполагал возможным Кант. Не даром же французский философ готов был и самому жизненному началу приписать не только инстинктивный характер, но и назвать его сознанием[742]. Он не отказывает в сознании и растительному миру но с тою только разницей, что у растений сознание замерло и нет чувствительности, т. е. что оно у растений внизу лестницы, а у животных вверху[743]. Нет нужды добавлять, что на этом направлении развития высшее место бесспорно занимает человек. Так во всем мире на различных его ступенях различные формации жизненной струи говорят каждая о своем относительном достижении. Но жизнь дана не только в нашем мире: она, без сомнения, возможна во всех мирах, потому что везде льется основная разветвляющая жизненная струя и обратное ей – стремящееся к неподвижности движение материи, образуя вместе вечную борьбу и течение своим неравенством. Но это, говорит Бергсон[744], еще не все: «Собственно говоря, нет необходимости, чтобы жизнь концентрировалась именно в организмах в собственном смысле этого слова». Таким образом круг жизни и живого начала охватил в конце концов у французского философа весь мир без изъятия; он весь стал апофеозом жизни. Значение этого вывода находит себе дополнение и грандиозное усиление в воскрешенной Бергсоном античной идее о немыслимости небытия: он путем блестящего анализа приходит к выводу, что ничто и небытие – это мнимые идеи, это просто самоуничтожающиеся понятия[745].
Человек, как мы уже заметили, стал на вершине одного направления развития жизни, но затем у Бергсона его положение все больше приобретает в своем значении, и невольно пробивается мысль, что человек является венцом творения вообще. Мозг, язык, общество показали по учению философа, что на арене жизни только человеку удалось преодолеть препятствия, оказавшиеся не по силам для других существ[746]. Так неожиданно антропоморфически проявилась позитивно-натуралистическая подкладка у Бергсона: повсюду в природе жизненное усиление и сознание зашли в тупик, говорит он; они топчутся на месте и если переходят к новому, то только от одного автоматизма к другому; только у человека получилась настоящая свобода и безбрежная возможность продолжать жизнь[747]. Правда, и у человека это не было сплошное триумфальное шествие: он утратил значительную долю инстинкта на этом пути, и только время от времени вспыхивает как пламя «почти погасшей лампы» смутная и отрывочная интуиция[748].
На эту картину всеобщей жизни, возглавляемой человеком, Бергсон кладет еще мазок, дополняющий ее яркий тон: все здесь индивидуально и ново, ничто не переживает повторений, не только потому, что оно само не повторяется точь-в-точь в той же форме, но оно не будет тем же из-за изменившихся взаимодействующих условий, которые также меняются, все нарастая в всеобщем потоке жизни; «прошлое, – говорит Бергсон[749], – остается настоящим».
Мы все время встречаемся у этого философа с понятиями жизни и творчества. Там, где к Бергсону мы подходим с ожиданием точного определения, нас ждет разочарование: блестящий стилист и логичный мыслитель, он вместе с тем основной своей точкой зрения на роль понятий и интеллекта затруднил себе путь к точности и открыл простор аналогиям. Поэтому и эти понятия остались у него туманными. Поглощенный идеей эволюции и творчества, он говорит определенно о жизни только то, что она сама подвижность, действие и главное – что она «потребность в творчестве» или, лучше сказать, само творчество[750], т. е. созидание вечного нового, неповторяющегося. И жизнь творит не переставая, действительность по существу представляет бесконечное творчество. Единственное, но важное ограничение, которое вводит здесь автор, – это указание на то, что творится только форма, так как мир уже обременен материей, этой застывшей субстанцией[751]. Так как в принципе у Бергсона нет ни целей, ни ценностей, то в конце концов в блестящую пелену творчества оказалась одета простая текучесть, изменение и это помогло ему сблизить вплоть до полного слияния время как конкретную длительность и жизнь, а с нею и творчество: где жизнь и творчество, там непременно дано время, говорит Бергсон, подчеркивая эту мысль[752], а в конце труда на пути естественного сгущения своей основной идеи он уже приходит к характеристике времени как творящей себя действительности, возведенной в ранг абсолюта[753]. Жизнь, творчество, время, абсолют становятся у этого мыслителя почти синонимами.
В понимании Бергсона мир предстает перед нами на двух постоянно перемежающихся линиях-направлениях: с одной стороны он рисует нам материю с ее сущностью, выражающейся в тенденции разложения, а с другой – весь органический мир с его единым жизненным импульсом. Нет готовых ни вещей, ни состояний; все движется и живет, быть значит действовать и притом взаимодействовать. «Все живые существа, – говорит он[754], – держатся друг за друга, и все подчинены одному и тому же гигантскому порыву. Животное опирается на растение, человек живет благодаря животному, а все человечество во времени и пространстве представляет одну огромную армию, движущуюся рядом с каждым из нас, впереди и позади нас, своею тяжестью оно способно победить всякое сопротивление и преодолеть многие препятствия, в том числе, может быть, и смерть». В таком мире уже не может быть речи об одиночестве, и перед человеком вырастают у Бергсона широкие перспективы: созерцай и переживай абсолют и твори жизнь – вот тот императив, который напрашивается сам собой у Бергсона. Сам автор убежден, что его учение способно дать новый богатый приток сил для деятельной жизни[755].
Бергсон считал себя вправе говорить без ограничений о творчестве человека, тем более что свобода его представляется ему совершенно неоспоримым фактом. Психологический детерминизм он подменяет неправильным пониманием множественности состояний сознания и в особенности длительности, а физический детерминизм он сводит на психологический. Вся его аргументация подчеркивает, что детерминисты ошибочно приписывают длительности свойства протяженности, последовательность смешивают с одновременностью и о свободе говорят на языке, который для нее совершенно не годится[756]. Бергсон указывает, что даже при полном знании всех условий предвидение чужих поступков совершенно немыслимо; он рекомендует не забывать, что даже самые простые психические элементы живут особой жизнью, отличаются своим особым характером, как бы поверхностны они ни были; они находятся в состоянии непрерывного возникновения и угасания, и одно и то же чувство, с глубокой проницательностью говорит Бергсон, уже в силу своего повторения становится совершенно новым. Тождественные причины дают тождественные следствия только в понимании физика; психолог же, если он рассматривает действительную душевную жизнь, должен знать, что здесь причина дает свое определенное следствие только один раз и никогда не повторяет его[757]. И у Бергсона это вполне понятно и последовательно, потому что свободное решение принимает не отвлеченный элемент, как бы он ни назывался, воля или разум, а вся душа в ее живой цельной полноте, а в ней всегда новизна, всегда новые сочетания и состояния. И свобода наша расцветает тем шире и глубже, чем более тесное слияние устанавливается между нашим я и динамическим рядом наших переживаний, к которым примыкает переживание данного момента. Иными словами, это значит, что истинная свобода там, где мы вскрываем свое подлинное я, очищенное от всяких интеллектуалистических наслоений-символов.
И по учению Бергсона человек творит. Он творит и вне себя, и собой, и в самом себе – все это неразрывно связано друг с другом. Время и жизнь не знают поворотов назад. Мы только что познакомились с неповторяемостью и вечной новизной душевных переживаний в описании Бергсона, и понятно, что для него каждый момент в нашей жизни должен быть новым неустойчивым этапом в нашем личном созерцании и росте, в росте мира и в нашем и мировом непрекращающемся творчестве. Всякий производительный труд, всякий свободный акт, всякое самопроизвольное движение организма вносит в мир нечто новое, хотя бы и по форме только[758]. Но человек как бы возглавляет природу, свет сознания расширяет и углубляет его путь и открывает и для его инстинкта, когда он озаряется сознательностью, необъятные перспективы. Отказавшись в принципе от расценки, наш философ тем не менее пришел к мысли, что органический мир являет почву, на которой должен был вырасти человек, а животные выступают в роли как бы носильщиков его тяжелого багажа[759]. Таким образом перед нами вырастает в учении Бергсона традиционный образ «царя природы», «человеческой личности.
Но наше творчество тем шире, чем больше мы размышляем о себе и своих поступках. У человека открываются по учению Бергсона необъятно широкие возможности – перспектива проникновения в абсолют не только созерцательно, в философии, но и деятельное приобщение к нему – седая вековая философская мечта. В то время как философская мысль взбиралась на необъятные высоты отвлеченной мысли и спускалась в страшные глубины мира и жизни, чтобы найти тропу в абсолютное царство, Бергсон стремится дать ошеломляюще простое решение – показать, что мы искали вдали то, что находится в нашей непосредственной близости и в нас самих. Уже наше живое соприкосновение с миром и деятельное участие в нем гарантируют нам во всяком случае его некоторое достижение и причастность к нему. Но у нас есть и иное средство – это осмысливший себя инстинкт, интуиция, которая тлеет как искра в сути духа каждого человека и которая, разгоревшись в пламя, способна осветить тайники абсолюта, мира и жизни. Вскрыв в себе этот природный дар, мы должны пойти с ним к интеллекту и в их соединении мы получим ключ к правде: интеллект связан с материей, интуиция с жизнью; новая теория познания должна объединить их, объединить науку и философию, и на этой почве родится новая философия, которая вскроет не только тайны абсолюта, но и перенесет нас в него, хотя бы только открыв нам, что мы живем в нем. Бергсон убежден, что истинный путь философии – это непосредственные данные сознания как их способна дать нам интуиция; на этом пути по его учению философия придет к тем же выводам, как и здравый рассудок, не принизив себя и заключив с ним мир.
Но этот здравый рассудок всегда клонится к абсолютизации человека. Бергсон, по-видимому, ясно учитывает эту мысль. Его само по себе последовательное предположение, что человечество не последний этап развития[760], нисколько не ослабляет того положения, которое он отвел личности в действительности. Уже в его описании жизни мира, порыва, в утверждении его психологического характера и даже сознательности и т. д. чувствуется, что мир рассматривается в близкой аналогии с человеком: ведь и там, и тут говорит все та же жизненная сила, только в человеке она более прояснена и доступна нам. Бергсон вполне соглашается с Спенсером, что внутреннее строение нашего мышления шаг за шагом соответствует самой сути вещей[761], и сам говорит о том, что, проследив развитие человека с момента его зарождения, можно без труда обозреть необъятные мировые связи[762]. Таким образом в философии Бергсона послышалось отдаленное эхо старой идеи о микрокосме, позволяющем нам постичь макрокосм.
Более того, с этим сочетался и родственный этой мысли призыв к самоуглублению в интересах проникновения в абсолют, хотя Бергсон не мистик. Познание без символов это познание изнутри, познание это сама наша личная жизнь, наше я[763]; прийти к абсолютному это и значит прийти к непосредственным данным сознания, найти свое подлинное я, но уже освобожденное от наслоений, от паразитного я, а многие люди, говорит Бергсон[764] могут прожить всю свою жизнь, не зная себя и не обретая истинной свободы, но открыв свое данное, подлинное я, мы этим не только находим самих себя, но мы открываем абсолют[765]. Вместе с тем философия творческой эволюции отвоевала и второе положение, которое дорого здравому рассудку – это реальность непосредственно переживаемого мира; в споре здравого смысла с идеализмом и реализмом Бергсон встал на сторону первого[766].
Как мы заметили в самом начале, сам философ не дал еще своей философии в вполне законченном виде, но уже из нашего краткого очерка читатель видит, какие перспективы открывает философия Бергсона для построения цельного мировоззрения, как велико ее общефилософское значение. Он блестяще вскрыл односторонность чистого интеллектуализма и коренной грех отвлеченного мышления. Определив метафизику как теорию, стремящуюся к познанию без символов, он заявил, что жизнь поймет только тот, кто найдет жизненную исходную точку и пойдет путем живого цельного постижения путем полного живого человеческого я. Это дало ему возможность отвоевать для философии свою настоящую и притом чрезвычайно ценную область, оставив положительным наукам царство инерции и механизма с их принципами, он восстановил философию в ее истинном назначении понять живую действительность, жизнь, движение, творчество в их подлинном, а не в отвлеченном или расчлененном интеллектом виде. Бергсон наносит вместе с тем сокрушительный по своей силе удар тем элементам, которые умерщвляли живой дух философии: всему неподвижному, застывшему, отвлеченному, возведенному в ценность, своеобразному современному элеатизму, когда даже бог под пышным декорумом оказался вознесенным на недосягаемые высоты отвлеченности и безжизненности. Весь мир абсолютных, «себе довлеющих» ценностей и бытия он разоблачает как жалкую, фикцию интеллекта, как свидетельство его бессилия понять живое и жизнь; Бергсон решительно встал на сторону учений, стремившихся понять абсолют как жизнь; он отвернулся от отвлеченно-общего, чтобы бесповоротно стать лицом к индивидуальному, неповторяющемуся как к подлинной реальности.
В такой теории открылся большой простор для учения о личности и понимания ее роли. Сам Бергсон уверен, что его философия не только способна устранить многие до сих пор не поддававшиеся разгадке теоретические проблемы, но и значительно увеличить желание и силы жить и творить новую жизнь. В далекой перспективе ему рисуется даже преодоление смерти.
И тем не менее учение Бергсона, насколько можно судить о нем в его современном виде, не избегло ряда коренных противоречий. Общий оптимистический тон, окрашивающий все его писания, находит значительное и принципиально очень существенное ограничение в том, что составляет коренной недостаток всего учения французского философа: это отсутствие момента ценностей и норм, которые бы давали критерий и право говорить о цели, об отборе, об истинном развитии. Утверждая, например, сохранение всего прошлого в настоящем, он вынужден будет принять все вне всякой оценки и отбора, и так как отрицательное больше обращает на себя внимание человека, то пессимистический итог грозит перевесить в конечном счете оптимистический. Бергсон значительно более последователен, когда он, оставаясь верным основной струе натурализма и биологизма, вообще не затрагивает вопроса о ценности и целях, а поняв гармонию как простое единство, он предлагает видеть ее в этом условном смысле не впереди, а позади.
Позитивно-натуралистическая струя, несовместимая с целями, ценностями и нормами, привела Бергсона к тому, что он не мог найти – да и не искал его – определенного познавательного критерия, и в действительности скрыто везде пользуется биологическими категориями, как эволюция, жизнь, инстинкт и т. д.[767] Но его теории присущ тот органический недостаток, что она по существу никогда не может быть завершена, потому что предмет ее находится в бесконечно текучем и творческом состоянии, он вечно нов и всегда незакончен, меняясь в совершенно непредвиденных и неподдающихся учету формах, и в то же время философ принципиально отказывается от символов, фиксаций, разделений и понятий, как продуктов интеллекта, неспособного понять жизнь. Отсюда становится понятным богатство аналогий, которые мы встречаем у Бергсона. Построение строгой системы понятий могло явиться у него только результатом разрыва с своей основной точкой зрения на познание[768]. Да и самое понятие интуиции, этого просветленного инстинкта, способно навести на сомнение: этот инстинкт, хотя и неосознанный, дан у животных в более полной форме, чем у человека, но они и по Бергсону остались далеко позади нас не только в познании, но и жизненно.
Нет ничего удивительного, что при таких условиях и основное жизненное начало, пульсирующее в мире, так и осталось какой-то таинственной, мистической силой, о которой мы мало что узнали от французского философа. В перспективе только необозримо разнообразная жизнь, правда абсолютированная – уже не тень и не явление и не отблеск значимостей и т. п., а подлинная жизнь и реальность. Но таково фактическое положение, оставляющее совершенно открытым вопрос об оправдании, о цели и смысле; нет ответа на самое главное, зачем все это и чем оно оправдано. В итоге только абсолютированная жизнь и возвещенная возможность для человека преодолеть смерть. Без ответа на вопрос о смысле, о цели, об оправдании вся эта победа над смертью, как и весь таинственный бесконечный жизненный порыв, проникающий вселенную, свелся к общему устремлению быть и жить во что бы то ни стало. На горизонте таким образом обрисовывается шопенгауэровская воля к бытию, к жизни, также не ведавшая целей и смысла, стремившаяся только к самой себе. Да и единство оказывается значительно подорванным. Во-первых, оно без ценностей также ничего не дает, потому что оно может быть дурным или безразличным, по ту сторону ценностей, как это и должно быть у натурализма, а во-вторых, в мысли о том, что части мира, растения, животные, человек и т. д. поддерживают друг друга, очарование рассеивается немедленно, как только мы вспомним, какова эта «поддержка» в действительности – что она выражается во взаимоуничтожении не меньше, чем в питании. Таким образом, как говорил Гегель, все они таскают из огня каштаны для абсолютного жизненного начала; оно одно побеждает, а все индивидуальное, частное сгорает в его порыве.
Скрыто философия Бергсона императивна и полна плодотворных идей, но так, как ее строит автор сознательно, из нее получается то, что может дать чисто фактическое, безоценочное описание, как бы оно талантливо ни было: полное отсутствие оправдания и смысла мира и жизни. Для смысла необходимы императивы. Обращение воли, призыв к которому ясно слышится из-за кулис философии Бергсона, может прийти только из учения, которое сольет богатую плодотворными идеями его философию с теоретически ясно осознанным нормативизмом.
XIII. ИДЕЯ ЖИЗНИ КАК ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ
Перед нашими глазами прошел целый ряд различных, часто противоположных друг другу попыток решить основную проблему миросозерцания и жизнепонимания. Тем не менее при всем разнообразии взглядов различных мыслителей обращает на себя внимание одна общая идея, присущая всем изложенным нами теориям и не только им. Это – то место, которое все они отводят идее жизни как ключу ко всем мировым философским загадкам. Положение это приобретает тем большее значение, что в этом пункте встречаются не только дорожки мысли, но и голоса природы и наивного, практического сознания, как в конце концов и религиозные верования – все они сливаются в одном мотиве: жить и быть во что бы то ни стало.
Господство инстинкта самосохранения, стремления к жизни, к бытию настолько ясно и общепризнанно, что мы на нем останавливаться не будем: о нем красноречиво говорит каждая клеточка. Современное естествознание освятило это положение, как бесспорное. В том же направлении ведут нас человеческие стремления и общежитейские представления. И здесь стремление жить и быть является последней предпосылкой, пропитывающей сложную ткань мотивов и сил человеческой деятельности, которая определяется осознанными желаниями, полуясными позывами и совершенно темными стремлениями. Не только для наивного сознания примитивного человека, но и для культурного человека в сущности небытие есть только отвлеченная мысль, жизненно неприемлемая ни теоретически, ни практически: оно не приемлется нашим чувством, оно не допускается нашим представлением, неспособным представить его нам, и даже отвлеченная мысль не в силах преодолеть эту непредставимость небытия: при всех ухищрениях все-таки остается хотя бы слабая тень, некоторый отблеск все того же бытия. Жить, чтобы уничтожать жизнь, это – для нас величайшая бессмыслица, это логически противоречиво. Всеобъемлющий характер устремления к бытию, к жизни ярко сказывается в том, что уничтожение жизни наполняет нас ужасом и отвращением. Чем выше полнота жизни данного существа, тем тяжелее мысль об уничтожении. Даже к гибели животного мы не относимся вполне равнодушно, а это вызывает некоторую сенсацию; о ней ясно говорит привкус, присущий слову «гибель» или «уничтожение». В сущности садисты, больные и озлобленные люди, только потому прибегают к уничтожению, что они знают, что таким путем они задевают наиболее чувствительные струны человеческой души, причиняют зло. Герострат (маньяк), сжигая храм, чудо искусства, знал, что это – огромное злодеяние, уничтожающее длительные следы человеческого бытия, его наивысшего проявления – творческой деятельности, и что человечество долго не забудет о нем: так больно отзовется в его сознании самая мысль об этом злодеянии. Если я подыму с пола щепку и переломлю ее, это останется незамеченными ни мною, ни другими; но уже растоптанное растение внушает сожаление, порванная книга будит вопрос, зачем и кем это было сделано, а тем более, если вопрос идет о животном, хотя мы часто не останавливаемся перед этим, гонимые более мощными силами. Особенно важно отметить, что это отношение к жизни господствует не только в природе и в низах неразвитого духа, но оно все повышается вместе с развитием и вырастанием человеческой личности. Именно развитая личность нормально совершенно не мирится с мыслью об уничтожении; там, где она вынуждена это делать, она старательно отыскивает оправдания своих поступков и находит его большею частью в мотивах поддержания жизни или ее обогащения и таким путем пытается успокоить возбужденную совесть. Так поступают, например, в современной войне культурные воители: все они говорят о защите жизни, о завоевании простора для новой жизни… С этим вполне гармонирует с другой стороны то, что в мировой литературе поется на тысячи голосов гимн материнству, матери – ей, дающей жизнь. И здесь слышится голос мысли, что жизнь – высшая категория. Не даром люди говорят: вырастил детей, увидел внуков, все на дороге, слава богу – теперь можно и умереть спокойно, очевидно, убедившись, что остается обновленная жизнь. Этими жизненными побуждениями, без сомнения, в значительной степени объясняется также и то, что многие и многие, если не все, религиозные системы стремятся дать человеку религиозно-метафизическое утешение, что жизнь человеческая со смертью не уничтожается, а что она гарантируется в иной форме и притом вечной. Это – то метафизическое утешение, о котором говорит Ницше, утверждая, что с ним отпускает нас трагедия, скрыто убеждая нас, что переменчивая жизнь в сущности неразрушима. Религиозное учение, конечно, не могло бы оперировать обещанием вечной жизни как всемогущим средством, если бы оно не видело в нем абсолютного блага. В религиозном учении высшего порядка постулирование вечной жизни мотивируется нравственными мотивами, но это нисколько не устраняет самодовлеющей ценности жизни и вечного бытия; наоборот, у нас имеются все основания к тому, чтобы взвесить, не кроется ли в этом, помимо всего, еще утонченный способ повысить бытие, своего рода «хитрость разума». «Стремясь найти тебя, моего бога, я стремлюсь найти блаженную жизнь. Я буду стремиться к тебе, чтобы душа моя жила», – говорит Бл. Августин. И в повелении отдать жизнь свою за други своя не опровергается наша мысль, а стремление к бытию предлагается одеть только в иную, более утонченную форму морально и религиозно освященной потусторонней жизни; в этом случае акт самопожертвования обозначает скорее высший взлет воли к жизни личности и осознанное, или – большею частью бессознательное – усилие прорваться в царство вечности, хотя бы и относительной. Евангельское учение говорит нам, что бог не есть бог мертвых, а бог живых. Когда буря настигла спасителя и апостолов на воде, и апостолы испугались (очевидно, за свою жизнь), Христос воскликнул: «Маловерные!» Он не говорит, что нет нужды бояться гибели, а только упрекает их в том, что они усомнились в своей безопасности при его присутствии среди них. До какой степени безгранично господство этой категории, это лучше всего показывает та система, которая пыталась обойти ее: углубленный анализ идеи Нирваны не дает голого небытия, а за ней чувствуется нечто, какое-то бытие, покойное вечное, хотя и, как небытие, неуловимое нашей мыслью. Что касается философских учений, то во всем предыдущем изложении мы неоднократно подчеркивали эту сторону в них. Таким образом нам остается только привести некоторые добавочные указания. В старом учении о переселении душ жизнь вечная считалась неизбежной, и после смерти душа, смотря по ее достоинствам и поведению в этом мире, попадает или переселяется в другое тело. Типичное греческое отношение к жизни, к бытию говорило об энергии жизни, о неудержимом стремлении развернуть всю силу и мощь человека, о неисчерпаемой радости созидания, об упоении бытием. Отсюда становится понятным традиционное представление древнего грека о жизненных и увлекательных фигурах его богов, поэтических свидетелей его любви к расцвету жизни. В античной философии издавна понятие бытия неразрывно сочеталось с ясным ароматом ценности. Парменид, глубоко осмысливший эту черту древнегреческого характера, отлил ее в отчетливую форму утверждения, что небытия нет[769]. Элеаты и Гераклит, Анаксагор и Платон – все они ценили и признавали смену и преходящее за низшее. Даже Гераклит поставил над всей сменой, как нечто безусловно высшее, вечно пребывающий, неизменный закон. Аристотель видел весь смысл и общую цель всего мира в раскрытии всей возможной полноты бытия, завершающейся на своей вершине традиционным идеалом. В этом отношении очень характерна следующая мысль Аристотеля: «Родители оказывают детям величайшее благодеяние: они дают детям жизнь и питание; сверх того, кроме жизни, они дают им и образование»[770]; иными словами, не только дают жизнь, но и поддерживают ее и повышают способность бороться за эту же жизнь.
В этом же направлении ведет нас очень рано выявленная идея тождества реальности и совершенства. Когда вершина совершенства окажется достигнутой, там в конце концов – даже у Спинозы, откроется все оно же: вечное бытие. Как ни велика поглощенность Канта идеей морального долга, тем не менее и у него ясно пробивается та же двигательная пружина. В докритический период, защищая оптимизм, он восклицаем «Благо нам» – мы живем. И творец радуется за нас»[771]. Позже в «Träume eines Geistersehers»[772] (1776 г.) Кант утверждает, что не было еще честной души, которая бы могла перенести мысль, что со смертью все приходит к концу, и благородное настроение которой не давало бы ей возможности питать надежду, что ее потом ждет будущее, хотя в иных условиях и форме.
Конечно, в этом случае немедленно всплывает мысль о жизни ради долга, внушительная фигура категорического императива, но в переводе на реальный язык это значит требовать оправданной жизни, т. е. повышенной, интенсифицированной, но все-таки жизни. Отсюда отчасти проливается свет на реформизм большинства идеалистов-философов. Фихте весь преисполнен стремления к полноте одухотворенного бытия, повышенного к интенсивной жизни личности, потому что в живой и ценной полноте духовного расцвета бытие, трактуемое активистически, достигает своей высшей точки. Фихте, как бы мы ни трактовали смысл понятия быть у него, сам с присущей ему энергией заявляет[773]: «Нет ничего, что обладало бы безусловной ценностью и значением в такой мере, как жизнь». Все остальное, с его точки зрения, обретает смысл и ценность только постольку, поскольку оно стоит в связи с жизнью и сводится к ней. Жизнь в идее для него и есть «бесконечно нарастающее бытие»[774], процесс, которому он придавал божественное значение. Таким образом и у него всепобеждающая категория жизни.
В общем, в той же плоскости, только в еще более ясной форме выявляется та же черта у философов позитивистического уклада. Конт учит, что с переходом границ опыта мы очеловечиваем мир и этим самым создаем иллюзии, обман и… проигрываем свое счастье. При разумном «положительном» отношении к миру и «положительном» устроении жизни, т. е. на «естествознании» на «интеллигенции», всякий труд не пропадает даром, все дает нужный и возможный вклад в общую сокровищницу бытия и жизни. Прослеживая вслед за Контом линию возрастающего единства природы, общества, улучшения условий жизни человека, его господства над природой, когда человечество идет все выше по пути повышения своего бытия, мы убеждаемся, что простая жизнь была отправным пунктом, полнота ее будет конечным завершением.
Эту тенденцию особенно ярко вскрыл Спенсер в своем основном законе мировой эволюции: в исходном пункте было мало жизни, потому что была дана сплошная однородность, жизнь была слишком узка, но с дальнейшим развитием, подчиненным закону интеграции и дифференциации, поток жизни начинает развертываться все шире и шире, глубже и глубже, полнее, разнообразнее и интенсивнее; особенно каждая человеческая личность с каждым шагом вперед подвигается не только по пути углубления общего пути, но она еще все больше выявляет свою особую, индивидуальную полноту жизни. Таким образом получается все нарастающее внешнее и внутреннее расширение жизни. Как известно, в своих педагогических статьях Спенсер, усматривая в жизни высшую категорию, считает создание жизнеспособности высшей целью воспитания и ею определяет как пути, так и содержание образования.
В какой прямой, порой исступленный панегирик жизни выливается в этом направлении мысль апологетов земли, это нам хорошо показал грубый материализм Дюринга и утонченный эстетический героизм Ницше. Первый называет самую мысль о ничтожестве земного бытия «отвратительной», «чумным смрадом», «нравственным гниением» и т. д. Молнии Ницше утонченны, хотя также не всегда, но смысл их также заострен в категорию жизни как верховную категорию. Он проповедует не просто бытие, но с пламенным пафосом рекомендует испить чашу жизни до дна, не упустив ни единой капельки ее.
Мы уже указывали на религиозно-философские течения и роль категории жизни, бытия в них, например, в учении Вл. Соловьева, говорившего, что «прежде всего нам нужно жить, потом познавать жизнь и наконец исправлять жизнь»[775], что смерть – это физическая неправда, зло и что владычество смерти есть «такое же бесчинство, такое же извращение степеней, как и господство слепых страстей в разумной душе или господство черни в обществе человеческом»[776]. Мировая трагедия рисуется в форме борьбы начал жизни и смерти, между живым духом и мертвым веществом – «история мироздания»[777], которая должна найти свое завершение в победе вечной жизни[778].
В новейшее время эта идея выступила в полном метафизическом расцвете у Анри Бергсона; центральное положение идеи жизни у него мы уже подчеркнули раньше: в конечном итоге жизненный порыв свелся к общему порыву быть во что бы то ни стало.
Суммируя все эти мысли, мы приходим к выводу, что изощренная философская мысль на вершине своего напряжения пришла к осознанию и прокламированию того вывода, который дают мать-природа и действительный мир во всех своих живых проявлениях, начиная с самой низшей и кончая самой высшей ступенью: бытие и жизнь – высшие ценности, высшая категория. С формальной стороны это напоминает нам идею Гегеля о полном тождестве первоначального тезиса и последнего завершающего синтеза. Нетрудно понять, к каким важным следствиям способна привести эта идея.
XIV. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СМЫСЛ И УСЛОВИЯ ЕГО УТВЕРЖДЕНИЯ
Изучение различных решений проблемы смысла жизни личности приводит к интересным выводам еще и в ином направлении: оно проливает яркий свет на те условия, при которых возможно решить вопрос о смысле жизни в удовлетворительной для личности форме. Мы выдвинули только несколько выдающихся образцов решения этого вопроса, и тем не менее уже из них ясно, как велика роль различных индивидуальных мироощущений в построении мировоззрения данного мыслителя. Тем более велико должно быть разнообразие там, где речь идет о массе личностей. Поэтому наша попытка выявить общие условия утверждения смысла должна не устранять индивидуальные черты, а только помочь осознать общий фундамент. Такое размышление тем более необходимо, что попытки определения самого понятия смысла, с которыми мы встречаемся в нашей литературе, во многих случаях или ничего не говорят, или же оказываются односторонними, а то и прямо ложными.
Прежде всего большую путаницу вносит смешение понятий смысла как содержания, фактически заключающегося в данном суждении или понятии, безотносительно к нужности или ненужности называемого им предмета, и смысла как оправдания существования самого предмета. В первом случае речь идет о слове, об объекте логики и грамматики, во втором – о живой жизни, об объекте философии, теории жизнепонимания и миросозерцания! Уже в аристотелевском понятии энтелехии переплетаются «значение» понятия и «назначение» предмета, которые далеко не всегда совпадают друг с другом и которые тем более необходимо различать, чем ближе мы подходим к живому существу, особенно человеческой личности – то самое роковое смешение, которое вызывало нарекания в насилии над жизнью и действительно очень часто приводило к нему[779]. Кроме того, в самом понятии назначения необходимо иметь в виду различие известной целесообразности и внутреннего оправдания, притом свободно признанного.
«Смысл жизни, – говорит один[780], – должен быть понимаем как назначение и действительная пригодность жизни для достижения ценной цели, т. е. такой цели, за которой надо или следует гнаться». Таким образом вопрос о смысле жизни совпадает с вопросом о цели жизни. Другой[781] называет смыслом целое, объединяющее форму и материю, очевидно, учитывая логическую сторону вопроса. «Под смыслом какого-нибудь предмета, – говорит Вл. Соловьев[782], – разумеется именно его внутренняя связь со всеобщей истиной». Е. Трубецкой определяет понятие смысла так[783]: «Цель или ценность, ради которой, безусловно, стоит жить», по его мнению, это и есть то, что называется смыслом жизни. «Смысл раскрывается перед нами, – говорит Г. Шпет[784], – как разумное основание, заложенное в самой сущности». Риккерт определяет смысл[785] как «единство ценности и действительности», намечая этим наиболее правильный взгляд на понятие смысла с точки зрения нашей проблемы.
В самом деле. Когда мы спрашиваем о смысле мира и жизни, мы вкладываем в этот вопрос вполне определенное содержание, именно: существует ли ценная цель, в действительности или в возможности, к которой бы данный объект стоял в определенном положительном отношении. С этой точки зрения, определение Риккерта называет по существу не понятие смысла, а конечный этап, так сказать, осуществленный смысл: уже достигнутое «единство ценности и действительности». При этом само собой разумеется, что чем большим значением обладает ценность, тем выше все единство и тем глубже смысл. Там, где ценность обладает абсолютным характером, открывается возможность мыслить смысл абсолютным. К этому необходимо присовокупить, что в философском вопросе о смысле ставится именно вопрос в абсолютном значении.
Таким образом понятие смысла можно определить как выражение характера отношения между интересующим нас явлением и соответствующей ценностью, в частности, между жизнедеятельностью человека и им самим и той ценностью, которая могла бы быть поставлена как задача его жизни. При этом открываются следующие принципиальные возможности в зависимости от характера ценности-цели: смысл может быть универсальным, он может быть индивидуальным, и он может быть и тем, и другим; все эти различения возможны не только в отношении ценности-цели, но и в отношении пути; смысл может быть абсолютным и относительным; в принципе он может мыслиться объективным и субъективным. Но все эти чисто формальные указания требуют целого ряда существенных поправок и условий; к ним мы и перейдем теперь.
Перед нами прошел ряд философских попыток решить проблему оправдания жизни человека. Мы видели, что в каждой из них можно найти правдивые элементы, как и каждая из них обнаруживает коренные недочеты, мешающие признать данное решение удачным. Вдумываясь в то и другое, в истину и ложь, сопутствующие этим опытам, мы теперь можем подвести итоги тому, что требуется для положительного решения основного вопроса – жизнепонимания, – какие условия должны быть выполнены в нашем философском учении о мире и жизни.
Первое, что должно быть отмечено, это, без сомнения, тот дух единства, которым, как общим настроением, обвеяны все указанные нами учения и без которого нет и не может быть удовлетворительной думы о мире и жизни. Это ясно само собой вытекает уже из искания ответа и из того, что мы называем пониманием, осмысливанием предмета наших познавательных стремлений: это всегда – объединение разрозненного, на первый взгляд, обособленного и несвязного, объединение интересующего нас неизвестного явления с уже известным нам, включение в цепь нашего миропонимания. С формальной стороны монизм является всегда совершенно необходимым характером философского учения, если оно не идет к философскому нигилизму. Как бытие не мирится с перерывами, так и мысль наша везде ищет связей. Суждение служит ярким образчиком такого преодоления раздельности и обособленности; даже в отрицании устанавливается известный момент связи и отношения, хотя бы в плоскости указания каждому понятию его познавательного ранга и места. Философский плюрализм есть все-таки система. Религия живет этим стремлением к монизму; даже политеистические религии обыкновенно, хотя и смутно, объединяют своих богов в известное единство, иерархию или некоторое объединяющее взаимоотношение. Всякая гармония составляется из многообразия звуков, но этот плюрализм только тогда избегнет хаоса и какофоний (музыкального нигилизма), когда над ним и в нем будет господствовать известный объединяющий принцип.
Этот момент отметил с необыкновенной глубиной и силой Вл. Соловьев, для которого смысл, разум и оправдание могут быть только там, где найдено и установлено или постулировано – в данном случае безразлично – «безусловное сосредоточение». Где отчуждение и разлад, взаимное противоречие и несовместимость, там неизбежна бессмыслица[786]. То же увлечение идеей единства слышится в учении Бергсона и у многих других философов. Таким образом Соловьев выдвигает глубоко правдивую мысль, и наше несогласие с ним начинается с того момента, когда он объявляет смысл исчерпывающе объясненным связью или единством со всеобщей истиной. Единство есть одно из условий положительного смысла, в особенности способное родить подъем и вдохновение оправданной жизни. Единство возможно и на почве голой ожесточенной борьбы за существование, его рисует нам натуралист в итоге безжалостного уничтожения и взаимопитания в природе; оно обосновано у Шопенгауэра на темной, безрассудной воле и т. д.
Установление единства есть только установление одного из условий. Обзор крупных учений показал нам, что положительный смысл жизни бесследно испаряется, как дым, там, где устанавливается мертвая тишина бездействия и неподвижности. Таким образом, речь может идти здесь только о единстве действенности. Но для мыслящего и сознательного существа, для личности с этим неразрывно связано и третье условие: это бездействие устраняется не простым движением и действием, а деятельностью, т. е. движением, и действием, направляемыми определенными целями. Мы это условие назвали бы условием целенаправленной деятельности.
Но и этого мало. Оригинальная теория Бергсона дала нам пример того, к чему приводит деятельное, целенаправленное единство, когда оно не оставляет места для момента ценности: из живой увлекательной концепции Бергсона и его жизненного начала очень скоро вырисовалось голое натуралистическое стремление «быть во что бы то ни стало», ничем в существе своем не отличающееся от основной идеи пессимиста Шопенгауэра. Сказать «смысл есть» значит всегда сказать, что есть ценная цель, с которой можно идти; индифферентное мировое начало никогда не выведет нас из тупика голой борьбы за существование на светлый путь осмысленной, оправданной жизни. Фихтеанское деяние ради деяния превращается в величайшую бессмыслицу, как только мы пренебрежем тем, что Фихте влагал в деяние как цель всю полноту нравственного закона, т. е. этической абсолютной ценности. Простое бытие или действие есть только факт, только обстояние или описание; там же, где может быть смысл, должно быть дано утверждение, приятие, там неизбежная эмоционально-волевая окраска, а это значит, что перед нами не простой голый теоретический феномен[787], но вместе с тем имеется признанная ценная цель[788], т. е., иными словами, это обозначает, что в данном случае мы имеем дело не только с объективной целесообразностью, но и с субъективно утвержденным, лично приемлемым и признанным.
Из этого вытекает последовательно, что проблема смысла есть прежде всего проблема личности. Это особенно ярко выявилось в системах оптимизма и пессимизма, проводимых объективно; там мы видели, что не действительность в сущности пессимистична или оптимистична, а найденный утвержденный или отклоненный смысл мира и жизни решает судьбу миросозерцания в сторону той или иной окраски. Там, где речь идет не о жизни личности, а о вечном мире или о целом мире, там личность примышляется идеально, но берут иное личное направление, хотя бы это был сам бог; там перед нами задача, выросшая не непосредственно, а через перенесение с личности на вещь и на весь мир. Там, где может быть вскрыт смысл вечного мира, он может быть вскрыт только как смысл средств или орудий, в конечном счете также относимых к идее какой-либо личности или цели. Самодовлеющий смысл возможен только для личности, это ее коренной и преимущественный вопрос.
Таким образом выдвигается требование свободы. Чтобы найти смысл не относительный, а самодовлеющий, нужна свобода – это сказано уже понятием личности. Только через нее человек вступает в сферу оценки и ценностей и освобождается от власти вещей и пребывания только в роли средства. Чтобы утвердить смысл, необходимо мыслить человека как деятельного свободного субъекта, с перспективой добра и зла, истины и лжи, красоты и безобразия, более того, в принципе, со всеми промежуточными ступенями между ними, даже с царством безразличного. Это особенно удачно отметил Е. Н. Трубецкой, как мы видели, указавший на необходимость свободы не только от мира, но и от бога[789]: личность должна стать от себя и через себя тем, что она свободно признала ценным и дающим смысл. Этим объясняется то, что смерть и пустота одинаково глядят на нас и из хаоса, и из пессимизма, и из готового, осуществленного царства божия, – то самое, что заставило, как мы видели, Бердяева искать выхода за пределами Евангелия, чтобы найти смысл в творчестве нового: свобода есть необходимое условие постановки проблемы смысла и возможности ее решения в ее ядре.
При такой основе становится понятным дальнейший момент, получающийся из учения существующих типических решений нашей проблемы, а именно: то, что дает самодовлеющий смысл, не может быть дано извне, должно быть внутриположным, имманентным; даже дар от бога в этом смысле неприемлем – таково естественное следствие из понятия свободы. Именно потому религиозно-философский трансцендентизм, как мы видели, приводит к безнадежным противоречиям и к ужасающей лжи речей за бога. Самодовление – это не только идея Канта, это вывод всей философии, ясно данный уже античными философами; о нем говорит Аристотель, утверждающий, что смысл и счастье могут быть даны только деятельностью, направленной не на внешние цели, а только на внутренние; тот же мотив, хотя и с иным уклоном, слышится в учениях о мудреце у послеаристотеликов. Об этом самодовлении говорит Спиноза, утверждавший свободу как действие из побуждений своей природы. Вся суть смысла и свободы говорит нам, что никакое царствие божие не может дать возможности положительного решения проблемы смысла, если оно не «внутри нас».
Но с этим условием неразрывно сплетается императивность смысла. Материализм Дюринга, героический эстетизм Ницше, одухотворенный натурализм Бергсона и т. д. вынули душу из своего учения, потому что никакая поэзия (Ницше), материя (Дюринг), жизненное начало – порыв (Бергсон) не дают веления жить и действовать и не могут его дать, исключая цели и ценности по существу. Смысл императивен, настолько императивен, что, не обладая самодовлеющим смыслом, мириады людей живут его суррогатом, так сказать, подставным смыслом, видя смысл своей жизни в повелении жить ради детей, семьи, любимых людей, общества и т. д., и таким путем эта жизнь получает для них определенное положительное содержание.
Но, конечно, такая цель жизни относительна – вопрос только отодвинут, но не исчерпан, потому что жизнь детей, семьи и т. д. стоит под угрозой тех же сомнений, если чувство жизни само по себе недостаточно сильно, чтобы устранить всякие вопросы подобного рода. Ответ окажется пригодным только тогда, когда указываемый смысл, хотя бы с формальной стороны, будет носить нормативно общеобязательный абсолютный характер. Ответ для жизни неизбежно влечет требование ответа на вопрос о том, а что же дальше?
Но мало этого – то, что дает положительный смысл не может быть ограниченным, узким: оно должно быть не только абсолютным по своему значению – с формальной стороны, но и абсолютным по своей широте и полноте; оно должно удовлетворять не только мысль, но волю и чувство, и веру. В этом смысле оно должно быть способно создать всеединство; здесь мы должны присоединиться к глубоким словам Вл. Соловьева[790], что этот смысл должен быть «объективно желательным» или «объективным благом», «объективно истинным» и «объективно прекрасным». Таким образом намечается еще одно условие, скрыто уже данное во всем сказанном нами: когда человек оказывается нужным только самому себе и весь его интерес сведен к нему самому, перед ним открывается бездонная пропасть; даже если он сверхчеловек, он повисает в воздухе или должен – в противоречии с своей сущностью, как у Ницше, – предполагать множественность сверхчеловеков; эгоизм несет уничтожение смысла жизни. Ощущение всяких обязательств как тяготы, как это выявил крайний индивидуализм недавнего прошлого в философии, в жизни и в литературе, есть глубокое заблуждение. Освобождение себя от обязательств и всяких связей не даром уже в древности у искавших идеал мудрецов приводило в сущности к безнадежному пессимизму; оно неизбежно ведет к опустошению, к царству полного безразличия, к установлению общей ненужности. И, наоборот, широта связей повышает полноту смысла, вскрывая в далекой перспективе общемировую связь, вопрос о человеке и мире.
Все эти соображения напоминают о дальнейшем условии, без которого проблема смысла не может быть решена удовлетворительно: это связь индивидуального смысла жизни с универсальным. Если бы мы согласились, что чувство этой связи есть уже религиозная черта[791], то мы могли бы указать, что условием положительного ответа на вопрос о смысле жизни является религиозность. Такой религиозный дух был у Платона, настолько слившего индивидуальный смысл с универсальным, что от личности как таковой ничего не осталось, человеческое должно было совершенно потонуть в божеском. Тем более эта черта выявляется у мистически настроенных философов. Так, например, Николай Кузанский видел главное содержание человеческой жизни в возвышении конечного духа к бесконечному и на философское познание смотрел как на прямой путь к этому вхождению и бесконечный дух (бога); на том же пути был Дж. Бруно. Спинозу эта идея привела к почти полному исключению человеческой заносчивости – я говорю почти, потому что этим модусом в интуитивном познании, в вскрытии amoris Dei intellectualis все-таки в конце концов открывались божественные перспективы. Эту черту усилит спинозист поэт Гете: человек у него не растворяется в бесконечной природе-субстанции, а за ним сохраняется известная самостоятельность; жизненный процесс у Гете заключается не только в усвоении мира или приобщении к нему, но и в отстаивании своего я от поглощения миром[792]. Положительный смысл возможен только там, где есть не только назначение, хотя бы и высокое, но где оно является назначением, свободно признанным личностью, и где сохраняется самоценность личности, ее несводимость на роль только средства.
Таким образом смыслу жизни в конечном счете должно принадлежать с формальной стороны универсальное значение, но по содержанию и пути оно должно оставлять место индивидуальному служению. Перед нами необыкновенно трудная задача совместить абсолютное в виде всеобщих ценностей с полным признанием действительности со всем ее разнообразием, утвердить универсальный смысл, вместе с тем укрепив смысл единичного развития и личной жизни. На этом потерпели крушение многие философы, оперировавшие понятием субстанции и бога. Универсальный смысл не должен поглощать индивидуальный, потому что иначе личность превращается только в средство, только в материал, т. е. перестает быть личностью и утрачивает всякий смысл[793].
Из этого ясно следует, что у смысла могут быть степени соответственно характеру и деятельному размаху личности – смысл существования серенького человека, маленького муравья в человеческом муравейнике и песчинки в универсе, и гиганта творческого духа – одного, удовлетворенного звуками пастушеской свирели с ее музыкальным примитивом, и другого, черпающего вдохновение в Бетховене, Вагнере, в «поэмах экстаза» и т. д., – этим узаконяется индивидуализм не только вширь, но и индивидуализм «ввысь».
Индивидуальное служение и универсальная связь, естественно выдвигают проблему космической ответственности и космического значения личности в нашем решении, удовлетворяющем намеченным нами условиям. Мы таким путем коренным образом меняем характер положения человека: он становится ответственным за мир в меру своего мирового поста и своей личности; он глубоко заинтересован в том, что выйдет из мира и что в нем совершается. В этом кроется глубокая мысль учения о микрокосме и макрокосме – о человеке, переживающем в себе судьбы мира и в судьбах мира усматривающем и свой удел. Жизнь таким образом должна быть санкционирована как факт, но она должна быть понята в свете императива деятельной жизни в интересах не только индивидуальных, но и универсальных. Жизнь только тогда будет иметь смысл самодовлеющий, способный удовлетворить личность, когда наряду со служением абсолютной задаче жизнь обладает и своей собственной ценностью в данной, конкретной форме. Я бы сравнил это положение с двойным движением планеты: вокруг солнца и вокруг своей оси.
Уже указание на индивидуальное служение напоминает о том условии утверждения смысла, которое не было выполнено в ряде изложенных нами учений и привело, несмотря на максимальные надежды (царство божие), к царству смерти и пустоты, к великому ничто. Это условие, звучащее парадоксально на первый взгляд и даже противоречиво, заключается в достижимости цели и возможности бесконечного стремления, т. е. в возможности бесконечно-конечной деятельности. Апологеты земли (Дюринг, Ницше) и пророки неба, «философы конца», как и подобает антиподам, больны одним грехом, совершаемым с противоположных концов: и те, и другие стоят перед недоуменным вопросом: ну и что же дальше? У апологетов земли все достигается, но все только смена, только этапы материи и так без конца; в сущности и человек бесперспективен, потому что перед ним только этапы, но нет ценного конечного пункта, ради которого нужны эти этапы. У философов конца яркая последняя точка – царство божие, все, но вместо конечной божественной цели оказывается пустота, ничто и смерть. Не даром все попытки представить, помыслить это абсолютное царство оказываются для нас или невозможными, или ведут к грубому перенесению относительных, человеческих чаяний на «небе» (мусульманское понимание рая не есть исключение). Не даром, говорят, что «в совершенном искусстве Рафаэля нет трепета живой души»[794], не потому ли, что оно именно совершенно? От совершенства мы уничтожаемся, нам необходима тоска, искание, устремление; как говорит Гераклит, «нехорошо для людей, когда им достается все, чего они хотят», – безразлично, будет ли это на земле или на небесах. Идея тихой невозмутимой гавани диктуется утомлением, религией усталости, но она не годится для паруса жизни. Величайшее достижение совпадает в «философии конца» с моментом установления абсолютной ненужности всего дальнейшего, перспективы «ничто», и оно несет для сознания, для мысли нестерпимую муку. Фихте глубоко правильно замечает[795], что у человека можно многое отнять, не уничтожая его достоинства и смысла, но только не возможность совершенствования, т. е. дальнейшей ценной деятельности. Таким образом и в том, и в другом случае все обращается в ничто, и нет объекта стремления.
В других случаях вскрывается другой грех: идеал только идеал, он бесконечно далек, недостижим; этапы к нему затерялись в бесконечной дали и исчезли. Тогда катастрофа неизбежна в иной форме: получается дьявольская игра, когда надо стремиться к недостижимой цели, стремиться к прогрессу, не веря в него, т. е. цель эта должна перестать быть целью, а тогда личность погибнет, останется только животное. И Соловьев был прав, когда он назвал идеализм, признающий идеал неосуществимым и не нуждающимся в его осуществлении, «пустословием»[796].
Но такой идеал является нелепостью и психологически, и жизненно-этически. Идеал обращен к волевой стороне личности и к ее напряжению, но воля подчинена определенному закону: напряжение и проявление ее возможно только до того момента, пока есть сознание достижимости и выполнимости; уже сомнение в этом подрывает волю личности, а тем более убеждает в противоположном – оно делает волевое устремление к такой цели совершенно невозможным. Но этого мало: такой идеал ведет к отрицательным следствиям с жизненно-этической точки зрения, – к отказу от всяких усилий, к нигилизму отчаяния, к фарисейству и т. д., так как в нас живет сознание, что ведь из усилий личности все равно ничего не выйдет.
Е. Н. Трубецкой указывает[797] на интересный факт, что «с тех пор как человек начал размышлять о жизни, жизнь бессмысленная всегда представлялась ему в виде замкнутого в себе порочного круга: это стремление, не достигающее цели. О таком понимании бессмыслицы красноречиво говорят многочисленные образы ада у древних и у христиан: царь Иксион, вечно вращающийся в огненном колесе; бочка Данаид, муки Тантала, Сизифова работа – вот классические изображения бессмысленной жизни у греков».
Бессмыслица таким образом получается неизбежно и при существовании цели, если она не открывает никаких перспектив достижения. Это объясняется тем, что так хорошо сформулировал Гегель в понятии дурной бесконечности, этой длинной бесконечной прямой, уходящей в неведомую, темную даль. Чтобы был положительный смысл, ее нужно избегнуть, она должна замениться доброй бесконечностью, неисчерпаемой и в то же время допускающей достижение. Это значит, что абсолютная форма или принцип соединяется с индивидуальным содержанием, и тогда идеал как форма, принцип бесконечен, недосягаем, а в своем меняющемся содержании он в пределах возможного и достижимого.
Люди рвутся «к концу», но конец есть именно конец, действительное прекращение, не истинная жизнь, а смерть. Вечная игра жизни, вызывающая жалобы на поток, уносящий все, есть в сущности не зло; злом она становится как другая крайность: только как дурная бесконечность; смертью веет от достигнутого идеала, потому что он отнял перспективы. В этом и заключается оправдание той мысли, что «идея будущего, богатого бесконечными возможностями, плодовитее самого будущего… Вот почему в надежде больше прелести, чем в обладании, во сне, чем в реальности»[798]; обладание и достигнутое будущее дают статическое положение, для жизни и ее смысла нужна динамика. На этом терпит крушение и всякий созерцательный идеал. Итог тот, что
«Мы все стремимся к богу, мы тянемся к нему, Но бог всегда уходит; всегда к себе маня, И хочет тьмы за светом, и после ночи – дня. Всегда разнообразных он хочет новых снов, Хотя бы безобразных, мучительных миров, Но только полных жизни, бросающих свой крик И гаснущих покорно, создавши новый миг… И бог всегда уходит… И мы должны идти». («Еще необходимо» Бальмонта).Все отмеченные нами условия должны быть выполнены выводами, предполагающимися всем их характером и выдвинутыми всем смыслом изложенных нами учений. Та деятельность, которая должна быть утверждена, должна совершаться в действительном мире и должна быть реальным действием; сон и мираж, как и туманная идиллия, хороши в стихотворении, но с разжижением мира действительности под каким бы то ни было соусом, будет ли это феноменализм или «мир как представление», дух или материя, «чистый» опыт и т. д., положительный смысл ужиться не может. Смысл не может просто быть, он присущ чему-нибудь; минимум необходимы личность и ее сфера жизни, это приводит к постулированию всей полноты мира. Конкретный исходный пункт абсолютно необходим; мы не можем повторять больше традиционную ошибку философии, когда вместо объяснения действительности дают ее уточнение, ее «разъясняют». Тогда, конечно, смерть может стать жизнью и наоборот, но тогда жизнь просто совершенно игнорирует философию, как кабинетное измышление.
Недостаточно и допущение конкретного как временного, как тени в духе Платона, только постоянное и прочное обладание оправдывает любовное и заботливое созидательное отношение и располагает к нему. Если наша действительность только бивуак и наши взоры должны быть устремлены на иной мир в прямом смысле этого слова, то тогда нет нужды и стимулов устраивать эту земную жизнь прочно; никому не придет в голову строить на бивуачной остановке каменное жилье, всякий знает, что для этого достаточно палатки или наскоро устроенного шалаша. Ясно, что все проблемы земной жизни, поскольку речь идет о переселении в иной мир, теряют почти всякий смысл.
Но личность и ее мир не только должны быть реальны, они должны открывать перспективы нового, что уже намечалось нами в упоминании об условии возможности совершенствования; реальность не только должна быть в застывшем виде, но она в итоге совершенствования должна повышаться; ясно также, что речь может идти здесь не о формальной стороне только[799] и о живой, конкретной действительности и о живом содержании; в том, что дает смысл, должны объединяться форма и содержание; веление, вытекающее из нормативного закона, и благо, дающее привлекательность, т. е., говоря языком Канта, моральная и естественная привлекательность, потому что предметом воли может быть только «материя практического принципа»[800].
Все эти условия завершаются двумя моментами, имеющими коренное значение. Один из них заключается в том, что весь ход жизни и все усилия личности должны быть обвеяны ароматом сверхлично обоснованной надежды, подкрашенной не только верой в себя, но и силами сверхличного порядка – тем, что ярче всего дает вера в универсальную гарантию лучшего, даже там, где речь идет только об избавлении. Здесь кроется объяснение слов прагматиста Джемса, что «там, где есть бог, трагедия носит только временный и частичный характер, финальный крах и гибель здесь не конец всего. Эта потребность в вечном нравственном миропорядке – одна из глубочайших потребностей нашего сердца»[801]. Как будет понят или принят бог и где пути к этому, это вопрос дальнейшего построения.
Второй момент – это само чувство удовлетворения и его условия, вытекающие из характера человека, как естественного существа. В него целиком входят все указанные нами идеи, как бы они на первый взгляд ни казались нам исключающими друг друга: человек, естественно, ищет большего, он естественный максималист и при равных условиях никогда не остановится на меньшем, но также естественно он в достигнутом больше видит только этап и т. д. Все это находит свое объяснение в естестве человека, требующем утверждения и повышения чувства жизни, бытия; с естественной точки зрения, человек все – и истину, и добро, и красоту и т. д. – ставит на службу этому чувству; мы видели, как и крупные философские, и религиозно-философские учения в глубине своей обнаруживали то же стремление утвердить идею бытия. Чем выше культура, тем сложнее, устойчивее и глубже это утверждение, тем сильнее оно направлено на утверждение и раскрытие всей полноты жизни. Уже система Аристотеля подчеркнула в идее энтелехического развития это стремление. Его крайнюю и одностороннюю форму являет Ницше.
ЧАСТЬ II ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПРЕДИСЛОВИЕ[802]
Эта вторая часть моего труда, излагающая мои собственные философские взгляды, может рассматриваться не только как продолжение и завершение первой части, представляющей «Историко-критические очерки», но и как самостоятельная теория.
Я хорошо сознаю эскизность целого ряда глав в этой моей книге, в большей своей части написанной в тяжелых условиях, вне библиотек, но у меня нет никакой уверенности в том, что условия моей научной работы дадут мне возможность в ближайшие годы довести до конца всю работу, как она мне рисуется необходимой теперь. Поэтому я решаюсь выпустить ее в настоящем ее виде, так как у меня пока нет оснований вносить изменения в основные черты моей теории, а доработку отдельных мест вынужден отложить до более благоприятного времени, как и заключительную часть.
М. М. Рубинштейн.
Москва, май, 1927 г.
I. ПРОБЛЕМА Я КАК ИСХОДНЫЙ ПУНКТ ФИЛОСОФИИ[803]
Ни в одной области человеческой мысли нет той своеобразной, исключительной трудности положения, с которым мы встречаемся в философии как в учении о миросозерцании: судьба ее в значительной мере решается той исходной точкой, которую мы избираем в построении нашей теории, т. е. иными словами, характер ее предрешен самым началом, когда само учение далеко еще от законченности. В то время как представитель так называемой, положительной науки изучает известную область мира и имеет возможность опереться на другую смежную науку или предпосылки из смежной области, философ стремится охватить то целое, в которое он входит сам; он невольно попадает в положение человека, которому приходится наподобие барона Мюнхгаузена вытаскивать себя из болота собственными силами. Часто он вводит искусственные опорные точки и вынужден принимать на себя ответственность за следствия, привнесенные этой опорой вопреки его желаниям и согласию. Весь исторический путь философии испещрен такими примерами.
Отсюда становится понятным стремление философов свести на минимум, а то и совсем освободиться от предпосылок в исходном пункте; философия без предпосылок – вот идеал философского учения, – то великое «ничто», из которого Гегель пытался путем блестящих логических мытарств вывести всю систему философии. Это и возвело теорию познания в ранг основной ветви философии – того стража, от которого необходимо получить своего рода пропуск в царство философии.
Что касается теории познания, часто отождествляемой с теорией критицизма, то нужно не забывать, что как ни интересна и ни важна сама по себе гносеология, тем не менее недавнее возведение ее в ранг вершительницы философских судеб представляется нам глубоко ошибочным. Мы сами, как и всякое философское учение нашего времени, не уйдем от целого ряда критических, гносеологических рефлексий, но «для moго, чтобы знать, нет нужды иметь знание о самом знании»[804]. Мы долгое время тонули в гносеологических мелочах и на каждом шагу не видели из-за деревьев леса; философская мысль последнего времени истощалась в постоянных подходах к философии, но редко успевала выйти на действительный простор творчества и свободного постижения; гносеологический скептицизм во многом сделал свое дело, и наступает пора попытаться прямо сойти в воду, чтобы поучиться плавать в живой водной среде, а не за кабинетным столом гносеологического скептицизма. Мы должны будем отдать также посильную дань критицизму, но это не служит в наших глазах выполнением обязательства перед одной гносеологией, а это делается в интересах осторожного решения вопроса об исходном пункте философии, этом решающем моменте всякой философской теории.
Это то требование критицизма, которое необходимо выполнить. Что же касается теории познания, то она как таковая должна занять свое почетное, но не всезаслоняющее место и должна в свое время дождаться решения ее проблем на основе того отправного пункта, который будет продиктован нашей критической, обоснованной мыслью. Наше обращение в первую очередь к некоторым вопросам гносеологии вызывается главным образом необходимостью отдать дань времени и его условиям, а также методологическими соображениями. Все внимание сейчас и должно быть сосредоточено на этом основном принципе, на его прояснении, на сохранении его в чистоте и ясности от побочных наслоений, от излишних и нежелательных предпосылок.
Но где найти эту Архимедову точку, как дать философию без предпосылок[805]? Это требование может иметь, конечно, только один смысл: так как, не находясь нигде и не имея никакой точки отправления, мы лишаемся возможности говорить о каком бы то ни было движении, хотя бы это было движение мысли, и так как в такой общей форме оно бессмыслица, то ясно, что оно может и должно заключать в себе только одно содержание, а именно: философское учение должно попытаться обойтись без теоретических предпосылок, т. е. основной этап должен быть дан не теорией, но он, конечно, должен быть. Ведь и сам бог, созерцая мир, становится в известное отношение к нему. Требовать безотносительного познания – значит, требовать безотносительного отношения, что невозможно.
Стремление найти беспредпосылочный исходный пункт чисто теоретического характера привело к целому ряду неудач, на одной из которых – психологизме – мы остановимся позже. Здесь же отметим, что это стремление внутренне противоречиво, так как всякий теоретический исходный пункт будет скрытым или явным суждением, а всякое суждение предполагает определенное мыслимое содержание; если оно дается теоретически, то мы попадаем в заколдованный круг. Сведя содержание этого основного суждения на чисто формальное высказывание, – если бы это было в действительности, возможно, чего также нет, – мы затем получаем роковое следствие, опорочивавшее не раз философию, особенно метафизику, а именно, что вместо того, чтобы объяснить предмет философского раздумья, мы его просто устраняем и заменяем мыслимым миражем, потому что первоначальная теоретическая фикция, за которой скрывается живой философ, абсолютируется, и дедуцированный мир вытесняет действительность.
Но если теория может в исходном принципе только принять, осознать и выявить, но не может сама дать необходимое содержание, то ясно, что его могут дать только или вера, или практическая деятельность, или оба они вместе. Так как вера есть также только особая форма ответа на уже возникший вопрос – мы должны сосредоточить все наше внимание на жизнедеятельности, этом первоисточнике всех вопросов. Теоретически первое – это не ответ, а вопрос, что ясно само собой и не требует никаких доказательств. Анализ же первого вопроса указывает нам на то, что он рожден и может быть рожден только живой жизнью, жизнедеятельностью, он переживается деянием, в котором выявлены воля и чувство жизнедеятельности, и мыслью и стоит на грани теоретического и практического. Начав с его рассмотрения, мы можем решить вопрос об исходном пункте.
Такому указанию на непосредственное переживание и действительность легко бросить упрек, как это и делают, что в этом случае мы пытаемся опереться на «бесформенное» и неуловимое; но это опасение неосновательно, потому что такой упрек основывается на смешении логической и жизненной определенности, из которых нас прежде всего интересует в философии вторая: лишенное логической познавательной формы, теоретически недостаточно оформленное, на самом деле может быть жизненно достаточно оформлено, оно реально в действии, в переживании не может быть бесформенным, а оформленность в представлении и восприятии живого порядка имеется, и с теоретической стороны этим дан отправной пункт, который дальше требует тщательного логического пояснения, но который тем не менее достаточен, чтобы раскрыть возможность действия, жизни и сознания. Первое это определенность жизнедействия, а не логики и теоретического познания, – понятия и теория не первое, а дальнейшее.
Мы таким образом напоминаем о мысли Фихте: «Am Anfang war die That»[806]! но мы ее, как это будет видно дальше, берем со всеми теми следствиями, к которым обязывает внимание к голосу жизни и жизнедеятельности. В деянии – притом именно живом, конкретном, а не отвлеченном деянии, – дается ясное и непреложное начало: там утверждается я и не я, но не как чистые логические понятия, а как субъект и объект живого положительного характера. Теория здесь бессильна что-либо опрокинуть или в корне изменить, потому что эти два элемента вопроса дотеоретичны и вне ее власти в самой своей сущности, что, конечно, нисколько не мешает философии затем попытаться одеть их в точные философские понятия и перенести многое из сферы одного в сферу другого или совсем отклонить многое, но не затрагивая основного. Философия – теория есть ответ на вопрос, заданный жизнью, и она связана содержанием этого вопроса и тем, что дано в нем по самому существу. Иначе философия, как и всякая мысль, невозможна. «Жизнь первее и непосредственнее всякой рефлексии о ней или ее саморефлексии»[807], а этот голос говорит в перворожденном вопросе не о я и не я, а об иной паре, уже живого свойства: о я и мире. Это то, что заключено в самой сути жизнедеятельности и никакие теории и рассуждения не могут устранить этого живого сознания себя и мира как элементов, основ самой возможности жизни и деятельности.
Фихте провозгласил примат жизни по ценности и значению[808]; он глубоко правдиво отметил, что иначе как при наличии сопротивления деятельность-жизнь немыслима[809], что для нее необходимо я и «нечто различное с ним»[810], но дальше он изменяет признанному им примату жизни и берет вместо живого и жизни, я и не я, то, что кажется ему логически простым, но что в действительности глубоко сложно и главное – отнюдь не является первоначальным. Соблазн подменить голос жизни голосом логики – коренной грех ряда философских систем – вызывался самой сутью познания, требовавшей субъекта и объекта и преодоления их противоположности в установлении их взаимоотношения, хотя бы и в отрицательной форме. Фихте глубоко прав, когда он говорит, что где знание, там убеждение, там «я» отвоевало себе место, там оно расширило свою сферу, но до преодоления чисто теоретического было преодоление противоположности смешанного порядка, преодоление жизнедеятельного свойства в конкретной, живой действительности; противопоставление в знании есть только рефлексия на противопоставление в жизнедеятельности, а в ней нет пары я и не я, а есть текучая, как мы увидим дальше, пара я и мир.
Вот это и есть то первое, что должно служить исходным пунктом. Как только мы резко отрываем членов этой пары друг от друга, мы вступаем на путь, уже затуманенный коренной ошибкой. Чтобы понять живое – а именно о нем и только о нем и может быть речь в философии – истинная философия должна не терять из виду этого жизненного исходного пункта в его живой полноте; она может переносить центр тяжести в я или мир, но не отрывать их друг от друга совсем. Этот центр тяжести мы переносим в субъект, как исходную точку философии, потому что в нем устанавливается для нас, людей, – пока условный – центр, в нем лежит наш первый жизненный интерес; его примат установил все тот же голос жизни, и, наконец, к нему мы обращаемся прежде всего потому, что мир обнимает множество, и взятый нами опыт, как говорит Джемс[811], течет как бы пробуравленный прилагательными, существительными, предлогами и союзами, т. е. он не только дальше, но и сложнее, если члены этой пары будут взяты раздельно. Я переживается в связи с миром, но мир развертывается для нашего познания на нас как на – пока – условном центре, и потому он дан жизнью более интимно, непосредственно, чем мир. При этом необходимо помнить, что все это устанавливается для определения исходной точки, это только условное перенесение центра тяжести и ни в каком случае не должно давать повода к традиционному уединению я и его изоляции. Это не антипод реальности, а только особая форма ее объяснения; все это существенно подчеркнуть, чтобы решительно отклонить противопоставление этой точки зрения, как идеализма в обычном понимании этого слова и субъективизма, реализму.
Указав на вопрос, рожденный жизнью, и на данный ею отправной пункт, мы теперь становимся лицом к лицу с необходимостью прояснить и выявить прежде всего, что такое это я.
II. ПОДЛИННЫЙ ПСИХОЛОГИЗМ И БОРЬБА С НИМ
В области философии идут длинной вереницей примеры того, как наиболее близкое и даже непосредственно данное дольше всего остается сокрытым и неразгаданным. Так было и с вопросом о нашем «я». Долгое время этой проблемы совсем не было на философском горизонте, а когда она появилась, она превратилась в головоломный вопрос с подчас почти непреодолимыми преградами. На протяжении xix века и вплоть до нашего времени выросли сотни школ и течений, взаимно опровергающих друг друга, и в этой борьбе проблеме субъекта принадлежит бесспорно центральное место. Как ни ценно богатое разнообразие продуктов философского творчества, но появление его в период, энергично подчеркнувший в философии свою научность, порождает вполне оправданное сомнение в правдивости не только решений, но и самой постановки вопроса. Это сомнение подкрепляется еще и тем, что большинство течений упрекает друг друга в психологизме как смертном философском грехе. На этой проблеме мы должны остановиться, так как таким путем мы получим возможность ясно ответить на вопрос о том, что следует понимать под я в философии.
С именем философии неразрывно связали мысль об отвлеченном мышлении. Связь эта для обыденного человеческого сознания тем более окрепла, что «метафизика» затерялась в бесконечно искусственных построениях, а жизнь приковывала к той части действительности, к суете сует, в которой вращается данный человек. Между тем по всему своему существу, по предмету и по интересу философия является и может быть самым конкретным учением, учением о жизни и живом или она превращается в тягостное недоразумение. Чтобы понять это, необходимо вспомнить, что понятие абстракции указывает на отвлечение от чего-нибудь, на то, что целое, живое подверглось расчленению, и затем из полученной анализом группы мы взяли тот или иной элемент, мы отвлекли его от целого, от того, во что он входил. Пока это изъятие, отвлечение совершается условно, как в отдельных науках, и мы не забываем об этой условности и не пытаемся подменить отвлеченным элементом живое целое в нашем толковании, наша мысль движется в области правомерной; как только это условие нарушается, перед нами появляются научные и особенно философские уродливости, к числу которых принадлежит и психологизм[812].
Хотя самое слово «психологизм» могло бы подать повод думать о чисто психологическом расчленении и незаконном использовании (отвлечении) психологических понятий за пределами психологии, но в действительности необходимо вопрос несколько расширить и включить сюда же то расчленение, которое привело к самой основе психологии – к понятию души, отделенной от тела, и вопрос о незаконном использовании и этого понятия. В то время как философия есть учение о живом, действительном мире, учение, созидаемое живым человеком, во имя живых, конкретных интересов, она в действительности живет под влиянием отвлеченных идей и так называемой научности, подтачивающей жизненный нерв живой философской мысли: порабощенная законным в науках, но не пригодным для нее расчленением и отвлечением философия пошла тем же путем изоляции и фиксирования, которые отрывают от жизни и живого; при этом психологизм и отвлеченность ее выразились в двух направлениях: на субъект познания, на я, и на объект, предмет познания; таким образом под понятие психологиста подходит не только тот, кто в философии пытается опереться на продукты анализа душевной жизни, но и тот, кто в своем методе идет путем отвлечения от этих элементов, косвенно отдавая им незаслуженную дань. Это все те, к кому в философии применимы слова Гете из «Фауста»:
Кто хочет что-нибудь живое изучить, Сперва его всегда он убивает, Потом на части разнимает.Кто привык так поступать в отдельных науках и кто пытается тем же путем идти в философии, не замечает, что предмет философии уже исчез.
Теоретически рассуждая, опасность психологизма не должна была бы быть очень велика, так как философия всегда определялась как наука о целом, о миросозерцании; и в предмете познания, и в вопросе о познавателе так легко было поверить живой действительности, особенно в тех учениях, которые утверждали самополагание я. Но весь исторический путь философии вплоть до наших дней сложился иначе: психологизм разросся в очень крепкое и глубоко захватывающее течение. Многое, конечно, здесь объясняется тем, что философ, размышляющий о целом и живом, мог бы быть сравнен со стрелком, находящимся в непрерывном движении и стреляющим по все время движущейся цели; и вот свои мечты о том, что можно было бы, стоя твердо и удобно на неподвижном месте, легко попасть в неподвижно фиксированную цель, он принимает за действительность. Вместо того чтобы идти, как подобает философу[813], дальше ученого, мы остаемся там же и рискуем вступить, и часто и вступаем, в безнадежный конфликт с отдельными науками.
Живое, жизненное не мирится с расчленением, потому что оно или уничтожает жизнь, или понижает ее; логически и научно все действительное поддается расчленению и анализу; но то, что должно быть взято как живая жизнь, о которой идет речь в философии, то абсолютно неприкосновенно в своем единстве: рука перестает быть рукой, когда она отсечена от тела; головы отдельно от тела нет, есть только кости, мускулы, кожа и т. д., ум, выделенный из живого существования, не существует уже больше в действительности, а заменяется понятием, мыслью о нем и т. д.
Вот это-то разложение, необходимое в отдельных науках, в том числе и в психологии, и недопустимое в философии, как учении о живом, реальном мире, живом человеке и его живых запросах и интересах, и водворилось в философии необыкновенно прочно, настолько прочно, что борьба с ним, неоднократно возвещавшаяся и возвещаемая и до сих пор, велась и ведется учениями, которые сами повинны в том же грехе, представляя собой только иную разновидность психологизма. От психологизма можно будет избавиться только тогда, когда будет дан реальный живой познаватель и реальный живой предмет философского размышления.
Расчленение и идущий с ним психологизм были подготовлены задолго до возникновения философской теории тем первоначальным актом абстракции, которым первобытный человек отделил дух от тела и таким образом впервые порвал с непосредственным восприятием; это было величайшее научное открытие, сделавшее возможным весь сонм положительных наук о мире и человеке, – наук, живущих фиксацией, дискурсивностью и продуктами отвлечения, но это надолго предопределило путь философии в сторону психологизма. Исторически это был глубоко оправданный и весьма плодотворный путь; здесь также нет перед нами пустых страниц истории, но эта плодотворность во многом и многом уходила на рождение наук и научности и общего оплодотворения культуры и умственного роста; само миросозерцание не отливалось на этом пути в жизненную, устойчивую форму, а главное – на этом пути вырастали непреодолимые противоречия. Философия в своем развитии затем свято сохранила и хранит это первое открытие первобытного человека, его мысль о двойном бытии, материальном и духовном, тела и духа; эта мысль родила все многочисленные разновидности материализма и спиритуализма.
В дальнейшем развитии философии небезынтересно отметить, что мысль наша шла все шире и глубже по тому философскому пути, на котором возникло много необыкновенных отвлеченных ценностей, но где она отходила от живого и жизни и все больше затуманивалась истинная суть философии как живого мировоззрения, как мудрости, и укреплялся порочащий привкус в представлении о ней, отлитый в слово «метафизика». Источник охлаждения между жизнью и философией заключается в том, что последняя принимает фикции за действительность, мертвое за живое. Особенно тяжелые выводы она дает в учении о человеческом познании, поскольку речь идет о философии, а не о психологии. Интеллект, выделенный из живого целого, именуемого человеком, из продукта отвлечения, «из фонарика для подземелья», превратился в истинное «солнце, освещающее весь мир»[814]. Подметив в живом акте размышления одну сторону, приковывающую в данном случае внимание к себе, мы извлекли ее как познающий разум в самостоятельно действующий фактор и породили ту самонадеянность ума, о которой говорит Бергсон[815], когда помнят только о голове человека, но забывают обо всем остальном в нем.
В то время как сама психология, взяв от расчленения все, что оно дает, категорически отказалась от теории способностей, от сепаратизма частей и классификацию душевных явлений признает только как эвристический принцип, всячески подчеркивая единство душевной жизни и все больше направляясь к признанию единой душевно-телесной жизни, философия, стремясь избавиться от психологизма, пошла по пути его утончения вплоть до головокружительной высоты чистого логизма. Она пошла путем вылущения из субъекта не только всего живого, но и всего психического, стремясь найти «чистый» субъект, субъект «как таковой». При этом не замечают, что это чисто психологическое очищение, что это углубление отвлечения, а не возвращение к живой и цельной полноте.
Таким образом, в вопросе о субъекте весь исторический путь философии сложился в психологическое растворение живого, действительного мыслителя. Мы искали его Ôntoj Ôn[816], шли все дальше по пути углубления в его психику и пока что завершили все гносеологической фикцией, идеей «чистого я», а затем на этот-то несуществующий крючок мы и пытаемся повесить все миропонимание, даже самое бытие. Вполне понятно, что при этом цель и смысл философии приобретают чисто созерцательный характер: растворив жизнь и живое, необходимо этот субъект поставить вне действия в созерцательную позу, – старая претензия на человечески абсолютную точку зрения со всеми принесенными ею разочарованиями. Взятые отвлеченно субъект и объект неизбежно превращаются в свою противоположность: субъект, очистившись от всего возможного и невозможного, вместе с тем, как основной принцип выведения, вбирает в себя все и утрачивает свой характер субъекта; объект же, насыщенный духом субъекта, уже не может быть просто объектом. Отсюда воскресла снова идея coincidentio oppositorum[817] в определении абсолюта как тождества[818], но в тумане этого детища Шеллинга «все кошки серы»; в этом абсолюте, как и в его отвлеченных элементах, не было жизни – он был мертв.
«Чистое я как таковое», «чистый объект», «объект как таковой» и т. д. – все это является не более не менее как prîton yeàdoj[819] философии – той коренной ложью, из которой получился целый сонм философских тупиков, не говоря уже о том, что самый язык философии указывает на бесконечно запутанное положение. Покинув живых субъекта и объекта и подменив их измышлением, мы отказались от живого побудителя и сути философии и не могли не отказаться, но все наши претензии остались. Меж тем мы впадаем в явное ignoratio или mutatio elenchi[820], доказываемое на отвлеченностях мы переносим на действительность и обратно; вопросы, законные по отношению к живому, к действительности, ставятся по отношению к мертвому, отвлеченному. В силу этого органического дефекта в ход философских рассуждений с неудержимой силой врывается или вносится на место отвлеченного, «чистого я» или очищенного до «некоторой степени» живой субъект, мыслитель и познаватель, и получается так, что мыслит в действительности человек и выводы делаются применительно к нему и по аналогии с ним, а в философской теории все это приписывается «чистому» субъекту или самим понятиям. Такое соскальзывание неизбежно, потому что мертвое или фиктивное остается мертвым и фиктивным и из него нельзя получить жизни и движения.
Вместо ответов действительных у нас часто получался ряд хитросплетений, «лукавых мудрствований» и неразрешимых вопросов. Мы вынуждены недоумевать как раз перед тем, что жизненно не допускает ни малейших сомнений и колебаний. Живя и действуя, мы становимся в тупик перед вопросом о транссубъективном действии; следом за философией живым укором идет проблема свободы воли, неразрешенная, представляющаяся неразрешимой и вместе с тем неотступно требующая ответа, и ответа положительного; перед нами как устрашающий призрак до сих пор стоит вопрос о реальности чужого я, к которому мы теоретически никак не можем пробиться, мы теперь, как и раньше, мало подвинулись в решении вопроса о том, как дух схватывает материально-пространственные предметы; мы наделили форму формующей силой, мы мыслим гносеологический субъект невольно как реального мыслителя, ему приписываются суждения; выделив элемент и добросовестно забыв об этом, мы превращаем его в нечто самостоятельное и реальное и ставим вопрос за вопросом, откуда оно и как и т. д.
Перед нами курьезное положение, вызванное тем, что мысль не пространственна, а меж тем факт локализации не подлежит ни малейшему сомнению не только потому, что многие, как Шопенгауэр, ссылаются в доказательство своей гениальности на свой лоб, но в самой идее принадлежности разума индивиду, человеческому или родовому, или мировому скрывается та же мысль; пред нами странность, что живой красочный мир, аромат и сок действительности – цвет, запах, звук и т. д. – только субъективные качества; физика и физиология могут растворять их в миллионы колебаний чего-то, давая научное объяснение в интересах приспособления к «мировому хозяйству»[821], но отрицание их в философии есть яркий симптом философского неблагополучия.
Настоящим сигналом о философском бедствии является солипсизм: его все отрицают, никто не доказывает, он тяжко дискредитирован, и тем не менее призрак этот продолжает неизменно бродить в отвлеченной философии субъективистического порядка – там, где есть «чистое» или «очищенное я» в той или иной форме.
Мысль о самоочевидности я была дана Декартом, но он в пояснении своего cogito встал на отвлеченную точку зрения: то объясняя cogito как полноту душевной жизни (Principia), то переходя к идее очищенного сознания[822]. У его последователей и в дальнейшем развитии философии это самосознание разжижалось все больше: за родовым сознанием появилось синтетическое единство апперцепции, сознания вообще в роли я, идея самополагания мысли; мы видим я как систему категорий, в роли своего рода логического бога. С этим можно сопоставить курьезное понимание мышления: оно рисуется как школьно проверенная система логики. Воскресло старое отождествление логического и реального следования: за мнимо саморазвивающееся понятие спрятался Гегель – живой, конкретный человек, – и двигал весь процесс до тех пор, пока в этой величайшей системе, именно в ее философии истории, в завершении мировой исторической задачи в прусской государственности начала XIX века не показался ясно живой Гегель, сын своего времени. В наше время один из видных мыслителей, Риккерт, пошел в своей теории познания характерным путем, выясняя предмет познания: в область объекта отошли не только вещный мир и мое тело, но и психологический субъект и дух, пока не осталась одна идея субъекта, предназначенная дальше свершить все, что требуется в системе трансцендентального идеализма. Если здесь было только всемогущество в области формы, то у Когена в его математизирующей научной философии чистая мысль оказалась всевластной и в области всего предмета познания, и в области содержания познания. У Гуссерля эта отвлеченная точка зрения привела к мысли, что перед лицом разума все существующее hiс et nunc есть чистейшая нелепость. Такое следствие стало неизбежным потому, что в завершающем акте, – так как у познающего разума лицо мнимого мыслителя – нужно выбирать: или надо отказаться от основного принципа, от исходного отвлеченного, психологического я, признав, что мыслитель этот мним и действительность подменивается, или если глядеть глазами фиктивного зрения, то ясно, что действительность – нелепость; иррациональность превращает ее в абсурд. Но тогда философ отказывается от живой действительности, а жизнь отказывается от философии и идет мимо нее.
Если критицизм в сущности вел от пустоты и привел к пустыне, то и у метафизиков дело обстояло не лучше, где не сумели отрешиться от греха отвлеченности. Пустыня получилась у материализма потому, что он также расчленил живое в философии; это течение впало в рабство научности в самой наивной форме, подчинившись абсолютированной фикции. Даже более утонченные мыслители, как Ницше, звавшие вслушаться в голос тела и земли[823], остались на почве такого же уклона от живого в отвлеченное; и у Ницше абстракция – одно тело, плод психологизма. Если у противников «холодные» высохшие глаза и перед ними всякая птица оказывается общипанной, без перьев[824], то сам он сидит на перьях, но без птицы – одни, глядя на оголенную птицу, спрашивают, как она может летать; другие задают тот же вопрос, разглядывая одни перья. Шопенгауэр дал неразрешимую загадку в том, как безрассудная воля, одна психологическая отвлеченность, приводит к просветлению, к разуму – другой отвлеченности. На том же пути находятся спиритуалисты всех оттенков: добытая отвлечением идея душевного фактора гипостазируется и возводится в абсолют. Интеллект, воля, дух-мысль и т. д. стоят друг против друга как самостоятельные существа – человек становится своего рода учреждением с изоляционными камерами, из которых время от времени выпускаются одиночники и, сделав свое особое, отдельное дело, снова замыкаются в камеры.
Материалист никак не может внести жизнь в свое учение и перейти к живому; спиритуалист в конце концов должен утверждать, как Шпир, что весь мир, рисующий нам самостоятельные тела, есть систематически организованный обман. Религиозно-философская точка зрения, отвлекающая от жизни предпочтительно дух, приводит – у Е. Трубецкого, например, – чуть ли не к переизданию земного мира, но под другим только заглавием. Антипсихологист Лосский искал непосредственных данных, но все-таки увидел их только в сознании; и он был вынужден назвать акт суждения, познания психологическим, что важно для психологии и неправильно для философии, так как ее интересует живое, а в этом смысле суждение есть живой акт, в котором участвует весь человек.
Попытки приблизиться к живому первоисточнику никогда не прекращались, то в усилиях мистики, то в учении об интуиции, то на путях конкретного знания; но психологизм, хотя бы иногда и ослабленный, проникал и туда. Так Бергсон развенчал интеллект и возвеличил интуицию, «тот род интеллектуального вчувствования или симпатии, посредством которой мы проникаем во внутрь предмета, чтобы слиться с тем, что в нем есть единственного и, следовательно, невыразимого»[825], но и он говорит о живом, но все-таки внутреннем я; необходимо помнить, что вотируя недоверие интеллекту, Бергсон соглашается видеть в нем действительный самостоятельный фактор, то же самое он делает с инстинктом и интуицией, а в итоге получились те неудачи, на которые мы указали в первой части этого труда.
Войну отвлеченным началам объявил Вл. Соловьев и во многих отношениях провел ее очень интересно, но он взял конкретного субъекта в гранях психической жизни, ума, воображения и веры, до живой полноты он не дошел.
Психологизм не оставался без влияния на практическую жизнь. Оно сказалось в одностороннем возвеличении духовной жизни и ее ценности к большому ущербу для последней. В практической жизни можно только указать в параллель теории на разрушительное действие отвлеченной точки зрения. Ницше в свое время указал[826], что вера в категории разума создает нигилизм, потому что мы меряем ценность мира категориями, относящимися к измышленной действительности, а следствия переносим в жизнь, рождая отчаяние и понижая жизнеспособность. Как бы ни была высока и благородна известная идея, но если она культивируется и выступает изолированно, она становится злом, и больше всего тогда, когда она претендует на абсолютное значение. Например, мировая война показала, что может дать идея изолированно (отвлеченно) взятого патриотизма: она, несмотря на свое высоко нравственное происхождение, породила тьму безнравственнейших действий. Обособленная, отвлеченно взятая идея интернационализма явила ту же картину разрушительных следствий: узаконенные теорией категории пролетария, буржуа и т. д. были перенесены во всех своих следствиях на живую действительность, где нет таких изолированных положений, и получился ужас бесконечного разрушения – стремясь бить по части, всегда били по целому. Великая правда, утвержденная мыслью, взятая отвлеченно и перенесенная на практику, становится великим злом. В этом отношении максималистические радикальные учения дают яркий пример: отвлеченно утвержденная величайшая свобода в анархических течениях превращается в величайшее насилие и произвол. Недаром ни одно течение не выступало с такими злодеяниями, как анархизм, свершавший все это во имя абсолютной свободы.
В общем итоге мы приходим к выводу, что истинная действительность дана в конкретном, живом переживании; «прав лишь наивный реализм. Жизнь всегда наивна, как наивна всякая целостность и непосредственность»[827]. Как использование естественно-научных понятий в метафизическом смысле в натуралистической философии приводит к неудачам, так и использование философских понятий в естественно-научном духе и методе недопустимо: для философии нет и не может быть ни отвлеченного субъекта, ни отвлеченного объекта; в ней может быть речь только о живом познавателе, о конкретном я и живом предмете познания. Последний вывод из критики психологизма – это что исходным пунктом для философии может и должна быть живая человеческая личность во всей ее полноте.
III. Я КАК ЛИЧНОСТЬ
Вопрос о жизненно-правдивом исходном пункте решается по существу уже самой сердцевиной философии, ее императивным действенным характером: каждое ее положение обращено к человеку и так или иначе говорит о нем. Чтобы спрашивать о мире и жизни, о смысле жизни человека, необходимо, чтобы он был, чтобы за всеми действительными сменами этому я было отведено соответствующее место. Тот факт, что из седой старины идут постоянные попытки рассматривать человека как своего рода центр мироздания, говорит о глубоких основаниях в пользу такого исходного пункта; он во всяком случае исключает характер случайности. И логически, и жизненно просто и бесспорно, что философствует человек и философский свет горит прежде всего для него; «человек предшествует философии, человек предпосылка всякого философского познания»[828], но человек не в виде отвлеченного элемента, который постоянно пытаются вложить в я, а живая конкретная человеческая личность. Это понятие требует некоторых пояснений.
Первое и самое важное пояснение должно заключаться в том, чтобы оградить наш исходный пункт от истолкования, например, в эмпириокритическом духе: мы отклоняем не только растворение субъекта в отвлеченные психологические элементы, по отдельности взятые, но субъект для нас не есть и сумма, составленная из души и тела, он не психофизическое целое, в котором исчезла все-таки какая-то связь, а он живая конкретная личность, то я, которое поставлено вне всяких сомнений переживанием, действием[829] и самой сутью философии. Ведь не продукты психологического анализа жили, мучились и пробивались веками к коренным вопросам философии, а именно в живой личности родились сомнения и думы. Что представляет эта личность, это должно решить все учение в его целом, но этим самым личность-человек уже объявлен неприкосновенным во всей его живой полноте, потому что иначе исчезнут, потеряют смысл все те вопросы, на которые мы ищем ответа, потому что философия должна не только объяснить теоретически, но и дать почувствовать и повелеть действовать, и открыть этому действию смысл и простор. Этим характером и исходным пунктом философии и объясняется глубоко знаменательная смена философских систем, противоречащих друг другу и тем не менее уживающихся веками рядом друг с другом, – неувядаемость Сократа, Платона и др., потому что в них живет личность – живая, конкретная личность во всей ее полноте, сколько бы философ ни пытался в теории подменить ее продуктом абстракции. Если бы философское я было «чистым», вылущенным и избавленным от всего живого, то у философии не было бы истории в том поучительном смысле, как она существует в действительности и должна существовать. Отвлеченное я было бы строго одним, и мир его, объект его, был бы один, но живая личность дает живой текучий мир и живую смену философских учений.
Живая человеческая личность в вопросе о мире и себе заявила о своем я, закрепленном действием и переживанием. Эта мысль была названа Фихте самополаганием я. Для мысли, для вопроса, для философии нужна только идея я, которое в чистом свободном акте мысли и полагает самое себя. Отыскивая наиболее простую форму самополагания, Фихте усмотрел ее в чистой логической идее я. Между тем логически простое жизненно всегда сложно и недоступно анализу, и то великое самополагание, о котором глубоко правдиво заговорил Фихте, заключается в той простоте, которую знает жизнь, которую так характерно выявляют дети, когда они затрудняются нарисовать простую геометрическую фигуру, например, треугольник, трапецию, и без колебаний берутся срисовывать жизнь, хотя бы перед ними были сам Рубенс, Корреджио и т. д. Я самополагает себя, исходя из своей живой функции, из переживания, действия, жизни, так как оно дано именно в них как живое, конкретное, единое целое. В то время как при гносеологически «чистом» самополагании я бессодержательное само оказалось перед еще более пустым не я, и только благодаря скрытому двигателю вся система пришла в движение, в действительности живое я как конкретная личность стоит перед бесконечно богатым живым объектом, миром во всей его полноте и, полагая себя, полагает и его в том же первоначальном акте, рожденном жизнедеятельностью. Я полагает себя не как идею, не как дух, не как волю, не как тело или его части и т. д. и даже не как их сумму, что также способно создать путаницу, а как живую личность; так и весь мир единым актом дан не как система категорий, не как те или иные колебания волн эфира, а как живой, красочный, звучащий и т. д. мир – как живой субъект в живом мире – то я, которое указывается собственным именем или указательным местоимением[830]. Если мы затем отвлекаемся и оставляем в стороне целый ряд особенностей отдельных личностей в интересах отыскания общей почвы для всех, то это никогда не должно обозначать поворота от жизни и утрату живой перспективы.
Научно личность и я в этом своем содержании глубоко сложны, но это нисколько не мешает их философской (жизненной) простоте. Суть личности прежде всего в ее неразложимом единстве, составленном с теоретической точки зрения из множества своих органических частей и служащих единой цели[831], все индивидуальное реально сложно[832], но индивид остается им самим, пока он неразложен. Когда мы пытались и пытаемся нарушить это единство во имя гносеологической чистоты, прикрывающей подлинный разрушительный психологизм, мы повторяем старую историю с софизмом о лысом; если выдернуть один волосок, человек не облысеет, а затем по одному волоску мы все-таки оголяем его голову. Так и с я: спрашивают, мыслит ли ваше тело? Конечно, нет. А ваша рука, голова, воля, чувство и т. д.? И так понемногу остается чистый гносеологический субъект. Но так можно разобрать не только живое существо и лишить его жизни, но и привести теоретически в полное бездействие любую машину: все части по отдельности не создают того действия, которое тем не менее дает машина в целом. Все дело в том, чтобы понять, что вол, как вол, нет, а есть личность, проявляющая волю; ума или мышления нет, а есть личность, проявляющая соответствующие акты и т. д. Нормальная личност, – т. е. пока она есть – не допускает нарушения своего единства в настоящем своем составе, но она не допускает его и в плоскости последовательности, она есть связь переживаний и состояний в их чередовании и взаимоотношении, как и в их одновременности.
Отрицая расчленение нашего исходного пункта в философии, мы этим отнюдь не отклоняем проблемы личности как сложного вопроса. Мы только в данном случае считаем возможным указать на живую жизнь, незаменимую никаким описанием и объяснением. Если бы можно было не опасаться психологизма, можно было бы прямо перейти к интересующему нас вопросу, но этого нет и для правдивого решения коренных вопросов философии важно отметить некоторые стороны в нашем исходном пункте.
Само собой разумеется, на первое место должна быть выдвинута именно та сторона личности, которая составляет ее как бы differentia specifica[833], которая привела – при ее изоляции – к психологизму и отвлеченности. Это – самосознание, дающее человеку право говорить о себе я[834]; это та последняя капля, которая дополнила чашу до краев и создала иллюзию, что именно она и наполняет ее в необходимой для личности степени, меж тем как она влилась и слилась с сложным неразрывным целым, которое мы не можем обозреть сразу и потому вынуждены анализировать с опасностью, оказавшейся действительною, забыть о живом целом, из которого мы выделили эти элементы. Живое, реальное самосознание и говорит именно об этой конкретной полноте. Даже Фихте, абсолютировавший я и его самополагание, подчеркнул, что оно мыслимо только при противополагании не я, и это ясно показывает, что самосознание говорит о живом я, у которого только и может быть «предмет», объект познания, потому что отвлеченное понятие не может действовать, а познание есть деяние, акт, не только в действительности, но и логически возможный только в живом. Рассматривая самосознание, саморазличение и самоопределение[835] как суть личности, мы не вправе забывать о том, из чего мы эту суть выделили, так как выводы все делаются и должны даваться для личности в целом, где нет смысла говорить о сути «как таковой», о «Kern und Schale». Здесь более чем где-либо необходим возврат к самому себе в правдивом, жизненном смысле из тупиков отвлеченности и психологизма, из сферы схемы личности и ее только одной «сути».
Что дает этот возврат к себе, к живой полной личности? Это может быть пояснено четырьмя точками зрения, применимыми к человеку и, насколько возможно, дающими обзор того, что входит в понятие живой цельной личности. Эти точки зрения были выдвинуты мною в педагогике и положены в основу моей педагогической теории[836], потому что там также идет речь о жизни и живом.
Эти четыре группы свойств составляются из принадлежности человека к четырем сферам фактического существования: природы, индивидуальности, социальных образований и той идейной сферы, которую мы в собственном смысле могли бы назвать культурой: 1) человек – детище природы; 2) он – индивид; 3) он – социален, так как нормально он не мыслим вне взаимоотношений с ему подобными в семье, обществе, народе, государстве, человечестве и т. д.; и не только в настоящем времени, но и в их прошлом, удержанном памятью и наследственностью, и 4) он – сочлен культуры в том отношении, что он причастен в большей или меньшей мере к той идейной массе, где даны самосознание, ценности, цели, задачи, добро, истина, красота и т. д. Все эти сферы в нем не только не исключают друг друга, но наоборот – все они пополняют друг друга и в личности существуют как единое, хотя и подвижное, но неразрывное целое, и в каждом акте, помысле все они так или иначе проявляют себя, причем, конечно, та или иная сторона может быть в роли направляющего или центрального фактора, но не исключая остальных. Сложные взаимоотношения этих сторон и входят в то необозримое целое, которое мы называем конкретной личностью.
Но понятие это не исчерпывается теми искусственно выделенными группами элементов, на которые мы только что указали. Уже само самосознание является ярким показателем действенного характера нашего я. Тут прежде всего слышится голос нашего непосредственного самоощущения и немыслимость жизни при ином допущении. И здесь предпочтение должно быть отдано непосредственному свидетельству живой жизни, подкрепленному теми соображениями, на которые мы указывали раньше, а именно – что я есть не теоретическая идея просто, а функция, структурное переживание. В том, что свидетельствуется психической сферой, как говорит В. Джемс, «percipi есть уже esse; занавес является самой картиной»[837]. Пусть это чувство не во всем достоверно и неспособно осветить все, но оно все-таки с полным правом претендует на внимание[838]. Всякая попытка отрицания активного характера я приводит к его полному уничтожению – в том числе делает невозможным и мысль, а следовательно, и самый акт отрицания. Поэтому в попытке понять я, как деятеля, стремящегося теоретически (в познании) и практически (во всей сфере культуры) превратить мир в себя и свое очеловеченное существование[839], лежит глубокая увлекательная правда, ярко вскрытая – хотя и с односторонней точки зрения – философией Фихте, убежденно повторявшего, что «единое, чисто истинное, это – моя самодеятельность, единственный непосредственный бесспорный предикат, присущий мне»[840]. Даже в самом простейшем восприятии, в самой элементарной реакции дана эта активность; в нашей жизни нет пассивности, есть только степени активности, пониженные до незаметности для нас, но и в неподвижном состоянии производится затрата и взаимодействие сил; тем более активно бывание в нашей духовно-душевной жизни.
Но эта самодеятельность не слепая, это не движение или изменение, а именно деятельность, т. е. направляемое целями деяние и изменение. Бесцельность способна вполне раздавить и уничтожить личность. Цели эти даются не только раздражениями из внешнего мира и не только внутренними переживаниями, не только идеями и принципами и всей сферой культурных интересов, но и тем, что личность самоцель, что особенно важно отметить, как мы это увидим в дальнейшем изложении. С утратой этого свойства я или личность перестает существовать. Эта идея пропитывает всю суть и всю сферу личности; она дана в ее самосознании, она же говорит и в инстинкте самосохранения, она слышится во всех иных целях, поставляемых личностью, – это та черта, которая дает право говорить о личности-человеке как о величайшем эгоисте, в лучших, святых своих помыслах и деяниях стремящемся к себе как самоцели, хотя бы это было стремление спасти душу свою или обрести царство божие. Во всяком случае
«Volk und Knecht und Überwinder, Sie gestehen zu jeder Zeit, — Höchstes Glück der Erdenkinder Sei nur die Persönlichkeit».[841]Стремление к себе как самоцели приобретает бесконечно широкий диапазон не только в том, что есть, но и в том, что должно быть, что не есть, а что творится. Тело наше не ничтожный комок, к которому оказывается прикованным мое я[842], а наоборот: оно является бесконечно богатым связующим началом со всем внешним и внутренним миром, со всей полнотой конкретного мира, тем, что дает – кстати сказать – реальную основу для постановки великого трагического вопроса о мире и я, об их взаимоотношении.
Во внешнем и внутреннем мире деятельностью и познанием наше я прокладывает себе пути, верша постоянный процесс объединения и оформления, преодоления разъединенного множества[843]; при этом мы стремимся объять и соединить не только то, что есть в настоящем, но и исключить перерывы и отчуждение в прошлом, чтобы наше я было и в мире настоящем, и в прошлом в целом, связанном с ним непрерывными связями[844].
К этому необходимо добавить, что та же активность в личности дана и в отношении будущего. Я наше по самому своему существу не только несет в себе итоги прошлого, не только живет своим настоящим состоянием и диапазоном, но оно всегда в положении постоянного или обеднения, или обогащения; статического положения здесь нет; кто не идет вперед, тот идет назад, потому что в потоке его жизни тонет неизбежно известная часть его переживаний. Что такое это я, личность, это определяется не только тем, что она есть, но в большей мере тем, чем она хочет и стремится быть, чем она делает себя. Перед нашим я в этом отношении безграничные перспективы[845], – и отрицательные вплоть до уничтожения себя, и положительные как возможность все более высокого и ценного. Как говорит Вл. Соловьев[846], «человеческая личность – и, следовательно, каждый единичный человек – есть возможность для осуществления неограниченной действительности». Мы вполне присоединяемся к его утверждению, что эта мысль должна быть аксиомой, но не только этики, а вообще всей философии; возможность эта настолько велика, что личность действительно может мыслиться в идеале безусловной[847].
Личность несет в себе творческую мощь, и эта творческая мощь выявляется в двух направлениях: в росте и обогащении самой личности и в росте и обогащении мира. Она обогащает самую себя с каждым шагом расширения и углубления своих интересов. Здесь будет вполне к месту вспомнить вундтовский закон возрастания духовной энергии[848], который говорит о том, что[849] духовная мощь индивидуальности, помимо других источников, растет вместе с развитием психики благодаря этой дивной способности души отстаивать самое себя от власти времени (например, в памяти). Творческая мощь бытия действительно не только не истощается в процессе мирового развития, но она растет вместе с ним. Личность, рождая идею, мысль, идеал и т. д. и веря, и утверждая их, создает новую действительность[850] не только в себе и для себя, но и рождает новую реальную силу, идущую в мир. Наши силы, широта и мощь убывают от сомнения в себе и возрастают от веры в себя и в свои идеи. Если герои Шекспира были только плодом творческой фантазии отдельной личности, то потом, раз возникнув, они стали жить и, по мере своей художественной полноты и ценности, вошли в действительность, в причинную цепь – они действуют и сами помогают творить. Пусть они создались по реальному или мнимому поводу, это нисколько не меняет существа дела. Е. Н. Трубецкой передает[851] со слов своего брата С. Н. Трубецкого, что Вл. Соловьев однажды по близорукости принял скорлупу деревянного пасхального яйца, надетую на палочку, за одиноко растущий цветок; С. Н. Трубецкой разрушил эту иллюзию в тот момент, когда Соловьев, вдохновившись воображаемым одиноким цветком, слагал о нем прочувствованное стихотворение. В личности ничтожный повод, ложно понятое явление, может породить великое творение, и тогда прежде всего сама личность становится больше, глубже, творчески сильнее, потому что к полноте ее действенной силы прибыли новые звенья.
Конечно, личность, как единичная творческая сила, не безгранична. Как говорит Фихте[852], в самом понятии личности лежат ее границы. Они определены границами ее свободы – на ней мы остановимся в одной из следующих глав. Эти границы текучи и резкую демаркационную линию провести невозможно: от узкой сферы серенького человека она может разрастаться до безбрежной шири гениальности. Здесь, как и во всем живом, – текучесть и постоянная борьба субъекта и объекта, их сфер. Проведение резких, обрывающих границ мыслимо только в отвлеченном понятии, в фикции, неприемлемой для философии; определение может быть достаточным и тогда, когда оно определенно указывает на текучесть границ. В личность входит все то, что объединено ее самосознанием, все, что она окрасила личным характером, органической теплотой своего существования, будет ли это духовное, идеальное, душевное, социальное, телесное[853] – это безразлично. И даже при этом условии приходится сказать, что известная доля отвлеченности в нашем понимании все-таки останется; мы не можем охватить всей полноты, мы все-таки «отвлекаем» от живой полноты действительности, но это неизбежно и допустимо, потому что здесь дано в основном самодовлеющее целое, допускающее временное условное выделение из действительности как чего-то типического, но и для типических целей, не больше.
Подчеркивая я как живую, конкретную, жизненно данную личность, мы, естественно, сталкиваемся с особенным противодействием в той части, где в это целое включается наше тело. Все тот же психологизм и отвлеченность создают нелепое положение: живя как единое целое, мы не верим самим себе, своему существованию и живем со старой мыслью о резкой раздвоенности в существе человека; мы мыслим по платоновски: дух благороден и рвется в высь, тело его сковывает, привязывает к земле и земному. Эвристическое научное различение – психологическая и физиологическая точки зрения – поработили философию, которая в силу основного своего задания не может, по возможности не должна расчленять. Попытки в сторону преодоления этого философски тягостного дуализма идут из века в век: стремления избавиться от него даны в материализме, в спиритуализме, в панпсихизме, в современных теориях, учащих, что телесная жизнь немыслима без душевной, а переход одной энергии в другую мыслим только при «коренном родстве» их[854]. Протестуя против определения психологии как науки о том, что существует только во времени, а не в пространстве, психолог А. Бинэ говорит[855], что «в нашей жизни мы не перестаем локализировать в пространстве, хотя отчасти и смутно, нашу мысль, наше я, весь наш интеллектуальный мир. В данный момент я смотрю на себя и беру себя как пример: я пишу эти строки в моем рабочем кабинете, и никакое метафизическое рассуждение не заставит меня отказаться от моего глубокого убеждения в том, что все мое умственное существо пребывает в этой комнате, во втором этаже моего дома в Медоне. Я нахожусь здесь, но не где-нибудь в другом месте; тело мое здесь, здесь моя душа, если она у меня есть. Я там, где мое тело, и даже думаю, что я нахожусь в самом моем теле»[856]. Надо не только сказать вместе с Риккертом[857], что «в конечном счете монизм стоит в лучшей гармонии с нашим мироощущением», но и что точка зрения дуализма, а может быть, и триализма (душевное, телесное и духовное), и плюрализма есть специфическая точка зрения позитивной науки; именно им нужны изоляция объекта, расчленение, это их точка зрения. Философски несравнимо более оправданы вопросы не о том, как душевное и телесное приходят в связь друг с другом, а как они оказываются в нашем сознании расщепленными.
С этим дуализмом в философии и жизни нечего делать. Характерно, что с ним не уживается и другая теория, трактующая конкретные проблемы жизни – педагогика, когда она строится жизненно правдиво. В нем даны в сущности две позитивно научные (но не философские) точки зрения на человека как действительность, отделившие две стороны в живом целом, тело и душу. Что перед нами два продукта отвлечения, против этого ничего не говорит и то, что после смерти личности остается ее тело, только тело, т. е. оно, как и камень и др. предметы неорганического мира, дано как нечто иное, реальное и существующее. Насколько правильно такое утверждение в широком смысле слова, это мы попытаемся выяснить в дальнейшем изложении. Что же касается человеческого существа, то со смертью все то, с чем мы имели дело в жизни, совершенно исчезло для данной живой действительности, нет уже не только познавателя, но нет и человека; рука, нога уже не органы в точном значении этого слова; то, что мы называем телом человека, перестало быть им и должно быть понято в иной связи; в нем совершаются уже совершенно иные процессы и т. д. В живом и конкретном проведение грани между физическим и психическим, телесным и духовным невозможно и с философской точки зрения совершенно не нужно[858].
Психологические доводы в пользу этого губительного дуализма, оперирующие правомерностью отделения данных сознания и душевной жизни от тела и телесных процессов, не убедительны: то, что моя рука, голова и т. д. могут быть объектом восприятия и я не могу приписать им сознательной или душевной жизни, в одинаковой мере относится к любому акту моей душевной жизни, как и телесной. Как раз непосредственный опыт говорит твердо и ясно именно не об отдельном существовании тела и души, а об их цельности и полноте. Не даром наивное сознание пришло к мысли об отдельной душе на пути созерцания безжизненного тела, т. е. уже нечеловека. Для психологиста и дуалиста остается неразрешимой загадкой, почему такие ничтожные явления, как расстройство желудка, насморк, вспухающий палец и т. д., мешают мысли и даже могут парализовать ее, почему они могут ослабить волю вплоть до полного ее уничтожения. Все это становится понятным и ясным в живом целом, в одном единстве, где палец не мыслит, не проявляет волю, но и ум, и воля не мыслят и не проявляют воли; не мыслит материя, но не мыслит и дух; мыслит и познает живая, конкретная личность, из которой выделены абстракцией все эти стороны. Вот именно потому их состоянием и может определяться целое в его состоянии и функциях. Только при такой точке зрения мы избегнем курьезных затруднений, порождаемых, например, таким вопросом: каким образом проснувшееся я находит себя после крепкого сна тем же самым, не теряет связи со своим прошлым и даже не замечает трудности своего положения; ответ в духе Тейхмюллера, например, что я субстанция, что оно во сне утрачивает только самосознание, но что затем самосознание возвращается, не ответ, потому что вопрос только отодвигается, но не устраняется. Но живые процессы в живом человеке во сне только понизились и взяла преобладание одна сторона, отнюдь не исключив, а только приглушив другие, при пробуждении они снова достигают своей обычной интенсивности и нет нужды что-либо восстанавливать, потому что не было никакого перерыва.
Отсюда становится понятным стремление человека возможно полнее вскрыть себя и расширить диапазон своей жизни. В этом смысле вполне последовательно необходимо включить в личность, в я как исходный пункт философии всю полноту не только телесно-душевного состояния, но и все идейное, идейно-ценное ее богатство, как в лично индивидуальном, так и в социальном направлении. Все делает это я с научной точки зрения одним из очень сложных вопросов, но для философии как учения о миросозерцании это единственно правдивый, простой и наиболее беспредпосылочный исходный пункт.
Конечно, в этом пункте всплывает старое опасение, сыгравшее не последнюю роль в узаконении чистой духовности человека, – что на пути нашего конкретного понимания познавателя исчезает разница между ним и животным. Но мы должны помнить и надеемся показать в дальнейшем изложении, что только при нашей концепции может идти в понятном смысле речь об одухотворении и одухотворенности, в которой мы заинтересованы. Вообще же заметим, что принципиальное различие между остальными животными и человеком исчезает и должно исчезнуть; различие есть в полноте, в степени и в способности к развитию всех указанных нами сторон – в том особенно, что культурное начало дано у остальных животных в строго фиксированной дозе, в бессознательной или во всяком случае затуманенной форме. Там, как говорит Бергсон, жизненное начало забежало в тупик и оказалось в строгих рамках инстинкта; животные не могут использовать широко свой опыт для созидания нового, у них нет творчества. Но мы должны помнить, что ряд разновидностей животного царства являет сравнительно высокую форму социальной жизни, как пчелы, муравьи и т. д., и уж во всяком случае все они обладают упрощенной или усложненной жизнью, которая заставляет предполагать в ней ясные психические элементы; например, у домашних животных эта душевная жизнь может быть даже относительно высокоразвитой, но она не подымается до высот самосознания, до идеи должного, до простора творчества и культуры в идейном смысле этого слова. Человек тоже животное, но умеющее дополнять, обогащать и широко использовать не только родовой, но и свой личный опыт и приобретать свои формальные навыки, помогающие ему ориентироваться в совершенно новой обстановке. И здесь конкретное живое понимание не допускает фиктивных перегородок и перерывов[859].
Таким образом совершенно отпадает возможность смешения понятия личности, этого субъекта с индивидом и опасение индивидуалистической атомизации. Личность (как и структура) мыслима только там, где устанавливается какое-либо соотношение с объективными ценностями, где имеем перед собой направленность живого индивида на осуществление этих ценностей. В этом смысле можно сказать, что этот субъект ни в каком случае нельзя называть субъективным и основывать на нем упрек в субъективизме; личность в нашем понимании получается только в сфере и в связи со всей объективной широтой естественной и социально-культурной среды. Индивид и индивидуальность только тогда становятся личностью, когда они оказываются в более или менее сознательном и действенном отношении к объективным ценностям, когда они получают то или иное положительное культурное и социальное содержание. Вот почему отчужденность от сфер истины, добра, красоты и справедливости равносильна прямо пропорциональному опустошению личности и впадению ее в состояние самое большее голой индивидуальности; в этом случае прежде всего исчезает социальный элемент, без которого личность немыслима. Истина, красота, добро, справедливость, долг и т. д. – все они насыщены императивным духом, все они требуют действия, все они предполагают среду, и из всех них целым пучком вырастают социальные требования. В то время как индивида и индивидуальность можно мыслить изолированно, личность в изоляции немыслима – без объективных, культурных и социальных моментов ее нет. Опасность крайней формы «индивида и его собственности», этой крайней формы индивидуализма, не только в том, что он угрожает гибелью и распадом социальной среды и общности, но что на этом же пути в силу отрыва необходимого элемента неминуемо идут и гибель, и распад личности самой не в меньшей, если не в большей мере. Может быть антикультурная и антисоциальная индивидуальность, но не может быть в принципе (не фактически) антикультурной и антисоциальной личности. Пользуясь образным пояснением, можно было бы сказать, что как человек физически сферичен, дан в пространстве во всех измерениях, так и личность необходимо дана во всех измерениях – душевном, духовном, культурном, социальном, в прошлом и в будущем, и в настоящем. Индивид, строго говоря, это просто естественное существо; не было бы ничего противоречивого или абсурдного, если бы мы применили этот термин к растению или даже вещи; индивидуальность может быть присуща и животному, потому что и оно обладает способностью особого выявления себя и своего индивидуального уклада; но личность может быть только у человека, потому что только он приводит себя в связь с объективными культурными ценностями.
Если бы мы не боялись некоторой расплывчатости и уже накопившейся некоторой отягощенности термина структуры, которым так широко пользуются немецкие философия и педагогика, то мы могли бы прибегнуть к этому термину для обозначения существенного оттенка в нашем понимании субъекта философии. Этим мы тогда сказали бы не только то, что в него входит в нерасчлененном единстве и органичности все естество, присущее человеку во всех отношениях, телесном и душевном, но и все его раскрывшееся и развертывающееся содержание в том взаимоотношении и с той логикой и характером, которые создаются на почве соотношения со всей живой и культурной окружающей обстановкой. Таким образом, сюда входит не только то, чем индивид владеет как таковым, сам по себе в изолированном состоянии, но все это получает определенную реальную окраску, направление и становится особой реальной действующей силой в зависимости от того, в какое отношение этот индивид становится к миру объективных ценностей, к культуре, обществу и т. д. Отсюда вытекает, говоря языком Шпрангера, определенная конкретная «жизненная форма», индивидуально заполненная и осуществляемая. Это уже не или естество, или культура, а это именно личность, в которой все это дано в живом взаимодействии и в той или иной форме единства. Субъективное и объективное составляют здесь две стороны одного и того же, которые выделяются искусственными расчленениями познающей мысли, но реально они едины.
Подчеркивая я как живую полноту, мы этим не устраняем вопроса о центре тяжести этого я. Он может перемещаться и действительно перемещается, как это и должно быть в живом и конкретном. Я первобытного человека и я гения не тем отличаются друг от друга, что один – животное, другой – чистый, творческий дух; в каждом из нас даны все четыре стороны, которые упомянуты нами раньше; оба детища природы, оба индивиды, оба сочлены социальных групп и культуры, но у первого сильно представлена первая сторона – животность, природность, слабы вторая и третья и подчинены первой, и только едва тлеющей искоркой дана четвертая сторона – культурно-идейные интересы, представленные, может быть, грубыми проявлениями религиозности, эстетизма и т. д., – у второго эта идейная масса, наоборот, есть направляющая и господствующая сторона, которой подчинены все остальные и прежде всего животная сторона. Из степени преобладания той или иной стороны и слагается все богатое разнообразие личностей в их живой полноте, где неизбежно даны все стороны в живом, неразрывном единстве. Так может случиться, что в сравнительно слабом теле поселится сильный дух, и наоборот; так могут получить преобладание более детализованные стороны, как эстетизм, религиозность и т. д., но всегда это единство должно мыслиться так, как оно есть: в живом, текучем, действенном состоянии и притом в управляемом целями действии, т. е. в деятельности.
Все это выдвигает целый ряд вопросов и следствий, с которыми мы дальше и должны разобраться. Свое я предполагает чужое я. Я вне среды себе подобных немыслимо; даже выросши и потом оказавшись изолированным, оно неизбежно угасает или подрывается. Без среды человек, даже оставаясь способным жить животной жизнью, никогда не становится личностью; если бы он был только среди объектов, я, личность была бы невозможна. Субъект, я действительно, как это глубоко правдиво констатирует Г. Г. Шпет[860], соотносителен прежде всего не объекту, как учит современная философия, а субъектам, свое я – чужим я. Таким образом мы встречаемся с проблемой чужого я, поглотившей много философских усилий в психологистической, отвлеченной постановке и разрешающейся значительно проще в нашей теории.
Все изложенное относительно субъекта, исходного пункта философии, предполагает еще одно утверждение, также являвшееся до сих пор одним из наиболее сложных вопросов: мысля личность как действенное, творческое начало, этим самым утверждают ее свободу, которая под названием проблемы свободы воли остается до сих пор как будто неразрешимой загадкой: теоретически она оказывалась недоказуемой, практически мы без нее жить не можем. Без свободы нет личности, нет я. Где же выход?
На оба эти вопроса мы и должны теперь обратить наше внимание.
IV. ПРОБЛЕМА ЧУЖОГО Я
Проблема чужого я напрашивается сама собой в том отношении, что оно абсолютно не подлежит ни малейшему сомнению, а меж тем в большинстве господствующих теорий эта уверенность не укладывается ни с какой стороны. Необходимость чужого я повелительно диктуется коренной органической потребностью человека; будучи изолированным, он никогда не вскроется как человек и не найдет своей полноты и самого себя. Это бесспорно не только психологически, но это ставится вне сомнения и философски: разумное существо нуждается в среде и взаимодействии с другими разумными существами. Отсутствие этого условия устраняет самую разумность, потому что ею характеризуется известное отношение и прежде всего в основе своей отношение к себе подобным; устраняется отпадением среды разумных существ самая сердцевина разумности – свобода: она превращается самое большее в грубейший произвол, в слепую игру темных сил, в борьбу животного с механической силой вещей. Характерно, что и философы, конструирующие свою систему как теодицею, как Лейбниц, не считают возможным оставить человека одного и вводят плюрализм разумных существ: «Несогласно с разумом, – говорит он, – допускать существование только одного деятельного начала, а именно – всеобщего духа и одного страдательного, а именно – вещества»[861]. Для критицизма в взаимодействии существ жизненный нерв разума; об этом красноречиво говорит вся философия Канта и особенно его этика категорического императива. Фихте считает возможным строго-априорным путем показать, что «разумное существо становится разумным не в изолированном состоянии, но что необходимо допустить по меньшей мере еще одного индивида, кроме него»[862] и т. д. Личность предполагает другие личности, – это настолько бесспорно, что фихтевское противопоставление я – не я было бы в его изначальности гораздо правильнее превратить в более точное и жизненно правдивое противопоставление я другим чужим я – без этого нет я, нет личности, нет и не может быть развития, роста духовной жизни.
Тем более обязателен этот плюрализм для теории, устанавливающей конкретную точку зрения. Этот плюрализм в сущности не может быть даже ограничен сферой человека – он может быть распространен и дальше; по крайней мере нет никаких принципиальных препятствий к расширению царства разумности, хотя бы и не в той же мере данного, как у человека.
И тем не менее проблема чужого я попала в число философски почти неразрешимых загадок. Чем же это объясняется?
Есть симптомы, которые неумолимо указывают в постановке и решении известных вопросов на ложь в исходном пункте. К числу таких симптомов принадлежит ясное и резкое столкновение с непосредственно очевидным. Оскопив субъекта, вылущив из него все живое содержание, философия не могла не перенести весь вопрос на совершенно неразрешимый путь: она дает в я отвлеченное понятие – мертвое, бездейственное, допускающее, как и полагается понятию, только логические выводы из него. Всякое я в своем понятии абсолютно тождественно с я или, лучше сказать, оно есть одно, и в применении к нему речь о своем или чужом становится очевидной несообразностью; это я только понятие, в нем нет места даже для проблесков особенностей, в нем все голая чистая логическая идея субъекта. Таким образом при таком я и самый вопрос о чужом я невозможен. Но он ставится и вызывает ответы, в которых безнадежно ищут перехода от фикции и пустого понятия к реальному, конкретному, определенному я, личности, или же совершается на одной из стадий явная подмена, с непреодолимой силой врывающаяся в ход философского рассуждения: подмена гносеологической идеи реальным субъектом.
Мы приведем здесь несколько примеров. Кант гарантирует царство личностей постулатами, т. е. в известной доле заставляет завоевывать его верой. Фихте прямо устанавливает реальность чужого я актом веры. При этом у него получается как раз в высшей точке, в идеале уничтожительное положение: став совершенными, все люди «wären einander gleich, – sie wären nur Eins, ein einziges Subjekt»[863], да и как чистые субъекты они одно; но тогда на высшей точке, в «чистом» состоянии появляется полное обнищание мира. Вместе с тем Фихте видит в явлении взаимодействия разумных существ, в всеобщем воздействии человеческого рода на самого себя самую возвышенную благороднейшую идею[864]. Таким образом самое возвышенное, благороднейшее получается не в высшем, в «чистом», в идеале, где, наоборот, пустыня, а на стадии несовершенства, где дано множество. Шопенгауэр утверждает, что вопрос здесь решается интуицией. У Гегеля из-за игры чистых понятий очень скоро выявилось лицо подлинного Гегеля, сына своего времени, как только он перешел к конкретным вопросам[865]. Авенариус вынужден был характеризовать «Du Wirklichkeit» (ты – действительность) как гипотезу (курсив мой. – М. Р.) чистого опыта в ожидании, что в идеале опыт может подтвердить эту гипотезу, но в действительности – с теоретической точки зрения – oт этого не стало легче. Ницшевский сверхчеловек оказался не в силах остаться в одиночестве и проповедует без конца; и у него на горизонте брезжились «сверхчеловеки», потому что «гордое одиночество» подрывает личность. Целый ряд психологов-исследователей пытается в логически стройном описании нарисовать возникновение я. Так, например, Балдвин отмечает фазисы проективный, субъективный и объективный, причем каждый из них распадается на подчиненные новые этапы; но в сущности положение от этого не становится более понятным: это втискивание в логические формы живых явлений не есть действительность. Психологический субъект также отягощен грехами отвлеченности, и трудности в нем только передвигаются, но не устраняются: получается вопреки жизни и живому изолированный, абсолютно замкнутый душевный мир (субъекта), из которого нет выхода и в который никакими силами нельзя войти. Чужое я оказывается теоретически неприступным. Лютославский нашел выход из проблемы чужого я в телепатии, в непосредственном общении душ вне всякого разделения; тогда надо распространить телепатию и на животный мир, как это и делает Лютославский; но загадочность тогда увеличивается, а не уменьшается. Как о курьезе напомним, что известный психолог Гефлер в своей «Психологии» для доказательства существования чужого я рекомендует дать другому лицу какое-нибудь сложное вычисление и одновременно самому произвести ту же операцию с помощью логарифмов, чтобы в совпадающем результате дать доказательство существования чужого я – как будто любой простой акт жизни не говорит о том же. Теоретически ворота наглухо закрыты, а меж тем в действительности они распахнуты настежь и никто не мешает нам входить и выходить.
Где же выход? У сторонников отвлеченной точки зрения, у психологистов разного толка получается так, как будто человек обрел одну точку, свое я, и вот речь идет о том, как он теперь завоюет вторую, чужое я. Логически это привлекательно; но это правильно так же, как правильно то, что буквы предшествуют слогам, слоги словам и т. д. Но это не значит, что человек сначала научается буквам, потом овладевает слогами, затем словами и наконец речью. В жизни мы знаем, что и дети в своем росте идут совсем не этим путем: человек всю жизнь может прожить, владея речью, и подчас очень искусно, но не подозревая о существовании ее элементов.
Здесь не лишне упомянуть о точке зрения генетической и детской психологии: она говорит нам, что действительный путь ведет не от своего я к чужому, т. е. не расширением, а путем сужения и ограничения, когда вводятся поправки к первоначальному, действенному открытию и смутному чувству: все – я или все как я; для маленьких детей первая их позиция – это непризнание мертвого, не я, точка зрения анимизма; вина за мнимо злоумышленный ушиб, например, слагается со стула только значительно позже, когда ребенок уже приобрел известный опыт, и мир начинает ясно подразделяться на живое и способное свободно действовать и мертвое, механическое.
Это намечает правильное решение всего вопроса. Оно намечено теми учениями, которые подчеркнули непосредственность познания чужого я, как это делает Мюнстерберг. Необходимое дополнение должно заключаться в утверждении, что познание чужого я также непосредственно, как осознание своего собственного, и потому ни в каких особых доказательствах не нуждается. Их появление и происхождение одно от другого совершенно неотделимо. Путь к ним идет не от мертвого, а от живой цельной полноты действительности.
В этом направлении нас побуждает идти самое простое жизненное наблюдение, от которого можно исходить по близкой аналогии. Ведь знание чужого я есть не только у глухонемых и слепорожденных, на что ссылался Рид. Тем, кто из проблемы чужого я делает настолько сокрушительную загадку, что из нее приходится искать выхода необыкновенно сложным и утонченным логическим путем, мы напомним[866] о следующем обыденном факте – о нашей игре с собакой, которая яростно нападает или защищается в игре и тем не менее не кусает захваченную в зубы руку, всячески остерегаясь причинить вред или боль, но немедленно вонзает свои зубы прочно в палку, которую я подсовываю ей и потом пытаюсь отнять у ней. Таким образом она знает различие между живым и мертвым. К этому необходимо добавить, что то же знание имеется не только у взрослых животных, искушенных, как кошки и собаки, печальным опытом побоев, но и в совершенно ясной форме у щенят и котят. Значит, проблема чужого я должна быть расширена; но тогда становится совершенно ясной нелепость тонких логических путей в открытии чужого одушевления и чужого я.
Ответ может быть только один: это знание первично; оно есть плод действия – практики, и рождается не в одном элементе, а в противопоставлении моего я и чужого, и только при этом условии свое я и возможно, что ясно уже и просто логически. Приходится просто недоумевать, что проблема своего я оказалась оторванной от проблемы чужого я. Всякое познание и осознание мыслимо только при различении. В царстве абсолютного тождества, если это тождество непосредственно, т. е. если оно не есть продукт, нечто достигнутое, в итоге установившееся, нет и тени мысли о познании и не может быть; там абсолютное ничто, nihil negativum. Открытие своего я есть действенное обнаружение противодействия или взаимодействия. Человек именно потому и не может констатировать непосредственно теоретически чужого я, что это не дело познания, а это открытие дотеоретического порядка.
В частности, отметим, что путь аналогии в строении наших тел не дает выхода; если бы мы шли таким путем, то нет никакого сомнения, что человек пришел бы в этом случае к выводу об одушевленности и чужом я человека и считал бы мертвым все, что в своей организации расходится с нами. Меж тем вся история человека и жизнь говорят об ином: человек прежде всего не признавал ничего мертвого, для него все было одушевлено и полно человеческих стремлений – не только животные, рыбы (уже далекие организации), но и деревья, растения и даже камни и т. д. Анимизм объясняется тем, что проблески моего я не могут забрезжиться без проблесков иного: из столкновения с иным высекаются искры своей и чужой воли, своего и чужого я. Познавательным путем дальше даются просветление, углубление, поправки, но не основное и первоначальное; падает анимизм, я получает возвышенное, все более утончающееся содержание, человек отгораживается от животного и т. д.
Без ты нет я, и наоборот. Коренная ошибка и заключается в том, что исходят из я обособленного, своего, т. е. отвлеченно взятого, меж тем как первоначальная живая позиция это неизолированность я или в сущности все как я. Я обособленное есть не исходный пункт, а продукт длинного пути развития, выделения и ограничения. Я есть нечто добытое. И с отвлеченной точки зрения, проблема чужого я, как и вообще проблема проникновения в чужую психику и во все транссубъективное, именно потому и оказалась непреодолимо трудной, что мы поднялись к я путем массы всяких актов, обособлений и ограничений, а затем, поднявшись, поспешили забыть о прежних порванных связях, и вот в итоге получились всюду непроходимые пропасти, через которые никак нельзя перебросить мостики: мы как бы с одной вершины горы глядим на другую и игнорируем общее основание и пути через соединяющие их долины. Мы забываем о великой соединительнице – жизни, в ней все связно и неразрывно: я и ты, мое и чужое, и только в развитии, в подъеме мысли они выделены и фиксированы. Но тогда, спрашивая о чужом я, надо вернуться к тому моменту, где оно дается, а там я и ты, мое и чужое нераздельны, – они оба рождаются из одного лона, обусловливая друг друга.
С этой точки зрения исчезает и курьезное затруднение, доставившее много хлопот психологии: это вопрос о перерывах сознания – о том, как я, проснувшись, восстанавливаю свое тождество с собой после ночного перерыва. С нашей точки зрения получается простой ответ: тело и телесные процессы остались в непрерывной связи в той же обстановке, и потому приглушенное (но не исчезнувшее) сознание может беспрепятственно раскрыться, не утрачивая с собой связи в прошлом.
На этом пути исчезает и пресловутый, теоретически страшный призрак солипсизма и иллюзионизма. Они лишаются всякой подпочвы в первом же акте жизни, еще до познания. В любом акте субъект утверждает и себя, и другое. Solus[867] есть фикция, ставшая возможной и даже необходимой для точки зрения изоляции, отвлеченности. Солипсизм есть значительное явление – это сигнал о теоретическом философском бедствии, причиняемом отвлеченным исходным пунктом философии.
V. СВОБОДА ЛИЧНОСТИ КАК ОСОБЫЙ РОД ПРИЧИННОСТИ
Вскрыв проблему чужого я и этим пополнив наше понимание субъекта, мы теперь должны обратиться к другой седой и также мучительной проблеме: к вопросу о свободе личности, без которой личности нет и быть не может. Через историю философской мысли этот вопрос прошел под названием свободы воли. И здесь мы теперь, как и много веков тому назад, стоим перед непримиримым противоречием между теорией и голосом жизни: теория все время оказывалась бессильной понять и обосновать то, в чем ни на минуту не допускала сомнений живая действительность в практической жизни, в правовых отношениях, в религиозной жизни, в личных отношениях и т. д. В каждом акте признания истины, добра, красоты, справедливости и т. д. слышится непоколебимое утверждение свободы.
Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei Und würde er in Ketten geboren[868].Но теория отзывается далеко не так категорично и без колебаний, как поэт, наивно вслушивающийся в голос непосредственной жизни. Как силен этот голос, это видно из слов детерминиста Дж. Ст. Милля, отрицавшего свободу и заявившего в своей автобиографии, когда дело коснулось его самого, что «блаженны были бы люди, если бы в учение о необходимости верили только постольку, поскольку оно касается характера других, и отвергали это учение, поскольку оно касается образования своего личного характера»[869]. Объяснение этого отказа распространить безропотно на себя категорию необходимости кроется в том, что это обозначает согласие на отрицание собственной личности, что это коренным образом противоречит нашему самосознанию. Когда нам сказали, что не солнце движется, а земля, что мы должны верить обратному, то мы могли с этим легко помириться, потому что это перемещение имеет для нас объективный интерес, но не имеет непосредственной практической субъективной важности – практически мы живем здесь показаниями непосредственного восприятия. Но мы знаем, что в свое время, во времена Коперника это утверждение вызывало бурю негодования, потому что оно, казалось, затрагивало субъективные практические интересы личности. Но если уже в таких вопросах мы не всегда бываем друзьями теории, противоречащей нашей практике, и все-таки продолжаем говорить о заходящем и восходящем солнце, то тем более трудно для личности помириться с разладом между теорией и практикой, который в корне подрывает самую сердцевину, самую возможность личности: с отрицанием свободы сознательная деятельность превращается в мираж, и вся жизнь личности немедленно окутывается густым, непроглядным туманом бессмыслицы – надо помнить, что утверждение истины само требует безусловного признания свободы[870].
Для нашей теории положительное решение этой проблемы тем более необходимо, что вся судьба ее решается судьбою личности и ее свободно-творческой деятельностью, в которой уже самая идея свободы является могучим фактором одухотворенной жизни. Личность в таких учениях как данное несет на себе не только индивидуальную, но и космическую ответственность. На все эти условия я указал уже при установлении условий положительного решения проблемы смысла жизни. Никакое царство божие не может дать нам этот смысл, если оно не «внутри нас», т. е. если мы не допустим свободы.
В сущности проблема свободы личности могла бы быть по всей справедливости отнесена к числу тех вопросов, которые достаточно поставить, чтобы получить тотчас же ясный и непреложный ответ из непосредственной действительности[871]; с нашей субъективной точки зрения, она не нуждается в доказательстве; она выражается проще всего и безапелляционно в действии и утверждается действием и деятельностью; она из царства жизни, а не теории, и никакая теория не сможет устранить ее, потому что, устраняя ее, она в самом акте отрицания минимума будет утверждать ее, потому что речь идет не об интеллектуальном элементе, а о живом акте, слитом из сознания, чувства, воли и органического agens’a[872]. Как говорил Фихте[873], явление свободы есть непосредственный факт сознания, а совсем не следствие из какой-нибудь другой мысли. Но и теоретически вопрос вполне разрешим, если только его правильно поставить. К такой попытке обосновать свободу теоретически мы и обратимся теперь.
Над философией тяготел какой-то рок в том отношении, что она часто неверную постановку вопроса искупала многовековыми бесплодными попытками найти определенное решение. К числу таких неправильно поставленных вопросов нужно отнести и проблему свободы. Если где психологизм дал особенно тяжелые следствия, то это, бесспорно, в данном вопросе. За термином «воля» через всю историю протянулось тяжкое недоразумение, так как это понятие, первоначально предназначенное для одной цели, постепенно насыщалось новым содержанием и оказалось вынужденным служить иной цели: на место конкретно, жизненно поставленного вопроса, волен или неволен человек в своих поступках, встал вопрос о свободе того, что в науке, в психологии принято называть волей. Таким образом неизбежно получался и получается тяжкий тупик.
Чтобы установить ясно и определенно вопрос, мы должны напомнить, что речь идет здесь не об отдельной психологической способности, а о способности – если мы согласимся с Кантом – поступать по принципам, что может быть приписано только живой, конкретной личности. Здесь нам необходимо вспомнить постановку этого вопроса у корня ее в античной мысли. Их еще не успел заесть психологический анализ и сепаратизм психологических слагаемых личности, и там шла речь не о противоположности воли разуму, одной части души – другой, а о противопоставлении свободы, даруемой нашему я (άuτó) знанием, т. е. духом и одухотворенностью, в то время как чувственность в силу подчинения нашего я чувственным позывам и стремлению к удовольствию ставит его в зависимость от внешнего мира и уничтожает его свободу. Нельзя забывать, что у Сократа и Платона проблема воли как таковая еще и не была выдвинута. В античной философии вопрос о свободе воли сводился к принципу, руководящему нашими поступками: принцип знания добродетели дает свободу, принцип удовольствия чувственного (ήσovή) несет рабство, и свобода таким образом есть свобода от чувственности – поработительницы, но ясно, что освобождается не одна сторона, а вся личность[874].
Идя отвлеченным путем, мы попадаем в положение мольеровского героя, объясняющего действие опия его снотворной силой, мы наделяем форму формующей силой; мы отвлеченный элемент ставим в положение волящего субъекта и безрезультатно бьемся веками над вопросом о его свободе, пытаясь пудами мерить длину или аршинами вес и т. д. Интересно, что один из известных, очень вдумчивых мыслителей современности В. Виндельбанд пытался[875] в раскрытии понятия умопостигаемого характера обосновать свободу воли в смысле свободы хотения. Но отметив его как постулат формального единства, не допускающий определения по существу в собственном смысле, он констатирует его недостаточность для эмпирического понимания. Нетрудно понять, что при такой постановке нет и не может быть правильного решения вопроса, потому что при этом совершенно теряется индивидуальность, в такую «умопостигаемую» личность можно вложить только «общие формальные определения духовной жизни, нормы интеллектуальной, этической и эстетической деятельности вообще, а именно они-то и остаются одинаковыми для всех»[876]. Но общее, отвлеченное не может само конкретно действовать; понятие только понятие и может дать только возможность вскрыть его содержание. Вот почему принцип Виндельбанда «divide»[877] здесь абсолютно не подходит, потому что здесь сфера и интересы in-divid-уума; здесь приходится особенно подчеркнуть неделимость личности. Элемент деятельности, составляющий корень свободы, разом устраняет всякую возможность отвлеченной постановки вопроса. Когда мы по отношению к объектам науки не стесняемся прибегать к анатомированию, разложению, абстракции, чтобы тем легче подойти к разрешению вопроса о целом, то там это вполне понятно и целесообразно, но здесь дело обстоит совершенно иначе: отдельные элементы человеческой души различены наукой, и для нее они важны, но для жизнедеятельности они только абстракция, которая лишена всякого смысла в вопросе о свободе, характеризующей деятельное состояние; в деятельности же перед нами всегда личность, живая и цельная, единство, разложение которого неизбежно ведет к уничтожению жизни. Все, что исходит из деятельности, есть продукт личности, хотя и не только ее, а не отдельного ее элемента, который мыслится, но отдельно не существует и потому не действовать не может. Сколько бы видов свободы мы ни различали: хотения, выбора действия или выполнения и т. д. – всегда мы можем сказать только одно: хочу, выбираю, действую я, вот это непосредственно данное структурно-органическое единство. Разлагая это единство, мы этим уже изгнали то, что действует и дальше ловим жалкую тень. Прибегнем к примеру, хотя все примеры хромают: когда мы видим перед собой машину, вырабатывающую какой-нибудь продукт, мы говорим, что это она делает, но было бы смешно, если бы мы разобрали ее по винтикам и стали бы доискиваться, который из них дает данный эффект. Это было бы курьезно, не говоря уже о том, что мы уже в упущении указания на рабочего или мастера делаем ошибку.
Таким образом общий вывод относительно того, о чьей свободе идет речь, сводится к одному, к единственно возможному правильному выводу: о свободе живой, непосредственной личности. Нас вводит в заблуждение название воли – мы подмениваем волевое выражение всей личности психологической волей, продуктом изоляции и отвлечения, с которой первую совершенно нельзя смешивать, как нельзя отвлеченной мыслью подменивать действительность. Свободным может быть только то, что деятельно, а деятельна не часть личности, выделенная анализом, а сама личность и именно она.
Таким образом философски нет сомнения, что психологическая воля здесь только вводит нас в заблуждение. Здесь не может быть места отвлеченному вопросу еще и по другим философским соображениям: вопрос о мире вещей в себе или мире явлений для нас в данном случае не важен; мы живем и действуем в конкретной действительности, которая не только не заменяется научно устанавливаемой картиной, но последняя должна рассматриваться только как коррелят, обслуживающий задачи объяснения. Как я уже подчеркнул, вопрос о свободе это – вопрос о свободе и возможности личности, но вся жизнь личности прежде всего развертывается в данной конкретной действительности, а это обозначает, что наш вопрос требует разрешения не по отношению к научной действительности, лишенной жизненной индивидуальности и подчиненной строгим общим законам – в последней нет и не может быть вопроса о свободе, а самое большее – только о еще не разгаданном случае закономерности; речь может идти только о живой, непосредственно переживаемой действительности, где нас окружает и интересует только индивидуальное, т. е. то, что лежит вне компетенции законов природы и обобщения. Таким образом проблема свободы – это 1) свобода не отвлеченного элемента воли, о свободе которого бессмысленно говорить, потому что отвлеченное не действует и не живет, а свобода личности, а 2) речь идет о свободе не в каком-либо ином мире – хотя мы этим не предрешаем вопроса о потустороннем, – а о свободе в данной живой, конкретной действительности прежде всего.
Отклонение отвлеченности и психологизма в решении проблемы свободы вполне подтверждается и самым понятием свободы. Все определения указывают на полноту и жизненную цельность. Свобода в своей сердцевине есть способность действовать по самоданному закону или принципам – эта мысль в различных вариациях является господствующей. Даже определение свободы у детерминиста Спинозы не противоречит этой мысли: свобода это способность действовать по побуждениям своей собственной природы. Пусть у него при таком понимании свободен только бог, суть дела от этого не меняется. Психологическое понимание свободы, когда причинный ряд начинается волей, характером человека, и метафизическое, подчеркивающее беспричинность в отношении воли, не исключают друг друга, а берут только различные стороны и оттенки того же основного положения. Смотря по характеру самоданных законов или принципов эта свобода может быть этической, эстетической, логической, религиозной и т. д. В сущности идея Канта – борьбы с естественными склонностями – имеет тот смысл, что он их отнюдь не исключает – в этом и заключается ошибка известной эпиграммы Шиллера, а он отказывает им в роли определяющего момента, так как естественные склонности сами по себе создают гетерономию, условные императивы, подчиняют ходу естественной законосообразности, т. е. ведут к уничтожению свободы. Кант не исключает блаженства, но отводит ему место следствия, а не определяющего фактора. Но не надо забывать, что если бы естественные склонности отсутствовали, то тогда нравственность также была бы невозможна, потому что нравственный закон действовал бы автоматически без борьбы и преодоления.
Каков же таким образом истинный смысл свободы. Бергсон настаивает, что всякое определение свободы ведет к детерминизму[878]; это неправильно постольку, поскольку можно указать формальные признаки и условия и у непосредственно, практически утверждаемого явления. Именно на этот общий смысл и стороны мы и укажем здесь, пытаясь вместе с тем ответить на вопрос о взаимоотношении различных видов свободы.
Этот вопрос легко разрешается на почве конкретного понимания свободы и личности. Прежде всего необходимо исключить понимание свободы как беспричинности и произвола. На самом деле свобода и произвол не меньше противоположности, чем свобода и механическая необходимость: в произволе нет разума, нет мотивированности, там все тот же естественный поток, только в форме порабощающих страстей. Свобода не есть произвол, а только особый вид причинности, где место взаимоотношений, причины и следствия пополняется взаимоотношением цели и средства. Здесь не только нет места произволу, но необходимость, необходимость разумной мотивированности составляет неотъемлемый элемент свободы.
Свободе противоположна только принудительность. Что же касается необходимости, то вся новая философия полна указаниями на родство свободы и необходимости. «Necessitas et libertas sunt unum»[879], говорит Бруно[880]. Более тщательный анализ привел ряд философов к правильному утверждению, что, как думает Лейбниц, в необходимости нужно различать несколько видов, в числе их и то, что мы называем нравственной необходимостью, основывающейся на принципе достаточного основания. Эта необходимость по его учению вполне совместима со свободой, как в нас, так и в боге. На том, что «свобода есть только один из видов необходимости», настаивает Вл. Соловьев[881]. Из современных философов особенно ярко и правдиво эту идею проводит Бергсон. Это и понятно: для него дух и тело, качество и количество, свобода и необходимость – все это не только не противоположности, но они располагаются на одной дальше или ближе продвинувшейся линия развития. «Будем ли мы рассматривать свободу, – говорит Бергсон[882], – во времени или в пространстве, она во всяком случае глубоко уходит своими корнями в необходимость и интимно связана с ней. Дух заимствует у материи восприятия, составляющие его пищу, и возвращает их ей в форме движений, на которые кладет печать своей свободы». Произвольный поступок, который совершился неведомо почему, «просто так», не может не ставиться в одну плоскость с поступком, навязанным внешней необходимостью. Поскольку он дан в сознании, он обусловлен, мотивирован личностью и только постольку является свободным; если же он для сознания неясен, то это значит, что он определен психофизическим автоматизмом, вправляющим его в цепь прямой зависимости от внешних условий.
Таким образом свобода не исключает причинности, а весь вопрос сводится к тому, можно ли остановиться на личности как на достаточной причине данного поступка или же необходимо идти дальше во внешний мир и внешнюю принудительность. Причинность как принцип того, что одинаковые действия при тех же условиях вызовут одинаковые следствия, вовсе не является врагом свободы, потому что если бы этого не было, то невозможна была бы целесообразная, т. е. свободная деятельность; совершая что-либо, я отнюдь не имел бы представления о том, что получится или даже, что может или должно получиться в результате моего поступка. Без признания принципа причинности, очевидно, рушится и идея ответственности, неразрывно связанная со свободой; тогда нет и не может быть способности, да и возможности поступать по принципам. Как справедливо замечает Виндельбанд[883], «хотение, которое в нас происходит беспричинно, только случается (курсив мой. – М. Р.) с нами; оно есть нечто чуждое, что происходит с нами и чему мы служим только местом действия». Такая свобода, если бы она была возможна, не только не нужна нам, и не о ней идет речь, но она испытывалась бы нами как не меньшая – если не большая – тягота, чем всякая внешняя необходимость. Значение этого положения становится тем более важным, что все доводы детерминистов направлены именно против нарушения принципа причинности[884]. Меж тем в действительности вопрос сводится к иному: не к отрицанию причинности, а к вопросу, можно ли считать, что личность вносит что-либо свое в свои поступки, что характер поступков исходит от личности и объясняется ею, если не целиком, то в известной мере, и что мы за личностью вправе не искать в данном отношении иной причины, кроме личности и ее дееспособности. Вопрос о беспричинности должен быть совершенно снят, так как причинность, выражаясь кантианским языком, есть конститутивная категория, а этим устанавливается всеобщая причинная обусловленность.
В этой плоскости и должен быть поставлен весь вопрос. Но тогда возникает проблема, каким же образом можно остановиться на личности, когда всеобщая причинная связь не дает нам нигде остановиться? К этому вопросу мы и перейдем теперь.
Нам необходимо вспомнить здесь о том, что по современному положению философской и научной мысли стало совершенно ясным, а именно, как нужно понимать законосообразность природы и действительности и в какой мере она связывает индивидуальное и индивида.
Спрашивая себя, что внесло в представление о причинной связи представление о принудительности, мы можем найти некоторый характерный ответ в том понимании причинности, с которым мы встречаемся у Милля[885]: «Причину явления можно определить как такое предыдущее или такое стечение предыдущих условий, за которым данное явление неизменно и безусловно следует», и дальше Милль добавляет: «завися исключительно лишь от отрицательных условий». Этим последним указанием автор в сущности уже снял безусловность. В фактической действительности мы встречаемся с бесконечно варьирующими комбинациями фактов и обстановки. Природа и действительность не дают изолированных фактов, а следовательно, признавая безусловную причинную обусловленность во всем частном, мы этим еще далеко не приходим к необходимости признать вместе с причинной зависимостью и безусловную необходимость, так как сочетания меняются от случая к случаю. Теоретически отвлеченно мы признаем безусловный детерминизм и необходимость, жизненно же эта необходимость является уже пост фактум, когда определенное сочетание уже состоялось. Эта необходимость и появляется немедленно, когда мы произвольные комбинации «естества», жизни природы оказываемся в состоянии заменить культурной, искусственной комбинацией, т. е. искусственно создаем одно и то же сочетание условий; тогда обнаруживаются и проявляют свою силу в полной мере законы природы, закон единообразия, и мы уверенно ждем того же следствия, что и в предшествующие разы, – того, что нам нужно. Но тогда совершенно ясно уже здесь, что законообразность не враг, а необходимое условие свободы. Мюнстерберг совершенно верно отметил[886], что все условия известного процесса никогда повториться не могут сами по себе – в естественном течении. Когда дело идет о теоретическом познании, мы можем в абстракции и обобщении постулировать все эти условия, но там, где мы вступаем как деятели, там мы имеем дело с действительностью, где все бесконечно индивидуально и где нет и не может быть полного повторения.
Это необходимо подчеркнуть в особенности относительно душевной жизни, как это блестяще отметил Бергсон с своей точки зрения[887]: он указывает, что даже при полном знании всех условий предвидение чужих поступков совершенно невозможно; он рекомендует не забывать, что даже самые простые психические элементы живут своей особой жизнью, отличаются своим особым характером, как бы они ни были поверхностны; они находятся в состоянии непрерывного становления, и одно и то же чувство уже в силу своего повторения становится совершенно новым чувством. Бергсон утверждает, что попытка дедуцировать из мнимого подобия двух состояний сознания приложимость к душевной жизни закона причинности была бы подлинным petitio principii[888]; для физика, по его мнению, тождественная причина производит всегда тождественное следствие; для психолога же, не вводимого в заблуждение внешними аналогиями, глубокая внутренняя причина производит следствие лишь однажды и никогда не может снова точно произвести его. С нашей точки зрения, разрешение вопроса кроется здесь не в различии точек зрения физика и психолога, а в различии точек зрения научной и философской, и вот с последней Бергсон глубоко прав.
Формулы естественных законов не являются магической властью над явлениями действительности, они не основания действительных процессов, а только выражение постоянных видов взаимоотношений вещей[889]. Как говорит Гижицкий[890], «закон природы это только выражение общего факта, и он не представляет собой ничего вне фактов или над ними: не вещи приноравливаются к законам, а законы к вещам, потому что они взяты из вещей и их взаимоотношений, а именно – путем обобщения, и вот именно потому все индивидуальное уходит из-под их власти».
Это безвластие закона над индивидом можно пояснить с различных сторон. Так Риккерт обстоятельно показал, что все индивидуальное сложно; именно в силу своей простоты атом не может быть индивидуальным. Самое слово «индивид» он толкует как своего рода императив, воспрещающий разлагать то сложное единство, которое составляет индивид, если мы не хотим попуститься его своеобразной ценностью. Но все сложное уже в силу своего состава никогда не может быть в простых отношениях к остальному. Поэтому подчинение законам требует бесконечного, немыслимого для нас количества законов, чтобы охватить всю необработанную абстракцией непосредственную действительность. Раз законы своим числом превосходят возможное обозримое для нас количество, они теряют пропорционально не только свое значение, но и свой смысл, потому что они приближаются тогда к обыкновенным единичным суждениям, констатирующим и оценивающим отдельный частный факт, единичное переживание. Тогда они для нас только крайне неудобное название, способное ввести нас в досадные недоразумения, как в вопросе о свободе.
Вместе с тем нужно помнить, что всякий закон носит условную форму. Если дано А, то по нашему человеческому разумению, конечно, не может не быть В; но в том то и дело, что это «если» в самом законе абсолютно ничем не обеспечено. А меж тем достаточно изменить что-либо в А, чтобы В не получилось; действительность же индивидуальна, и полному повторению в ней не может быть места. Возможность повторения мы искупаем условно тем, что мы соглашаемся на общий результат, попускаясь его индивидуальными сторонами, всегда данными в действительности. Так, инженер может и не обращать внимания на то, что на данном куске железа есть ямочка, бугорочек или тот или иной цветной оттенок. Ему незачем прибегать к микроскопу – хотя и это возможно, – ему, одним словом, неинтересно индивидуальное в железе, а важна его общая пригодность, позволяющая использовать его для данных целей. Все же индивидуальное остается вне определяемости законом[891].
Здесь интересно упомянуть о мнении по этому вопросу известного физика Н. А. Умова. «В очень многих случаях, – говорит он[892], – распорядок вещей в природе может быть представлен такой сокращенной схемой: поставьте на опрокинутую шарообразную чашу небольшой шарик; он может скатиться в любую сторону, и, смотря по направлению, которому он последует, шар может произвести самые разнообразные эффекты. Чтобы сообщить ему одно из множества возможных для него движений, не требуется особых усилий… Большинство явлений природы зависит от целого ряда случайностей, что и дает человеку возможность вмешиваться в ход явлений. Эта случайность настолько широка, что человек может пользоваться ею для самых разнообразных, даже диаметрально противоположных, целей».
Наконец, я не могу не завершить эту мысль ссылкой на художественную восточную сказку «Необходимость» В. Г. Короленко[893], где мудрец Дарну говорит: «Пойдем ли мы направо, это будет согласно с необходимостью. Пойдем ли мы налево, это тоже с ней согласно. Разве ты не понял, друг Пурана, что это божество признает своими законами все то, что решит наш выбор. Необходимость не хозяин, а только бездушный счетчик наших движений. Счетчик отмечает лишь то, что было. А то, что еще должно быть, будет только через нашу волю… Значит предоставим необходимости заботиться о своих расчетах, как она знает, а сами выберем путь, который ведет нас туда, где живут наши братья».
Великая уверенность, практически не допускающая ни тени сомнения в том, что я свободен, засвидетельствована всем существом нашего самосознания, но именно живого самосознания, не оскопленного абстракцией и не умерщвленного психологизмом. В нас живет непосредственное сознание того, что именно мы перерабатываем сообразно своему характеру входящие причинные связи, так что результат деятельности должен быть отнесен именно на наш счет, во всяком случае в известной его части, заверенной нашим сознанием. Как несокрушима эта уверенность, это видно из того, что, как говорит Вл. Соловьев[894], чтобы мы ни измышляли, чтобы оправдать какое-нибудь безнравственное действие как нечто такое, чего мы совершенно не могли избежать, при совершении чего мы были унесены потоком естественной необходимости, всегда мы находим, что голос внутреннего обвинителя совершенно уничтожает все оправдания, если мы знаем, что во время совершения поступка мы были в полном здравом уме и сознании; иными словами, совесть ясно заверяет нашу свободу.
Нам могут возразить, что этого достаточно с субъективной точки зрения и совершенно неубедительно объективно. Но что значит быть свободным? Свобода возможна только в деятельном переживании, обоснованном самосознанием; иными словами, это значит, что она в своем существе есть явление одухотворенного порядка; а это обозначает, что оно не нуждается – в противоположность так называемым внешним явлениям – в особых доказательствах, кроме ясного свидетельства самосознания самой личности. Вот почему глубоко прав был Фихте[895], когда он повелительно диктовал: «Воля как таковая свободна, и не свободная воля есть абсурд. Раз только человек проявляет волю, он свободен», а где он этого не делает, там он и не может обрести свободу. Кто хочет быть свободным, этим самым уже вступает в царство свободы; кто к ней не стремится, тот в него не попадет, хотя такую прострацию трудно примирить с желанием и способностью жить. В сущности ведь таково бытие всего одухотворенного; вопрос о нем решается самой личностью: если вы верите, убеждены, стремитесь к этому, оно есть и не может не быть, потому что в вере, убеждении, стремлении оно дано уже.
Не признать ответственности личности не только в отношении своих поступков, но и в отношении всего мирового хода нельзя уже потому, что она участвует в этом мировом процессе. Можно признавать только самое большее, что ее ответственность при распределении между бесчисленным множеством факторов, созидающих мировой ход, бесконечно мала, но она не подлежит сомнению. В отношении же поступков личности ее свобода может быть не только засвидетельствована всеми предыдущими соображениями, но и доказана еще и иным путем, раз мы правильно поставим вопрос и будем говорить о свободе личности, о свободе воли в этом смысле, а не о свободе психологического фактора, продукта изоляции и отвлечения.
Обратимся для этого к личности и ее месту и роли в рядах причинности – в сознании, что мы таким образом не нарушаем принципов науки, заинтересованной в непрерывности причинных цепей: эта непрерывность остается и у нас неприкосновенной, но она в личности подвергается своеобразной переработке.
В самом деле. Личность по существу является своеобразным узловым пунктом, в котором сбегаются и откуда разбегаются бесчисленные причинные ряды: мириады вещей, действий, отношений, состояний и т. д. добегают до личности и в свою очередь исходят от нее. С философской точки зрения, личность – сложное неразрывное единство во всех своих функциях; только путем анализа и абстракции мы можем выделить отдельные стороны, искусственно изолированные. Но и научная, психологическая точка зрения подчеркивает теперь сложное единство личности. Она также указывает, что личность получается не из суммы рядов, входящих в нее, а ориентируется на своеобразную арифметику душевной жизни, где два и два будет вовсе не четыре. Вся сложная гамма телесных, душевных и духовных переживаний в личности сливается в совершенно новое целое с совершенно новыми свойствами; создается совершенно своеобразный характер этого единства, т. е. личности. В этом случае самое точное детальное знание свойств отдельных элементов и переживаний далеко еще не решает вопроса о характере целого, где получается настоящее органическое соединение. Это соединение, это целое и принимает входящие ряды, но принимает их не механически в силу своей текучести и жизни, а в живом взаимодействии с ними. Все, что получается в итоге, никогда не идет при нормальных условиях и не может идти частично. Действует, воспринимает, отпускает и т. д. весь человек, вся живая личность, только с преобладанием тех или иных сторон. Все то, что определяли законы, касается именно отдельных рядов и возможности их механических сочетаний, но не органических, которые получаются в личности. Личность не сумма их: в обычной арифметике, присущей законам, имеется в виду именно механическое суммирование, вычитание и т. д. твердо фиксированных единиц, и потому она неприменима к личности. Личность не слагается из рядов, а вбирает их в себя в живой деятельности и выделяет их из себя в ней. Механическому может быть место до личности и после нее, но не в ней, поскольку речь идет именно о личности в ее одухотворенной созидательной деятельности. Во всяком случае механическое в ней не всеопределяющий, а только входящий фактор, один из факторов.
Все это приводит к определенному выводу необыкновенной важности для проблемы свободы: личность ни одного ряда входящего не принимает только механически, но всегда вбирает его вместе с тем в живом взаимодействии со своим текучим, но все-таки устойчивым целым. Она всегда преломляет, соединяет, разъединяет, окрашивает, например, определенным чувством, приостанавливает, ускоряет, уменьшает, усиливает и т. д. без конца. Ничто не входит неизменным, ничто не выходит из нее без ее печати и переработки. И печать эта в личности кладется не только нынешним составом данного индивида, но и всем неизмеримым богатством и сложностью прошлого, накопленного и отраженного в личности, и всей широтой ее взаимоотношений с вещами, людьми, идеями и т. д. в настоящем, поскольку все это нашло отклик в данной личности. В каждом ряде, начинающемся от личности и немедленно вступающем во взаимодействие со всем окружающим, ясно слышен и виден характер личности в самом широком его значении.
Все это обозначает, что не те или иные суммированные ряды являются причиной поступков личности, а прежде всего она сама. Автоматизм (но не механизм) получается там, где личность не живет всей своей полнотой, т. е. не вскрывает и той стороны, которую мы называем в психологии сознанием и самосознанием. Если мы, подымаясь все выше от какого-либо жизненного следствия по пути причинности, в конце концов доходим до какой-либо личности, то ясно, что дальше нам идти можно только постольку, поскольку нужно выяснить объективные условия, в которых действовала данная личность и под воздействием которых она действовала, но все-таки именно она. В ином направлении анализ и причинное восхождение невозможны и не нужны. Чем более сознательна была личность, тем менее допустим и плодотворен такой анализ и восхождение. Итогом его может быть только то, что «das geistige Band»[896], о котором говорит Гете, – то, что делало из элементов живое, бесследно исчезает[897]. Ведь причинные ряды могут существовать и до личности, как элементы суждения до суждения, но только личность дает им жизнь и определенную жизнь.
Во избежание недоразумения – хотя это и без того ясно – отметим, что мы не абсолютируем личность, не объявляем ее единственной причиной и созидателем. Для разрешения проблемы свободы в положительном смысле это и не нужно: для этого достаточно показать ее принципиальную возможность, хотя бы в ограниченной степени. Причин и факторов всегда бесконечное множество, но в этом множестве, где речь идет о поступках человека, именно он является одной из причин, именно в нем кроется объяснение того, что относится к характеру поступка, переживания, его интенсивности, структуре и т. д. и что необъяснимо объективными условиями часто как раз в том, что наиболее ценно и важно в человеческом смысле. Различение главных и побочных причин всегда относительно: оно зависит от того, с какой точки зрения мы подходим к данному явлению. В сфере человеческих сознательных поступков и переживаний личность есть главная причина, потому что именно в ней дан, начат новый ряд, и без нее его быть не может. Эмпирически и жизненно личность стоит в цепи причинных связей, но она преломляет в себе ряды не только, как призма преломляет лучи, соединяет и разъединяет их, но в своей сознательной жизнедеятельности, она их перерабатывает по определенным целям, принципам, этическим, логическим, эстетическим, религиозным и т. д. Руководясь этими принципами, личность решает, какую кнопку среди мириад кнопок есть возможность нажать и какой ряд причин и следствий начать. И все это будет законосообразно. Только личность вносит идею долженствования и ценности и противопоставляет их фактам. Личность в этом случае первопричина, как идейная причина и организатор[898].
Таким образом свобода утверждается не вопреки причинным связям и даже не помимо них, а на основе причинности и только как особый вид причинности – причинности цельного порядка. Для сознательного живого существа это такой же естественный понятный акт, как и все другие виды причинности: новое личность внесла тем, что она в себе объединила все причинные цепи, что она их в себе обратила в органическое преображенное единство, и потому мы вправе отсюда констатировать начало новой причинной цепи, вправе видеть начальный акт, который мы приписываем данной личности. То, что она в этом случае руководится идеями и целями, нисколько не прорывает этого всеобщего соблюдения причинности. Дальше мы увидим, какой род действительности присущ этим особым причинам. Таким образом свобода создается тем, что целый ряд действий начинается в их своеобразии именно от личности, и без нее как своей причины он непонятен и немыслим. В своем структурном единстве личность оценивает и избирает реальные возможности, но не нарушает закона причинности.
Все прошлое не объясняет того, что даст личность. Она есть нечто абсолютно новое и не только формально, но и материально – по содержанию многое определяется ею, потому что она ничего не принимает не перерабатывая. Воля, ум, чувство, тело и т. д. обусловлены и причинно связаны, но личность свободна. Свобода ее дана в меру ее культуры, мощи и своеобразия. Кто непоколебимо убежден и верит в нее, и хочет ее, тот свободен; у кого этого нет, тот никакими рассуждениями не станет свободным. Часто чувство несвободы проистекает из того, что человек в сущности не знает ясно и четко, чего он хочет. Твердо и убежденно знать свое я и чего хочешь, и что нужно – это великое счастье. В этом великая сила убеждения и убежденности, творящих чудеса в жизни. «Многие люди, – говорит Бергсон[899], – живут, не зная основного я, и умирают, так и не познавши истинной свободы». Здесь главная форма нашей свободы, наиболее широкий простор ее, свобода хотения и убеждения; здесь человек может поставить свое несокрушимое великое «не хочу», свою убежденность неумолимому стечению роковых внешних условий и уйти от них хотя бы актом самоуничтожения. Свобода выбора более ограничена, но и там не тупик: все зависит от условий, как и в свободе выполнения[900]. В нормальной же жизни этот простор достаточно велик, о чем будет речь дальше, но минимум отрицательного выхода у личности всегда имеется даже в самом крайнем положении. Всеми этими соображениями и объясняется глубокая мысль Фихте, заявившего: «Wenn nur der Mensch will, so ist er frei» (если человек являет волю, то он свободен)[901]. Чем выше культура, тем он свободнее, но культура не только духовная, как мы это надеемся показать дальше, а общая: и телесная, и душевная, и духовная, и социальная и т. д. Нам могут указать, что средой, преломляющей и перерабатывающей, являются и животные. Безусловно; но там только проблески, естественные предпосылки свободы только потому, что там нет способности действовать по принципам. А что животные могут хотеть, выбирать и выполнять в скромной мере, в меру своей мощи, это очевидно. Но эта свобода только в человеке вырастает в то, что достойно этого названия, хотя ведь и человек может не развиться и остаться на ступени животного.
В итоге мы можем сказать, что человек в своей свободе ограничен реальными возможностями, но он все-таки тем более свободен, чем шире и глубже его отношение к миру объективных ценностей и чем более он способен к активному следованию своим принципам, т. е. чем более он хочет и может быть верным самому себе в своем культурном содержании. Нам нет нужды подчеркивать, что реально его свобода может быть очень ограниченной и прав Виндельбанд, что может быть и такое положение, когда действительность поставит его в положение необходимости выбирать, утопиться ли в чане с керосином или же в бассейне, наполненном шампанским: и там, и там смерть. Поскольку власть объективных причинных связей остается, остается и ограничение его возможностей. Но чем больше индивид сосредоточивается на себе и приближается к миру мысли и духовного творчества, тем шире его свобода, хотя и там влияние объективных причин не отпадает. За личностью в суровой для нее действительности все-таки всегда остается минимально свобода отказа, хотя бы это был отказ от жизни. Для иллюстрации того ограничения, которое несут с собой объективные условия, напомним о тех следствиях, которые вытекают из культурно-социальной включенности личности: на принадлежность к классу, народу и т. д. Так ученый творец на данном языке находится в своей свободе, широте и глубине своего действия не в одинаковом положении с другим ученым, принадлежащим к другому народу с его языком и объективными ресурсами: русский писатель ограничен малой распространенностью своего языка в сравнении со своим товарищем немцем или французом, потому что их язык более распространен и более принят в культурных кругах. Всем известно, что немецкая ученая и писательская продукция рассчитана в очень большой мере и на иностранного потребителя. Соответственно с этим шире и глубже их культурные ресурсы, а все это, естественно, ограничивает свободу и индивида во всех отношениях.
Во всяком случае нам важно установить в противоположность традиционному решению, что мы свободны не только в «помысленном», царстве мысли и оценки, но и в известной мере и в «выполнении и осуществлении», иначе было бы бесполезно говорить о смысле в нашей свободе, т. е. было бы вообще бессмысленно утверждать ее, – она возможна только как разумная мотивированность и устремление, а бесперспективность в следствиях сделала бы невозможной и самую разумную мотивированность. Свобода есть характеристика действия и активного поведения, но мы в этой сфере неспособны подвинуть себя ни на один шаг, если на горизонте не виднеется возможность осуществления или достижимость, хотя бы в известной ограниченной степени. Абсолютное отрицание категорически отрицается уже тем, что даже с точки зрения абсолютного утверждения всевластия объективной обстановки и фактов мы также есть бытие, существование, и, следовательно, абсолютный круг детерминизма оказывается уже в обычном смысле прорванным. Но в действительности диапазон выбора и возможностей оказывается очень широким и по ступенькам восхождения к культурным сферам все более возрастающим.
Итак, личность в принципе должна быть признана свободной: голоса жизни и философского учения сходятся в этом. Но это обозначает утверждение вывода основной, коренной важности для всего нашего миросозерцания: в свободе личности бесспорно утверждается ее творческая способность. Пусть материал дает действительность, как краски, полотно и часто мотивы даны художнику и ограничивают его, но картину творит он; картина есть нечто новое, созданное, сотворенное. За личностью утверждается творческая способность в различных степенях и направлениях, как мы это надеемся выяснить дальше.
Но свобода имеет смысл только тогда, когда есть мир и среда, в которых она может выявляться и осуществляться, иначе ее быть не может. Нужны другие я, и нужен реальный мир. На первый вопрос ответ уже дан, ко второму мы обратимся дальше.
VI. О РЕАЛЬНОСТИ ВНЕШНЕГО МИРА
Мы перейдем теперь к другому вопросу из тех, которые вошли в область философии и до сих пор составляют ее подлинный скандал, – к вопросу о реальности внешнего мира: она так же, как и чужая личность, стоит практически, жизненно выше всяких сомнений, и вместе с тем здесь так же, как и там, тяжкое и недоуменное положение философии, бессильной теоретически поставить вне сомнений то, в чем не позволяет сомневаться живая жизнь. Мы уже раньше отметили, что там, где теория столкнется с живой жизнью, мы без колебаний станем на сторону жизни: для нас нет сомнений в реальности мира, а есть только задача теоретически рассеять несуществующие сомнения. Как ни противоестественна сама по себе эта проблема, но в ней мы снова встречаемся с возможностью коренного подрыва смысла жизни личности, как бы ни была насыщена действительностью и жизнью сама личность, и как бы велика ни была ее свобода, отсутствие реальной сферы действия уничтожает не только свободу, но и самую личность; деятельность на мнимо существующей почве, борьба с миражом может дать только смешное зрелище или же картину душевной болезни и кошмара. Для удачного решения проблемы смысла нужно не только мое и чужое я, – субъекты, – но необходима и уверенность в существовании объекта – не я. Только философия, увлеченная бездеятельным идеалом θεopíα, созерцательным идеалом, могла с известными натяжками мириться с подрывом этой конкретной действительности; с другой стороны, именно неудержимый порыв к деятельной личности вдохновлял Ницше в его непримиримой ненависти к «потусторонникам», к «клеветникам на жизнь», как он называет всех, кто во имя потусторонней действительности превращает в той или иной форме этот мир в мираж. В далеком и длительном прошлом был крупный исторический период, когда юный античный дух, еще не успевший насытиться жизнью, упивался внешним миром и, поглощенный им, не замечал самого себя. Затем наступил момент великого открытия познания самого себя и новой поглощенности своей душой, своим внутренним миром. Так обосновалась великая теоретическая расщепленность, в атмосфере которой мы продолжаем жить и до сих пор вопреки непреложному голосу великой свидетельницы – жизни. Теория приспособилась к этой расщепленности: историческое развитие привело нас к отвлеченным понятиям субъекта и объекта, к психологическим разжижениям, хотя они ставят совершенно неизбежно под сомнение не только мир, объект, но и субъект, личность. Так на почве подмены живой действительности отвлеченными фикциями, «идеями», возник непреодолимый вопрос, как перейти от субъекта к уверенности в объекте.
Хотя дальнейшее изложение должно дать ряд существенных черт в отыскании ответа на этот вопрос, тем не менее мы уже здесь попытаемся раскрыть то направление, в каком нужно искать его решения. Это направление после того, что было нами изложено в предыдущем, конечно, не внушает уже никаких сомнений: ответ – жизненный и правдивый – может быть дан только на основе того субъекта, на который указали мы: живая, конкретная, действующая личность. Общий первоисточник, из которого рождается наше и чужое я, все тем же единым взмахом в цельном, постепенно раскрывающемся просветлении ставит вне сомнения не только я, но и среду: только в живом взаимодействии личностей и мира может личность начать раскрываться для самой себя, и мир не менее бесспорен и несомненен, чем сама личность. Эта неразрывная связанность и слитность субъекта и объекта не может быть опровергнута никакой наукой: научная мысль, как и философия, могут только углубить и расширить это положение. В этом смысле мы и утверждаем, что реальность внешнего мира непосредственно очевидна: мир гарантирован вместе с я, и не менее уверенно, чем оно[902].
Как мы уже отметили это раньше, отвлеченная философия рисовала и продолжает рисовать нам ложную картину построения мира, исходя из элементов: из того, что логически, может быть, и просто, но что жизненно неправдиво и обозначает непоправимый поворот с единственно правильного в философии пути. Как будто мир наш строился от элемента к элементу, наподобие того, как дом слагается из кирпичиков, как будто постепенно создавался остов, а потом на него стали нанизываться то луч света, то звук, то цвет и т. д. Все это понятно в науке, но совершенно не подходит к философии в том, как оно не гармонирует с жизнью. В них обоих деяние дает одним ударом основное ядро очевидности и бесспорности я и его среды, состоящей из чужих я и внешнего мира.
Чтобы теоретически освоится с этой мыслью, необходимо подойти к ней с прямо противоположного конца, который есть подлинное начало жизни[903]. Рождение человеческого я необходимо мыслить в действительности так, что оно выявляется из общей, всеобъемлющей почвы, из общего всеединства, каким нам представляется мир, но выявляется только на фоне и вместе с чужими я и сознанием внешнего мира. Речь идет здесь о том всеединстве, которое ставится вне всякого сомнения именно жизнедеятельностью; только такое всеединство органично, жизненно и цельно, что его резко отмежевывает от всеединства, составленного из элементов. Для нас здесь особенно существенно подчеркнуть, что коренные элементы нашего миропонимания, как и все остальные, – это я, чужое я или человеческая среда и мир, так называемый внешний мир, по существу не столько составляют мир, сколько сами всплыли из него. Всякая попытка перечислить элементы, суммировать их и таким путем подойти к этому всеединству ведет к его искажению и утрате здорового, исходного пункта для построения жизненного миросозерцания. Это не собирательная действительность, а это единство прежде всего. В этом отчасти и кроется причина некоторой относительности и шаткости, присущей человеческому познанию, что всеединство могло бы быть понятно со всей полнотой только в том случае, если бы мы обладали мощью окинуть единым взором всю действительность, фактически уже возникшую и созданную, и взять ее единим взмахом: только тогда мы могли бы осуществить мечту дать абсолютное знание – абсолютное, конечно, наше, подлинно человеческое.
Эта точка зрения выводит нас из многих трудностей, с которыми мы были бессильны справиться на почве отвлеченной философии; трудности эти были непреодолимы прежде всего потому, что они были несуществующим врагом – мнимо оправданными вопросами: общий корень происхождения я и противостоящих ему чужой личности и мира объектов сразу устраняет вопрос о том, как из субъекта вывести объект и обратно, забыв или игнорируя их общий корень; их кровное родство и нераздельное выявление гарантируют, во-первых, их независимость, так как они возникли не друг из друга и не один после другого, а во-вторых, их неразрывную связь, потому что они друг без друга реально, жизненно немыслимы.
Об этом говорит непреложно каждый нефальсифицированный момент нашей жизни. Вот я слышу доносящуюся ко мне из отдаленной комнаты игру на пианино и пытаюсь осознать мелодию только как мое ощущение; я немедленно наталкиваюсь на непреложный факт, бесповоротно диктуемый мне моим сознанием с не меньшей убедительностью, чем мне о самом себе говорит мое самосознание, – тот факт, что это не только мое ощущение, но что реальное независимое существование этих звуков стоит вне всяких сомнений, как и какое-то чужое я – один из членов моей семьи, заставляющий пианино издавать определенным образом чередующиеся звуки, слагающие мелодию. В самом малом, микроскопическом действительном переживании уже даются эти основные киты всякого миросозерцания; в этом смысле можно сказать, что и мир включен в каждое переживание и жизненное восприятие. Силой моей мысли и побуждаемый моим интересом, я искусственно прервал в себе непрерывные нити действительности и остановился на констатировании мелодии и личности пианиста, но само переживание открывает безграничный простор идти дальше во всех направлениях в высоту и глубину: на тонкой нити одного музыкального переживания может потянуться длинная вереница образов и картин, отношений и действий, о которые разбивается всякая попытка сомневаться в их существовании или, лучше сказать, исключается даже самая мысль о сомнении, хотя, конечно, человек обладает творческой мощью и может мыслить разные фиктивные положения, но они нас здесь не интересуют. Поздним вечером я сижу за моим письменным столом, погруженный в свою работу, лампа освещает только небольшой круг на моем столе, ночная тишина окутала и скрыла весь остальной мир, я как будто остался только с самим собой; тем не менее и здесь дано все: стоит мне только убрать искусственную плотину, поставленную моим произвольным вниманием, как немедленно живое неподдельное единство, скрыто существовавшее до этого момента, сразу выявляется снова, и в моей душе, как и в действительности, начинает литься живой, неудержимый поток жизни – и свет, и тьма, и тысячи разбегающихся в разные стороны связей самого разнообразного свойства без числа и предела. Сомнение же в реальности самого малого действительного факта немедленно ставит под удар и мое я, реальность моих переживаний.
«В действительности», как говорит И. Ремке[904], «…конечно, тот, кого можно назвать бумажным идеалистом, также не в силах освободиться ни на одно мгновение от внешнего мира, как и родственные ему по духу скептики, сомневающиеся в этом мире; и те, и другие делаются жертвою самообмана». Повторяем, мы не станем отрицать возможности конструировать миросозерцание с самых разнообразных точек зрения, в том числе и с точки зрения разного рода фиктивных субъектов вплоть до попытки освободиться даже от самой идеи субъекта, строя мир чистых значимостей, но это фикция, способная устранить, но не раскрыть нам мир и жизнь, т. е. удовлетворить наш философский интерес. Чем дальше удаляется объясняющая причина от мира действительности в область отвлеченного и искусственной конструкции, тем менее она способна что-либо объяснить. В мире значимостей достигается интересный продукт философского творчества, но настолько невинный, что его можно совместить с любой точкой зрения: значимости остаются сами по себе, а действительная жизнь создает конкретные поводы сама по себе в полной свободе – значения возможны у всего: и у самого великого, и у самого ничтожного, у материального и у идеального, даже бессмыслица может иметь свое значение, а потому и беспросветному пессимисту нет никакой нужды бороться с философией, уходящей в мир значений, – работа в этом направлении глубоко интересна и должна представлять самостоятельный интерес, особую ветвь философии, независимо от того, к какому миросозерцанию мы придем в нашей системе истолкования действительного мира и жизни, подобно тому как геометрия, оперирующая понятием пространства «n» – измерений, не заставит нас изменить наш способ представлений. Реальный, живой мир остается самим собой и течет по своему действительному руслу. Творчески мощная человеческая личность вместе с тем в своей сути полагает сама себя и непреодолимые границы: с самодостоверностью я неразрывно связана непоколебимая достоверность нашего действительного мира и именно его[905]. Конечно, мы ни на минуту не должны забывать, что мы понятие действительности берем пока в нераскрытом смысле – это должно быть выполнено в последующем изложении: действительность человека, животного, растения и камня не одна и та же, но об этом будет речь дальше.
Признавая реальность так называемого внешнего мира во всей его конкретной полноте, мы теперь встречаемся с пресловутым вопросом о субъективных качествах. Многовековая философская и научная мысль приучила рассматривать эту субъективность – вопреки голосу жизни – как неоспоримое научное положение. Старое недоверие к показаниям чувств дало свои плоды, и теоретически мир предстает перед нами как чудище, пронизанное во всех направлениях и изгибах принципом количества: мир красок, игры света и тьмы, мир звуков и движений и т. д. – все это оправдано только психологически и превращается в мираж, как только мы покидаем почву субъективных переживаний.
Феноменальность эмпирического мира есть с давних пор общее место философии, не возбуждающее, по мнению подавляющего большинства, никаких сомнений[906]. Тем не менее слабое сопротивление этой мысли, с которым мы встречаемся в прошлом, в наше время в значительной мере окрепло. Для мертвой точки зрения живое не может представлять того интереса, каким дорожит философия с точки зрения конкретного субъекта. Современная философия должна решительно встать на путь коренного пересмотра этого вопроса. С нашей точки зрения, Фехнер глубоко правильно назвал учение, настаивающее на субъективности чувственных качеств, Nachtansicht – это действительно сумеречное состояние, иллюзорное и шаткое, в котором все превращается в неуловимое царство теней, в котором так невыносимо тяжело живой человеческой личности. Здесь философия отдала и отдает тяжкую дань своей порабощенности принципу науки, законному и столь нужному в своей сфере и глубоко вредному в чужой – в данном случае в философии. С нашей точки зрения, является глубоко симптоматичным, что субъективность чувственных качеств охотно была принята в лоно метафизики разных оттенков, что она стала излюбленным детищем механистического миропонимания и его отвлеченного, количественного принципа. Все это пригодно для понимания рассеченной, мумифицированной действительности, для технических целей науки, но не для понимания живого и цельного – того, к чему мы стремимся в философии.
В философской теории перед нами на этой почве образуется или безнадежная пустыня того учения, которое все свело на количество, с его вязким и сыпучим однообразным песком, или же снова нависает грозный и в то же время довольно курьезный призрак солипсизма. Все краски, тона, звуки, запахи – весь этот чувственный аромат мира сразу повисает на тонкой нити субъективного восприятия, в котором и заключается все их существование. Нам говорят: ведь не может быть света, который бы никому не светил, как не может быть речи о звуке, которого никто не слышал бы[907]. И вот в истории философии наметились такие выходы из этого положения: в одном случае думали спасти положение ссылкой на материального или духовного раздражителя, в другом на сцену выведено было универсальное, божественное сознание, в котором могли обосноваться эти элементы; но и то, и другое не может удовлетворить нас, потому что в обоих случаях наиболее богатая существенная сторона наших переживаний оказывается или отнятой у нас, как в спиритуализме, или же совершенно уничтоженной, как в материализме. Тогда нам при знании субъективности чувственных качеств остается только путь их обоснования в субъективном восприятии личности, и тогда неумолимо надвигается солипсизм. Меж тем на вопрос, может ли идти речь о звуке, который никому не звучит, с большим правом можно ответить вопросом, не лишенным жизненного пафоса: неужели вы думаете искренно, что перестанет сиять яркое летнее солнце, когда нас с вами, людей, не станет, когда мы вымрем, как вымерли допотопные животные? Перестала ли шуметь река, когда около нее не оказалось живого существа, способного воспринять бурливые всплески ее волн? Померкло ли солнце в тот момент, когда приморский городок погребли морские волны, до того момента, пока там снова не появились живые существа[908]? Такие вопросы очень полезны, потому что уже сама их постановка способна пробудить здоровое жизненное чувство и помочь изгнать абсурды и в теории. В этом случае личность, затронутая в своих кровных интересах, пробудится к самосознанию своей живой полноты, изгонит отвлеченность и психологизм в понимании субъекта, питающие подобного рода нелепости, и избавит нас от искусственно созданных непреодолимых затруднений. Но против них можно выступить и с другим оружием.
Прежде чем пойти дальше, нам хотелось бы еще раз подчеркнуть условность деления в наших глазах действительности на внутреннюю и внешнюю: мы сохраняем эту расщеплененность только как прием изучения, но не как характеристику действительности, которая едина, цельна, так сказать, органична: Die Welt hat keine Kern und Schale, alles ist sie mit einem Male. (У мира нет ни скорлупы, ни ядра, они нераздельны: и то, и другое.) В нашем устремлении к «внутреннему» и внешнему мы – философски неоправданно – берем только вытяжку из живой личности, по аналогии с ней и из всего остального мира. Если мы дальше в нашем изложении считаемся с этой поделенностью, то это у нас не должно носить характера узаконения расщепленности действительности; это только прием доказательства и изложения, приноровленный к слабым силам человека. Вообще же мы должны со всей энергией подчеркнуть, что и так называемое внутреннее и внешнее протекают на личности и в личности во всей ее полноте, и лишь только перемещение центра тяжести в этих переживаниях оправдывает нашу речь о внутреннем и внешнем в отдельных случаях. Таким образом и душевные функции представляют собой функции полной личности как живого целого; но тогда и «пребывание в душе» получает свой особый смысл – смысл жизненности и полноты: конкретная, живая личность, неразрывно связанная со всей полнотой действительности, гарантирует и чувственные качества в их реально-жизненной полноте, устраняя возможность трактования их как только «внутренних» процессов. Мы таким образом становимся на диаметрально противоположную имманентизму точку зрения, когда он утверждает, что «внедушевная действительность вообще немыслима»[909]: чисто душевная действительность есть плод отвлечения и абстракции от подлинной действительности.
Но мы перейдем теперь на другую почву. Существование в личности и только в ней можно рассматривать как чисто душевное существование, и тогда мы становимся снова перед вопросом, не субъективны ли чувственные качества? Оправдывается ли психологически это учение? При этом мы возьмем чисто психологическую точку зрения и оставим совершенно в стороне психологистическое воззрение, каким, например, является имманентизм – ссылка на постоянную возможность восприятия, как и утверждение этих свойств в божественном восприятии, в сущности вполне разрешает весь вопрос в нашем смысле, только в скрытой и примитивной форме.
Все чувственные качества, как показывает их название, объясняются воздействием многообразных раздражителей на наши органы чувств, и итогом их являются чисто субъективные состояния, появляющиеся и исчезающие в душе человека. Особенно широко пользуются в этом случае ссылкой на то, что путем искусственного раздражения мы можем заставить индивида получить световые, звуковые и т. д. ощущения – как видим, даже не психологический, а в большей мере физиологический аргумент. Но положение представляется и с психологической, и с физиологической точек зрения далеко не таким простым и безупречным, как это может показаться на первый взгляд. Уже в древнем мире мы встречаемся[910] с очень ценным доводом Теофраста, что отделение в восприятии чисто субъективных моментов от объективных не дает того, к чему стремятся в этом случае, так как выделенные субъективные элементы необходимо мыслить в двойной зависимости и от субъекта восприятия, и от объекта его. Попытки же искусственными раздражениями нервных окончаний создать чувственные восприятия – там, где они удаются – остаются только в области непреоделенных, голых ощущений и ничего сами по себе не говорят о действительности или о предмете, но и возможность последних также ничего не доказывала бы, кроме того, что человек поднялся на высоту такой мощи, что может искусственно и иллюзорно создавать то, что существует реально. Как это возможно, об этом можно строить разные теории. Нам представляется наиболее простым следующее: когда мы имеем дело с так называемыми внутренними образами или искусственно вызванными, когда нет соответствующих реально-жизненных поводов, это значит, что в этом случае переживается только одна функция восприятия без объективно данного раздражителя. Так в абсолютной темноте функции глазного нерва и сетчатки могут дать мимолетные текучие световые и даже красочные эффекты, как и внезапно в моем слухе может послышаться звучание на короткое текучее мгновение; для этих переживаний характерно, что они как бы сами по себе несут свое сомнение, расплывчатость и фиктивность: они слабы, неуловимы и беспредметны. Наоборот, чувственные восприятия отличаются прямо противоположными свойствами: бесспорной действительностью, насыщенностью, определенностью и предметностью. Если бы можно было настаивать на субъективности чувственных качеств, то было бы вполне последовательно прийти к утверждению, что раздражитель вообще неважен, он является только поводом для порождения ощущения, а все остальное порождается субъектом и обосновано только его свойствами. Но тогда мы можем повторить то утверждение, которое довольно едко сформулировал Лотце: я желал бы, чтобы звуковые волны дали глазу ощущение света, или чтобы световые колебания заставили ухо услышать звук[911]. В этом случае подчеркивается двоякая невозможность: органы сами по себе не создают действительных качеств, но и внешние процессы одни не вызывают их и не объясняют их. Ведь мы не должны забывать, что например, при зрительных впечатлениях мы видим не сетчатку и ее функции химического или вообще физиологического свойства, а перед нами реальное переживание красочного или светового свойства, связанное с действительностью. Нам справедливо говорят[912], что «то, что зависит от органов как механических комплексов, это не суть самые чувственные качества, а только их механические корреляты». Но эти механические процессы однородны в принципе общим процессам в природе – естественник будет говорить нам все о том же эфире и его колебаниях. Тогда становится совершенно непонятным, почему в одном случае мы признаем в них краски и звуки, а в других отказываемся предполагать их в природе, хотя эти процессы и аналогичные им существуют везде? В этом случае или смешивают условия возможности появления восприятия с реальными условиями их существования, или же отказываются от неизбежного следствия, становящегося прямой противоположностью учения о субъективности чувственных качеств, и при том в сторону другой чрезмерной крайности.
Для чувственных качеств характерно, что они вопреки своему мнимому субъективизму постоянно зовут во внешний мир, они никогда не переживаются только внутренне – они всегда во времени, в пространстве, более или менее локализованы и т. д. Даже когда речь идет о чистых воспоминаниях, например, я пытаюсь представить себе свой книжный шкаф, помещающийся в соседней комнате, я мысленно как бы перемещаюсь в соседнюю комнату, становлюсь перед этой вещью, как бы повторно вижу ее в определенном положении, а не просто как-то представляю: место, цвет, величина и т. д. Вглядитесь в лица спорящих о таком отсутствующем предмете и вы увидите на их лице красноречивую картину этого повторного «умственного» переживания, представления того, как это есть или расположено на самом деле. Таким образом коррелят всегда или дан, или-де примышляется.
Мы спешим оговориться, что мы далеки от мысли дать преувеличение в противоположную сторону. Бесспорно, чувственные свойства не дают нам сразу полной, адекватной картины: о многом и многом нам приходится догадываться, многое и многое, как мы поясним это дальше, проверяется и устанавливается нами особыми путями, но это не дает повода переходить к утверждению субъективности в полном объеме. В сущности, если вдуматься в необходимую связь какого-то икса, раздражителя, с моими цветовыми и др. восприятиями, то неустранимость этой связи дает мне вообще право мыслить мои восприятия как отражения реальных свойств: то, что нас абсолютно ограничивает, то нас и абсолютно вместе с тем и гарантирует[913]. Если бы специфическая энергия нервов или же один внешний мир объяснял здесь все, то в первом случае под постоянным внешним воздействием, никогда не прекращающимся, у нас получилось бы постоянное звучание, свечение и т. д., а во втором это были бы величайшие загадки в нашей душе. Но нет ни того, ни другого. Важно то, что передо мной в итоге живые предметные переживания, как в исходном, так и в конечном пункте, а как шел или идет самый процесс их возникновения, это не в состоянии переменить их характера и с этим пусть разберется отдельная наука с ее правом рассечения и отвлечения: физик и физиолог – по своему каждый – объяснит процесс разговора по телефону, но он не устранит факта, – если он не совершит незаконного использования своих выводов в чужой области, для которой они не предназначались, – того факта, что мы слышим действительный голос живого человека и нас принимают не за отвлеченные колебания волн эфира или мираж[914].
В вопросе о реальности внешнего мира и характере чувственных свойств мы должны снова подчеркнуть чрезвычайно дорогой нам принцип, разграничивающий научное знание и философское уразумение: научно мы знаем и конструируем вещи из свойств, философски же правдиво только знание свойств из вещей; физик скажет, что из миллионов колебаний получается такой-то звук или цвет; философ же как жизнь может и должен прежде всего констатировать именно цвет и звук, как жизненное явление, а против ссылок на число возникших колебаний у него нет оснований возражать как против одного из возможных истолкований отдельных областей или явлений с особой, данной науке свойственной точки зрения, как он и сам поставит рядом с ними, а в известном смысле и над ними свое истолкование – в данном случае в живом, конкретном смысле. С философской точки зрения, нет предмета как мертвого, раз навсегда застывшего истукана, изолированного от живого течения действительности и от творческой деятельности субъекта, но все-таки предмет не задан, а дан и дан именно жизнью и жизнедеятельностью, практически; задан не он, а знание о нем. Он и есть тот пункт и тот вопрос, который служит исходным пунктом всякого познания[915]. Нет беспредметного знания: оно не может ни логически, ни психологически начаться без предмета, без реального мира. Самая мысль о знании возможна только по поводу предмета, и потому оно его целиком создавать не может, хотя оно и не остается пассивным к нему, как мы это увидим дальше.
Здесь нам важно подчеркнуть приоритет действительности, жизнедеятельности и предмета перед теорией, перед знанием, но вместе с тем предмет и знание о нем органически связаны друг с другом: в знании мы пробиваемся не только к своему творчеству, но и к действительности, к самому предмету. Творчество и восприятие фактического, субъективное и объективное оторваны друг от друга только произволом теоретических предрассудков. Человек не создает сам всех предметов, но он может слагать их и пересоздавать в свою особую, человеческую действительность. И у него имеются верные средства для того, чтобы оценить по достоинству то, что только кажется, что по нашей теории вызвано только собственными функциями наших органов чувств, и то, что отвечает подлинной действительности: это возможность повторения и главное – деятельным путем, путем фактически производимого или в принципе возможного воссоздания. Когда мы смотрим на предмет с различных сторон, то он действительно может казаться нам, как говорит Лосский[916], «бесконечно многоликим», но мы можем так же легко избавиться от этого импрессионизма путем повторного сопоставления результатов ознакомления с данным предметом в различных положениях, а главное – мы в основу в итоге берем ту его форму, какую мы придали бы ему, если бы мы его делали сами. Например, стеклянная призматическая бирюлька, висящая как украшение на лампе, отливает при свете всеми цветами радуги и с разных сторон производит разное впечатление; но когда я ее возьму в руки и узнаю, как она сделана, тогда я установлю ее действительную форму и цвет, хотя обычно мы довольствуемся в жизни расплывчатыми, смутными представлениями.
Как говорил еще Аристотель, относительность чувственных впечатлений не отнимает у них действительности. Так я смотрю на чернила, наносимые моим пером на бумагу, и вижу, как они, постепенно укладываясь и впитываясь, подсыхают и несколько меняют свой цвет, пока не установится определенный цветовой результат. Таким образом передо мной два свойства: одно первоначальное и быстро сменяющееся, и другое устойчивое и более постоянное, но и то, и другое в предмете и с предметом чернил. Это нисколько не мешает мне признавать возможности создать одни и те же итоги различными путями. Мощь человека заключается в том, что он может мыслить свойства отдельно от предмета – их носителя – и может комбинировать свойства и предметы данные, чтобы создать предметы и свойства не данные, но уже с желанными ему результатами, но и те, и другие реальны: красность субъективна и отвлеченна, но красная роза доподлинная и несомненная действительность во всей ее восхитительной полноте. Мы не можем не привести здесь, кстати, слов Лотце, который только и эту мысль не решается утверждать прямо, а говорит о ней в порядке своего «верующего предчувствия»: «Пусть даже естествознанию удалось убедительно доказать, что раздражения, вызывающие в нашем теле качественные ощущения, суть не что иное, как колебания среды… Что нам мешает допустить, что исходящие из вещей внешнего мира движения проникают через посредство наших нервов до нашей души и в ней вызывают в качестве нашего ощущения ту самую красноту и ту сладость, которые присущи самим вещам как их свойства? Это не было бы более удивительным, чем действие телефона, воспринимающего звуковые волны, распространяющего их дальше в совершенно иной форме и, превратив их обратно в звуковые волны, сообщающего их нашему духу».
Внешний мир, с нашей точки зрения, не менее реален и не менее достоверен, чем наше я, – лишь бы мы только отказались от психологистического разжижения субъекта и вернулись к живому и жизни. Мир не просто реален, но он действителен, как и личность, во всей своей полноте и красочности, движении и жизни, а главное – при этом отпадает губительный, с философской точки зрения, предрассудок, что субъект и объект чужды друг другу, в то время как в действительности между ними существует кровное родство и неразрывная связь. Об этом ясно говорит их общий корень: ведь и мир, как мы надеемся показать это дальше, не мертв, не неподвижен, и он не мертвый факт, характер которого мог бы создать пропасть между ним и личностью. Я чужое, я, среда, и мир, противостоящий субъекту, – все они практически-деятельного происхождения в их корне, а это налагает определенный отпечаток на их сущность: рожденное деяние не может быть мертвым и совсем бездеятельным; все они должны быть поставлены, как это есть в действительности, в живое творчески-деятельное соотношение друг с другом.
Дальше мы пополним наше изложение этой проблемы в гл. о действительности, как и в других главах. А пока в заключении приведем необычайно яркое место из Шопенгауэра, хотя он эту мысль и образ дает в интересах иного философского учения: «Как и объект не может быть без субъекта, так и субъект не может быть без объекта, т. е. не может быть ничего познающего без отличного от него познаваемого. Поэтому сознание, которое сплошь представляло бы собою чистую интеллигенцию, невозможно. Интеллигенция подобна солнцу: оно не освещает пространства, если нет предмета, который отбрасывал бы его лучи». Пусть для Шопенгауэра в этом случае важно выявить первичность воли и на познавательном пути, но его образ говорит многое; о нем можно с особым интересом вспомнить в нашей действительности, где та же мысль Шопенгауэра, «что во всяком познании главным и существенным является познаваемое (объект), а не познающее», одевается в ходовую формулу: «бытие определяет сознание».
VII. В ЗАЩИТУ АНТРОПОЦЕНТРИЗМА
Многострадальная эпопея мировой философской мысли отчасти сложилась из постоянных попыток построить миросозерцание с абсолютной точки зрения. В диалектике, интуиции всех форм и видов, в сознании вообще, в гносеологическом субъекте и т. д. – во всех них крылось и живет горячее, упорное стремление уйти от двух опасностей, неотступно следовавших за человеческой мыслью: это релятивизм и антропологизм. В этом и заключалось оправдание того великого «als ob»[917], той значительной фикции, которой философия отдала такую щедрую дань – человек как будто неустанно стремится в своем познании уйти от самого себя. Удалось ли ему это? Возможно ли это в познании?
Что касается релятивизма, то о нем будет идти речь дальше, а на вопрос об антропологизме мы уже здесь можем ответить с своей точки зрения прямым утверждением антропоцентризма. Из всего того, что было изложено нами раньше, особенно же из того исходного пункта и конкретного понимания субъекта, который был принят нами, повелительно следует в противовес многим прежним воззрениям, что настала пора отнестись более внимательно и более справедливо, чем это делалось раньше, к столь опороченному так называемому наивному реализму. Пусть наука по праву держится за свое «als ob», за свои гипотезы, но она для нас далеко не все. Примат, безусловно, должен принадлежать голосу живой неподдельной действительности. У науки всегда имеется повод быть односторонней, потому что ученый всегда становится на почву той или иной фиксации жизни и подмены ее вспомогательными понятиями, как атом, электрон, эфир и т. д., как бы изъяв себя из мира и оставив мир чистого объекта; философия же стремится вслушаться в живой голос неподдельной жизни и течения мира, вглядеться в живую полноту действительности, что сродняет ее с искусством, живая действительность, но и живой человек и его живая действительная познавательная деятельность. Живое может быть понято только живым: антропологизм не опасность, а та простая, но и великая правда, которая должна дать свои плоды в философии.
Антропоцентризм является не случайным продуктом той или иной философской точки зрения, а это есть по существу только открытое утверждение единства и однородности познавателя и познания, как и их предмета, который принципиально не может быть чужд в своем существе тому, кто мечтает проникнуть своим познанием в его суть. В веками вскормленной мысли о том, что все познается однородным с ним, заложена глубокая, правдивая мысль, не только поставляющая пределы нашему познавательному устремлению, но и открывающая увлекательные перспективы утверждения единства всего. Достаточно вскрыть суть одного, чтобы до некоторой степени определился характер другого. Таким определенным членом в познании, с нашей точки зрения, является познаватель – как мы изложили раньше, это живая, конкретная человеческая личность во всей ее живой, нерасщепленной полноте, и ее познание прежде всего может и должно быть подлинно человеческим. В великом открытии Декарта, определившим надолго всю судьбу европейской философии, велик не только тот вылущенный из живого, отвлеченный смысл, который подчеркнуло последующее развитие философии, но главным образом та великая и простая истина, которая содержится в утверждении, что я сам, сомневающийся и испытывающий колебания и сомнения, стою вне сомнения, но я живой и конкретный, к которому Декарт гораздо ближе подошел в «Principia», чем в своих «Метафизических размышлениях». К познанию мира и жизни много путей, но поскольку речь идет о познании в противоположность, например, религиозному постижению, все пути сходятся – явно или скрыто, это все равно – в одном: все они ведут отчасти к целому, даже и тогда, когда перед нами мнимое целое, скрывающее в себе часть, возведенную абстракцией в ранг метафизической основы, как дух, воля, сознание и т. д. Но из всех этих мировых – внешних и внутренних – пунктов наиболее просто и правдиво взять тот, который ближе всего нам и который больше всего стоит для нас вне сомнения: это человек.
Вся история философской мысли могла бы быть написана как историческое разоблачение мнимых абсолютов. Нам нет нужды здесь обосновывать подробно это утверждение. Достаточно напомнить о грандиозной системе Гегеля – ни у одного философа субстанциирование и оживление, очеловечение понятий не достигало такой исключительной степени напряжения, как у Гегеля. Они у него движутся, как мы это видим на абсолютной идее, отталкиваются и враждуют в антитезисе, притягиваются и тонут в объятиях друг друга в синтезе, порабощаются в одной стадии и освобождаются в другой и т. д., в то время как скрытый за кулисами философ явно движет всем, часто с большими насильственными мерами. Там, где делается попытка[918] сочетать телеологию и абсолютную точку зрения, противоречие становится совершенно неизбежным, потому что если эти цели – τέλοι – устанавливаются не человеком, то неизбежно придется вести речи за бога – абсолют, конечно, все тому же человеку, автору системы. Когда сущность секиры Аристотель определил ее энтелехией «рубить», то разве можно тут не расслышать голос именно человека, его антропологической или антропоцентрической точки зрения? Тот же антропоцентризм вытекает и из императивности философии. Идея «чистого» знания есть химера и новое повторение старых ложных путей: это все то же стремление человека к нечеловеческому, которое односторонне, но и правдиво осудил Ницше. Императивы мыслимы только в отношении человека. Вот почему мы, с своей точки зрения, искренно приветствуем теорию Бергсона в той ее части, где она зовет к вскрытию непосредственных данных сознания, «предполагает» вернуться к своему подлинному я, потому что это и есть то, что можно назвать абсолютной точкой зрения и выходом к абсолюту.
С точки зрения познания в нечеловеческом абсолюте, мы не можем не сталкиваться с существенным противоречием. Мы уже подчеркнули раньше, что с абсолютом плохо совмещаются цели и императивы; чтобы допустить их при абсолюте, необходимо признать его неполным, неабсолютным. Ведь во всяком знании должно быть отношение и те члены, между которыми оно устанавливается. Так как мыслить значит в той или иной мере обусловливать, то при абсолютной точке зрения противоречия неизбежны, хотя этим мы не предрешаем самой судьбы идеи абсолюта на иных путях постижения.
Нечеловеческая абсолютная точка зрения – в общем итоге – не может быть признана нами, потому что она исключает в существе своем даже самую возможность познания и необходимость в нем, потому что для нее возможно идеально готовое застывшее знание, но не познание, потому что для нее подходит только гениальный постигающий охват как бы единым взором, но твердо, неподвижно, раз и навсегда фиксирование, а это должно неминуемо привести к также раз и навсегда приостановленной и застывшей действительности: все новое и возникшее будет прорывом абсолютной точки зрения и абсолютного познания.
Мы не думаем таким путем вывести философию на путь полного произвола индивидуального утверждения; мы стремимся только подчеркнуть человечески абсолютный характер познания и в этом смысле решительно становимся на сторону релятивизма. Иными словами, мы утверждаем, что понятие абсолютного может иметь только один смысл: абсолютного с человеческой точки зрения, потому что иной для нашего познания и быть не может[919]. Самое понятие абсолютного ясно говорит нам о своем чисто человеческом характере: это то, что не может мыслиться иначе, что в этом смысле безусловно. Но его достоинство мыслится и признается человеком как немыслимое (им) в иной форме и безусловное, и всеохватывающее. Но существу нужно признать, что абсолютное знание, не отвечающее организации нашего ума, никогда не может и не будет принято нами, как оно никогда не будет понято нами, людьми. Мы должны оставить попытки беседовать – даже не на незнакомом, а на х-языке. Речь «какая-то», неведомая и чуждая в своем характере есть для нас просто пустое место. Или абсолютная точка зрения возможна, но тогда она должна или совпадать с человеческой, или быть очень близкой и родственной ей; или же этого нет, тогда нам в теоретических построениях нет никакой нужды говорить о ней. Ведь величайшая правда, произнесенная на непонятном нам языке и обращенная к несуществующему у нас органу, останется для нас пустым местом. Абсолютная правда человека человечески абсолютна и иной быть не может. В религиозном утверждении, что бог послал Христа в мир как человека, кроется глубочайший философский смысл. Разве мир и природа не говорит из века в век и ежесекундно что-то многозначительное, но мы все пытаемся проникнуть в нее своими человеческими путями и не понимаем того, что она вещает всегда. Характерно, что попытки мыслить марсиан, как и бога, все остались на почве чисто человеческих образов и понятий. Из них мы в познании никогда не выходим и не выйдем. В этом наша ограниченность, но в этом же гарантия, что наша антропоцентрическая точка зрения может считаться абсолютной. Иная для нас немыслима, не существует; бог – абсолют – может поведать себя нам, только став человеком или приблизившись к нему[920]. Мы имеем при этом в виду не человека психологистов, а то живое конкретное существо, которое живет и действует. Говоря словами Н. А. Бердяева, мы могли бы вместе с ним повторить, что «не следует смешивать антропологизм с психологизмом: преодоление психологизма необходимо и плодотворно, преодоление же антропологизма всегда есть самообман, и философия должна сознательно стать антропологической», – хотя мы и расходимся с Бердяевым коренным образом в толковании и значении антропологизма[921]. В данном случае нам пока совершенно безразлично, какого происхождения это наше я, кто зажег этот свет и как; важно то, что он есть, есть пламя, и от него распространяется тепло, и вот мы смело протягиваем наши застывшие руки к нему. Живая человеческая личность и есть тот пункт, антропологический или антропоцентрический пункт, с которого, как с определенной позиции, становится возможным миросозерцание; ведь самое понятие созерцания предполагает такой пункт, откуда созерцают. Требовать в этом смысле безотносительного знания значит требовать безотносительного отношения. Но мало этого: нами было уже категорически подчеркнуто, что философия действенна и человек не только созерцатель, но он прежде всего и по преимуществу действенное существо. Но действие может мыслиться только в этой жизни, в человеческой действительности.
В сущности тот же антропоцентрический мотив звучит в идее человека как микрокосма: только сроднив человека и абсолют, можно понять, как человек способен уразуметь мир. Пройти через человека совершенно необходимо, как бы ни казалась нам относительной его точка зрения и его познавательные силы. Несмотря на наше расхождение с Е. Н. Трубецким, нам хочется воспользоваться его удачным образом, когда он говорит: «Кому случалось восходить на высокую гору, тот знает, конечно, что вид на равнину всего красивее с полугоры. Когда мы достигаем вершины, вид становится тусклым, серым и унылым, там блекнут те яркие краски, которые составляют красоту равнинного пейзажа: «картина начинает напоминать топографический план»[922], тот – скажем мы – никогда не сможет правильно судить о равнине с высот абсолютной позиции нечеловеческого порядка, если бы даже она была для него достижима, человек не поймет этого мира и своей жизни.
Интересно отметить, что веления, устанавливаемые с абсолютной точки зрения, абсолютные императивы мыслимы – и то с трудом – только с формальной стороны; при насыщении плотью и кровью, т. е. в живой форме, они способны стать величайшей разрушительной силой. В этом отношении очень поучителен пример анархизма: он выступает в роли провозвестника абсолютной свободы, но именно потому он и становится величайшим насильником. Абсолютная свобода не для людей, а для богов, а когда люди пытаются применить ее к себе, эту прекрасную отвлеченность, то получается «переверт» свободы в полнейший произвол и грубейшее насилие. Переход тезиса в антитезис гегелевской диалектики есть не логическое свойство понятия, а неизбежное свойство человеческого ума.
Конечно, нам тотчас противопоставят мысль, что над нашей системой нависает грозный признак релятивизма, и мы не собираемся отрицать этого безотносительно, но мы решительно отклоняем от нашего релятивизма отрицательный эпитет. На этом вопросе мы должны на момент остановиться, хотя полную ясность в него может внести только весь труд.
Наш конкретный исходный пункт обязывает к дальнейшему утверждению: личность с личностью не только не совпадают, но они именно и ценны в своей индивидуальности: тогда нужно не упускать из виду, что мир для них будет не одинаков. Так, если мы возьмем личности а, б, в…. n – 1, то М (мир) каждому из них будет дан своеобразно: для а это будет М+а, для б – М+б, для в – М+в и т. д. Этим самым уже отпадает мысль не только о нечеловеческой абсолютности, но как будто утрачивается всякое право вообще на абсолютность. На самом деле это не совсем так: правильна только первая часть этого утверждения. Прежде всего при данной личности, с ее особого пункта мир и оценки могут быть абсолютны в человеческом смысле, т. е. они не могут мыслиться иначе; в этом случае можно оспаривать правомерность только данного сечения мира и действительности: их можно установить ровно столько, сколько будет пытливых и творческих умов[923]. Это и заставляет нас настаивать на родстве философии с искусством; каждая философская система есть более или менее совершенное художественное произведение; но этим вопрос не исчерпывается. Во всех этих построениях участвует человек с его основным общечеловеческим ядром или стволом, на котором разветвляются индивидуальные ветки; значение их не должно переоцениваться, и в своем месте нами подчеркнуто, что индивид есть отвлеченность, что значение общечеловеческого элемента неизмеримо велико, и необходимые индивидуальные отклонения, присущие философии как художественному творчеству по существу не могут подорвать возможности человеческой общеобязательности и абсолютности, которая одевается в индивидуальную художественную форму с известными личными отклонениями соответственно тому сечению мира, которое производит данная личность. Но главное – это все тот же неподдельный, настоящий, живой мир и жизнь, текучий, но не допускающий сомнений и психологистических разжижений, мир, реально противостоящий человеку и непрерывно взаимодействующий с человеком.
Такой релятивизм не грозен и не опасен; наоборот, он является единственно жизненной точкой зрения, не соблазняющей нас на обеспложивающую подмену действительности и жизни. Такой релятивизм оставляет нетронутой абсолютность в нужном нам, человеческом смысле, и он вместе с тем оставляет простор и возможность, своего рода просвет в сторону абсолюта в смысле полной безусловности; мы со всей энергией должны подчеркнуть, что остается возможность утверждать совпадение человеческого абсолюта, данного познанием, с абсолютом вообще, но это может быть дано только иным путем и в иных формах, о которых будет идти речь дальше. У великого необъятного мира и жизненного потока, стоящих, вне сомнения, как реальность с нашей точки зрения, есть свой смысл, и я в это верю; но эта вера не освобождает нас от необходимости и от счастья подойти к этой проблеме смысла на пути нашего маленького человеческого существования – в русле, в котором маленький ручеек нашей жизни может целесообразно влиться в общее течение глубокой универсальной жизни, способной вскрыться на грани знания и веры.
Все это отнюдь не делает невозможным научное знание – именно тот мотив, который заставляет особенно настороженно отнестись к такой антропоцентрической точке зрения. Это позиция философии, но не изолирующей точки зрения позитивной науки. В антропоцентризме в сущности дается гарантия того абсолюта, который нам нужен в знании. Когда Милль говорит, что 2Х2=4 правильно на земле, а на Юпитере, может быть, это совсем иначе, чем мы думаем, то тут это совсем не так: и на Юпитере, и где бы то ни было дважды два остается четыре и никак иначе быть не может, но именно с человеческой точки зрения; именно я, человек, не могу допустить логически ясно, чтобы хотя бы и на Юпитере дважды два было 7 или 5, или еще что-нибудь. Когда нам скажут, что представьте себе, может быть там иной склад мысли и иные законы логики действительны, мы можем ответить только, что это требование «представить» себе есть нелепость, потому что это противоречит законам логики, и от меня требуют, чтобы логику я мыслил не как логику; если бы я мог допустить где-то и как-то иные законы логики, то я выскочил бы из самого себя, я бы поднял себя за волосы, я бы объявил абсолютное относительным, логику не логикой и т. д. Громадное заблуждение заключается в том, что в антропоцентризме видят потрясение познавательных основ, а на самом деле он не только ограничение и условность, а гарантия устойчивости и уверенности. Шаткость и фактический релятивизм в обычном смысле получаются в позиции абсолютного знания: так рождаются философии «как будто» и воздушные замки метафизики. Всякое стремление допустить иное, нечеловеческое мышление и познание фактически неизбежно ставит за кулисы и в потемки все того же человека и его законы и действует скрыто и потому путано антропоцентрически. Несокрушимых основ мы достигаем там, где нам удается подняться до таких положений, которые вытекают из самой природы мышления, из его неизменного характера, но мышления в его истинной человеческой сути, а не как-нибудь иначе; мысль нечеловеческая, как-то иначе данная и функционирующая, никогда не могла бы для нас стать даже просто мыслью, если бы мы такую нелепость даже могли допустить. Таков смысл самодостоверности и очевидности – это ясное и непосредственное ощущение и постижение неспособности мыслить иначе. Это нисколько не суживает нашей способности мыслить всякого рода теоретические фикции как пространство любых измерений, при этом мы все-таки не покидаем почвы антропоцентризма: это именно человеческие мыслительные фикции.
Но весь вопрос об антропоцентрической точке зрения может и должен быть поставлен значительно шире и более остро: он должен быть правдиво и открыто поставлен относительно всей сферы ценностей, во имя которых человеческая мысль считала себя вправе к постоянному выходу из пределов антропоцентрической точки зрения[924].
Крутой поворот на путь антропоцентризма является в наших глазах единственно правдивым путем, потому что антитеза истина – ложь это антитеза специфически человеческая. Она еще не засветилась у животного – до ранга познания, – и она излишня для мира божественного совершенного. Все это становится совершенно бесспорным, если мы поймем, что под человеком и над ним может быть место только голому, безоценочному обстоянию – туда свет оценки проникает только от человека; так мы можем вскрыть некоторые проблески мысли у животного, но признаем их только в меру возможного приближения этих существ к человеку; и мы принципиально можем допускать духовный размах и глубину, превышающую человеческую, но она неотделима от мысли о человеке, хотя бы и в более совершенной и несколько отклоняющейся форме. Для нужды в познании, дышащей противоположностью истины и лжи, нужен отрыв от животной фактичности и отсутствие осуществленного идеала познания, познавательной «божественности». Реальность сама по себе вне сферы ценностей, или иными словами – мир ценностей это мир человека, и только его. Это и есть то правдивое, логическое следствие, которое мы должны подчеркнуть сейчас: оно открывает увлекательные перспективы в области уразумения смысла жизни. Ведь, чтобы получить этот смысл, надо мыслить личность как деятельное начало, с свободой воли, с перспективой возможности добра и зла, красоты и безобразия, истины и лжи, чистоты и греха, с перспективой всех промежуточных ступеней между ними и с возможностью индифферентного положения. Но мы утверждаем не только возможность такого положения, но и идем и должны пойти дальше и сказать, что все это возможно именно в человеке и через него, что это его специфические мир и сфера. Бергсон правильно утверждает, анализируя смех, что его нет вне сферы человека; без сомнения, животные могут вызывать в нас смех, но именно тогда, когда мы улавливаем в их поведении или позе нечто, свойственное человеку; нас может рассмешить и вещь, например, часть костюма, но именно нас, и при том в той форме, которую создал человек и в которой чувствуется он сам[925]. Кусок войлока или соломки в шляпе сами по себе не смешны и не могут вызывать смеха. Но это касается не только сферы смеха, а в сущности то же самое нужно сказать вообще о всей сфере оценок и ценностей. Мы вместе с Ницше[926] убеждены, что «ценить значит творить… Смена ценностей, это смена творцов»; это и есть воспетая Ницше королевская щедрость, с какою человек одарил мир красотой, истиной, добром и святостью, но и их противоположностью, без чего они немыслимы.
Эта мысль о коренной роли принципа противоположностей ярко отмечена в развитии философской мысли. Она нашла своих красноречивых выразителей в лице двух великих мыслителей древнего и нового мира, у Гераклита и Гегеля, возвестивших миру, что «спор – отец всех вещей»; как добавляет Гераклит[927], «болезнь освещает здоровье, зло – добро, усталость – отдых» и т. д. В ней сошлись Николай Кузанский, Дж. Бруно и Яков Беме: первый оживил мысль о совпадении противоположностей в мировом масштабе, в универсе; Бруно убежденно повторяет[928] что «начало, середина и конец – рождение, рост и совершенствование всего, что мы видим, идет от противоположностей, через противоположности, в противоположностях, к противоположностям»; Беме учил, что для света нужна тьма, для добра – зло, для истины – ложь, и т. д., и завершил эту мысль утверждением, что сам бог есть всеохватывающее вместилище противоположностей. Интересно отметить в этом хоре голосов голос материалистов, например, Дюринга[929] и Маркса и др., подчеркивающих роль принципа противоположности как основного принципа. Не остались в стороне и новейшие философы идеалистического порядка: такие мотивы ясно слышатся, например, у Лотце[930]; их мы найдем и у такого философа, как Коген[931].
Целый ряд философов утверждает ту же мысль, но при этом подчеркивает, что идеальная гармония недостижима, как будто она действительно есть то идеальное состояние, которым должно завершаться все. Между тем от идеального совершенства на нас несется веяние смерти, бездушие. Здесь интересно вспомнить об одном впечатлении, которое отмечают многие по поводу Мадонны Рафаэля, а именно – что в его совершенном искусстве нет трепета живой души; мы только думаем, что объяснение этого кроется именно в том, что художник должен был изобразить совершенное состояние и совершенное существо, в итоге чего и получилось дыхание смерти. Кто видел в прежней постановке на сцене «Сказание о граде Китеже», тот пусть вспомнит последний акт: все должно дать представление и ощущение рая и неземного счастья, но вы, глядя на уходящую в невидимую высь пирамиду церквей, на застывшие в восторженном экстазе фигуры в неземном одеянии, в декорациях, в артистах, в мелодии и т. д. – во всем вы видите и чувствуете царство смерти. В противоположность «суете сует» с ее движением и порывом приходится давать «вечный покой», абсолютную неподвижность, завершенную уравновешенность – мир и тишину кладбища…
Эта потребность в противоположностях, ее человеческая специфичность особенно ярко сказывается в явлениях так называемого «внутреннего» порядка. Там в сущности достигнутая гармонизация неминуемо превращает душу в бесплоднейшую пустыню: только душа, прошедшая через муки и знающая тоску по лучшему и устремление к иному, способна жить и творить. Ведь человек творит только тогда, когда он пережил, передумал, перестрадал, а для всего этого надо быть человеком со всем его несовершенством, потому что в совершенстве все уже уложилось или, лучше сказать, дано в божественной гармонии и дальше идти не только некуда, но и самая мысль о движении исключена в своей возможности. Уберите из душевной жизни человека борьбу мотивов, волнения, страсти, страдания и т. д., и он превратится в пустоту: противоположности положений, создаваемые противоположностью в оценках и ценностях, преодолеваемая дисгармония является для него своего рода оплодотворением его душевной жизни, без которого она не может ничего рождать. Как художник, музыкант, поэт и т. д. воссоздают борьбу различно оцениваемых и противопоставляемых друг другу душевных элементов и их созвучия, создают красоту и художественность, так жизнь и творчество вообще во всех их разветвлениях рождаются у существа, знающего разлад, противоречия, мучения совести, ложь, ошибки и т. д. Этим объясняется полная правдивость утверждения, что для нас, людей, устремление к истине, к добру, красоте и т. д. может быть много плодотворнее, чем самое их осуществление, – иногда это единственно плодотворное. Даже религиозный философ Вл. Соловьев не страшится утверждать[932], что «если бы во мне не было злой страсти как скрытой силы, как потенциальной энергии, то я был бы бесстрастен, как труп, как бревно, которое ничего не стоит уничтожить, как кучу песку, которую развеет первый ветер». Близкий Соловьеву Е. Трубецкой упоминает об одном стихотворении Соловьева, где говорится о том, что
«Из смеха звонкого и из глухих рыданий
Созвучие вселенной создано».
Человеческий дух развертывает всю свою мощь только на противоположностях; и святым, и героям мысли, как и героям жизни, не над чем было бы думать, не из чего было бы творить и не за что бороться, если бы они не были людьми, не знали противоречий мысли и жизни. Без мук нет творчества, но под человеком их не сознают в достаточной мере и потому их там в полном смысле нет, а над ним, в божественной гармонии, нет ничего, что могло бы порождать и переживать их. Это царство человека и близких ему существ. Ощущение жизни и чувство удовлетворения возможно только в переживании и преодолении противоречий и страстей[933].
Все это сгущается в применении к сфере идейных ценностей. Мы начнем с указания на эстетические ценности. Сущность их особенно ярко вскрыта Кантом; но именно Кант блестяще показал, что этот «великий дар богов» мыслим только у человека. В самом деле, ведь сущность эстетической жизни заключается в установлении известного взаимоотношения между чувственностью и рассудком; только в игре и известной примиренности их возникает царство красоты, а это обозначает, что только существо, причастное к двум мирам, к чувственности и рассудку, способно создавать этот мир и жить в нем, что это собственная сфера человека и именно его: ни в мире только чувственном, ни в мире только сверхчувственном эстетической жизни и творчества быть не может. Поскольку в животном мире мы признаем проблески эстетического, мы этим самым в той же мере сближаем его с миром человека; то же самое нужно сказать и о мире над человеческой личностью, а это совершенно исключает возможность утверждения красоты как объективного предиката мира идеального, божественного, хотя нет никаких оснований отрицать ее у существ с организацией выше и совершеннее человеческой, но все-таки такие существа должны быть созданы по тому же принципу двойственности, как и человек.
Это правдиво не только в применении к сфере эстетических интересов, но это справедливо и в отношении нравственной жизни. Тот же Кант показал нам, как вся мораль живет принципом противоположности мотивов. Идея долга получает свой смысл только на фоне борьбы мотивов и сознания противоречия между тем, что нравственно предосудительно и что возможно, и тем, что должно быть, т. е. опять-таки предполагается двойственная действительность в возможности, а это то, что является подлинной сферой человека и именно его; другие существа могут быть причастны к этой великой сфере только в меру своей близости к человеческой личности. Голое животное вне морали, потому что оно не знает нравственных велений и связанных с этим противоречий, оно только естественно; святые, божественные существа исключают эту сферу в применении к себе, потому что они сверхъестественны, потому что там также не может быть борьбы мотивов и противоречий, так как нет недолжного, нет губительной чувственности – в сущности там нет не только нравственности, но нет и не может быть воли, т. е. того, к чему применим эпитет морали, совершенное есть, и хотеть больше уже нечего. Таким образом бог и святые сверхнравственны, голые животные донравственны, и только человек живет в этом мире и в его возможности[934]. Божество – только интеллигенция, должное; животность, естество – только существование, и только в человеческой личности должное может осуществляться, только в нем возможно величайшее чудо, что зло может родить добро. Весь глубокий смысл грехопадения может быть вскрыт только на этой почве: тут впервые возник человек: «я стыжусь, следовательно, я существую» – так говорит Соловьев, оценивая стыд, который почувствовали наши прародители после грехопадения[935].
Все это применимо или глубоко симптоматично и для религиозных переживаний. Все религиозные учения дышат противоположностью и противоречием мира и жизни, во всех них всегда звучит мольба или надежда на спасение от несовершенств жизни. Целый ряд религий, малокультурных и высокоодухотворенных, зиждется на противопоставлении света и тьмы, Ормузда и Аримана, бога добра и бога зла (дьявола), бога-отца и царя тьмы и т. д. И тут осуществленная божественная гармония исключает всякие сомнения, колебания, тоску, нужду в спасении и вообще в чем бы то ни было. С большой натяжкой – и с некоторыми непреодолимыми затруднениями для построения миросозерцания – можно мыслить вечное и неизменное созерцание или лицезрение вечной, неизменной сущности, как это и делали некоторые метафизические системы. Все эти сомнения и колебания, жажда спасения и т. д. – все это наше кровное, человеческое дело. Ведь и для верующего человека прозвучит характерной фальшью, если мы скажем, что бог сам религиозен, – это нелепо потому, что он совершенство, и на этом все кончается. Можно и должно пойти дальше и сказать, что бог понятен и мыслим для нас только при исходе из идеи человека. Только на фоне ясного антропоцентризма становится понятным тот факт, что в прошлом не раз религиозные учения, несмотря на их стремление к абсолюту, кончали тем, что в различных формах утверждали не только власть высшего существа над человеком, но и власть человека над этим верховным существом. Таковы все магические культы, от примитивных до высокоразвитых. Им всем близка та мысль, которую выразил Ангелус Силезиус словами: «Без меня бог не может жить ни одного мига»; родственное этому утверждение можно найти, например, у Шеллинга, который говорит о человеке, что «он в своей чистоте во всяком случае и сам обладает властью над божеством».
Таким образом нужна вся полнота личности со всеми ее слабостями и недочетами – нужна для раскрытия и расцвета сердцевины подлинно человеческого мира. Нужна не только личность, но нужны личности; как говорил Фихте, трудно себе представить – невозможно, скажем мы – идею более возвышенную, чем идея «всеобщего воздействия человеческого рода самого на себя, этого ревностного стремления давать и брать – самое благородное, что может выпасть на долю человека»[936]. Уберите человека и его принцип из мира, и от сферы ценностей не останется и следа, она исчезнет даже в форме тех слабых проблесков, о которых мы догадываемся в проявлениях животного, но тогда исчезнет стремление, исчезнет жизнь и надвинется густой туман смерти. Даже для абсолютного порядка нужен весь калейдоскоп человеческих ступеней и взаимоотношений. В пояснение этой мысли мы приведем глубоко захватывающие слова Н. А. Бердяева[937], который спрашивает, лучше ли было бы, если бы было два величайших святых и не было бы гения художественного вместо действительных святого и гения, и отвечает: «Я верю глубоко, что гениальность Пушкина, перед людьми как бы губившая его душу, перед богом равна святости Серафима, спасавшей его душу. Гениальность есть иной религиозный путь, равноценный и равнодостойный пути святого». Нас в этой прекрасной мысли религиозного метафизика интересует, конечно, удачная формулировка живой потребности в многообразии и своеобразной ценности человеческой личности, каждой на своем месте. Идеи «вечной радости», «небесного счастья», «царства небесного» и т. д. рождены человеком и его идеализацией земного; это своего рода регулятив.
Таким образом правда в том, что человек должен понять свой земной путь как свой истинный путь и не ослаблять жизни тоскующими взорами по какому-то иному «нечеловеческому» миру ценностей, если он его понимает не как регулятивный идеал, а приписывает ему метафизическую, потустороннюю реальность. Это мир человека, и бесцельно, бесплодно и главное – не должно ему отказываться и порываться уйти из этого мира, потому что его назначение в этом конкретном, живом мире со всеми его противоречиями и противоположностями и именно с ними. Здесь жизнь переливается в смерть, чтобы родить еще большую жизнь, безобразие в итоге слагается в неземную красоту, ничтожное и малое возвышается до универсального значения, преступление сменяется нравственным героизмом почти нечеловеческого порядка, ложь и ошибка могут завершиться открытием великой правды, и из испорченности выявится святость раскаявшегося и нашедшего себя грешника. Так водочный король, спаивающий родителей и губящий семью, становится иногда во главе комитета спасения детей и отдает ему всю свою жизнь. Глубочайшее живописание контрастов жизни и их смысла дает Виктор Гюго в своем романе «Человек, который смеется»: в захватывающем образе слепой юной красавицы Деи он рисует нам изгнанницу из царства света, которая тем не менее несла ослепительно яркий свет другим и часто видела глубже и тоньше, чем многие зрячие; она зрит невидимое, душу Гуимплена, и говорит ему: «ты прекрасен» – ему, поражавшему всех своим безобразием и служившему потехой и предметом поругания человека в нем. А вот жалкий, маленький пигмей, даже не просто человек, а ребенок, который на краю гибели сам, покинутый на произвол судьбы своими мучителями, возвышается до подлинного героизма: еле передвигая ноги по снегу, он бредет на плачь ребенка, Деи, умиравшей на груди своей уже замерзшей матери; коченея от стужи, снимает с себя куртку, укутывает в нее девочку и, изнемогая от холода и своей ноши, бредет к людям и спасает жизнь другого прекрасного существа. Здесь мы встречаем человека Урсуса (что собственно значит медведь) и при нем волка Гомо (человек). Так в детском бессилии, в беспомощности, нищете, среди животной жизни, на фоне Волка, имя которого обозначает «человек», на рубеже жизни и смерти рождаются величайшие акты героизма, красоты, добра и святости, высоты человечности, любви, преданности и сияющей, ослепительной душевной чистоты: ничтожный и слабый Гуимплен спасает Дею, нищий голодный Урсус принимает и отогревает в своем убогом походном ящике-комнате чужих и неизвестных ему детей и, сам голодая, отдает им последние свои крохи и остатки молока. Так в муках, противоречиях и противоположностях рождается здесь, у человека, неземное и божественное, ибо это истинный мир человека и его творчества.
VIII. ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ
Утверждая живую полноту субъекта и его среды, мы естественно встречаемся с рядом вопросов, составляющих теорию познания. Частью мы уже пытались дать на некоторые из них свои ответы в специальных главах и попутно в различных местах этого труда. С нашей точки зрения, проблемы гносеологии имеют огромное значение, но мы также убеждены, что для знания нет нужды иметь знание о самом знании[938]. Но еще один вопрос должен быть выдвинут из числа гносеологических проблем, это вопрос об истине и ее понимании; при этом нами руководит в данном случае не столько гносеологический интерес, сколько интерес общий, связанный с выявлением основных идей нашего миросозерцания, особенно «с отклонением» идеи бытия как мертвого неподвижного фетиша, чисто фактического обстояния. Господство этого фетиша оказалось настолько велико, что даже истина должна была во многих философских теориях отлиться в такой холодный застывший факт, стать только бытием. Так ли это? На этот вопрос нам и хотелось бы дать здесь ответ с точки зрения нашего миросозерцания, построенного на идее живого конкретного субъекта.
Один из многочисленных авторов, для которых истина определяется признаком бытия, существования, Вл. Соловьев дает следующее, необычайно рельефное определение истины[939]: «Истина заключается прежде всего в том, что она есть, т. е. что она не может быть сведена ни к факту нашего ощущения, ни к акту нашего мышления, что она есть независимо от того, ощущаем мы ее или нет… Безусловная истина определяется прежде всего не как отношение или бытие, а как то, что есть в отношении или как сущее». Сущность истины он выражает в трех ее основных признаках: она – сущее, единое, все. Нет необходимости указывать, что в конечном итоге истиной может быть только бог, а с другой стороны ясно, что всякая раздельность, обособленность есть ложь и зло. Другой автор, настаивающий на бытийственном, онтологическом понимании истины, Флоренский, в своем труде «Столп и утверждение истины» подкрепляет такое понимание истины обстоятельным филологическим анализом самого слова «истина» и затем развертывает в своем труде, конечно, не теорию познания только, а религиозную – ортодоксально православную – онтологию. Сблизив слово «истина» с его прародителем «естина», Флоренский дальше показывает на примере различных языков, как и в них, с его точки зрения, слышится то же указание на бытийственный смысл понятия истины: истина есть то, что есть так, как оно есть, это подлинно сущее.
В учении Соловьева об истине выдвинута правдивая черта в характеристике истины, и мы надеемся дальше показать, в одной из следующих глав, что понятие истины связано с понятием бытия и действительности, но Соловьев, с нашей точки зрения, использовал формальный признак в материальном смысле, и она превратилась у него во «все» и «сущее», а все частное и отдельное превратилось в ложь. Но при таком распространительном толковании истины в сторону содержания и за пределы формального признака истина приобретает настолько широкий, всеохватывающий характер, что в сущности нет ничего такого, что не было бы истиной; здесь лишний раз подтверждается, что «все» легко превращается в «ничто». Все в действительности и охватывает все, и ничто не может быть вне него; речи об оторванности и обособлении лишаются смысла, потому что вне всего не может быть ничего, и мнимо обособленное неизбежно находится во всем и стоит в какой-нибудь связи с его звеньями. Если же способность обособиться или не обособляться взять в ее настоящем смысле, то тогда она влечет за собой необходимое требование признания свободы и разумности – признаки, которые тотчас приводят нас к выводу, что истина возможна только у человека или у существа с человеческим принципом – мысль, которая представляется «нам» единственно правильной, но она уже совершенно не мирится с бытийственным толкованием истины. Если истина есть все, как бытие и сущее, то тогда нет смысла говорить о лжи и даже становится непонятным, откуда могло взяться это понятие.
На почве бытийственного понимания истины возникают неизбежно непреодолимые затруднения. Если сущее берется как постоянно пребывающее, то истины нет, весь конкретный мир есть величайшая ложь и нелепость, потому что в нем нет ничего постоянно пребывающего, потому что по великому изречению Гераклита «все течет». Если же этому придать распространительное толкование, то нет ничего, чего бы не было, и тогда прав в известном смысле старый Парменид, утверждавший, что есть только бытие. Даже неуловимый, мимолетный момент бывания, прорезавший на миг тьму небытия, все-таки был и этим уже оказался вне власти времени. Истина, что в данный момент мимо моего окна промелькнула птица, и не успел я этот акт жизни осмыслить, как ее уже не было видно и, может быть, прекратил свое существование и самый факт полета; истина, что в моем уме сейчас мелькнула именно эта мысль или данная ассоциация; но истиной тогда являются и свершенная ошибка, сказанная нелепость, злое деяние и т. д., потому что они или есть, или были. Весь этот клубок бытия, ценного и неценного или даже отрицательного, побыв хотя бы неуловимый момент, оказывается уже закрепленным и вписанным в книгу бытия, и ничто и никак не устранит его ни в целом, ни в части из великой универсальной памяти. Грандиозное карамазовское бунтарство сильно именно на почве этой мысли – на полной невозможности сделать бывшее небывшим: пятна, кровавые пятна будут на светлой пелене будущей гармонии, неумолимо повторяет Иван Карамазов.
Заметим попутно, что, с философской точки зрения, попытка убедить филологическим анализом самого слова «истина» не может решить вопроса, но и он, с нашей точки зрения, ведет нас в ином направлении, чем бытийственное – в традиционном смысле – толкование истины: как указывает Флоренский, «есть» первоначально значило «дышит», а это в свою очередь указывает на значение «жизнь» – «жив, живет, силен» (курсив мой), но тогда все уже будет зависеть от того, какое содержание мы внесем в понятие «жить» – для нас ясно, что оно поведет нас не к голому фактическому пребыванию, которое ничего не говорит ни об истине, ни о лжи – оно только материал для нее, не к безотносительному бытию, как мертвый камень лежащему, а к истинно человеческому. Это и понятно: там, где истина, там должны быть жизнь и смысл.
В бытийственном толковании истины в сущности мы встречаемся снова с одним из важнейших следствий отвлеченной точки зрения. Если имманентизм различных видов разжижает действительность и становится беспредметным, настаивая на том, что мысль есть основа предметности, то сторонники бытийственного понимания истины попадают в нисколько не лучшее положение, потому что и у них подмена подлинной, живой действительности мыслью о ней, хотя бы и особо возвышенной и специфицированной, именуемой сущим, всем, наделенным признаком абсолютного бытия и т. д. И там и тут на место реальности становится различными путями «выведенный» мир. Как бы ни была стройна эта система, все-таки перед нами – фикция, способная в большей или меньшей мере помочь упорядочить наше представление о мире для тех или иных целей, научных или практических, но не удовлетворительная с философской точки зрения, с точки зрения живого, действительного миросозерцания. Нельзя в интересах познания превращать мир в мыслимый мираж: мысль о предмете не может заменить самый предмет, хотя бы ее и объявили абсолютным, возвышеннейшим бытием. Если одни беспредметны и выведение предмета познания становится в полном смысле слова «египетской» работой, из которой даже искушенному в философских тонкостях человеку трудно пробиться к ясному и непротиворечивому выводу, то другой лагерь страдает не менее тяжким недостатком: он бессубъектен и только путем узурпированных средств создает видимость жизни и движения в своем искусственно конструированном, «подлинном» мире. По существу и самый вопрос о предмете познания в его современной сложности возник из-за гипостазирования вымысла, отвлеченности, а дать и понять предмет по отношению к вымыслу, к «чистому сознанию» или при «сущем», конечно, можно только сугубо искусственным и усложненным путем.
В действительности это невыполнимая задача: знание не может начаться без предмета, а потому и не может создавать его, но оно не может начаться и без субъекта. Истина таким образом может быть только при наличии этих двух условий, и при том при их живом, действенном соотношении – при том исходном положении, которое положено нами в основу изложения, при живой связности, данной жизнедеятельностью, между субъектом и объектом, между я, чужим я и миром, т. е. при признании их дотеоретического характера. Познание должно их точнее осмыслить, но оно не должно их подменивать под видом их создания или «выведения» и искажать. Истина должна быть также понята на почве такой живой основы; это, как мы надеемся подчеркнуть дальше, не лишает ее известного бытия, но уже в несколько ином смысле.
Но если истина не есть само бытие в виде какого-то объективного обстояния, простой пребывающей предметности, естественно напрашивается старый вопрос, нельзя ли удовлетвориться пониманием ее как адекватной копии предмета, хотя такое понимание истины затерялось в истории философской мысли и теперь мало кем проводится. С точки зрения «приближения» к жизненному пониманию может показаться, что это и есть наиболее правильное толкование истины, но взгляд этот элементарно ошибочен. Кроме того, что он связан с непреодолимыми и до крайности упрощенными затруднениями в отношении возможности уменьшения копий в человеческой душе или даже мозгу, на чем мы останавливаться не будем, так как этот аргумент слишком ясен в своей грубой несостоятельности, такое понимание познания и истины ведет в сущности к уничтожению смысла познания: накопление и приобретение таких копий, ничем не отличающихся от самого предмета, факта или переживания, делается совершенно излишним и бесцельным, так как в этом случае всегда лучше оставаться при самой жизни, чем при ее тени, хотя бы и точной – ведь жизнь и действие должны протекать не в ней, а в ее первоисточнике. Знание теряет всякий смысл, потому что оно и истина в этом случае не дают никаких достижений в сравнении с переживанием и жизнедействием. Полная несостоятельность такого понимания истины подчеркивается также тем, что на этой почве становятся совершенно исключенными из области познания все познавательные достижения, в которых мы отрываемся от голой фактичности, где мы переходим в область нового, еще не данного, в область конструкции и т. д. Таким образом, если мы при этом откажемся совершенно от признака адекватности, заменим его признаком соответствия переработанного образа, сокращенного и схематизированного, предметной действительности, то тогда нам нужно признать, что этим мы характеризуем ту стадию осмысливания действительности, которая присуща по нашим воззрениям животной ступени, простейшей форме познавательной жизни, но уже и здесь встречается тот элемент деяния и активности, к которому мы обратимся дальше.
Упомянуть об этой примитивной теории познания и истины нас заставляет здесь то, что она подчеркивает правду, которой нет во многих современных утонченных гносеологических учениях: это наличие плоти и крови в познании, его живая связь с неподдельной конкретной действительностью, его неэфемерная, живая предметность. Она напоминает нам о настоятельной необходимости освободиться от коренного греха многих современных теорий познания, заключающегося в том, что они раскрывают свои учения в заколдованном круге отрешенности от живого предмета и действительности, в абсолютно замкнутой сфере суждений и понятий, из которой гносеологически нет выхода к самому предмету и действительности. С точки зрения живой теории познания трудно объяснить и понять не то, как мы переходим от предмета к суждению и обратно, а как их разделить и обособить: оба они жизнь и действительность, оба нераздельно переливаются друг в друга и при том настолько, что является соблазн утверждать их тождество. Этот живой перелив, живая слитность энергично подчеркнута нами уже в вопросе о субъекте и объекте: живой познаватель и живой мир перед ним, настолько связанный с ним, что даже самая мысль об одном из них не может родиться без мысли о другом.
Правду в вопросе об истине мы найдем только на почве ясного сознания их бесспорной конкретной реальности и живой, текучей связи, допускающей только искусственную изоляцию. Знание может и в широкой мере создает свой предмет, но это уже последующее явление, в основе же всего лежит живой, реальный предмет, как и живой реальный познаватель. Вглядевшись в живую, неразжиженную и не мумифицированную действительность, мы увидим живое явление: всякое познание – суждение есть жизненный акт, включенный в общую цепь действительности; перед нами развернется тогда картина непрерывного перехода и даже слитности суждения и действия, теории и практики. Суждение в себе уже есть деяние, оно уже в самой помыслившей его личности становится тут же практическим и жизнедеятельным, как нечто – минимально пережитое личностью и включенное в нее: теоретически установленное становится через личность в той или иной мере практически действенным, а практически переживаемое тут же переплетается с элементами своего теоретического осмысливания. На вопрос, как мы познаем, должна дать ответ психология; вопрос об условиях общеобязательности должна осветить логика. На вопрос же, откуда я черпаю уверенность в существовании предмета, мы уже дали ответ. Можно только к этому еще добавить, что философ в данном случае вплотную подходит к человеку жизни, который на вопрос об источнике уверенности в существовании предмета отвечает словами, исключающими всякое сомнение:
«У меня, слава богу, есть глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, голова, чтобы думать». Нам нет нужды пояснять, что эта уверенность очень далека от уверенности вульгарного поклонника вещного начала мира, который уверен в отвлеченности, в веществе и также не уверен в конкретном мире, для которого мир предмета знания замкнулся в неразмыкаемый круг; наш мир это не только мир конкретного бытия, но и беспредельного роста и обогащения.
Таким образом мысль и предмет ее не одно и то же, но они и не разобщены друг с другом: в действительном познании мы познаем именно предмет, а не фикцию, хотя мы и подвергаем мир в познании переработке, и никогда познание не совершается пассивно, даже на низших ступенях некоторого усвоения и понимания. Этот действенный характер познания и истины должен быть подчеркнут в полной мере. К этой стороне вопроса мы и обратимся теперь.
Выражение понимания и мысли действием и поведением особенно рельефно подчеркивается тем, что мы встречаем у детей грудных: они задолго до появления речи проявляют все признаки примитивной, но все-таки мысли; но мыслить в словах они не могут, потому что они до этого еще не доросли; даже если допустить, что произнесение взрослым замещает им собственную мысль в словах, что невероятно, то все-таки для них дальше остается задача определенным образом «ответить» и проявить свое отношение; но часто инициатива осмысленного отношения исходит в просьбах, реакциях на окружающее от них самих, т. е. взрослый им уже не замещает абсолютно их мыслительного процесса; тем не менее как бы ни было элементарно их суждение, но оно есть у детей; но раз нет слов, то мысль протекает только в действенной форме, поступках, поведении, жестах, крике и т. д. Это и есть первичное выражение мысли. Здесь особенно ясно выявляется, что мысли столько, сколько действия и возможностей. И этой форме утверждения и отрицания присущ не менее непреложный характер – по крайней мере для данного индивида, – чем другим формам суждений. Поэтому и можно искать отправных точек не только на головокружительных высотах отвлеченной мысли, где нас встречает ничто, как у Гегеля, но и в конкретной действительности непосредственного неподдельного жизненного характера, не только в утонченной до чистой формы мысли, но и в неподдельном жизнедеятельном акте. Как раз с философской точки зрения особенно интересно отметить, что в своих истоках и высотах мысль не умещается в логизованные рациональные формы, что она доступна только действию, поведению и переживанию: в истоках еще нет их, на высотах уже нет…
Простое, предметно констатирующее познание в сущности находится вплотную рядом с простым, конкретным, живым переживанием, когда сознание «того» и «этого» выражается не в ясной мысли, а в действии и практическом поведении. В нем переработка дана в минимальной степени, хотя она там уже есть. С каждым дальнейшим шагом вперед в сторону установления все повышающихся связей, отношений и всякого рода «дел рук человеческих» возрастает и обработка и начинает все больше нарастать истинный мир человека, в котором созданные им элементы перетягивают к себе центр тяжести действительности. Голая фактичность, если бы она была возможна, должна рассматриваться как материал и возможность для обработки и творчества связной и цельной, человеческими соками и характером напоенной действительности. Голая фактичность не была бы действительностью, она только возможность, только призыв к действительности. Познание и истина не копируют только, хотя бы и в существенных чертах, а они действенно-творческого характера.
В первоначальной стадии, как мы это отметили раньше, из практики и жизнедеятельности единым приемом выявляется триада я, чужое я и мир, и они оказываются как бы оторванными друг от друга и противостоящими друг другу. Таким образом перед нами вскрывается первая задача познания и истины – теоретически преодолеть этот распад. Весь этот процесс познания, как и сама истина, носит глубоко человеческий характер.
Единое и слитное практически предстает с теоретической точки зрения разобщенным и противопоставленным друг другу. Таким образом вырастает основная, хотя и не единственная задача познания, – и теоретически преодолеть разрозненность и разобщенность, создав единство и непрерывность – именно не простую изначальную слитность и безразличие, а сотворенное и различенное сознательное единство, которые бы дали непротиворечивое отношение к практике. Такое преодоление – именно потому, что оно лежит на теоретическом пути – свершается субъектом и руководится им, но не гносеологическим или каким-либо иным, а конкретной живой личностью и ее познанием: только на этом пути теоретическая мысль гармонично замыкает круг и непротиворечиво возвращает нас к жизнедеятельности практического характера. Если бы мы отказались от фиктивных элементов, от отвлеченности в описании процесса познания у Фихте, мы могли бы позаимствовать у него характеристику титанической борьбы я с не я: с каждым шагом вперед в познании мы преодолеваем пределы, поставляемые предметным миром, – все познанное, являвшееся до того пределом для я, становится с этого момента этим я, не растворяясь в нем, а только все больше обогащая его. Так растет великое единство: своей познавательной мощью личность прокладывает тысячи во все стороны разбегающихся дорожек и дорог, пока в гениальном постижении мир не сложится в великую гармонию, раскрывая все более богатые перспективы создания этого единства и творчества нового и беспредельность. Говоря словами Медикуса[940] в духе Фихте, «везде, где знание, там убеждение, там я так или иначе отвоевало себе место, там оно освободилось от не я, отодвинув изначально противопоставленную ему границу назад». Так в познании творится подлинно человеческий мир, идет его одухотворение, его обвеянность истинно человеческим духом. Человеческий гений может преодолеть разрозненность не только в философии, но он может достичь единства на тысячах иных путей. Так гений, поэт, художник, музыкант и т. д. могут пропитаться этим духом, «вчувствовать себя в мир» и влить его в себя и дать нам бессмертные творения и приобщить и нас к ощущению великого единства, которое не по силам нам самим и не дается, помимо творчества[941]. Человеческий гений видит перед собой мириады возможностей, связей и путей; то, что он творит эти связи и единство, нисколько не лишает их реальности, потому что мир включает их в себя, хотя и до поры до времени только в возможности, ждущей человеческого творческого принципа. Коротко заметим только, что это творчество идет не только синтетическим путем, как думают обычно: познающая мысль вскрывает элементы искусственно, которых в фактической действительности в обычном смысле этого слова до того не было, сама она их не давала и не дала бы. Таким образом и анализ приводит к новому, не говоря уже о том, что каждое суждение, каждый теоретический акт есть сама активность, и вместе с тем оно ведет непосредственно к возможной или осуществляющейся практической действительности – именно в меру той истины, которую оно несет в себе[942].
И мы далеко не одиноки на этом пути. Именно об этом характере истины, например, с таким искренним пафосом говорит Бруно: «Чувство не замутит ее, время не сморщит, место не скроет, ночь не прервет, мрак не застелет ее; наоборот, чем яростнее на нее нападают, тем все более она оживает и растет. Без защитника и покровителя сама себя защищает…» Как это поясняет Зиммель[943], Гете был убежден, что истина есть лишь имя для плодотворных сторон мысли: «только плодотворное истинно», говорит поэт. «То, что выступает как истина, – говорит Р. Ойкен[944], – может выявить свое право не иначе как путем своей мощи, т. е. своей способностью охватить весь круг жизни и поднять его на ступень полной деятельности… Истина – это подъем жизни к своему своеобразному, ненавязанному, имманентному единству». Вся философия Бергсона пропитана действенным характером истины. В русской философской мысли эстетическое понимание истины нашло себе много адептов. Вся религиозно-философская школа, хотя и субстанциирует истину как бытие, отмечает истину как жизнь. Здесь можно также упомянуть о С. Франке[945], который пишет: «Живое знание есть… единственное знание, которое непосредственно определяет наше поведение: знать что-либо в этом смысле значит тем самым жить определенным способом». Л. Лопатин говорит, что необходимо категорически изгнать квиетистический взгляд на философию и науку[946]. Знать это значит жить в меру совершенства знания – фактически или в возможности. Ведь познание само есть одна из высших форм жизни, а если мы его возьмем в более распространенном смысле, то жизнь без него и невозможна. Мистики разного порядка в этом отношении были глубоко правы, когда они учили, что познавать истину значит быть истиной. Когда в познании утверждается или отрицается связь двух предметов или отношений, то это значит, что мы известную реальную или идеальную возможность превращаем в действительность (истинно или ложно, это уже другой вопрос), т. е. утверждаем некоторое действующее существование или отношение, и это говорит нам, что из них вытекают соответствующие следствия, теоретические и реальные. При этом нет никаких оснований исключать отсюда отрицательные суждения, потому что и они несут в себе соответствующие следствия, основывающиеся на отсутствии тех или иных предметов и отношений. Всякая правда, истина никогда не ограничивается холодным констатированием – она всегда убеждает. Нет истины только констатирующей – каждая истина связана с убежденностью, и убеждение всегда несет в себе определенный императив, императив же возможен только при постулированни возможности действовать: истина действенна. В этом смысле мы считаем себя вправе утверждать, что каждая истина – в меру ее значения – воспитывает, и воспитывает определенным образом соответственно ее характеру и диапазону. Это положение может быть подкреплено еще и с иной стороны: истина не копирует, она никогда не останавливается у голых фактов, она открывает и указует связи не только существующие, но и возможные; эти возможные положения она может путем убеждения превратить в мощную реальную силу: идея, насыщенная убеждением, становится могучим реальным рычагом. Так если бы нам удалось убедить порочного человека, что его поступки не есть в их характере нечто роковое, а многое объясняется случайностью, условиями и т. д., и внушить ему убеждение, что он по существу несет в себе зародыши порядочности, мы значительно повысили бы шансы на его обращение; так вера в врача и в свое исцеление у тяжко и опасно больного, внушенная врачем, может сотворить чудеса; вот почему мы рекомендуем в педагогике политику доверия и джентльменство. Их обязывающая сила вытекает из истины, заключенной в них, но не констатирующей существующие факты, а устанавливающей новую связь, подлежащую осуществлению. Конечно, это свободное создание человеческого духа – его не было бы, может быть, совсем, если бы мы его не создали сами, открыв возможность этому новому созданию превратиться в конкретно данном мире в соответствующую действительность[947]. Таким образом истине присущ творчески действенный характер, она прежде всего созидательна. С точки зрения действенного понимания истины и знания, небезынтересно отметить действительный характер созерцания, θεopíα. Она уже у Аристотеля трактовалась как активность, и при том чистая и идеальная. Мы знаем, что это не простое застывшее «зрение» безотносительно к действительности, а это созерцание, имеющее свой предмет, и при том обязательно с признаком подлинности и действительности, и при том созерцание, которое определяется как дающее смысл (sinnende) рассмотрение. От активного общего отношения оно отличается, следовательно, вовсе не тем, что оно пассивно, а тем, что оно фиктивно не стремится к практическому осуществлению своих содержаний. Созерцатель в этом случае также не смотрит в нечто неведомое и фиктивное и не желает его, а он ищет подлинности и правды; если бы созерцание было само в себе и лишено отношения к действительности и некоторой доли, зародыша (хотя и задержанного в его раскрытии) действенности, то для нас было бы совершенно безразлично, равен ли и истинен ли его объект. Совершенно ясно, что познавательная рецептивность, контемплация и активность это в сущности конститутивные моменты одного живого человеческого акта, кульминирующие в действенности. Условно они могут быть разделены, и в отдельных случаях может быть (в науке, искусстве и т. д.) ценным их относительное разграничение, проведение таких «пунктаций» в живом ритме. В науке и научных путях, живущих изоляцией, фиксацией и условными разделениями, такое просто созерцательное отношение легче проводимо, чем в философии, где все должно быть насыщено направлением на целое, живое и жизненно полное.
Мы везде раньше отмечали императивный характер философии, ее сущность не только как учения о мировоззрении, но и как мировоззрения самого; она не может быть в своей истине недейственной, иначе она не была бы философией. В конце концов даже мистик-философ не мог освободиться от действенности, хотя суть такой философии, казалось бы, самым погружением в абсолютное ведет неизбежно к квиетизму. Философия, как установительница принципов, целей, ценностей и оценок, не может быть пассивной, такова вообще и природа истины. Фихте глубоко знаменательно описывал, предуказывая пути многим другим, ход философского познания и постижения в форме постепенного завоевания познавателем – я сферы не я, снимая все преграды и всюду неся свет и смысл я, логики и знания. В этом не только диалектика знания, истины, но и действительности, как это подчеркнул Гегель. Все здесь рисуется как уничтожение расстояния или удаления между субъектом и объектом, но активностью субъекта. Подлинный философ должен быть если не прямым активным борцом за жизнь, разум и истину в ней, то во всяком случае «сочувствующим наблюдателем» – за ним всегда остается преимущественная задача «быть человеком»[948].
Все это ведет нас дальше к выводу, который, пожалуй, способен вызвать наибольшие возражения и показаться совершенно неприемлемым: это, что реально у истины есть степени, что она не одна и та же, например, в констатировании голого малого факта, пролетевшей мимо моего окна птицы, распознания чужого голоса, который слышится из коридора, и открытия нового научного положения, культурного завоевания всех родов или утверждения, затрагивающего величайшие глубины существования. Само собой разумеется, формально истина везде одна и логика отвлеченная не может устанавливать степени, нереально, жизненно, а следовательно, и философски речь о маленьких и великих истинах не есть что-либо неправомерное, – это единственно правильная точка зрения: истина, как и действительность, имеет степени. В этом отношении глубоко знаменательно то, что сознанию правильности действительно присущи степени – факт, о котором говорит повседневный опыт жизни и науки[949].
В аспекте этого утверждения становятся по-настоящему понятными такие утверждения, как слова Фихте о том, что «что за философию выберешь ты, зависит от того, что за человек ты»; с этой точки зрения можно говорить, что в данном мировоззрении больше истины и она глубже, шире и могучей, чем в другом, что Сократ и Платон, Кант и Гегель дали истины больше, чем тысячи других, философствовавших одновременно с ними. Это ни в какой мере не соблазняет нас перейти на почву количественного отношения к истине, но это говорит об ее интенсивности, об ее качестве, глубине, плодотворности и широте охвата и следствий. Истина не мертвый балласт, а живая мощь и колоссальная оплодотворяющая почва. Вот почему в философии не может смущать нас исторически резко выявившийся путь через философствующие личности и некоторый философский релятивизм, относительное значение отдельных философских систем и отсутствие «итоговой» философии в духе того, как существует «современная» наука безотносительно к личностям, создававшим ее. Позитивные науки, заинтересованные в законах и в генерализованной действительности, больше ушли от этого персоналистического пути; философия, а с ней отчасти и науки о ценностях, заинтересованные в конкретном, живом и индивидуальном, тем более вступают на персоналистический путь и на путь различных ступеней истинности, чем больше они приближаются к живому и жизни[950].
Действенный характер истины, а с ним и оправдание утверждения степеней намечается не раз появлявшимся в философии и в науке указанием, что она должна сделать из мира хаоса мир космоса, а иногда, что она должна пересоздать мир, но если бы все останавливалось только на теоретическом оформлении – которое мы можем изолировать только в порядке отрыва, деления труда по нашим человеческим слабым силам, – то все это носило бы характер ничего не значащего утверждения – организации собственных личных мыслей философа, а не мира, и было бы большой курьезной заносчивостью видеть в этом упорядочивании философской головы упорядочивание мира[951]. Когда противники этой мысли настаивают на том, что совсем не дело философа давать «наставление к блаженной жизни» (намек на Фихте и его «Anweisung zum seligen Leben»), что философия ограничивается созданием «теоретической ясности относительно атеоретического», предоставляя дальше каждому делать свои практические выводы, если он этого желает, то здесь действительность философской истины в сущности не отвергается, потому что возражение ведется против узко житейского понимания, а затем здесь действию и компетенции истины ставятся искусственные плотины: если бы в истине не было этой действенности, то сам философ не выступал бы как реформатор и организатор, и никто другой не мог бы вылущить из истины того, чего в ней нет. Искусственно создаваемые ограничения нельзя принимать за то, что диктуется самым существом истины. В этом смысле правильно говорят, что чем истина менее формальна и чем она более полна, тем меньше ее можно высказать в «чистой» теоретической форме, она не только «Einsicht, sondern auch Absicht» (постижение, но и намерение)[952].
Этим самым сказано в сущности все необходимое об антиподе истины – о лжи. Если между понятиями и суждениями, называющими реальность и указующими в будущее, разница заключается в широте, глубине и характере активности и созидательности, то ложь и ошибка это большее или меньшее обеспложение, пассивность, смерть. Суждение или положение, ложно сконструированное и утверждаемое, обозначает, что там, где мы ждали перспектив, выхода, следствий, их не оказалось: мнимо возможное отношение или положение оказалось недействительным, т. е. творчески недейственным; но так как живая действительность текуча, то практически бездейственность превращается в задержку, искажение и разрушение – тем более, чем значительнее ложь и ошибка по глубине и широте возбужденных ими ожиданий и перспектив. Истина – жизнесозидательна, ложь – жизнеразрушительна. Вот почему мы неудержимо стремимся к истине и свету знания и отклоняем ложь. Если нам скажут, что лжец как бы прорывает всеобщий закон утверждения жизни, то это нетрудно опровергнуть: лжец знает, что он лжет, и никогда не пожелает обмана для себя самого[953].
Отмечая в истине то, что способно к творчеству и созиданию, мы этим не отклоняем традиции целиком – наоборот, простое раздумье над этим вопросом убеждает нас, что все ценное может быть без всяких противоречий совмещено с этим коренным – с жизненной точки зрения – признаком. Для истины характерно единство, на котором настаивает, например, Вл. Соловьев; мы к этому только присоединяем существенную подробность, что это единство не столько данное, сколько вновь созданное, и оно именно в этой своей новизне особенно важно и плодотворно. Старая философская традиция подчеркивает самотождество истины и у нас все основания присоединить свой голос к ней; но это внутреннее единство и неизменность сохраняются за истиной не в русле голого пребывания, а в том непреходящем значении, которое сохраняет за собой каждая истина, какая бы она ни была, вплоть до суждения, в котором осмысливается самое простое переживание или момент; к этому необходимо добавить энергичное напоминание о том, что всякое значение уже в своем существе никогда не остается в настоящем, а весь его смысл в действенности и в будущем.
Особенно напряженные споры вызывал и вызывает вопрос о признаке бытия в применении к истине. «Истина» заключается прежде всего в том, что она есть. У нас также нет оснований особенно противоречить этой мысли, мы также насыщаем истину плотью и кровью, но ее несводимость на ощущение или мышление мы объясняем тем, что ей присуще определенное непреходящее значение, в котором она освобождается в одинаковой мере и от помыслившего ее познавателя, и от преходящей эмпирической действительности. Что касается признака бытия, то, именно с нашей точки зрения, есть все основания признать за истиной полную реальность, но весь вопрос здесь, конечно, сведется к тому, каким содержанием мы наполним понятие реальности, действительности – наш ответ на этот вопрос мы дадим в одной из следующих глав. В понимании истины исторически переплелись два толкования, из которых одно берет ее как то реальное положение или предмет, о котором идет речь в суждении, а другое видит в ней тот характер, ту формальную познавательную ценность, которая присуща данному суждению. На самом деле это не противоположности, но и не замена друг другу; они вполне совместимы друг с другом: истина всегда полнокровна, она предметна, она всегда действительна, но она и не может быть вне связи с личностью; попытки разрознить их являются продуктом все того же психологизма и отвлеченности.
На этой мысли мы должны были остановиться, чтобы со всей энергией и полнотой подчеркнуть человеческий характер истины. Истина только потому истина и только постольку истина, поскольку она человечна. Иной она не может быть, а если бы даже это и было возможно, то ее все равно не было бы для нас[954]. Теория познания, абсолютно нечеловеческого, как бы оно идеально ни было, была бы для нас пустым звуком: в трактовании идеального знания в сущности скрыто дается идеализация все той же нашей человеческой точки зрения.
В противоположность миру простого существования с его голым фактическим обстоянием истина, как мы неоднократно подчеркивали, обладает творчески действенным характером, а это есть, как мы стремились показать в одной из предыдущих глав, основная черта человеческой личности: истина-действенность появляется только с введением того принципа, который мы называем принципом человеческой личности, а с другой стороны смысл и жизнь личности даны только тогда, когда даны творчество и действенность: в этом ее жизнь, в отсутствии их ее смерть. То же самое нужно сказать и об истине. В этом кроется подлинное объяснение нашего стремления к истине: обладать ею значит найти самого себя, истинного человека в себе; открыть новую истину значит увеличить и углубить человеческую личность, а через нее, как мы надеемся это показать дальше, и самый универс в меру значения истины, в меру диапазона и глубины личностей, принявших ее и пропитывающих ею жизнь. Истина стала истиной вполне только тогда, когда она стала личностью, когда она открылась как личность. Конечно, мы этим не предрешаем вопроса о путях ее открытия. Они могут быть различны: одно явствует эмпирически, другое рационально, одно вытекает из преобладания практики, другое из теории и т. д., но все это не затрагивает правдивости и необходимости основной базы. Став личностью, истина идет в мир и становится действенной на всех путях, в нас и вне нас, эмпирически, рационально, интуитивно, – на всех путях, на каких есть и живет сама личность.
Подчеркивая человеческий характер истины, мы этим не хотим сказать, что он дается и возможен только у человека и только в его узкой, строго ограниченной человеком сфере, – он есть и у животных, он имеется у организмов, – нет оснований сопротивляться признанию его в проблесках даже у растений; мы можем пойти даже дальше и принципиально допустить этот принцип и над человеком и – скрыто – во всем универсе. Но все-таки это человеческий принцип, для нас наиболее полно выраженный в человеческой личности. Когда Пилат спрашивает в известной картине Ге, что есть истина, то трагизм и значительность этой сцены заключается в том, что самодовольный и самоуверенный Пилат не видит и не понимает, что истина перед ним, что она жива, действенна, лична, творчески созидательна[955].
Только с такой антропоцентрической точки зрения, на которой строим мы нашу теорию, становится понятным, что люди по мере своего проникновения в истину могут жить для нее, страдать за нее и даже отдавать за нее свою жизнь: все это объясняется тем, что истина не есть что-либо внешнее или чуждое или только родное; нет, это – сердцевина личности, она сама в известной мере; люди в этом случае живут, умирают за самих себя, за свою полноту и свободу. Так жил Сократ, и так умер он, оставив живую силу своей истины как силу своего человеческого образа. Вот перед нами многострадальный образ Дж. Бруно и Спинозы. Мы можем здесь вспомнить о Копернике, Кеплере и Галилее.
История человеческой мысли и культуры дает нам глубоко поучительные примеры. Там мы иногда встречаем людей, теоретически открывших плодотворное положение, но оказавшихся бессильными вдохнуть в них жизнь, – они не смогли слить их со своей личностью настолько, чтобы сделать их способными жить, действовать: и истина не смогла стать истиной в полной мере; она ждала нового родителя, который бы дал им жизнь и полноту. У первых мысли эти или идеи шли по одному пути, а жизнь и их личность несколько по иному, поэтому полноты единства не могло быть и истина не могла выявиться во всей своей полноте и действенности, она оставалась только возможной. Так, например, жил и мыслил Ратке, но жил и действовал не в полной гармонии с самим собой и с открываемыми им положениями; личность его не вполне гармонировала с ними, и идеи его не жили, а они должны были дождаться Коменского. Величайшая истина все еще не истина вполне, а только идейная возможность, пока она не нашла свое осуществленное или осуществляющееся слияние с гармонирующей с ней личностью. Очеловеченная таким образом истина становится затем способной быть общечеловеческим достоянием и стать, как мы говорим, объективной.
Признак общезначимости является бесспорным коренным признаком истины, а антропоцентризм рассматривается как точка зрения, открывающая простор не только релятивизму, но в его конкретной форме даже индивидуальному произволу. Так ли это?
Прежде всего отметим, что в живой действительности, поскольку речь идет о конкретном мире во всей его полноте, перед нами неизбежно раскрывается глубоко плодотворная, жизненно ценная гамма индивидуальных убеждений, но за этими вариациями мы не должны и не можем закрывать глаз на основное их человеческое тождество – это тем более, что оторванного, изолированного индивида нет и быть не может: в каждом из нас говорит не только вся полнота связей в настоящем времени, только с известным перемещением, но и связь с прошлым и возможности будущего. С постепенным отходом от живой конкретности в сторону общих построений мы все больше уменьшаем это разнообразие и связанный с ним релятивизм, а дойдя до изучения царства форм, считаем, что мы вступаем в область абсолютного знания, – по крайней мере в возможности сообразно вечности и неизменности самого предмета знания. Дать же абсолютное знание относительно полного конкретного мира значило бы ограничить его и из живого создать мертвое, т. е. дать мнимое знание, как это и делали, и делают психологистические учения.
Но все-таки абсолютное знание возможно и с антропоцентрической точки зрения. Как это возможно? На первый взгляд как будто представляется совершенно ясным, что человеческая точка зрения не может быть абсолютной.
Тем не менее, как мы попутно отмечали это раньше, абсолютное знание, не отвечающее человеческому принципу, никогда не только не будет абсолютным для нас, но его вообще нет для нас как действительного предмета обсуждения. Абсолютная правда человека человечески абсолютна и никак иначе. В этом смысле нужно смело сказать, что абсурд, абсолютно вытекающий из организации нашей мысли как абсолютная истина, будет для нас бесспорен. Оставляя пока в стороне возможность религиозного постижения, мы должны сказать, что, не имея глаз, нельзя видеть, не имея слуха, нельзя слышать, слепому не понять и не пережить реального явления света. И само высшее существо, чтобы поведать абсолютную истину, должно одеть ее в человеческий вид и сообщить ее человеческими путями. Об этом красноречиво говорит явление Моисея, Христа, Магомета, Будды и т. д. Когда Декарт избавился от сомнений, что нас какой-нибудь злой демон заставил с помощью нашей особой организации считать, например, за истину, что дважды два четыре, то он пришел к положению «я, сомневающийся, есмь», а оно на самом деле все то же наше человеческое постижение, обусловленное нашей организацией; Декарт здесь остался на самом деле все в том же царстве человеческого. Попытки логическим путем прорвать этот круг всегда сводятся к фикциям. Нечеловечески абсолютная точка зрения, которую пытались провести в различных религиозно-философских, например, учениях, привела только к широкому расцвету теорий, в которых за бога ведет речь все тот же человек и подчиняет его всем своим человеческим построениям и особенностям. Ложь речей за бога – вот каков итог этих учений, как мы это стремились показать в первой части этого труда[956]. Абсолютная истина человечески абсолютна, потому что в истине человеческий принцип; где должна быть абсолютная истина, там перед нами идеально полное выявление этого принципа. Абсолютно – это абсолютно отвечающее и по форме, и по содержанию нашей человеческой организации, способное идеально слиться с ней. На этом зиждется общеобязательность истины, ее объективность в вневременность.
Все эти соображения ведут нас дальше и делают нам понятным многое другое. Из них совершенно ясно вытекает освободительный характер истины[957]. Каждая познанная истина обозначает новый раскрытый простор для действия. Даже когда над нами повисла смерть и мы познали истинное положение, то и тогда перед нами в принципе этот простор и полная возможность явить истинно человеческое, божественно-человеческое, если мы сумеем взять всю полноту правды, а не потонем в изолированном данном положении, которое таким образом станет уже ложью. Свобода и истина неотрывны друг от друга[958].
Истина великая, действительная, освобождающая сила, а коренное сродство ее с человеческим принципом ведет нас к установлению и пониманию того, что она захватывает все стороны человеческого существа, что поставленная во весь свой рост она объединяет собой и наш разум, и наше чувство, и нашу волю: она, естественно, захватывает всю нашу личность. Вот почему она не только может быть объективно правильной, но и является субъективно приемлемой. Нет ничего парадоксального в утверждении, что истина может быть не только понята, но ее можно и почувствовать. Она вместе с тем и призыв, и повеление, хотя бы и в потенции. Всякое познание, как и философствование, есть акт совести. В этом отношении мы готовы пойти за Фихте и сказать вместе с ним[959]: «Только поскольку я являюсь моральным существом, для меня возможна достоверность, ибо критерий всякой теоретической истины сам не теоретического порядка». В другом месте он говорит[960]: «Только из совести возникает истина: то, что противоречит ей, а также возможности и решимости следовать за велениями совести, определенно ложно, – относительно этого невозможно убеждение»[961].
В этой полноте значения истины снова звучит та мысль, которую мы подчеркивали неоднократно: в истине, как и в философии, речь идет о подлинной жизни, и истина обращается к жизни, ко всему человеку, а не к его теоретической выжимке. Поэтому нет истины, специальной для профессоров философии и отдельной для непосвященных, иначе истина перестала бы быть истиной. В этой ее полноте, всеохватывающей жизненности и кроется то, что она и для всех, и в то же время ни для кого, что она сама по себе – каким бы методом ее ни находили, ученым, систематически-методическим путем или же путем практически-жизненного постижения. Пути эти, как и самые истины, многообразны, как сама жизнь, потому что преодоление граней между я и не я совершается в разнообразных теоретических, как и практических, направлениях. Царство истины поэтому многообразно, как само царство личностей и жизнь. Она поселяется в простейшей форме простого узнавания и констатирования почти голого факта или явления и такого же простейшего вывода, как это, по-видимому, совершается у животных, раскрывая минимум действенности и творчества, но затем развертывается все повышающееся и углубляющееся в формах и содержаниях царство жизненной, действенной и творческой полноты.
Эта полнота создается не только имманентно для данной истины, но она разрастается и экстенсивно: чем истина выше и глубже, тем шире ее связи и вытекающие из нее возможности, тем большую систему истин она включает в себе и связывает с собой. Вот перед нами простое констатирующее суждение, суждение о данном моменте или положении и узкий круг выводов из него. «В комнате холодно», констатирую я; значит, не протоплено или понизилась температура на улице, хотя и тут не заслоненные пути к продолжению сети суждений во всех направлениях. Ньютон, напряженными и долгими размышлениями подготовивший плодотворную почву, по известному анекдоту констатировал в простом суждении «Яблоко упало мне на голову – вниз, а не вверх», и этого было достаточно, чтобы сразу перенестись в всеобъемлющую систему, основанную на законе мирового тяготения. Суждение, в котором выражается закон относительности, по общему суждению способно заставить перестроить всю область науки. И обратно – диапазон отрицательного, разрушительного действия ошибки и лжи так же велик и глубок в зависимости от характера и значения ложного суждения и от степени его слиянности с познающей личностью, через которую и в которой оно раскрывает свою активность. Человек способен от малой истины-суждения перейти в область необозримого идейного богатства, животное остается по преимуществу при констатировании действительного положения, при том в сравнительно суженной форме и при выводах, одетых в непосредственное жизнедействие, касающихся близкого будущего.
В этом смысле и можно животных назвать констатирующими существами, существами факта и вытекающего из него непосредственно вывода-действия, т. е. и тут нет остановки у голого факта, а получается сразу определенный действенный императив, хотя и элементарного и грубо эгоистического свойства. Когда Кант говорит[962]: «без всякого отношения к цели не может получиться воздействия на волю у человека», – то мы можем принять без оговорок этот принцип, но именно как человеческий принцип, который может далеко выходить за сферу узко человеческую, сферу людей. Везде, где мы встречаемся с целесообразными деяниями, мы имеем перед собой некоторое волевое определение, как бы оно примитивно и смутно ни было[963]. Человек способен действовать по принципам и идеальным мотивам, в этом его коренное отличие от животных, но про него нельзя даже сказать, как это делает Р. Ойкен, что он в отличие от животных знает, что он делает: поскольку у животных имеется память, внимание и т. д., они способны также знать о содеянном ими. Так собака пугается и стремится убежать, когда ее ведут к месту преступления, где она нагрязнила или самовольно воспользовалась тем, что брать ей не разрешается; она узнает часто через очень продолжительный период своего хозяина и окружавших ее людей и обстановку. Огромное различие заключается в диапазоне и глубине, которые все нарастают у человека и застыли в определенных рамках у растений и животных. Так растение все в настоящем. Собака уже не только в настоящем, но у нее, без сомнения, есть и прошлое, и будущее: она не только помнит более или менее близкое прошлое, но и имеет некоторое представление о предстоящем в непосредственной близости и руководится в своих действиях этим близким моментом. Только человек способен прозревать далекое будущее, переносить центр тяжести в него и руководиться им и жертвовать для него настоящим. В этом смысле животное бесперспективно, и жизнь его представляется нам сама по себе бессмысленной. Предвидя будущее и объединяя его с принципами своими, человек не только ждет будущего, но он способен и творить его.
Но там, где дается целенаправленное действие, как бы незначительно оно ни было, – там должна быть в той или иной степени допущена способность признать эти цели и отклонить другие, хотя бы это по преимуществу совершалось практически. Кошка констатирует мышь, настораживается, проверяет свое ожидание или успокаивается, если суждение «мышь» оказалось ложным, и прыгает, когда оно оправдалось, на свою жертву. Моя собака, не любящая прихода чужих людей в дом, порвала гостю – мальчику рубашку: «Чужой – не смей приходить», а затем бросилась бежать вниз по лестнице со всеми признаками страха перед грядущим наказанием: «Бегу, иначе побьют». Таким образом и у животного не только факт, и не только действие, но и соответствующий проблеск суждения вывода, с тою только разницей, что они недостаточно дифференцированы, но это вовсе не значит, что их там нет; ведь форма предложения не есть обязательная форма существования суждения: никто не станет оспаривать, что молчаливым кивком головы мы высказываем суждение, вполне равноценное тому, которое выразится в форме предложения: «хорошо, я согласен». Признанию этого мешало убеждение в формальном характере истины, но, с нашей точки зрения, формальными сторонами, как бы они ни были важны, истина не создается и не исчерпывается. Изучая ее, мы вынуждены, конечно, расчленять ее, но этого процесса нашего изучения и последовательности в нем не следует смешивать с живой действительностью истины. Преувеличивать значение формальной стороны в этом случае значит уподобляться неграмотному человеку, который садится в позу читающего или пишущего, копирует все формы процесса чтения или письма и думает, что он пишет или читает.
Истина не формальна только, она и не материальна только, она и то, и другое вместе: она органична, она лична и человечна. Это сразу приоткрывает завесу над критерием истины: самоочевидностью. Самоочевидность возможна именно потому, что истина – это вхождение в личность, личность в ней находит самую себя, и потому голос познанной и признанной истины так ясен и непреложен тогда нет двух, – истины и я, – а есть одно. В этом же кроется порука за то, что человек может обладать истиной, как он может быть самим собой, хотя бы фактически огромная масса людей и не поднялась выше уровня простого животного.
IX. О ПОНЯТИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Построение философского миросозерцания, с точки зрения живого субъекта, конкретной личности, необходимо приводит нас к все шире и глубже развертывающемуся потоку активизма. Нам необходимо теперь уделить несколько минут внимания понятию действительности, понятию бытия, так как мы везде подчеркиваем не только активизм, но и всюду выступаем против разжижения бытия, действительности. От того или иного толкования этого понятия зависит чрезвычайно много, а меж тем история философской мысли развернула необыкновенно пеструю картину толкований этого понятия, начиная от наивного гипостазирования бытия как чего-то просто грузно, тяжеловесно пребывающего и кончая всякого рода гносеологическими истолкованиями вплоть до признания бытия простой логической категорией. Таким образом перед нами, естественно, встает вопрос, какой смысл может быть вложен в это понятие с нашей точки зрения?
Кант искал выхода из того лабиринта затруднений, в который заводит нас истолкование понятия бытия в смысле голого пребывания, на том пути, что он свел его на определенный логический смысл и объявил простой логической категорией. И действительно, затруднения эти необычайно велики. Они ярче всего обнаруживаются в том, что наша теоретическая мысль не может справиться удовлетворительно с проблемой небытия и в сущности получается выход только в сторону элеатизма. Шопенгауэр со всем его пессимизмом не смог вложить в понятие Нирваны абсолютно отрицательного смысла и завершил свои воззрения пояснением, что «если Нирвана определяется как ничто, то это должно обозначать только, что Сансара (мир) не содержит ни одного элемента, который мог бы служить для определения или конструирования Нирваны», «что она относительное, а не абсолютное ничто»[964]. Пытаясь мыслить ничто, мы совершенно неизбежно мыслим что-то. При этом мысль о небытии оказывается не только непреодолимой теоретически, но она для нас совершенно неприемлема этически и эстетически. Небытия нет, говорит Парменид с неотразимой в данном случае логикой, – здесь мы имеем дело не с «невинной истиной», «тавтологической мыслью»[965], а с радикальным отклонением самой мысли о небытии, чрезвычайно важным по своим логическим следствиям. Достаточно вспомнить, что отсюда рождается основная идея метафизического рационализма о тождестве подлинного мышления и бытия, так как нет и не может быть мысли ни о чем.
Эта многозначительная мысль старой элейской школы, несмотря на свою кажущуюся парадоксальность, с новой силой выступила во многих современных философских теориях. В подтверждение мы сошлемся здесь только на двух представителей, французского философа А. Бергсона и на труд С. Франка «Предмет знания». Бергсон дает очень интересную мысль, что в нашем бесконечном вопросе, почему что-либо существует, заложена странная идея, что «могло и должно было бы быть именно несуществование». Мысль эта настолько оригинальна, что мы приведем ее в собственных словах Бергсона[966]: «Представление о пустом всегда является представлением, обладающим содержанием. При анализе оно разлагается на два положительных элемента: отчетливая или смутная идея о замене и чувство желания или сожаления, испытанное или воображаемое», а этот двойной анализ приводит Бергсона к выводу, что «ничто» это – «псевдоидея», «самоуничтожающееся понятие». До какой степени трудно нам справиться с идеей несуществования, это лучше всего показывает срывающееся и у Бергсона выражение «существует несуществование»: выходит так, что и оно как-то есть, что ничто в сущности скрывает в себе все-таки некоторое отношение к нечто. «Идея уничтожения всей совокупности вещей, – говорит французский философ[967], – может быть характеризована теми же чертами, как и понятие о четырехугольном круге: это уже не идея, а просто слово». Мыслимым оказывается только относительное или частное небытие, ненахождение нужного нам или интересующего нас, т. е. отсутствие чего-либо с нашей, человеческой точки зрения.
Аналогичную точку зрения мы находим у русского автора, С. Франка, который также считает абсолютное, ничто немыслимым, так как – помимо соображений, высказанных Бергсоном, – «граница есть понятие относительное: оно есть рубеж между одним содержанием и другим – черта, которая не только разделяет, но и связывает», а потому переход от бытия к небытию, от содержания к отсутствию содержания есть нечто немыслимое и внутренне противоречивое… Поэтому невозможно не только абсолютное, ничто, но и абсолютная пустота, – в пустом пространстве по меньшей мере заключены многообразие и полнота возможных геометрических определений[968].
Все эти мысли являются безусловно правильными, поскольку речь идет о небытии как антиподе бытия в обычном смысле, как о своеобразной застылости, простого пребывания. Но отсюда необходимо пойти дальше и в самом понятии такого бытия подчеркнуть неменьшие затруднения, – с такими непреодолимыми затруднениями столкнулся уже сам Парменид, и понадобилась исключительная изворотливость, чтобы справиться на этой почве хотя бы с самыми элементарными явлениями жизни. Этот взгляд был оплачен дорогой ценой резкого обесценивания всего живого, конкретного мира и эта традиция перешла в наследие всем следующим векам вплоть до нашего времени. До сих пор продолжает жить предрассудок, созданный античными философами, что неизменность представляет собой нечто более благородное, высокое, чем изменение и текучесть. Эта мысль, оправданная в применении к формальным сторонам всего существующего, установленным отвлеченною мыслью и к области оценок, оказалась совершенно неправомерно перенесенной на весь конкретный мир и на все, что мы стремимся познать и осмыслить. На этой почве закон тождества вырос в метафизический принцип, которым определяется истинное бытие; жизнь истинную и вечную стали искать в том, что по существу является даже не смертью, а просто полным отсутствием жизни, полным ничто:
«Denn alìes muss in Nichts zerfallen, Wenn es im Sein beharren will» (ибо все должно распасться в ничто, когда оно пытается застыть в бытии)[969].Ту же мысль высказывает один из русских философов, который говорит[970]: «Под углом зрения закона тождества все бытие, желая утверждать себя, на деле только изничтожает себя, делаясь совокупностью таких элементов, из которых каждый есть центр отрицаний и при том только отрицаний; таким образом все бытие является сплошным отрицанием, одним великим «не». Закон тождества есть дух смерти, пустоты и ничтожества». Само понятие бытия как голого неподвижного пребывания неизбежно приводит к пустоте. Недаром мы о неорганической природе как в себе неподвижной говорим как о мертвой природе.
Нашим путеводителем в поисках за ответом должна быть все та же суть человеческой личности, антропоцентрическая точка зрения: поняв человека и исходя из его сути, мы поймем и все остальное, как об этом многообещающе говорило учение о микрокосме и макрокосме, о проникновении через понимание первого во второй. Это в сущности и была проповедь антропоцентрической точки зрения. Но бытие личности можно мыслить жизненно и правдиво только в одной форме: форме действительности, т. е. мы утверждаем, что быть это значит действовать. На смену декартовскому «я мыслю, следовательно, я существую» должно встать фихтеанское «я деятелен, я действую, это значит, я есмь: я есмь действующий или действуя». Никакие теории не в силах устранить этого живого сознания себя как действующей живой силы[971].
Путь этот предуказан философской мыслью уже давно. Еще Аристотель в Никомаховой этике правдиво утверждал, что «бытие всем представляется желанным и привлекательным; бытие же наше заключается в энергии, жизни и деятельности», и вот именно здесь мы находим больше всего разгадку того, что человеческая мысль совершенно не мирится с небытием: это требует отказа и отрешенности от самого себя, от своей сердцевины, потому что человек сам носит в себе подлинную сущность бытия, и, пытаясь отрицать, он постоянно и неизбежно приходит в непримиримый конфликт с самим собой. Вот перед нами выступает великий Спиноза, который категорически утверждает[972], что под реальностью и совершенством следует понимать одно и то же, но вместе с тем он поясняет[973], что чем больше совершенства, тем больше деятельности и тем меньше страдательных, пассивных состояний, а это обозначает, что реальность в сущности выражается в деятельности. Здесь будет делом вполне понятной исторической благодарности вспомнить также о Лейбнице и его чисто действенном понимании субстанции: монада, обладающая абсолютным, бытием, есть действующая сила в самых разнообразных степенях в зависимости от ценности отраженного в ней бытия. Необыкновенно яркое выражение мысли о бытии как о деятельном состоянии дал Фихте, – не только в его блестящем принципе об основоположном значении деяния, но и в целом ряде других положений. Так первая теорема в его «Grundlage des Naturrechts…»[974] говорит о том, что «конечно, разумное существо не может полагать самое себя, не приписывая себе свободной деятельности»[975]. Отсюда, с нашей точки зрения, остается сделать только еще один шаг, чтобы понять вообще смысл и значение понятия бытия и действительности как действенности. Другой представитель классического идеализма, Гегель, убедительно показал, что язык не случайность и что философу следует прислушаться к тому, какое словесное выражение дает данному понятию язык: за гегелевскими манипуляциями филологического свойства в духе образования понятия действительность от слова действовать кроется глубочайший смысл, как и слово «факт» говорит о своем кровном сродстве с латинским глаголом fасеrе. Особенно яркое выражение эта мысль нашла у Анри Бергсона: он не только пошел в активистическом направлении, но он привнес сюда еще одну дальнейшую необыкновенно важную черту, что быть обозначает не только действовать, но и творить в меру своей реальности. Сближая и связывая органическое развитие – а другого в сущности для Бергсона нет – с развитием сознания, он добавляет, что о жизни «можно сказать, как и о сознании, что в каждый момент она нечто создает»[976]. Не та же ли мысль слышится – только в поэтическо-религиозной форме – у Достоевского в «Бесах», где Хромоножка толкует богородицу как мать: «так богородица великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость».
Попытки понимания бытия как того, что «не может быть представлено иначе», или как «онтологического долженствования», как того, что «представляется принудительно» и т. д., все ярко говорят о тяготеющей над ними изолированно интеллектуалистической точке зрения, бессильной охватить действительность – все они не улавливают самого существенного: момента действия, необходимого действия. Вот я смотрю на скамейку в саду, стоящую передо мной; первое, что я получаю и что меня убеждает в ее существовании, это чувственное восприятие, порожденное ее действием на меня. Вот я услышал хруст гальки и звуки шагов и констатировал вне всяких сомнений: 1) что тут галька, 2) что кто-то идет, 3) что это одно из лиц, находящихся со мной в одном доме. Тут дело не в представлении и мысли только, а в необходимости и непреложности действия и воздействия и его постоянной возможности, вне зависимости от того, тут я или нет и есть кто-нибудь сейчас при этом или нет.
Попутно отметим, что этой непреложностью действия – а не только мысли или восприятия опровергается утверждение, что «познание приходит к бытию, но отправляется не от него»[977]; познание исходит из бытия и иначе быть не может, потому что в истоке, в исходном пункте всегда дано действие, реальное переживание и отсюда естественно возникает вопрос как о причине переживания, так и о причине ее характера и о включении в общую систему действительности. Приходим же мы не просто к действительности, а к урегулированной действительности и при том не только к ней, но и к новой сотворенной и просветленной действительности, к очеловеченному миру, о котором будет речь дальше. Именно тем, что в исходном пункте не определенность мысли только, а определенность действия, объясняется то, что по отношению к логическому, к познающему «чистому» разуму вся действительность неразумна. Интуитивность здесь не в познании, а в определенности действия. Как это первичное действие создает для разума познающего вопрос, так и ответ его, система логизованной действительности одна не удовлетворяет нас и требует соединения, хотя бы в аспекте, с действительностью – действенностью. Ответ Гегеля, указавшего в пояснение понятия действительности на его происхождение от понятия действовать, неудовлетворителен тем, что он имел в виду только логическую активность, диалектику понятий, меж тем как речь здесь должна ясно идти и о реальном действии.
Таким образом быть значит действовать и созидать. Все, чему принадлежит бытие, этим самым обладает известными свойствами, а свойства эти не могут обозначать ничего иного, как определенные способности данной вещи к действию, хотя бы в самой элементарной форме, в виде цвета, запаха и т. д.
Все это приводит нас к очень важному выводу о том, что бытие и действительность могут и должны обладать определенными степенями интенсивности. Это, конечно, отнюдь не должно приводить к тому что мы будем приписывать субъектам, например, какую-то иную действительность, тем более в каком-либо особом мире, чем объектам; действительные субъекты так же действительны, как действительные объекты, человек реально такое же бытие, как и все[978]. Но эта одинаковость сводится не к простому быванию, а к тому, что и тут, и там действительность обозначает действенность, но только в различных степенях и интенсивности, а затем и приступающем качестве. Попытки утверждать, что «реальное не имеет степеней, но чувство реальности может видоизменяться»[979], не учитывают того, что чувство реальности ведь тоже изменяется не беспричинно, а оно причинено тою же реальностью в различных ее формах и интенсивности.
Таким образом действительность одна, и иначе быть не может, но у нее различные степени и интенсивности, а дальше и значения. Только для специальной, изолирующей, искусственно расщепляющей, позитивно-научной мысли устанавливаются различные оторванные сферы бытия, но это не точка зрения философии и живой, подлинной действительности, что они не есть что-либо тупо однородное, а блещут всей красочностью и полнотой, на которую их делает способной присущая им и раскрывшаяся интенсивность действенности или действительности. Это расцвеченное богатым разнообразием царство многознаменательно открывается нам в человеческих личностях, открывая нам истинную картину бытия. Как говорит Кант, «чем больше мы думали, чем более мы действовали, тем больше мы жили[980]…» Этот принцип с человеческого бытия надо перенести на все бытие и при том во всей его полноте, и тогда мы должны будем сказать, что речь идет не только о различных ступенях интенсивности в одном направлении, но и о качественно многообразных формах проявления действенности. Все, что есть, так или иначе действует, хотя бы в минимальной степени, а тогда мы должны последовательно перейти к утверждению, что падает резкая граница между отдельными видами и формами бытия, в частности между органическим и неорганическим, между живым и мертвым, потому что все, что есть, все живет и действует в присущей ему форме и степени. Мы надеемся показать, что это открывает многое и в области этической, и в других областях.
Все это на первый взгляд отдает привкусом парадокса, так как предъявляет нам требование совершенно необычного свойства признать и за так называемой мертвой природой какую-то жизнь и деятельность. Но этот парадокс мнимый, и мы можем взять все следствия из нашего основного положения, не боясь оторваться от живой, жизненной точки зрения. Вся суть заключается в том, что бытие вещей, растений, животных и человека отличаются не только количественно, по степеням, но и качественно, хотя везде «быть» остается все тем же в принципе – «действовать». Подымаясь от камня к человеческой личности, бытие – действенность промежуточных видов все больше расширяется и обогащается и качественно, и количественно привступлением новых форм деятельности. Например, у камня мыслимо предполагать только отрицательную деятельность: его бытие состоит в заполнении пространства, в сопротивлении вытеснению, для него быть значит как бы «неподвижно тяготеть», занимать место. В бытии растения все это остается, но там привступает новая форма действенности, в которую и переносится центр тяжести: это питание и размножение – действенность уже определенно положительного свойства. У животного эти основные акты органической жизни пополняются необыкновенно важным элементом свободного передвижения и чувственного проявления, у человека все это пропитывается сознательной и духовной деятельностью… Но при этом мы должны ни на минуту не забывать, что этим мы не полагаем пропасти между ними: они располагаются не только в порядке как бы пополнения и расширения их функций, их бытия, но в предыдущих, низших формах бытия-действенности в зачаточном состоянии подготовляются следующие. Постепенно утончая и одухотворяя «быть», мы дойдем до представления и о высшем бытии, но все-таки это всегда и, может быть, больше, чем где-либо, будет бытие-действенность, но действенность чистая, свободная, вся насыщенная светлым смыслом, целенаправленностью и значением. Если в первой стадии бытия только примитив, деятельность сопротивления, тяготения, а творчество намечается только потому, что есть вообще действенность, то дальше уже раскрываются некоторые, все повышающиеся возможности созидания, приступов к нему, а затем и сама жизнь как действительное большее или меньшее творчество – подлинное царство человека. Здесь впервые суть бытия раскрывается в своем подлинном характере. Особенно характерно она обнаруживается в том, как идет духовная жизнь личности: здесь всякое проникновение в бытие дается только деятельностью самой личности, когда вера и убеждение в известной идее, как и душевное переживание, гарантируют или, лучше сказать, и составляют то, что мы называем бытием этих идей, духовно-душевной действительности; в меру деятельной насыщенности и мощи этиидеи и реальны. Кто верит или убежден в известной идее, для того она есть, хотя бы в ней сомневался весь мир и считал ее величайшей нелепостью, потому что она действенна в данной личности, потому что в меру этой действенности ей присуща некоторая истинность. Здесь творчество совпадает с бытием в тем большей степени, чем шире действенный диапазон данной идеи или данного духовного переживания. Но здесь нашло свое яркое выражение только то, что присуще в принципе всей действительности в скрытом состоянии или только в возможности. Эта мысль о единстве мира идет из самых глубин философии, отливаясь в разнообразные формы. Для нас это объединение гарантируется антропоцентрическим принципом. Это не только мысль философа, но в этом же направлении идут и естественнонаучно ориентированные авторы. Как говорит Вундт, «допущение, что зачатки душевной жизни простираются так же далеко, как зачатки жизни вообще, должно быть, с точки зрения наблюдения, характеризовано как вполне вероятное. И вопрос об источнике духовного развития совпадает таким образом с вопросом об источнике самой жизни», но нет того, что так или иначе не живет, самостоятельно, как организм, или в какой-нибудь системе, вместе со многим другим, как неорганическая природа. Таким образом кантовское определение жизни как явления, вытекающего из способности определять самое себя по внутреннему принципу, говорит о жизни в специальном смысле слова.
Из этого мы можем уже здесь сделать вывод, что действительность не застывшая лавина, а вечный более или менее богатый жизненный творческий поток, что она не только начало, но и итог, который сам становится новым животворным источником, что действительность в подлинном смысле этого слова не есть, а творится, что она по удачному выражению Р. Ойкена[981], лежит не в начале, а в ее раскрытой форме в конце мирового пути и его отдельных стадий. В этом смысле мы готовы характеризовать действительность как идеал, но идеал в отдельных стадиях осуществляющийся и осуществленный, как мы это надеемся показать дальше.
На этом пути вскрывается для нас непреложная органическая связь бытия и истины: в их сути лежит все та же действенная, творческая природа во всем ее бесконечном разнообразии, а вместе с тем и их ярко человеческий характер.
Ход нашего изложения заставляет нас здесь на один момент задержаться и попытаться устранить одно мнимое препятствие на нашем пути – на пути понимания действительности в творческо-активистическом духе, снимающего грани между одной, неживой частью действительности, и другой. Созерцая сон и смерть человека и вообще живых существ, первые люди дали идею о двойном существовании, телесном и духовном, а дальше весь исторический путь сложился в неуклонно восходящее возвеличение духовной жизни и обратно, пропорционально идущее принижение телесной стороны, вплоть до отказа ей в достоинстве действительности. Современная философия, поддержанная религиозными воззрениями и вытекающим из них житейским мнением, свято сохранила и отчасти хранит в метафизических тенденциях это расщепление живого подлинного мира, эту изначальную – хотя и исторически очень плодотворную – ошибку дикаря. Этим объясняется, что мы легко проведем активистическое истолкование действительности в применении к человеку и животным, встретим некоторое сопротивление уже в отношении к остальному органическому миру, а что касается неорганической части мира, материи, то наш взгляд покажется совершенно несостоятельным.
Указание на единство действительности не является совершенно новым: история философских размышлений неоднократно выявляла живое ощущение этого единства в самых разнообразных формах, но большей частью за счет одной стороны действительности, материальной или духовной. Здесь будет небезынтересно вспомнить о некоторых из этих учений, стремясь не к исторической полноте, а только к исторической иллюстрации. Вот перед нами великий Платон, сыгравший, пожалуй, наиболее крупную роль в насаждении принижения тела и материальности: им в мире истинной действительности нет и не может быть места. Весь путь оправдания и очищения мира слагается у него в путь освобождения от телесности и материи. Так его «Федон» (ix) говорит: «Не ясно ли отсюда, что философ преимущественно перед другими людьми освобождает душу, насколько это возможно, от общения с телом»? Там же (xii) мы слышим: «А очищение не состоит ли в том, чтобы отделить душу как можно более от тела и приучать ее путем ограждения себя от тела со всех сторон собираться и сосредоточиваться в самой себе и жить, насколько это для нее возможно, в жизни настоящей, как и потом, только в себе, но одной, отрешившись от тела, как будто от оков».
Но уже Платон показал собой, как трудно избавиться таким путем от расщепленности: следом за его миром идей потянулась тень телесности, хотя и в значительно ослабленном виде, как прообразы телесных вещей и пустое пространство. Это, может быть, и было одной из основных причин, побудивших Аристотеля вдохнуть в самый реальный мир и вещи действенный принцип. В новой философии мы встречаемся с ярким устремлением в сторону единства на активистической почве у Лейбница, который отбросил принципиальную разницу между материей и духом, сведя ее к различию в степени ясности и отчетливости в представляющей деятельности монад и открывая простор идее развития. Если у Лейбница берет преобладание философско-интеллектуалистическая струя, то в новейшей философии мы встречаемся с философом, который дышит эмоционально-поэтическим чувством и ощущением единства мира и его жизни, – это Фехнер. Протестуя против механистического миропонимания, он говорил о том, что от таких взглядов увядают цветы, каменеют звезды, наше собственное тело становится недостойным нашего собственного духа. Только принцип жизни, и при том сознательной духовной жизни, способен помочь нам понять мир. Глядя на летний ландшафт, Фехнер в восторге восклицает, что земля или природа «ангел, ангел столь прекрасный и свежий и подобный цветку и при этом столь неуклонно, столь согласно с собой движущийся в небесах, обращающий свое живое лицо к небу и несущий меня вместе с собой в это небо, – что я спросил самого себя, как могут людские мнения быть до такой степени отчужденными от жизни, что люди считают землю только сухой глыбой и ангелов ищут над ней или вокруг нее в пустоте небес»?
Если из этого панегирика земле отбросить некоторую долю – вообще вполне понятного – панпсихического экстаза, то в основе стремления Фехнера обнаруживается вполне правдивая и жизненная черта протеста против попыток понять живое из мертвого, не спиритуалистический уклон, а отстаивание первенства живого жизненного начала. Эту тенденцию поддерживал и Лотце, хотя и в более осторожной и в менее восторженной форме: суть для него не в бесцветных основах мира, а во всей его красочной и подвижной полноте, свидетельствуемой нашей душой. Наше время переживает не только мощную тягу к монистическому пониманию, но и явилось свидетельницей нового подъема, оживления когда-то жестоко высмеянного и опороченного витализма. Видные представители современного естествознания энергично подчеркивают, что их механистический принцип очень далек от предвзятости и ни в каком случае не должен давать повод к известному одностороннему философскому использованию: он есть только рабочая гипотеза огромного масштаба, «объемлющего все естественные науки»[982].
В связи с этим небезынтересно привести утверждения одного современного диалектического материалиста, который в противоположность «наивному материализму» «признает психику как свойство организованной (курсив мой. М. Р.) материи, несводимое к движению материи»[983].
Пора, когда в механических законах пытались видеть грозные неумолимые силы, бесспорно, как изжитая наивность, отошла в область прошлого. Современная, строго научная точка зрения на них такова, что естественные законы это есть обобщенное выражение того или иного фактического положения действительности, выделенного из общей связи искусственным путем; законы эти не существуют сами по себе и, что самое существенное во всем этом вопросе, не вещи или действительность сообразуются с этими законами, а законы с действительностью, потому что они взяты именно из нее: они как бы вытяжка из этой действительности, и потому именно как будто способны определять ее, хотя вещи, конечно, идут теми путями, которые заложены в них самих. Лотце совершенно правильно отметил, возражая чистому эмпиризму, что представление об абсолютной пассивности так называемой мертвой природы неправильно; с его точки зрения, одна и та же причина в различных случаях и смотря по объекту дает различные следствия; один и тот же толчок, который отбрасывает одно тело, другое тело заставит звучать, третье сломает, а четвертое распылит в атомы страшным взрывом[984].
Эта мысль находит свое мощное подтверждение в самой сути личности и ее условиях. Действенная сердцевина личности и истины, как и всего того, что заслуживает названия действительности, совершенно не укладывается в грубо механистический принцип как всеобъемлющий. Чтобы понять, каким антагонистом личности является грубо механистический принцип, достаточно на момент сосредоточиться на мысли, что этот принцип ударяет по жизненному нерву нашего я, что развитие уже становится невозможным, а его место занимает по существу «бег на месте», к несуществующей цели, простое изменение, а если строго судить, то, может быть, и его не окажется. С точки зрения механистического миропонимания нет перспектив, нет будущего, а это несовместимо с личностью. Человеческой мысли становится настолько душно и тесно при приближении к такой точке зрения, что только полная отрешенность и необязательность его для практики с присоединением скрыто и незаконно использованных немеханистических мотивов спасает до некоторой степени этот взгляд на мир. В глубине души и по чистой совести в полном согласии с самим собой каждый человек может и должен неизбежно повторить вместе с Мефистофелем:
«Für einen Leihnam bin ich nie zu Hause». (Для трупа я никогда не бываю дома).Та же неприемлемость мертвого слышится в утверждении Вл. Соловьева, что смерть есть физическое зло. Мы раньше, в первой части в отдельной главе, видели, как односторонне механистическое учение вынуждено воспользоваться скрытыми мотивами, чтобы найти выход от своей мертвой основы к живой жизни, – миросозерцание, по остроумному выражению А. Бинэ[985], представляющее метафизику тех, кто не хочет заниматься ею.
Нам нет нужды еще раз подчеркивать, что это не есть уклон в сторону спиритуализма, который болен тем же грехом, как и его антипод, но только выявленным наизнанку: оба они продукты отвлеченности и психологизма, в то время как действительность жива и едина, но только дает картину безграничных градаций в глубине, интенсивности и направлении. Мы хотели бы упомянуть здесь об одном опасении, которое легко может возникнуть по традиции в связи с нашим утверждением. Мы имеем здесь в виду ту мысль, которую, например, высказывает Н. Лосский, говоря[986] об «ограниченности индивидуального бытия, приковывающей меня к ничтожному комку материи, к моему телу, замыкающему меня в душную комнату и предоставляющему мне лишь тесный круг деятельности». Все это правильно только при отвлеченной философской позиции, в основе своей разобщающей то, что по существу является продуктом выделения и отвлечения. В действительности нет повода для жалоб такого рода: «комок материи» реально не ограничивает, а связывает; материальное тело, совершенно немыслимо без какого-либо соседства, и, создаваясь ограничением, оно тем самым связывается с ограничивающим, которое в свою очередь ведет к другому явлению и т. д. до бесконечности. В то время как теоретическая мысль допускает логические, остановочные пункты и может условно изолировать, живая действительность не мирится с перерывами и оторванностью. Дискурсивно только теоретическое мышление, но не действительность и жизнь, которые представляются или мыслятся то телесно, то духовно[987].
Этим мы не хотим сказать, что материализм лишен всякого смысла и оправдания. Нет никакой нужды стремиться уложить свое миросозерцание во что бы то ни стало в какое-нибудь одностороннее направление – та ошибка, в которой повинен не один материализм. Жизнь и действительность есть движение, текучесть, развитие: конкретно она никогда не бывает одной и той же во всех стадиях. В этом смысле и материализм несет в себе некоторую оправданность, поскольку он дает идею, применимую в первичных стадиях мирового бывания, когда действительность – действенность данной большой или малой части настолько мала и немыслима отдельно сама по себе, оторвано от универса, что в этой стадии возможно применить механистическое объяснение, не возводя его в ранг полной и исчерпывающей философской системы. Вот почему мы могли бы с некоторой оговоркой, которая должна выясниться дальше в связи с вопросом о личности как о поворотном этапе космического значения, сказать, что механистическо-материалистический принцип может быть применен в начале, но он не пригоден для продолжения и конца, а тем более для всеохватывающего, космического принципа.
Таким образом у нас нет и тени мысли оспаривать у естествознания его права основываться на какой ему угодно точке зрения вплоть до механистическо-материалистической, но решительно отклоняем ее в философии там, где подымается вопрос о мировом принципе вообще. Здесь мы должны, стремясь осмыслить понятие материи в философском смысле, воскресить гениальную идею Аристотеля, в сущности раскрывшего относительность понятия материи: всякая низшая форма способна стать материей для высшей, хотя она в ней отнюдь не утрачивает своей активности полностью. Отыскивая идею чистой материи, мы по примеру Аристотеля находим только чистый отвлеченный принцип, но не реальность. Материя и дух отличаются не степенью ясности и отчетливости их монад, как мыслил их Лейбниц, также устранявший принципиальную разницу между ними, а степенью и характером действенности: материя должна быть понята как бесконечно малая действенность, только в бесконечно малой степени способная к самостоятельному акту. Не надо ни на минуту забывать, что и так называемым мертвым вещам мы все-таки приписываем известную форму действенности, существующую под названием инерции[988], – этой действенности, целиком обусловленной всей системой условий, но сохраняющейся и выполняемой данной вещью, т. е. действенностью в системе, в то время как живая природа действенна не только в системе, но и в себе. В этом смысле действительно можно было бы утверждать, что существуют тела, но нет материи, понимая при этом под телом материю, организованную жизнью, как это предлагает С. Н. Булгаков[989].
С этой точки зрения, можно вполне оправданно и вполне жизненно утверждать: вещи обладают отраженной действительностью; живые существа более действительны, чем вещи; человек действительнее остальных живых существ, животных; творческие люди действительнее обыкновенных смертных; идея и истина более действительны, чем эмпирический человек, потому что они более свободны от власти времени и пространства в своей действенности. Но и в пределах этих крупных рубрик можно установить бесчисленное количество градаций по действительности. Все это богатство действительности развертывается не в своих особых мирах, а в одном данном известном нам мире; в этом отношении и существование идей ничем не отличается от существования других; первоначальное их существование это существование порождений человеческого и именно человеческого ума, но они приобретают особую действенность на том пути и тем значением, о котором мы будем говорить дальше[990].
С точки зрения голого факта, существование идей исчерпывается тем, что кто-то их подумал, они есть продукт преходящий, временный, как и всякое представление, возникающее у человека в порядке опытных переживаний и исчезающее. Идея получает свое значение не от того, как она возникла и эмпирически существует, а в каком отношении она стоит к истине и объективным ценностям. Здесь она может обрести такую степень действенности и мощи, которая и заставляет видеть в ней высшую форму действительности, – той действительности, которая уже не может быть поставлена в аналогию к простому пребыванию, а имеет смысл чистого действия. Это особенно типично выявляется в образовательном и воспитательном действии и действительности идей.
Мы уже отмечали, что эта мысль рождается не только философскими интересами, но она ярко пробивается и в положительных науках, а это очень существенно подчеркнуть в наших условиях поклонения позитивной науке. Пусть часто тенденция единства в ней клонится не совсем в ту сторону, в которую стремимся мы, тем не менее она пробивается все сильнее и сильнее. Необычайно интересно то, что на основании очень веских данных теперь завоевывает себе место взгляд, что, например, клетки не являются последними очагами – единицами жизни, но что они сами в свою очередь представляют колонии, скопление или системы более простых образований, которым должны быть приписаны признаки жизни[991], но тогда можно сказать, что с развитием утонченных методов исследования научным процессом в перспективе показывается и естественнонаучное оправдание утверждения всеобщей жизни и отсутствия коренной разницы между органическим и неорганическим. В противовес идее механистического порядка, когда считают возможным объяснить живое мертвым, а именно – следствием образования ионов в соответствующих смешениях, появляется идея перенести идею жизни и на эти силовые пункты, когда ион становится собственно бионом. Как говорит цитированный нами раньше проф. Б. Керн, принцип «omne vivum ex vivo»[992] нужно признать вполне правильным.
Таким образом принцип действенности является всеобъемлющим объединяющим началом, созидающим единство в бесконечно разнообразной действительности. Это не есть предрешение вопроса об основе универса в монистическом или плюралистическом смысле: наш монизм в данном случае подчеркивает единство, но то единство, которое возможно только как единство многого; это тоже идея всеединства, но уже не как плод теоретического измышления, а как подлинный голос неподдельной жизни. Самое главное при этом ясно расслышать в этом утверждении мысль об единстве не мертвого пребывания, а об единстве вечно творящемся и устанавливающемся. Таким образом наш монизм имеет определенный смысл, что единство есть в сущности живой итог, а не начало, где может быть или одно, или многое, но нет единства в настоящем смысле слова. Конечно, с нашей точки зрения, единственно правильным взглядом является утверждение единого начала вообще, но здесь нет нужды останавливаться подробнее на обосновании этой мысли. Исходя из практически бесспорно существующей непрерывности, а в сознании встречая на первых порах полную раздельность и расщепленность, мы вступаем на путь созидания единства. Мысль наша не мирится с перерывами, как и все наше существо ищет единства на различных путях: так выступает перед нами познание как объединение – каждый акт суждения есть такое объединение; так в нравственности намечается своеобразная почва для единства; в том же направлении ведет и религиозная идея, идея бога – даже политеистические религии объединяют своих богов в идее своеобразного верховного принципа, как греческое môra[993] в идее семьи с особым богом-главой. Все это подкрепляется тем устремлением к единству и полной слитности, какое обнаруживает сама личность, как в своей индивидуальной жизни, так и в жизни общества – в своем стремлении создать живое, вечно текучее, творчески мощное созвучие личностей, их коллектив на почве сохранения всех их как творческих сил, так и создаваемых ими ценностей.
Таким образом действительность должна в принципе рассматриваться как необъятного диапазона действенность – частью выявленная или только выявляющаяся и во всяком случае в возможности, хотя бы в бесконечно малой степени. Мир – это безграничная положительно-отрицательная возможность: так становятся возможными все степени добра и зла, истины и лжи, красоты и безобразия, как мы надеемся показать это дальше. Мир может быть и всем, и ничем по своей ценности. В этом смысле одинаково не правы как оптимисты, так и пессимисты, потому что они ставят готовый, фиксированный штемпель там, где все – возможность. Мир не плох и не хорош, но он может становиться и тем, и другим в зависимости от характера и путей совершающегося в нем творчества, о чем мы поведем речь дальше. Так о жизни можно сказать вместе с поэтом (Надсоном):
«Жизнь это серафим и пьяная вакханка, Жизнь это океан и тесная тюрьма».Сущность мира, как и ценность не есть, а она творится – вот тот ответ, который мы можем дать на коренной вопрос философии. Но здесь перед нами встает вопрос о том, где же найти по крайней мере центральную силовую точку, которой решается судьба в ту или иную сторону? К этому вопросу мы теперь и обратимся.
X. ЧЕЛОВЕК КАК ПОВОРОТНЫЙ ЭТАП
Истина, действительность, жизнь – все это дышит единым принципом с личностью и все это может быть дано только в нераздельном единстве с нею на почве того, что составляет суть их всех – творческой действенности. Таким образом ясно решается вопрос о том центральном силовом пункте, откуда может быть понят мир. К тому, что было сказано нами раньше, мы должны добавить еще некоторые пояснения.
Коренное значение личности подчеркивается всем смыслом, всем глубоким трагизмом основного вопроса, волнующего каждого мыслящего и совестливого человека: я и мир, в каком они отношении? Каждая мало-мальски чуткая душа почувствует в этом вопросе ту коренную позицию, на которой мы настаиваем в отношении человека: когда мы говорим «человек и мир», мы этим самым уже предрешаем нечто очень важное, а именно – оба они становятся как бы друг перед другом или друг около друга, иначе вопрос о взаимоотношении мира и человека, этого пигмея, неизбежно приобретал бы ярко комический характер; тогда нам показался бы сумасбродным весь Достоевский, бунт Карамазова, Ибсен с его героями, да и вообще вся философия личности; более того, тогда вообще попытки человека – если он только пылинка или даже нечто меньшее – осмыслить мир и овладеть им представляют собой ничтожнейший, жалкий фарс, лишенный и проблесков остроумия, которые бы хоть отчасти могли оправдать его. Но вопрос этот для нас вопрос величайшей, всепоглощающей важности, и мы можем отсюда почерпнуть некоторый стимул к тому, чтобы обратить внимание на человека как на наиболее близкий нам и возможный принцип раскрытия мировой сути и смысла жизни.
Нас поддерживает в этом направлении не только высказанный нами житейский, психологический мотив. Идея человека как центра мироздания очень стара: она вскармливалась целыми тысячелетиями в религиозных учениях и переживаниях и в сущности свято продолжает храниться как неустранимая мысль, скрыто или явно в них и теперь. Если бы человек не мыслил себя или не переживал себя как нечто значительное в космической жизни, ему никогда не могло бы прийти на мысль рассматривать свои поступки как что-то такое, чему можно было бы придавать важность греха или моральной предосудительности, или говорить о святости, героизме и подвижничестве как о чем-то, возносящем нас высоко над всем остальным миром. Все это было бы жалким, тяжким курьезом, безнадежной заносчивостью ничтожнейшей пылинки, какими-то путями обретшей самосознание и способность осмысливать и преувеличенно оценивать свои переживания. Но в сущности этим сказано уже все. И вот религии несут, скрыто или явно в мир представление о богах или боге то в определенном конкретном образе человека, то в скрытой форме антропоморфизированных существ, человеческий принцип которых настолько ясен, что не требует никаких дальнейших доказательств. Все они в той или иной форме говорят о космическом значении человека, о его космической роли.
Философская традиция в этом направлении так же велика, как сама история философской мысли. Характерное подтверждение дают метафизики с их абсолютным построением. Разве не идеализированный отблеск человеческого разума и существа созревал уже в первых шагах античной философской мысли, сконцентрировавшей всю глубину и мощь своих философских достижений на идее «мирового разума», логоса и т. д.? В сущности эпоха, провозгласившая человека микрокосмом, вскрывающим в себе всю великую тайну космического бытия и жизни, только ясно осознала и высказала мысль, переполнявшую скрыто или явно все предыдущие времена или даже то, что неугасимо живет в душе каждого человека – именно то, что и заставило его держаться в своих религиозных убеждениях как будто непростительно высокомерного взгляда, что абсолютная истина открывается в мире через откровение именно ему, человеку, и только ему. Нам нет здесь нужды вспоминать обо всей старой и длительной философской традиции в этом направлении – мы вспомним здесь только о Канте с целью подчеркнуть, что мы идем в полосе тех выводов, которые не были чужды, хотя бы и не всегда в раскрытой форме, нашему великому философскому прародителю.
Хотя субъект Канта, с нашей точки зрения, как продукт отвлеченности страдает всеми недочетами, которые неминуемо следуют из этой позиции, тем не менее великий философ со всей ему присущей мощью подчеркнул творческую мощь познавателя и при том в универсальном значении. Классический немецкий идеализм с его мыслью о субъекте как о творце предмета знания и по форме, и по содержанию является прямым продолжателем этой великой идеи Канта о самопроизвольности человеческого духа. Человек становится у Канта в исключительное положение коренного посредника между двумя мирами, миром чувственности и миром разума, в силу двойственности своей природы и своей творческой мощи – в этом и заключается его основная миссия. Кант неоднократно подчеркивал, что «человеческая натура предназначена стремиться к высшему благу»[994], но по учению того же философа высшая цель, как и высшее благо, находится не вне человека, а в его воле и разуме, т. е. в нем весь смысл и ценности; ведь только он способен – например, в противоположность животному – действовать по представлению законов, т. е. только у него есть воля в строгом смысле этого слова[995]. Человек является единственным носителем и источником добра, и таким образом на него возлагается космическая ответственность. Уже тут совершенно ясно слышится аромат коренной идеи Фихте о том, что – мир это материал для нравственной воли, для создания ею нравственного миропорядка и что он связан в своей коренной судьбе с судьбами я[996].
Таким образом мы с полным правом связываем нашу идею о коренной роли человека, о нем как о поворотном этапе в мировой жизни с лучшей философской традицией, в особенности с душой философии Канта и Фихте, что нам здесь особенно дорого. Мы подчеркиваем эту его роль в принципиальном смысле как возможность: входя в мир как одна из его бесчисленных частиц, он может развернуться в явление космического значения, в вершителя мировых судеб, но это, конечно, не предрешает вопроса о том, чем окажется каждый конкретный человек в отдельности; принципиально нет никакого противоречия в том, что фактически те или иные люди вовсе не выйдут из природного, животного состояния: великие космические перспективы – только перспективы, а итог – это вопрос действенного выявления личности, которая может стать и божественной, и остаться ничтожной[997]. В этом отношении можно было бы усмотреть символ глубочайшей значительности в том, что человек начинает при рождении с полной беспомощности и широким диапазоном развития подымается на высоту огромной творческой мощи и преобладания. Почти все и почти ничто – таковы предельные точки, определяющие диапазон возможного раскрытия мощи личности. Здесь для нас, естественно, возникает вопрос о том, что делает человека способным на его великую миссию?
Если мы вспомним нашу мысль о том, что речь о механизме может быть там, где действенность дана в системе, в строгой связанности с нею, в противоположность свободному состоянию, где открывается возможность действия от себя, то человеческая личность предстанет перед нами в ее настоящем цвете в том, что ее и делает способной быть подлинным промежуточным звеном между миром фактов и миром идеальным: личность совмещает в себе и механизм, и телеологию, как способное к свободе существо, неразрывно объединяя их друг с другом, но в то же время решительно перенося центр тяжести собою в царство свободы.
Коренным актом, решающим вопрос о положении личности, является самосознание и саморефлексия личности, в которых личность, не отрываясь от природы и сохраняя живую связь с ней, выходит за ее пределы, возвышаясь над ней и обретая власть над ней в все возрастающей степени. Нам нет нужды подробно пояснять здесь, что это царство личность завоевывает прежде всего в себе и на себе. Самосознание выступает перед нами прежде всего как яркий просвет из природы, из естества в сферу культуры и творчества: с обретением самосознания мы сразу обретаем принципиально возможность властвования над той стороной естества, которую мы называем телесной и нашей душевной жизнью, а так как она потенциально охватывает всю сферу нашего взаимоотношения с миром, то нам становится в возможности покорной безграничное царство мирового свершения в его наиболее ценной, светлой, одухотворенной стороне.
В личности в человеческом принципе впервые механизм (действие только в системе) сменяется свободной действенностью, в известной степени независимой от хода всей природы. Обретение самосознания обозначает не только теоретическое достижение, но здесь открываются широкие действенные перспективы – здесь обретается свобода и совершается вступление в царство ценностей и идеала – в разумном существе и через него – там, где открывается хотя бы первый проблеск мыслительной свободы, т. е. способности мыслить не только то, что есть, но и нечто иное. Если правы были учившие о двойном откровении бога, в Христе и в природе, то в природе это открывается в том явлении, где впервые загораются свет разума и свободной мысли, творческие проблески личности. В то время как естество есть то, что оно есть, человек, по правдивым словам Фихте, первоначально представляет ничто, а тем, чем он должен быть, он должен сделаться, и при том сам, своими собственными силами. Личность обозначает определенное вступление на путь самоперерождения и самотворчества. Залогом этого является свобода личности, ее разум и совесть. Здесь окончательно спадает гнетущее полновластие фактичности и ее всеобусловливающей причинной связи: раскрывается новый порядок, порядок долженствования, и тому, что есть, что составляет факт, что стало как будто неизменным и неизбежным, ясно и отчетливо противопоставляется то, чего нет, но что должно быть – требование и осуществление выбора, возможность и простор свободы и творчества: творя и перерождая себя, личность открывает принципиально возможности творчества и перерождения природы, вовлечение естества в сферу ценностей.
Уже мир, пополненный мыслью, что все могло бы быть иначе, и должно было бы быть иным, перестает быть простым миром «естественной необходимости», потому что мысли и идеи должного также действительность, но они уже нечто новое, сотворенное, прибыль действительности, при том многообещающая, потому что она несет в себе надежду на дальнейшее созидание на рост, которые в свою очередь в возможности ведут к дальнейшему углублению и расширению творчества и т. д. Таким образом открываются в принципе неограниченные, все расширяющиеся творческие, обогащающие перспективы – мы, конечно, опять-таки не предрешаем вопроса о том, как будут использованы эти перспективы, и что из них осуществится. Так человек может идти по своему все повышающемуся пути, опираясь на опыт и завоевания прошлого, не теряя ничего, в то время как природа и животные, как будто в отдельности вечно возвращаются назад и начинают сызнова. У личности есть огромное преимущество, помимо всего, в том, что она обладает не только способностью хранить в своей памяти достижения прошлого, но и использовать их для будущего в ясной и осознанной форме. Только с человеком впервые появляется в настоящем смысле этого слова история или ее возможность. Здесь впервые преодолевается сфера изменения и раскрывается простор подлинного развития. Центр тяжести в мировой жизни с человеческой личностью перемещается в цели ценности, а с ними из фактически, естественно протекающей действительности в творчески созданную – туда, где с каждым актом могут открываться все большие перспективы творчества. Это ярко проявляется уже в отношении человека к внешним условиям жизни в борьбе за существование: в то время как животное должно, чтобы выжить, приспособляться к среде, человек давно перешагнул через эти грани и идет по пути приспособления внешней среды к себе, делая себя при этом в одежде, пище, жилище и т. д. все более независимым от места и его условий.
Все это можно было бы характеризовать как процесс претворения количественного – в своей обособленности – бытия в качественную, в квалифицированную действительность. Человек, способный стать личностью, в этом самом уже выходит за пределы естества и уже живет не одним только общим течением действительности, а он сам может творить повышенную, расширяющуюся и углубляющуюся действительность. В этом смысле мы и утверждаем, что каждая личность в принципе обозначает возможность – положительную или отрицательную – создания нового, особого уголка действительности: с личностью существует уже не мир, а миры. Человек, как и все неразумное в мире в его отдельности, начинает с подчинения все тому же бессмысленному устремлению к голому принципу «быть во чтобы то ни стало», к количественному, просто длительному пребыванию, действию в мировой системе, но затем на этом пути он доходит до таких средств, которые обретают ценность уже сами в себе и знаменуют эру наступления смены идущего в какую-то нескончаемую даль количественного бытия царством качественности, растущей законченности, царством ценностей. Так претворяется в нем, как мы это надеемся пояснить дальше несколько подробнее, голое стремление к бытию в творческую действенность. В голой естественности исчезает одно, появляется другое, затем третье и т. д. без конца, но тем не менее все остается на месте, повышается только общая линия жизни и только количественно. Только в человеке впервые вскрывается ясно выход в творчески-живое, качественное, в царство свободы и независимости от места и времени, в царство вечной и вместе с тем жизнедейственной устойчивости. Таким образом то, что в философии было названо многознаменательным словом «хитрость разума», на самом деле есть величайший акт мудрости, акт претворения голого инстинкта бытия в творчески действенную жизнь и действительность, это прорыв естества. Таков смысл утверждения, что человек находит свой смысл и закон не в том, что он есть, а в том, чем он должен быть[998]. Едва ли будет большим преувеличением, если мы скажем, что человек гораздо больше искусственное существо, чем естественное: он больше всего человек в том, что он сам сделал, сотворил и творит… В этом смысле много правды в словах Карлейля, который говорит: «Нигде вы не найдете его без орудий; без орудий он ничто, с орудиями он все»; человек – это животное, владеющее орудием[999].
Опасение недоразумений побуждает нас и здесь снова повторить, что в потенции мы предполагаем проблески всего этого там, где дан и живет человеческий принцип, но только в действительной человеческой личности этот принцип находит свое полное раскрытие. «Всякая личность, как бы она ни была слаба, есть нечто абсолютно новое в мире, новый элемент в природе. Каждый человек есть в известном смысле художник своей собственной жизни, черпающий силу и вдохновение в себе самом»[1000]. Он не только составная часть и объект мирового свершения, но он является и сотворцом мира и при этом в самой ценной его части: мир ценностей – это мир человека и только его, а из этого ясно следует, что до личности или без нее мир не может быть ни добр, ни зол, ни истин, ни ложен… Только личность впервые пробивает решительную брешь в этом царстве безразличия – человек и все, что хотя бы в малой дозе дышит его принципом. Непоколебимое убеждение в своем особом призвании и назначении человек ясно выразил своим вопросом о смысле своей жизни и о своей роли в мире. Как говорит поэт:
«Nur allein der Mensch Vermag das Unmögliche: Er unterscheidet, Wählet und richtet, Er kann dem Augenblick Dauer verleihen». (Гете.)(Только человек превозмог невозможное: он различает, выбирает и судит, лишь он способен подарить длительность мгновению.) С человеческим принципом приходит настоящий преображенный мир, с ним идет отношение к ценностям и культуре, и тот же мир становится иным. Характерно, что без него величайший шедевр живописного искусства, например, был бы только измазанной тряпкой, статуя комком глины или ничтожным куском мрамора и т. д. Все мы знаем, как на этом пути вещи становятся иногда более неприкосновенными и священными, чем люди, и наоборот – тот же человек может спуститься до положения, почти приближающегося к положению вещи.
XI. ОТ МЕХАНИЗМА К ТЕЛЕОЛОГИИ, ОТ МАТЕРИАЛИЗМА К ИДЕАЛ-РЕАЛИЗМУ
Человек как поворотный этап универсального значения – такова великая подымающая идея, к которой нас приводит весь ход наших размышлений. Это ставит перед нами вопрос о характеристике того пути, на котором мы отводим личности коренную роль. Это великий многострадальный путь, на котором из тьмы рождается свет, из необходимости растет свобода, из царства механистического открывается просвет в сферу ценностей и целей, когда мертвое оживает или пополняется живым, когда в мире загорается свет смысла и сущности и т. д. Перед нами задача понять, что в мировом развитии то, что мы считаем противоположностями, на самом деле является только отдельными этапами общего пути развития. К этому вопросу мы и обратимся теперь, стремясь раскрыть эту проблему во всех последующих главах.
Мы здесь должны припомнить на момент тот вывод, к которому нас привел обзор различных философских миросозерцаний в вопросе о смысле жизни. Мы видели, как понемногу из всех них вырисовывалась постепенно одна всевластная категория, господствующая над всеми помыслами, как человека жизни, так и глубочайшего философа – это категория жизни, стремление жить и быть во что бы то ни стало, и при том стремление расширять и углублять жизнь. На этом в явной или скрытой форме сошлись диаметрально противоположные учения, начиная от материализма и кончая критицизмом и религиозно-философской метафизикой. Как мы это отметили в главе о жизни как верховной категории, непредставимость небытия, наше отвращение перед уничтожением жизни, нелепость мысли – жить, чтобы уничтожать жизнь, – все это нашло свой глубокий отзвук в мировой философии во всех ее разветвлениях. Мы там остановились самое большее на великом обещании «вечной жизни», но все-таки жизни. Таким образом на вопрос о том, чем оправдана эта вечная жизнь, мы не получили и на традиционных путях не могли получить ответа; во всяком случае этот ответ принципиально не отличается от того ответа, какой дает нам жизнь практически, жизнью и стремлением людей обыкновенных. Тревожная мысль о бессмысленных стремлениях оказывается далеко не устраненной. Все завоевания духа предстают перед нами как «хитрость разума» в укреплении все той же жизни.
Такое единодушие мыслителей самых разнообразных направлений является ясным показателем, что здесь кроется какая-то великая правда. С нашей точки зрения, она несомненна, и заключается она в том, что принцип «быть и жить во что бы то ни стало» вполне подходит для характеристики исходного, отправного пункта как по отношению к целому, так и по отношению к отдельным живым, развивающимся существам. Мы должны твердо помнить, что принцип развития применим не только к раскрытию целого и его частностей во времени, но и в применении к каждому данному моменту, периоду или эпохе можно и должно использовать эту идею, как бы определяя напластования или наслоения действительности, потому что мы в этом случае найдем не только достижения, полученные к данному моменту, но и увидим в основных чертах все крупные стадии, через которые прошло все развитие: как говорил Гегель, великая память космоса сохраняет все без утрат. Таким образом в исходном пункте просто констатируется голое обстояние, в котором мы напрасно стали бы искать иного смысла, кроме того, что оно, как чистый материал, несет в себе возможности стать всем и вместе с тем остаться ничем.
Трагическая, тяжкая ошибка для всех, кто ищет смысла и оправдания жизни и личности, кроется в этом случае только в том, что этим принципом абсолютной воли к бытию пытаются исчерпать весь космос безотносительно, под каким бы это заглавием ни проходило, т. е. переносят его на все стадии мирового раскрытия или, лучше сказать, просто отбрасывают мысль о живом мире и берут его как нечто однократно, твердо, зафиксировано данное, чего нет и не может быть на самом деле. Мы надеемся в ходе наших размышлений показать, что первоначально в мире и жизни нет смысла и разумного оправдания, но он может создаваться и создается – смысл и оправдание могут прийти только активно-творческим путем, они могут быть, как и все, только действенным путем, освобождаясь от времени и обретая особой формы статическое состояние только в своем значении. Все наши усилия мы должны теперь направить в сторону уяснения того, как в личном и космическом раскрытии и где впервые начинает брезжиться эта заря и как она разгорается во всеоживляющее, всесогревающее солнце смысла и разумного оправдания.
Всеобщность и верховность категории жизни заставляет нас вспомнить здесь о том, что тесно связано с ней и что становится понятным более или менее только в свете этого верховенства – это утверждение тождества реальности и совершенства, их прямой – если можно так выразиться – пропорциональности. Эта мысль не является новой в истории философской мысли. Мы здесь напомним только о Спинозе, который в шестом определении своей «Этики» утверждает, что он под реальностью и совершенством понимает одно и то же. Определив истину как отнесение идеи к богу, как адекватное и ясное, и отчетливое познание, а ложь как недочет познания, Спиноза в примечании к теореме 43 второй части подчеркивает, что различие между человеком с истинными идеями и человеком с ложными идеями в степени реальности и совершенства. Он прямо указывает, что истинная идея относится к ложной как бытие к небытию. Дальнейшее его пояснение идеи реальности как идеи активности еще раз подкрепляет мысль о том, что все направлено на жизнь и ее усиление и углубление; чем совершеннее, тем реальнее, тем более действенности – таков глубоко правдивый вывод Спинозы. Здесь небезынтересно отметить довод Канта, которым он пытается доказать невозможность безнравственного принципа – тем, что это был бы – при условии всеобщности – принцип уничтожения, что невозможно – невозможно потому – добавим мы, – что жизнь и стремление к ней есть верховный принцип, определяющий все.
Так и должно мыслиться нами изначальное положение, как и в частности – массовая жизнь людей, от которой отправляется вся жизнь и на которой она строится, как на своем фундаменте. Мы таким образом нашли принцип развития первоначального свойства: порываясь все больше и больше к повышению и углублению бытия, мировое развитие стремится к все более совершенным образованиям и формам, так как в них дана все та же жизнь и бытие, но только в повышенной и углубленной форме. В этом смысле и можно расположить мировое течение в все шире и глубже развертывающуюся ленту обретения реальности, своеобразного ухода от неустойчивой текучести в пространстве и времени, но только до того поворотного этапа, каким является человеческая личность с ее принципом – до того момента, когда открывается действительная возможность обретения свободы и смысла. Поскольку речь идет об этом первоначальном, естественном состоянии и течении, мы должны признать безусловно правильной точку зрения экономического материализма, как и материализма вообще; ошибка их в переоценке себя, в мысли, что они исчерпывают все содержание и формы мирового развития, а не являются только точкой зрения, наиболее пригодной для определения исходного положения, да и то с ограничением, о котором мы упомянем дальше.
Таким образом стремление к бытию, задача расширения и углубления реальности – вот то, чем полон этот мир. Если мы учтем при этом то, что у него отсутствуют в этой стадии какие-либо идеи или стимулы разумного или ценного порядка, а также и то, что все течение определяется собственно не целями, а как бы изначальным толчком, то мы с полным правом характеризуем это его исходное состояние как механистическо-материалистическое, но это требует дальнейшего пояснения и учета следствий, вытекающих из этого положения, к которым мы теперь и обратимся.
В одной из предыдущих глав, где речь шла о понятии действительности, мы пришли к утверждению, что понятие бытия может иметь один смысл – это быть действенным. Материальность и механистичность заключаются только в минимуме этой действенности, в бесконечно малой действенности, в неспособности начать действие от себя и использовать мощь, часто огромную, заложенную в них как возможность. Эта беспомощность, отсутствие даже малой дозы свободы приводит к тому, что естественное состояние, изначальное положение является стадией почти полной разрозненности, разрозненной оформленности и оторванности друг от друга. Это и есть то, что подало повод мировой религиозной и философской мысли говорить о мировом хаосе. В этом положении вещи могут находиться в непосредственной пространственно-временной близости и тем не менее быть бессильными произвести что-либо или отразить в себе в какой-либо форме эту близость или во всяком случае предпринять что-либо от себя для сближения или удаления. В этой стадии может быть предположена только принципиальная возможность действенности или минимум ее – это то, что мы вправе назвать возможностью духовного принципа. Здесь перед нами стадия полной связанности целым и в то же время полная обособленность в отдельности, поскольку целое не восстановляет эту связанность. Отсюда и вытекает творческое бесплодие и бессилие того, что мы называем подчиненным материально-механистическому принципу. Таким образом в стадии неорганичности мир бьется в случайных, вне целей совершающихся перемещениях и изменениях, поскольку речь идет о его частях (вопроса о целом мы пока не будем предрешать). В ней силы и вещи сталкиваются, усиливаются, уменьшаются, распыляются и конденсируются и т. д. и инертно сохраняют то состояние или положение, в какое их поставил один из бесконечных случаев, пока новый толчок внутри мирового свершения не обусловит новой перемены, нового перемещения. Строго говоря, из этого ясно следует, что сам мир в этом положении – в противоположность традиционному представлению – не только не повторяется сам по себе, но он неспособен создать это повторение; наоборот, можно сказать, что в нем все единично и однократно – механистическое свершение не повторяет, а только удерживает, сохраняет первоначальное состояние. Если бы в мире существовала только эта стадия, то мы видели бы только одни обособленные, совершенно оторванные друг от друга элементы, но не было бы целого. Все это только материал, только естественная возможность, только материя, что и дает право тем, кто сосредоточивается на этой стадии как на окончательной и типической говорить о мире с материалистической точки зрения. Такова безусловная правда материализма. Эта мысль находит свое правдивое логическое завершение в утверждении, что это есть стадия совершенного, почти неограниченного плюрализма, чистой множественности. Эта черта находит свое характерное подтверждение в допущении бесконечной множественности атомов, ионов, электронов и т. д., на которую опирается старый и новый материализм.
Но там, где материализм усматривает завершающие горизонты, на самом деле дана крайне неустойчивая позиция, требующая по самой своей сути дальнейшего раскрытия. Множественность и обособленность оказываются уже потому не абсолютными, что они объединены в одном пространственно-временном мире, что гарантирует самую возможность встреч, взаимодействия, перемещения и т. д. Но в этом же положении мира можно отметить еще и иную возможность в направлении на установление единства: это то, что уже на этой стадии слышится какая-то, если можно так выразиться, космическая сродненность отдельных частей, явлений мира, выражающаяся между прочим и в том, что химия называет сродством элементов. Уже тут происходят отдельные сочетания и взаимодействия, в которых получается неразрывное единство. Та же черта появляется во взаимном притяжении, электричестве и магнетизме[1001].
Таким образом мысль наша естественным логическим путем переходит к идее противоположного порядка, к идее полной слитности, органического единства.
Как мы видели, материалистическо-механистический взгляд может быть принят только как известная условность, которую современное естествознание все более и более перередактирует в энергетическую теорию, утверждая возможность сил без носителей. Таким образом мы здесь снова встречаемся с ранее высказанной нами мыслью о том, что нет ничего бездейственного в абсолютном смысле этого слова: что бездейственно, того нет; есть только то, что действует, и в меру того, как оно действует. Там, где мы вправе говорить о механизме и материи, речь идет о действии только возможном, инертно передающемся, неспособном переменить самого себя и своего воздействия на окружающее от самого себя, о действии связанном, несвободном, в сущности лишенном способности творческой причинности, хотя это отрицание, как мы это повторяли неоднократно, не обозначает полного отклонения творческой основы в мире, а только то, что на этой стадии существует только одна возможность, потенция, которая и вскрывается дальше, но уже в новом слое действительности.
Признаком вскрывающейся творческой причинности намечается новая форма реальности. В то время как в материально-механической стадии все передавало силовое воздействие как бы без произвольных прибавлений от себя, что сводит все явления этого порядка почти на простые этапы прохождения сил, органическая стадия меняет всю картину: организм, понимая его в широком смысле этого слова, является не только восприемником, передаточным фактором, но и, что самое важное в его роли, фактором претворяющим всякое воздействие на него: все, что притекло к организму, может уйти от него, как и войти в него, только в пересозданном им самим, своеобразно обусловленном виде. Конечно, мы не собираемся утверждать, что в нем все переливается в творческие формы; принцип телесности сохраняется, и в меру этого остается и известная механичность, но это не есть то, в чем организм является организмом. Стадия органичности не отбрасывает стадию неорганическую, а только подчиняет ее себе, пополняет, углубляет и претворяет ее. Мы уже раньше отметили, что в мире нет ничего мертвого, что неорганичность только бесконечно малая жизнь и действительность, предельный, отправной этап, который существует только в целом и живет только в нем, но все-таки живет; это то, в чем органичность дана в бесконечно малой степени. Вот почему переход от него к вскрывающейся органической стадии не представляет затруднений.
Как это совершается, пусть это скажут положительные науки. Нам важна здесь принципиальная сторона. Важно то, что в мировом свершении вскрывается новая форма действенности, что обретается известная форма самостоятельности. Организм подчинен все тому же принципу отстаивания своего существования, но он способен делать это в более совершенной форме: он не просто существует в среде, но пытается приспособиться к ней, при чем уже на первых стадиях проявляется то, что потом дальше создает человек: уже тут появляется попытка не только приспособляться, но и приспособлять. Чем выше подымаемся в царстве органического, тем шире и глубже становится диапазон претворения и объединения. Если предыдущую стадию можно было характеризовать как плюралистическую, то здесь перед нами путь монистический: пространственно-временное единство сменяется здесь единством органическим, качественным в самых разнообразных формах и масштабе по направлению к всеобщему объединению в единый гармоничный мир, в единство сотворенное, способное вечно поддерживать, множить и углублять жизнь – своеобразная коалиция частей и элементов для поддержания и усиления жизни и бытия, в которой дается нечто новое в каждом существовании, новое, но еще не оправданное и не озаренное оправдывающим смыслом и ценностями. На этой стадии есть только одна цель – быть, что почти равносильно полному отсутствию целей, но в принципе все же цель существует: она дана в такой форме, что в ней могут совпадать causa effi ciens и causa fi nalis[1002].
Таким образом в начале или в нижнем этаже действительности мы встречаемся с единством уже не данным, а созданным, хотя и в обособленной форме. Дальше раскрывается бесконечный калейдоскоп явлений и существ, в мириадах форм, отстаивающих свое существование, но подчиненных все той же цели быть и жить. Диапазон этой целесообразности охватывает и целесообразность цветковой окраски, и зоркость, и чуткость хищника, и т. д. Но здесь нет разницы в целях между различными видами, а она намечается только в степени приспособленности для данной цели, для цели сохранить себя и на возможно более длительное время, где это нужно, за счет существования окружающего. В более или менее удачных и неудачных попытках заставить служить себе все окружающее совершается развитие, дифференциация, утончение и усложнение жизни. Таким путем оправдывается тот ряд, который намечался еще классическим немецким идеализмом: царство минеральное, растительное, животное, человеческое, идеальное и т. д., не в виде смены, а в форме все большего пополнения и обогащения применительно к цели сохранения и повышения бытия. С своей особой религиозно-философской точки зрения Вл. Соловьев передает эту мысль так[1003]: «Каждое предыдущее царство, очевидно, служит ближайшей материей для последующего… Как живой организм состоит из химического вещества, перестающего быть только веществом, так человечество состоит из животных, перестающих быть только животными» и т. д. Но в конце концов все это направлено на «вечную жизнь», на гарантированное «быть и жить», как мы это стремились показать в главе о Соловьеве в первой части этого труда. Везде одна и та же целенаправленность, но только диапазон орудий, средств и достижений различен. С этой стороны перед нами все еще только одно бытие, количественно расширенное и углубленное, но неоправданное в себе и в той цели, которая поставляется. В нижнем ярусе жизнь как бы только дается, дальше она достигается, потом еще и чувствуется, далее она не только сознается, но и оценивается, пока не доходит до всеобъемлющего сохранения всего, что поддерживает жизнь в вечной и устойчивой форме, как это рисуется религиозной мысли.
Таким образом мы уже сказали этим, что переходом от неорганичности к органическому сгущению действительности вопрос не исчерпывается. Органическая жизнь далее выносит свой усовершенствованный, специализированный вид, новую прослойку действительности – действительность, обогащенную раскрытием душевной жизни. Это не есть скачок в какой-то особый мир, чудо в развитии, а это есть только повышенная в своей интенсивности и глубине та же органическая жизнь. Появление одушевленной действительности является непостижимым только тогда, когда мы забываем о живом конкретном мире и жизни и становимся на отвлеченную точку зрения. Голос правдивого взгляда на мир и жизнь говорит нам совершенно ясно, что там, где жизнь, там и душевная жизнь; иначе утрачивают всякий смысл речи о целесообразности, как бы мала ни была ее степень, а бесконечно малая степень ее, как мы об этом говорили раньше, присуща даже стадии механистической. Таким образом можно и должно сказать, что там, где жизнь и действительность, там везде и душевная жизнь. Весь вопрос в этом случае сводится только к уровню интенсивности, мощи и роли этой стороны всего, что существует.
Мы спешим лишний раз подчеркнуть здесь, что это наше утверждение не обозначает ни узкого панпсихизма, ни тем менее спиритуализма. Над ними, особенно над спиритуализмом, тяготеет тот же коренной грех отвлеченности; это прямые антиподы материализма с теми же недочетами и с той же правотой: в то время как материализм абсолютировал принцип, оправданный в применении к исходному, нижнему напластованию действительности с теми оговорками, на которые мы указали раньше, спиритуализм делает то же самое с принципом, который условно можно применить даже не к конечной ступени или мировой прослойке, а к одной из этих стадий. Мы здесь еще раз должны энергично подчеркнуть, что действительность едина, и речь может идти только о перевесе того или иного принципа в ней. То, что крылось в бесконечно малой степени в исходном пункте, дальше нашло свое обнаружение на естественном пути отыскания путем борьбы и приспособления наиболее целесообразных форм удовлетворения стремления всего быть и расширять свое бытие. Даже современная психология с ее навыками специальной науки к изоляции, из которой легко получается оторванность объекта данной науки от объекта другой, даже она не страшится утверждать[1004], что «нет серьезных препятствий для предположения, что психическая жизнь (душа) была порождена органическими процессами (органической материей) на определенных ступенях развития и теперь еще порождается при развитии всякого индивида». Действительная картина мира такова, что нет только психического, как нет только материального, как нет их суммы, а есть только их выделенность как принципов сторон единой действительности, в которой мы выделяем то или иное как преобладающее. Независимость и обособленность мира телесного и духовною оправдывается только логически и познавательно, но не реально, как правдиво утверждала шеллингианско-гегелевская философия, только дух, как и только материя есть не действительность, фикция, отвлеченность, только идея.
Таким образом действительность едина, но, вступая в прослойку мира, где мы встречаемся уже с выявляющейся одушевленной действительностью, мы действительно входим в новую сферу; не потому, что это нечто действительное в противоположность предыдущим формам бытия, а потому, что здесь создается повышенная и углубленная форма действенности, а дальше и определенно вскрывающегося творчества. В итоге здесь действительно расширяются перспективы и возможности; если мир вообще никогда не повторяется в действительности или повторяется только в теории ученых, в науке, то тем больше это можно сказать об этой ступени.
Осмысливая цель, хотя бы ею на первых порах было сознание, что перед данным существом нечто съедобное, питание, органические существа начинают приспособлять к себе окружающее, что возможно только путем одухотворения его, хотя бы это было в бесконечно малой дозе, в меру той свободы, которая присуща данному существу и которая обозначает прежде всего соответственно повышенную действительность и жизнеспособность данного существа.
И в этом напластовании мирового бытия раскрывается, как и в других, бесконечно разнообразный диапазон. Вот перед нами амеба, целесообразно – для своих примитивных условий и потребностей – совершающая свои операции. Вот перед нами стая кур, целесообразно отыскивающих себе пищу, устраивающихся с цыплятами, умеющих подметить, где можно найти пищу, лучше вывести потомство и т. д. Но вот перед нами те же куры и цыплята преспокойно созерцают, как на их глазах убивают их сородичей на кухне, но они этого «не наблюдают», не могут сделать своих выводов; связанным цыплятам, ожидавшим своей участи, давали крошки хлеба, и они наперебой клевали, хотя не могли быть особенно голодны. Диапазон их горизонта так мал, что для них есть будущее только в самой ограниченной степени; брезжатся лишь элементарные представления и действенные выводы из них о ближнем моменте насыщения, неудобства, боли – и с головой «на плахе» птица не обнаруживает никакой особой тревоги. В далекой перспективе долгого развития рисуется нам человеческая личность с ее необозримыми горизонтами в прошлое и будущее, с ее свободой, творческой мощью и ее возможным диапазоном жизни и действительности. Только у нее вполне вскрывается первое огромное значение обретения выявляющейся свободы как обретение шансов на безграничное повышение реальности себя и вокруг себя.
Прежде чем мы пойдем дальше, необходимо подчеркнуть общеизвестное и бесспорное положение, что причинность не знает исключений, но что она не знает и не может знать безусловного конца: вопрос о причине гонит нас от одного этапа к другому, на нем открывается их путь в бесконечность, каждый ответ в то же время является вопросом о дальнейшей причине. На этом пути нет и не может быть целей и ценностей, а с этим не может быть установлен и смысл, как не может появиться и вопрос о нем. Для причинного свершения естественного порядка не нужно будущего – того будущего, о котором говорят цели и ценности: для него совершенно достаточно прошлого и настоящего, первое нужно как причина, второе – как действие и материал. Возможность будущего, целей, ценностей и смысла, всякого отбора, допущения и отклонения появляется только при том или ином отнесении к субъекту. Причинность оказывается достаточной, пока мы пытаемся объяснять и описывать, но она недостаточна, когда речь идет об оправдании. Это специфическая проблема телеологического пути, отнесения к целям и ценностям, а следовательно, и невозможная без субъекта[1005]. В раскрытой форме все это мы встречаем у человека.
Появление человека обозначает появление в раскрытой или раскрывающейся форме того принципа, который в скрытой, малой или в потенциальной только степени пропитывает все, что действительно. Вот почему его появление на арене действительности обозначает поворотный этап во всей мировой эпопее, как это мы надеемся показать всем дальнейшим изложением; с человеком открываются новые горизонты не только поддержания, укрепления или количественного обогащения действительности, но и широкого ввода уже сотворенных творческих сил. Человек, как об этом говорит старое учение о нем как о микрокосме, вскрывает нам на себе величайшую тайну мира – то, о чем остальная природа говорит, скрыто или только в тайниках потенциального пребывания. Человек – это открывающаяся тайна, космическая мечта. Он находит не только пути к сохранению жизни и бытия, но и форму ее бесконечного творческого обогащения. Чтобы понять и оценить эти перспективы, достаточно вспомнить о том законе, который современная психология формулировала как закон возрастания духовной энергии. «Духовная мощь индивидуальности, помимо других источников, растет вместе с развитием психики благодаря этой дивной способности души отстаивать самое себя от власти времени (например, уже в явлении памяти. – М. Р.) . Творческая мощь бытия, действительно, не только не истощается в процессе мирового развития, но она растет вместе с ним»[1006], но рост этот в сущности полным ходом начинается только с появлением человека, в котором открывается возможность выявленной психической мощи, одухотворения. Так как на этом пути устраняется опасность иссякания жизни и бытия, наоборот, видны перспективы на обогащение, то становится вполне понятным и узаконяется – все в свете той же цели поддержания и обогащения жизни – стремление к духовной жизни, некоторая заносчивость с нашей человеческой стороны по отношению, например, к животным.
Человек ощущает в себе эту таинственную сердцевину действительности, возносит себя на высоту «царя природы» и начинает новую полосу в жизни мира. Это сказывается отчасти уже в том, что так красиво отметил Лотце[1007], говоря, что красота красок и тонов, теплота и аромат есть то, что стремится породить и выявить природа и чего она не в силах достичь собственными своими силами (в полной мере, добавим мы, не разделяя взгляда на субъективность чувственных качеств.); она нуждается для этой цели как в последнем и самом благородном инструменте в воспринимающем и ощущающем духе, единственно способном дать немому стремлению слова и оживить все. Человек может достичь этого именно потому, что природа несет в себе скрыто то, чем открыто живет человеческая личность, и из чего она раскрывает совершенно новый мир и возможности: сознавая себя как вершину природы, человек дальше стремится распространить эту форму и степень существования на весь мир; отсюда начинается процесс очеловечения или прямого одухотворения мира, отсюда открывается путь от естества к культуре. В свете своего сознания человек переходит на почву оценки действительности и возможности ее широкого выбора. Он не просто идет в мир, но он стремится сделать его своим, распространить на него весь свой характер, приобщить его к своему я, установить полное единство мира с собой на почве ясного распространения человеческого принципа на мир.
Пользуясь своим самосознанием и присущей ему свободой, человек – опять-таки в меру своего развития – стремится воздействовать на вещи так, чтобы они гармонично вошли с его печатью в антропоцентрическое единство, как в наиболее обогащенную и сконцентрированную форму жизни и бытия, так как человек не только существует и чувствует свое существование, но он ясно сознает его и умеет пользоваться вытекающими отсюда возможностями; на этом пути он не только стремится воздействовать на природу и окружающее, но он обретает возможность – что особенно важно – перерабатывать, как мы говорим, развивать себя в нужном направлении, образовывать себя, используя опыт свой и чужой и приобретая навыки, искусственные приемы и знания. Все это ему необходимо для укрепления действительности себя и своей жизни, что возможно только при том условии, если остальной мир, вещи и среда вообще, поскольку личность соприкасается с ними, не вносят диссонанса[1008]. Путь согласования мира с человеком путем подчинения его, начиная с малого и кончая всем размахом современности и будущего, и есть то, что мы называем культурой.
Здесь особенно интересно отметить, что только культура и искусство, т. е. человеческая сила и власть внесли в природу и мир единообразие и повторяемость, в то время как от себя они не знают повторений в точности: они экстенсивно и интенсивно бесконечно многообразны[1009]. Только человек в своих обобщениях оценил силу инерции и возможности повторений в общем и широко использовал их, комбинируя силы природы, естества друг против друга и наряду и вместе друг с другом в своих целях, создавая условные единства, объединяя близкое и далекое, изолируя, где нужно и т. д.
Все это совершается в новой сфере, в сфере осознанных целей и долженствования в самых разнообразных его степенях. Факты и их связь рассматриваются определенно, как материал для формирования сообразно поставляемым целям и согласно должному – тому, что есть, противопоставляется то, что должно быть. Человек стремится окружить себя человеческой атмосферой, и там, где она не устанавливается сама собой, он очеловечивает окружающее, подчиняя его частным человеческим целям, а через это и общим. Это все то же естество, но оформленное и несущее печать человека. Таков характер труда и всей хозяйственной деятельности человечества; он направлен при этом не на уничтожение естества, а только на его соответствующую обработку и оформление, на его включение в новое, антропоцентрическое единство. Как говорит С. Н. Булгаков[1010], характеризуя хозяйственную деятельность человека, «она есть борьба человечества с стихийными силами природы в целях защиты и расширения жизни, покорения и очеловечения природы, превращения ее в потенциальный человеческий организм. Содержание хозяйственного процесса можно выразить еще и так: в нем выражается стремление превратить мертвую материю, действующую с механической необходимостью (с нашей точки зрения – только с бесконечно малой целесообразностью и органичностью. – М. Р.) в живое тело с его органической целесообразностью; поэтому в пределе цель эту можно определить как превращение всего космического механизма (который мы вправе утверждать только относительно. – М. Р.), в потенциальный или актуальный организм, в преодоление необходимости свободой, механизма организмом, причинности целесообразностью, как очеловечение природы». Свое яркое раскрытие это очеловечение естества находит, конечно, в специальной форме культуры, в искусстве и в идеальных ценностях, творимых человеком.
Об этой сфере очеловеченной и очеловечиваемой действительности говорит все, начиная от примитивных орудий, которыми пользуется человек, его одежды, жилища, утвари, культивируемых им растений и животных и кончая преобразованием и усовершенствованием самого себя и своего, так называемого душевно-духовного содержания. В этой последней деятельности кульминирует, как будто жизнь в своем стремлении отстоять, расширить и углубить себя: верх совершенства знаменует собой достижение и соответствующей стадии реальности: как показал нам обзор ряда философских учений, за эстетическими, нравственными и религиозными чаяниями кроется прежде всего все то же устремление к повышенной действительности. В царстве истины, красоты, добра и святости открывается прежде всего царство возвышенного, наиболее углубленного бытия и наиболее свободной действительности.
Человек здесь, на вершинах, ищет удовлетворения все тех же стремлений, вытекающих из всеобъемлющей цели «быть и жить», но в конечном итоге находит не только то, чего искал, но нечто неизмеримо большее и значительное. Если до сих пор все зависело от признания фактически царствовавшей и все определявшей цели как естественно данной, то теперь им открывается нечто самодовлеющее, самоценное, идеально свободное и независимое. До сих пор все требовало отнесения к внешней цели и потому в перспективе была только безграничная дорога условностей и относительности; теперь им обретается впервые возможность мира абсолютных достижений, совместимых с неограниченными дальнейшими перспективами. Личность вступает в созданное ею и в силу этого соответственно доступное ей царство чистых значений, не отрываясь в то же время от остального мира, не покидая его, а наоборот, в себе наделяя его всей полнотой смысла своего существования.
Это оказывается достижимым на том пути, что человек для удовлетворения своей ненасытной жажды к бытию пошел в царство сотворенных ценностей все с той же необходимостью; он устремился к ним как к средству, видя в них своеобразное «als ob» (как будто) действительности, но нашел не только верное средство, но и полное раскрепощение и самоцель: начав с естества, необходимости, механизма, голого бытия и относительности, он прорывается на простор культуры, свободы, целесообразности, оправданной идеальным характером действительности, и в сферу самоценностей, освобожденных от власти времени. Так, органическое естественным путем завершается и находит свой смысл в сверхорганическом. Все развитие есть повышение и углубление действительности как действенности, но в человеческой личности достигается высшая форма этой действенности уже сверхличного порядка, так как ключ жизни и действенности бьет неистощимо, не убывая. Таково царство красоты, истины, добра и правды, как мы это надеемся подробнее пояснить дальше. В этой плоскости личность как творец освобождается от власти всеобщей цели «быть», которая господствует всецело, но не несет еще достаточного оправдания в себе самой, а ждет его от чего-то иного: она цель, но не самоцель. Красота настолько самоценность, что даже смерть, окутанная ее колоритом, перестает страшить личность; истина столь мощна, что инстинкт жизни становится ее рабом; правда может подвинуть на стойкое, непреодолимое отношение, даже к величайшим страданиям и уничтожению… Это не есть творчество из ничего; нет, это все тот же конкретный живой мир, но претворенный, одухотворенный.
Такова эта своеобразная «теургия», совершающаяся естественным путем от ничто по направлению к ценностному всему. И здесь перед нами бесконечно разнообразное царство по степеням чистоты, углубленности, эстетической, логической, моральной и религиозной истинности. Это своеобразный мир значений, одетый в плоть и кровь жизни, и на вершине его становится в идеале сама конкретная личность как разносторонний жизненный гений, как собственное художественное произведение. Так претворяя все, человек-личность подымается на высоту, на которой он оказывается способным претворить самого себя, вознестись на ступень сверхчеловечества. Как дорог культурной личности этот сотворенный сверхличный мир, это лучше всего показывает готовность человека отдать самого себя, только чтобы отстоять этот мир. История нам дает яркие образчики в лице Сократа, Бруно, Спинозы, в лице многих практических борцов за правду и человека и т. д. Интересную иллюстрацию к этой мысли мы находим у Ромэна Роллана из недавних событий: отыскивая ответ на вопрос о том, почему преступления против вещей в мировой войне вызывали большее возмущение, чем преступления против людей непосредственно, он видит причину этого не в том, что это просто дико и не оправдывается бездейственностью вещей или отсутствием материальной ценности – он видит причину этого глубже[1011]: «Самым острым горем для истекающей кровью Франции было покушение на наш Парфенон, на Реймский собор, на святыню Франции… Как над умирающими воинами реет мечта их любви, любви к родине, которой они отдали свои жизни, так на плечах, отмеченных свыше, приходящих в мир и уходящих из этого мира, возвышается ковчег завета, хранилище искусства и многовековой мысли. Одни носители сменяют других. Ковчег завета должен быть спасен… Произведение рук человеческих, подобное Реймскому собору, ценнее человеческой жизни; это целый народ, это его многовековая жизнь, звучащая симфонией в этом каменном органе. Это его воспоминания, его радость, его слава, его печали, его сокровенные мысли, сомнения и мечты; это дерево его расы, корни которого лежат в глубоких недрах его земли и которое в могучем порыве поднимает свои ветви к небесам… Разрушающий такое произведение совершает преступление страшнее убийства человека. Он убивает благородный дух расы». Пусть кое-что в этих прекрасных, прочувствованных словах отдает некоторым преувеличением, но в основной своей идее этот пример из действительных, потрясающих событий недавнего прошлого хорошо иллюстрирует нашу мысль о том, что человек может на этом пути возвыситься над самим собой и найти, наконец, то, что способно быть не только средством для известной цели, но что способно стать самоцелью, ценностью с абсолютным в себе значением.
При этом мы подчеркиваем, что это не то значение, которое как-то значит и ни в какое реальное отношение к конкретному миру не вмещается, которое является слабым отголоском до крайности утонченного платоновского мира идей – нет, мы говорим тут о живом, конкретном, сотворенном во всей своей живой действенности и потому действительно существующем явлении. Мы говорим не об идее, например, Реймского собора, которая может быть действительна как историческое или персональное воспоминание о выполненном, осуществленном или воображаемом архитектурном произведении искусства, потому именно в своей действенности-действительности ослабленном, а мы говорим о конкретном Реймском соборе во всей его реальной, живой полноте в пространстве и времени, существующем во Франции, – мы говорим не о более или менее удачной и оправданной логической или теоретико-познавательной вытяжке из жизни, – что может иметь свой смысл в особых интересах, а о самой настоящей, неподдельной жизни.
Мы этим, конечно, не думаем отбросить в сторону ценность идей как идей, но мы им отводим только то, что им принадлежит по праву. Идея есть также реальный, живой акт жизни в особой форме, но она больше потенциальная, чем подлинная действительность: она всегда ждет своего раскрытия, претворения в действительность; она всегда мечта о действительности и подлинной жизни, тем более увлекательная, чем ценнее сама идея, чем шире ожидаемый диапазон ее действенности, чаянной действительности, которая получится при ее претворении в жизнь. Вот почему совершенно правильно говорят об идеях как об отвлеченностях, как о форме, об идеале, одинаково еще нереальном, как и чистая материя, эта своеобразная тоже идея. До их претворения каждая из них реальна не в том смысле, как их берут, а как переживание личности. Обе эти потенции стоят перед человеком, и так у него рождается и может твориться им их претворение в действительность, где уже исчезает их противоположение и открывается великий синтез «земли и неба» в бесконечно разнообразных степенях, который и является настоящей реальностью. Сам человек во всей его конкретности является во всей его живой полноте лучшей иллюстрацией и пояснением этой мысли. Стоя как бы в одном мире, личность созерцает иной мир и в своей деятельности дает их синтез, их действительность во взаимопроникновении[1012]. Так разрешается вековой спор между материализмом и идеализмом: это мнимо существующий разлад, потому что это спор между отвлеченно взятыми положениями, в то время как в действительности это звенья одной цепи, и надо говорить о полной совместимости – каждого на своем месте – материально-механистического начала с идеал-телеологическим на пути идеал-реализма.
Мы неоднократно подчеркивали, что это не апология безграничного оптимизма. Мы не предрешаем характера действительности. Мы утверждаем только, что позади нас, в исходном пункте, не было и нет ни потерянного рая, ни сброшенного ада, потому что там не было еще и нет человека и его принципа, потому что мир ценностей и оценок вообще становится возможным только с ним. Солнце смысла может и должно светить только в лицо (т. е. из будущего), а не в спину (из прошлого), иначе все превращается в верх бессмыслицы. Необходимо ясно понять, как мы это отметили раньше, что позади нас не грехопадение, а только грехопознание, т. е. появление самого принципа ценностей, человеческого принципа. До какой ступени открывающейся бесконечной лестницы дойдет отдельная личность, отдельные народы и все человечество, это уже иной вопрос. Ведь и сейчас мы наблюдаем, как одни застывают почти в животном состоянии, другие рассыпаются по мириадам ступеней и т. д. вплоть до творческих вершин, на которые взлетает гений. Но каждый из них при этом уже не тонет во времени, он не уносит с собой в могилу всего, а после него остается нечто непреходящее, посильный вклад в общую сокровищницу. Естественно, что мир становится с каждым шагом все богаче.
То, что зреет в мире на этом пути, мы надеемся пояснить дальше. Пока же для нас становится совершенно ясным, что не только правильно утверждают, когда говорят[1013], что у человечества можно отнять все, не подвергая опасности его истинное достоинство, но только не возможность совершенствования, но к этому необходимо добавить и другое, а именно, что человек может совершенствоваться, только совершенствуя мир. Таким образом личность может перейти от положения почти простого материала к все повышающейся роли форматора – творца. Мир является в этом случае как бы книгой, которая никогда не бывает вполне готова и всегда ждет своего пополнения читателем в меру его творческой одаренности и сродства с темой и автором. Мир с человеком – это уже иной мир, а тем более, когда является личность среди личностей. С ним и в нем мир все больше переходит из сферы главным образом количественной в царство, где предпочтение отдается все больше качественному многообразию, пока не открывается простор творчества самодовлеющих ценностей, сознанием которых и стремлением к которым может переполниться все существо личности настолько, что первоначальная естественная цель «быть во что бы то ни стало» уже оказывается вполне преодоленной: личность может выйти за пределы естества и возвыситься над ними. В этом смысле и мы готовы присоединиться к утверждению, что человек должен явиться и является устроителем и организатором вселенной, – не количественно, где он пылинка среди мириадов пылинок, а качественно. Он остается в мире и не может и не должен отрываться от него, но он вместе с тем может не только не тонуть в нем и не распыляться, но в своей свободе и творческой самостоятельности приобретает космическое значение: не только личность заинтересована в мире, но и мир заинтересован в ней. То, чем природа наделила человека, есть не только предел его свободы и творчества, но это же и средство воздействия на мир и его великие возможности[1014]. Этот предел не только ограничивает, но он и соединяет; без него человеческая личность никогда бы не стала тем, что она есть: поворотный этап космического значения.
XII. О ТВОРЧЕСТВЕ СУЩНОСТИ
Коренное, космическое значение человеческой личности ясно определилось уже в утверждении ее свободы, но свобода мыслима, обладает смыслом только в том случае, если она есть возможность творчества. Таким образом свобода и творчество постулируются, доказываются и обретаются вместе и нераздельно. В предыдущей главе мы подошли к этому вопросу с точки зрения подтверждения ее фоном мирового развития. Нам необходимо теперь присмотреться к этим идеям поближе.
Для этого мы снова должны подчеркнуть старую мысль о необходимости отказаться от мнимого ореола неизменности и преодолеть безжизненность – неподвижность или дурную бесконечность, к одной из которых неизбежно ведет единая, твердо фиксированная неизменная абсолютная сущность. При выяснении типов решения проблемы смысла жизни[1015] мы пришли к выводу, что при такой основе получается на редкость безысходное положение: или вся жизнь превращается в мираж, или же оказывается прав Джемс, который говорит[1016], что такой абсолют узаконивает мировые противоречия и абсурды и берет на себя ответственность за все, что в мире совершается – вплоть до того, что он должен передумать все глупости и вздор, которым загромождена наша жизнь и вообще превратиться в место свалки не только ценного, но и всякого мусора. В великом порыве античного мира к неизменному в неразличенной форме сливались две совершенно разные идеи, из которых можно утверждать одну, этим самым не только не принимая другую, но просто отклоняя ее: это неизменное, как исток, как причина, как начало, и неизменное абсолютное, как итог, как значение, в этом смысле как сущность. Первое исключает жизнь и смысл, создает тупую застылость даже тогда, когда на горизонте ясно вырисовывается достигнутое непостижимыми путями «царство божие». Все это мы стремились показать на примере ряда крупных представителей философской мысли разных времен: или опороченный бог, т. е. не бог, или тупо окостеневший созерцатель вечного божественного мира, в силу бездеятельности перестающий понимать, ценить, созерцать и вообще иметь какое бы то ни было отношение к добру, красоте, истине и т. д.
Царство элеатизма должно быть перенесено в область того, что является продуктом рационализации, т. е. создания человеческой мысли, а не объективного мирового обстояния, и его сферой является – с целым рядом особенностей и оговорок – мир значений.
Аристотель с его утверждением, что «жизнь – это движение»; Кант, предпочитавший характер поступка его цели, путь к истине самой истине, если бы в последнем случае ему пришлось выбирать; Фихте, требовавший безапелляционно признания права личности на труд во имя самой возможности личности и нравственности – все они говорят в сущности о том, что только в действенности может быть смысл. И вот здесь должен быть отброшен второй исторический нарост – это дурная бесконечность, кровное детище абсолютного, вечно недосягаемого идеала. Недосягаемый идеал мыслим только с формальной стороны, иначе он превращается в нелепость, никого и ни к чему не обязывающий фантом.
Вечность должна и может быть обретена на ином пути: на пути освобождения от времени, но не исключения его вообще; она достигается в обретенном значении того или иного акта и всего свершающегося, но при этом все перспективы действительности остаются не только не заслоненными, но наоборот – каждое обретенное значение обозначает дальнейшее расширение действенных возможностей и перспектив: истинная бесконечность по гениальному образу Гегеля должна мыслиться как растущий, но сохраняющий свою форму круг, т. е. перед нами должно быть постоянное достижение и вместе с тем сохраненные дальнейшие перспективы, всегда у цели и вместе с тем всегда возможность быть на пути к цели, т. е. то положение, когда каждая стадия есть не только ступень для более или менее отдаленной цели, но когда ей самой оказывается присущим свое своеобразное значение. При дурной бесконечности смысл утрачивается, при истинной бесконечности он раскрывается в полной мере. Нам остается только показать, что эта благодатная почва открывается перед нами в нашей теории, основанной на антропоцентрическом принципе.
Все думы о мире, с которыми мы знакомились в предыдущем изложении, приводят нас к идее сущности, к ее особому положению в нашем миросозерцании. Многовековая философская традиция прочно закрепила мысль, что сущность есть нечто неизменное в вещи в противоположность ее изменчивым состояниям и вместе с тем это есть нечто, лежащее в скрытой основе и далеко несовпадающее со всей полнотой живой действительности. Наша точка зрения наметилась всем предыдущим изложением: в различных подходах мы неоднократно подчеркивали живую, неразложимую полноту действительности, но вместе с тем для нас также бесспорно, что каждая вещь и особь обладают своей особой действительностью, допускающей раскрытие вширь и вглубь, смотря по вещи и по тому пласту мировой действительности, в который входит данная вещь. Мир живет как целое во всей своей полноте, и иной жизни в фактическом смысле существования у него нет; те, кто пытался и пытается заглянуть за кулисы мира, осуждены быть вечными неудачниками не потому, что мир свято хранит свою тайну и не позволяет заглянуть в то, что за ним и в основе его, а потому, что этих кулис и обособленных тайников у него не существует. О нем можно повторить только вместе с Гете и Гегелем:
Sie hat weder Kern, noch Schale, Alles ist sie mit einem Male.(У него нет ни скорлупы, ни ядра в отдельности, он есть все: и то, и другое одновременно.) Понятие сущности может найти свой смысл и оправдание только на том пути активизма, который мы пытались развернуть во всем предыдущем изложении, – на пути понимания действительности как действенности: сущность есть тот характер и значение, какое явлено или претворено во всей живой, конкретной полноте данной вещи или мировых частностей или всего мирового целого в его действенности. Характер устойчивости, присущий сущности, объясняется не тем, что она неизменна, а что она есть именно эта вещь и не может быть иной, раскрыть иную действенность и обрести иную действительность, чем это обусловливается ею самою, что сущность-действенность хранит во всех моментах своей действенности неразрывную, живую связь. Вскрывшись в своем характере и значении, хотя бы только для данного момента, сущность становится вне времени, именно как значение данного момента, и в ней никто и ничто не может изменить. В этом и заключается ее вечность, ее божественность, потому что отсюда открываются безбрежные перспективы действенности, широта и глубь которых определяется значением данной сущности в общей мировой жизни. Само собой становится ясным, что эта сущность вообще никогда не может быть индифферентной – это ясно следует как из ее своеобразности, так и из ее действенности. В этом слышится правдивый момент платонизма, слившего сущее и доброе. В вечности, во вневременности сущности лежит и ее независимость, ее самодовление, ее свобода, ее способность стать опорой, служить смыслом и целью и быть в этом смысле исходным пунктом для дальнейшей действенности-действительности.
Все это обозначает не разрыв с исторической традицией, а только некоторое перемещение, потому что у нас нет никаких особых оснований возражать против старой мысли, что сущность есть то, что довлеет себе, объясняется собой и способно объяснять и от себя создавать и причинять иное. Если бы нам понадобилась поддержка исторической традиции, мы легко нашли бы ее в системах величайших философов древнего и нового мира: мы вправе были бы вспомнить здесь отчасти об Аристотеле, Лейбнице и др. Нам крайне дорога мысль Фихте[1017], что «должно быть что-нибудь, что существует, потому что оно сделалось и остается, и никогда снова не может возникнуть, после того как оно раз сделалось». Тем больше оснований вспомнить здесь о Гегеле с его абсолютным духом. Но исторический интерес лежит сейчас вдали от нас, и мы не будем здесь останавливаться на исторических воспоминаниях.
Эти размышления выводят нас на основной путь наших построений: они приводят нас к коренному по своему значению выводу, что сущность не просто есть, но что она творится.
Божественный путь творческого обогащения действительности утверждается не только в жизнедеятельности человека и с ним в узком смысле этого слова, но оно в принципе развито во всем мире, поскольку этот мир вообще связан с антропоцентрическим принципом. Для того чтобы эта мысль потеряла некоторый привкус преувеличения, мы должны вспомнить, что сфера творчества не есть только область моральной борьбы, борьбы за одно нравственное совершенство мира, а это есть творчество и новых форм бытия, и новых значений во всех сферах конкретной действительности и во всех направлениях истины, красоты, добра, справедливости и т. д., допускающих свое осуществление. Все обладает сущностью, в этом смысле все принимает участие в великом творчестве сущности. Даже малое, ничтожное существование есть действенность, но действенность эта никогда не протекает в повторяющихся форме и характере в полной мере. Все находит те или иные своеобразные черточки, обособляющие его от всякого, хотя бы и близкого, и однородного существования. В этом смысле правильно утверждать, что ничто не повторяется. Вся суть в этом случае заключается только в том, что ничтожная песчинка обладает действенностью и бытием и потому именно и сущностью главным образом через ту систему, в которую она входит, хотя и она не лишена совсем своего своеобразия. Таким образом ее участие в творческом процессе определяется как долей ее самостоятельности, так и действенностью системы, охватывающей ее и включающей ее в дальнейшие более широкие и глубокие связи и возможности[1018]. Раз что-либо живет, значит оно постольку же действенно, постольку же творит и творит и выявляет свою сущность. Пусть с нашей человеческой точки зрения эта доза творчества так мала и ничтожна, что она может быть приравнена к бесконечно малой величине, но она есть, хотя бы только как возможность и принцип, хотя бы только как темная тяга быть как простое «тяготение», внося свою лепту в общий итог сущности через свою сопринадлежность к системе, и только в малой степени и только в этой мере приобщаясь к вечности, к «богу». Действительность никогда не бывает в застывшем, трупном состоянии, она вечно течет и меняется, по отношению к ней в ее конкретной, действительной форме прав Гераклит. Точка зрения элеатизма применима только к миру значений. И вот в этом потоке действительно идет вечное творчество сущности в меру действительности каждого отдельного существования.
И таким образом во всю ширь действительности и во всю ее длину и глубь развертывается творчество не только новых форм действительности в частностях и целом, но и творчество сущности: действительность как бы вносит в каждый момент своего существования-активности свою неиссякаемую лепту в сферу вечности и незыблемости, не уничтожая и не обесценивая себя, а наоборот – все повышаясь в своем значении. Начав с малой активности и малого бытия, мир дальше постепенно выявляет в непрерывном, бесконечном разнообразии все более несвязанную и чистую активность, но – повторяем – не в идее только, а во всей полноте своего реального существования, пока в идеале не покажется на горизонте отмеченная Аристотелем возможность чистой активности. Вместе с тем идет линия углубления и расширения царства свободы, самоцели. В этом смысле мы здесь охотно вспоминаем мысль Шеллинга, что цель всего мирового развития заключается в том, чтобы законы свободы превратить в законы природы. Так растет мир и развивается, как конкретизированная сущность, растут и раскрываются реальная сила и творческие возможности, растет и углубляется бытие, стремясь выявить всю полноту и глубь внутреннего во внешнем и обратно и дать их полный синтез и единство в бесконечно разнообразной системе конкретизованных сущностей, обретающих вечность.
Эта вечность – как мы уже отметили это раньше и должны повторить здесь это снова – требует резкого своего отмежевания от вечности в смысле в бесконечность или, лучше сказать, в нескончаемую даль убегающего времени, где где-то в непостижимой и недосягаемой дали, в идеале брезжится конец всякого времени, т. е. конец всякого изменения. Стремясь на этом пути к вечности, мы можем только с тоской вглядываться в бесконечную даль без надежды увидеть когда-нибудь что-нибудь там вдали, а пока все пережитое и выявленное тонет бесследно в прошлом, опускаясь в эту своеобразную Нирвану, – вывод, отдающий ароматом самого безнадежного пессимизма. На самом же деле вечность, как мы ее толкуем, это вечное достижение и при том не мертвого обстояния или ничто, а вечного действия; она обозначает, что достигнут такой источник, который может давать исток, не иссякая сам. Это и достигается там, где достигается известное значение, где творится сущность, где таким образом открывается простор вечной действенности без утраты творческой силы. Во всякое время, всегда мир и действительность в целом и в частностях обладают значением во всем своем данном неповторяющемся своеобразии. Такое понимание не только правильно, оно открывает нам глубоко отрадные жизненные перспективы: оно говорит нам о том, что в мире и жизни всегда есть уже нечто достигнутое, и что вместе с тем остаются не заслоненные перспективы для дальнейших стремлений и жизни, что жизнь не проточный канал, в котором все проносится бесследно, а что это линия постепенного, непрерывного обогащения, это все расширяющийся и углубляющийся круг, который не теряет своей формы, не размыкается и не деформируется, как пояснял это Гегель. И ничтожная песчинка, жалкий червь и т. д. – все они несут свои возможности и свое участие в вечности, как бы мала ни была их доля, хотя бы она тонула просто в целом, к которому она принадлежит, все они имеют свое значение, и при том не в отвлеченной идее, а в своей живой полноте. Как говорил Ориген[1019], «при всей бедственности непосредственного существования сохраняется твердое, как скала, убеждение, что в конечном счете ничто не может быть утрачено из того, что Вечный Господь создал и оградил своей любовью». Тот же мотив повторяется в гегелевском понятии «aufheben».
Для той картины, которая рисуется нам, историческая традиция успела выработать особый термин, несколько отягощенный уже недоразумениями, а именно термин «ценность-совокупность». Вся действительность слагается в каждый момент в цельную, как бы мозаичную картину, в которой каждый камешек обладает своеобразной формой-значением, а вместе они образуют единую, неповторяющуюся картину, неразрывно связанную со всем прошлым, вобрав в себя все его значение и вместе с тем безостановочно в реальном течении переводя к будущему. Всегда у цели и всегда на пути к ней – такова рисуемая нами картина: всегда у цели, потому что всегда есть известный итог, всегда действительность перед нами во всей ее полноте, присущей данному положению, и значении – понимаем мы это или нет, это в данном случае безразлично, – и вечно на пути, потому что с каждого нового достигнутого пункта открываются дальнейшие задачи, простор новых возможностей и нового стремления. Истинно действительное, сущее, творчески растущее всегда при себе и всегда в движении. Для данного момента оно и полно, и завершение, но вместе с тем оно никогда не может быть завершено и закончено безотносительно, потому что это обозначает, что оно должно стать бездейственным, т. е. недействительным, но тогда не о чем и говорить, тогда нет сущего.
Завершительная стадия последней полноты и последней высоты, то идеальное объединение supremum и consummatum[1020], о котором говорил Кант, есть только идеал, он возможен только с формальной стороны. Люди мечутся и рвутся в стремлении найти «конец» и никак не могут понять, что этот конец будет концом действительным, что в нем не истинная жизнь, а истинная, абсолютная смерть, ничто. Поскольку речь идет о смене, можно с полным правом утверждать, что «вечная игра жизни», вечный поток в сущности неправильно дает повод для пессимизма и ламентаций, потому что он не зло, а благо, потому что в нем вечное обновление, вечное зарождение и творчество нового: у каждой капли своя ценность, каждое время поет свои песни. То, что создали мы, может обрести свою ценность, значение и место в себе и в абсолюте, ценности-совокупности, но оно превращается в невероятную ложь и бессмыслицу, как только мы пытаемся одним звеном, одной плиткой из всей мозаики, одним плодом, цветком заменить весь венок, вечно растущий и неувядаемый.
Так получается единство, обоснованное множеством и без него невозможное – единое и многое одновременно и друг без друга немыслимое. Прав плюрализм, но только тогда, когда он характеризует исходное положение и проходимый путь; прав монизм, но только тогда, когда он говорит о завершении – частичном или полном, это в данном случае все равно. Для философского познания единое есть следствие, итог, завершение, а не начало. Первоначальное множество несет в себе только голую возможность, принцип единства или объединения. Чисто внешняя связь, как механическое соседство или простое сцепление, – вот то, что встречает нас в низшем напластовании действительности; но это же положение оказывается неустойчивым, и мы выходим на путь постепенного углубления и расширения связей и нарастающего единства: сначала оно дано только голо, бедно, потенциально, голым стремлением к «быть», в завершительной стадии нужно мыслить органическую и сущностную слиянность в одно при сохранении всех частей. Ясно, что без участия хотя бы самого принципа единства множество не множество, а хаос, нечто неопределимое; без сохранения множества, хотя бы и срощенного во всех направлениях, единство не единство, а «пустое и мертвое безразличие»[1021]. Величайший лозунг любви в его философском значении может быть претворен без противоречий в эту идею соединения единства и множества в раскрытии мировой действительности, в объеме и интенсивности, в количестве и качестве.
Но этим самым внесена еще одна черта в характеристику всего мирового развития. Это говорит нам, что речь идет не о механическом соединении, не о суммировании, а о претворении, о создании единства, в котором объединяются единое и многое, это творчески созданное, мыслимое только в сфере деятельной; это есть плод не логического и мышления, а реального, жизненного, творческого процесса. В итоге мир есть то, чем он сам себя создал: сущность не просто есть, сущность творится. И с точки зрения науки, и с точки зрения действительности, а тем более с точки зрения смысла картину судеб мира надо рисовать не в виде утраченного рая, оставшегося позади нас, когда нам самое большее можно надеяться только на возвращение того, что могло бы быть и без всей мировой мучительной эпопеи и бесконечных усилий, и длинного пути, а судьбы мира могут быть гораздо более вразумительно представлены как путь от хаоса к организованности и смыслу; позади не рай, а хаос, первобытность, недифференцированность и отсутствие постановки в рациональной форме вопроса о смысле. Предустановленной гармонии не было и быть не могло, потому что позади голое естество, голый факт, а может быть речь только о послеустановленной гармонии, но она не есть, а может быть, потому что она творится.
Если в мире до человека выявляется темная, ограниченная и связанная полоса творчества, вскрывающаяся на почве голого стремления быть во что бы то ни стало, то с человеком ярко выявляется основная черта всего мирового процесса, проливающая яркий свет и дающая смысл всему. В ярком свете развитого человеческого сознания совершается ясный, осознанный прорыв в сферу творчества, и при том в сферу творчества сущности; здесь вскрывается основной принцип, пропитывающий все. Старая философская мысль о нравственной ответственности человека за мир должна быть расширена до утверждения его космической роли в том смысле, что судьбы мира решаются на почве принципа, коренным выразителем которого является человек. Проникнуть в смысл того, что под ним и над ним, мы можем только по тем ослабевающим или усиливающимся излучениям, которые выходят из принципа человека-личности, т. е. при антропоцентрическом миропонимании. В человеческой личности ярче всего выявляется основная идея всего – на почве ее свободы и способности действовать по целям и идеям, т. е. творить. Человеческая личность всегда есть то, во что она себя отливает своими собственными силами, но она творит не только самую себя, но и многое другое, о чем будет речь дальше и что отчасти уже пояснили мы утверждением, что в вопросе о сущности и смысле мира принцип человека-личности – это принцип всего, принцип космический. В свете этих мыслей получает всю подобающую ей значительность и человеческая индивидуальность. Человек-личность – что обозначает этим самым индивидуальность – способен мыслить и сознавать возможности и уже по идее и мысли творить, пополнять и пересоздавать действительность, налагая на нее в меру своей индивидуальности свою своеобразную печать. С существованием личностей становится совершенно ясным, что существуют не мир, а миры. С другой стороны, как бы ни был мал человек, он всегда несет в себе некоторую возможность личности. Мы при этом никогда не должны забывать, что родители или предки гения, породившие его, сами были самыми обыкновенными людьми и не давали как будто никакого повода надеяться, что они несут в себе появление будущего гения. На этом пути впервые радикально преодолевается дурная бесконечность, обретается безусловность в том, что ценно само по себе, оставаясь в то же время вполне в реальном мире, в пространстве и времени. Здесь впервые получается возможность найти ответ на вечное «отчего» и «почему». В этом лежит разгадка тайны нашего стремления к культуре. Таков истинный смысл того, что тьма могла родить свет, что инстинкт жизни может в своем действии претвориться в смысл жизни, функция жизни в творчество всестороннего порядка.
Таким образом открываются необъятные перспективы творчески-созидательного обогащения без границ, рост значения и сущности – путь на котором в сущности нет истощения; творческая мощь действительности не только не иссякает в процессе мирового развития, но, наоборот, она растет вместе с ним особенно с того момента, когда в человеческой личности как в основном принципе мира вскрывается освещенное мыслью и смыслом царство самоцелей. Отсюда особенно раскрывается рост и углубление капитала сущности, значения и смысла, который никого не обедняет, обогащая всех. В этом творчестве сущности и смысла мы и выходим к подлинному абсолюту, как мы это надеемся обосновать дальше несколько подробнее.
XIII. НА ПУТЯХ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В интересах удобства изложения мы шли по восходящей линии в описании творческого процесса, но по существу, как мы это уже подчеркнули, правильнее было бы мыслить себе всю картину так, что весь творческий процесс совершается по антропоцентрическому принципу, и основное типическое, как и коренное действие, совершается в человеческой личности, все же остальное должно мыслиться как бы на излучениях вокруг этого центра, ослабевающих по мере удаления от него, в царстве под ним, и усиливающихся, сконцентрированных, в царстве над ним. Жизненный поток и порыв берет определенное направление на творческий путь. Каждая вещь, каждая мировая частность говорит на свой лад о выявленной ею степени жизни и творчества и их роде и форме, но все это не теряется в хаосе сотворенного, где то одно, то другое забежало в тупик и не находит ни связи, ни выхода, а все слагается в единую ценность-совокупность данного момента, в живое целое, обладающее своим непреходящим значением в своем индивидуальном, конкретном живом многообразии. Человек-личность не только не изолирован, не только не один, но он как микрокосм выражает тайну и смысл всего, космический принцип и в этом смысле стоит в центре всех связей и нитей.
Ошибка исторической традиции, вызванная особыми условиями, о которых здесь говорить излишне, заключалась в том, что мировому течению навязывалось какое-либо одно направление, большей частью навеянное моральными интересами. В действительности же все может раскрываться принципиально в самых разнообразных направлениях – не только добра, истины, красоты, справедливости или их идеального, гармоничного единства, но и просто жизненной цельности и полноты – своеобразное осуществление принципа «все во всем». Это не разброд и не механическое единство, а многообразие слагающих факторов, многообразие сторон жизни и жизненных явлений – многообразие настолько важное и необходимое, что умаление и недочет в одной стороне неизбежно ведут к некоторому умалению и других сторон. Красота недобрая неполная красота, некрасивое добро не полное добро, недобрая и некрасивая истина не дает примирения с собой, она не совсем истина и т. д. Изоляция всех этих принципов, сторон действительности ведет неизбежно к превращению их в разрушительные моменты, т. е. по существу уничтожает их самих. Изолированный, так называемый чистый морализм, эстетизм, логизм и т. д. есть в сущности нелепость и разрушение[1022]. Так или иначе они есть своеобразно создавшееся единство – признак, в котором они минимально все сходятся. Пусть добро станет высшей ценностью, дающей смысл всему, но тогда оно должно быть дополнено до всей его полноты: тогда мы скажем, есть добро не только этическое (в узком смысле слова), но есть добро логическое (истина), есть добро эстетическое (красота) и т. д. вплоть до добра просто как полноты и жизненного единства и цельности – утверждение, исстари подготовлявшееся философской мыслью, начиная от древних мыслителей, как Платон, далее Августин, и кончая новыми, как Гегель. Все это многообразие пополняется еще тем, что с каждым творческим шагом открываются новые возможности.
Вот почему жизнь и действительность обращается всегда ко всей полноте личности, будит разнообразные стремления и нам так трудно дать говорить только одной стороне нашего существа и заставить абсолютно молчать другие стороны. Жизнь и действительность и в нас, и вне нас рвется к всестороннему выявлению и творчеству, к обогащению все новыми горизонтами. Это поясняет нам и другое жизненное явление: как бы ни было высоко и благородно известное свойство или стремление, но если оно дается или культивируется изолированно, оторвано от живой полноты, оно становится злом и больше всего именно тогда, когда достигает своего высшего напряжения; в конце концов оно уничтожает самое себя: святой может стать злодеем, мудрец родить глупость, эстет впасть в безобразие и т. д. В применении к личности это напоминает нам, что обращение к ней, как и ее обращение, всегда пробуждает не только, например, мысль, но и ее волю, чувство, все ее телесно-душевно-духовное существо в большей или меньшей мере. Прибегая к примеру, мы бы сказали, что можно тронуть одну струну и она прозвучит как будто одна, но в этом звуке на самом деле прозвучит весь инструмент, все сочетание, налагая свой отпечаток на то, что видимо будет исходить только от нее одной. Так музыкальный человек без всякого труда сразу узнает, не видя инструмента, на каком инструменте дана прозвучавшая нота. Прав Гете, когда он на своем поэтическом языке говорит:
Teilen kann ich nicht das Leben. Nicht das Innen, noch das Außen. Allen muss das Ganze geben, Um mit euch und mir zu hausen[1023].Все предыдущее изложение направлено было на уяснение общих творческих возможностей, разлитых во всем мире. Мы стремились показать, как творческим путем создается до того не существовавшее ценное всеединство, создается сущность на тысячах путей. В человечестве совершается только основной, всепроникающий акт, а это значит, что мы далеки от мысли свести весь мир на материал для человеческой воли. И у не я есть своя частичка я, но только глухо и беспомощно пробивающаяся к голому простому бытию, потому что оно не знает себя и не сознает того, что и ему присуща своя своеобразная роль. Человек, взмывающий своим творческим гением на недосягаемые для остального мира высоты, этим самым вовсе не обесценивает мир и не сводит его на положение средства, иначе он сам повисал бы в воздухе и вершина не была бы вершиной. Личность не одинока в мире, а наоборот – она сердцевина всего и находится в лоне, пропитанном тем, что ясно и осознанно составляет ее основную сущность. Гордое и невыносимо тягостное одиночество человека в мире есть плод сбившейся с пути истины мысли. В этом отношении наивное миропонимание дикаря, одушевляющего все, везде видящего родственные ему одушевленные существа, с аналогичными дружественными или же враждебными ему, конкурирующими стремлениями, это наивное одухотворение несравненно ближе к правде, чем самая утонченная философская система, отрывающая человека от всего остального мира, как простого и часто антагонистичного ему материала, хотя антагонизм уже сам по себе говорит о каком-то сродстве и общей почве. С личностью и в личности глухой и темный творческий порыв вскрывается в ясной и осознаваемой форме, и открываются новые, все расширяющиеся горизонты и возможности. На этих творческих возможностях мы и остановимся здесь, имея в виду только человеческую личность и только некоторые пути ее выявлений, потому что полный обзор заставил бы нас пытаться писать книги в книге. Уяснение же творческой роли личности вполне достаточно, чтобы решить для нашего миросозерцания судьбу мира с его возможностями в ту или другую сторону: судьба эта решается определенно в том, чем станет и что творит человеческая личность.
* * *
Об этих величайших возможностях говорит уже чисто внешний акт, в итоге которого появляется конкретная человеческая жизнь – та плотская любовь, которая на пути усложнения и утончения дает в итоге великое связующее, светлое начало – ту любовь, которую история не раз пыталась отождествить с понятием бога. Пусть будет сначала физически, но здесь жизнь выходит за пределы самой себя, она расширяет и углубляет свои возможности, она создает нечто большее, чем она сама, потому что теперь прибывает новая жизнь, и диапазон активности и созидательной силы повысился или в данном существе, или несет в себе по крайней мере дальнейшие возможности. Возможное и действительно нередко существующее явление вырождения только еще больше оттеняет высказанную нами мысль о великой творческой, т. е. вместе с тем и свободной, роли личности: человек может ничего не дать, он может даже выступить в роли разрушителя и прожить физически на пути разнузданной жизни. Его роль одинаково велика как в положительном, так и в отрицательном отношении, как и вообще он может актом своей свободной личности вычеркнуть на пути воздержания, как аскет, все возможности зарождения от себя новой физической жизни. В самом грубом половом стремлении есть доля мировой тяги, преодоление изоляции человеческой личности, нужда в другой. Вся мировая история является самой убедительной свидетельницей, как окутанная всеми переливами радости и безграничного страдания любовь двух существ была и остается неиссякаемым источником не только появления новых человеческих жизней, но и необозримых поэтических, художественных, культурных и жизненных ценностей, источником всеповышающегося творческого напряжения человеческих сил. Оставьте мир при тех же условиях, но только лишите его полового фактора и половых влечений и противоположностей, и он покатится по пути потускнения и обнищания не только в области личных переживаний, но и в области объективной жизни, пока не выдохнется все то, что было создано творческим потоком, вдохновленным половым фактором. Из этого фактора рождаются наряду с голодом основные стимулы действенной силы, отсюда бьет источник света и тьмы, ибо ничто не рождается без противоположностей и противоречий – без них мир – мир, пропитанный антропоцентрическим принципом, – был бы пустыней, все должно было бы опуститься в Нирвану. Таким образом становится вполне понятным, что в мире живых существ, особенно у человека, вопросы, связанные с половой жизнью, являются делом величайшей важности, а для женщины любовь, без сомнения, центральный акт жизни, вокруг которого располагается все остальное содержание жизни.
Половая любовь, даже начавшаяся бессознательно и в голом стремлении удовлетворить себя в животном смысле, даже в этом случае несет в себе то, что должно облагородить и помочь осмыслить ее – это семья и дети. Они вероятны не только физиологически, но и по существу, так как индивид в половом сочетании, хотя и в самой грубой форме, покинул почву своей изолированности. Грубейшие наслоения, эксцессы и извращенности половой жизни не должны заслонять для нас глубокого смысла этой жизни и давать повод к общей отрицательной оценке ее как грязной стороны жизни личности: и лучшее может стать в руках человека худшим, но и худшее может через него превратиться в божественное – все зависит от того, как оно дается, чем насыщает человеческая личность свои переживания. Так искренние глубокие религиозные устремления рождали в истории человечества неслыханные, чудовищные злодейства, а с другой стороны война с ее убийством и утонченными средствами уничтожения рождала святые поступки, величайшие акты самопожертвования, героизма, сострадания и т. д. Факт сам по себе, изолированно всегда только мертвое, тупое обстояние, он всегда нам и безразличен. Только при насыщении его человеческим духом, принципом он выходит из состояния безразличия и начинает в общей связи говорить определенным языком, все это применимо и к области половой жизни[1024].
Ложноабстрактная, отвлеченная точка зрения привела и приводит до сих пор к очернению этой стороны жизни человека. Большей частью это совершается во имя потустороннего царства и отклонения этого мира. Так Вл. Соловьев изолировал половой акт и говорит о нем как о постыдном для нас деянии, «безжалостном к отходящему поколению и нечестивом потому, что это поколение наши отцы»[1025]. Но в то время как Соловьев видит спасение положения в деторождении, другой русский религиозный мыслитель, Бердяев, убежден, что в основе семьи лежит «падший пол… Семья религиозно, морально и социально оправдывает грешную, падшую половую жизнь деторождением и для деторождения возникает»[1026]. И на фоне у него вырисовывается диковинный образ андрогина, мужедевы, как изначальное состояние, как своего рода потерянный рай – еще одно логически неизбежное, очень характерное следствие ложного, отвлеченного исходного принципа, который должен вообще вести к полному исключению жизни. В частности и в данном случае эти писатели берут нежизненное, несуществующее положение, насильственно изолированное, и на нем строят свою оценку и выводы: они берут тут не человеческую, хотя бы и мимолетно разгорающуюся, любовь, в которой говорит вся данная личность со всеми ее сложными сторонами, а голый, изолированный половой акт, которого на самом деле нет и быть не может.
Пусть желающие увлекаются пафосом развенчания таких недействительных искусственно выделенных актов, для жизненного миросозерцания это по существу довольно безразлично. В жизненном явлении дана сложность и одновременные широкие возможности для выхода за пределы голого полового акта во все стороны связей и переживаний. Весь вопрос, и с точки зрения этих мыслителей, жизненно конкретно должен бы решаться бесповоротно тем, что каждый половой акт в сущности несет в себе возможность деторождения и семьи – деторождения, о котором Соловьев, например, говорит, что оно «есть добро; добро для матери, которая по слову апостола спасается деторождением, и, конечно, также добро для отца, участвующего в этом спасительном деле, добро, наконец, для получающего дар жизни»[1027]. В жизни это так и воспринимается: в семье, в сочетании двух представителей полов видят совместное «делание» жизни, не только физическое, но и духовное; мы в этом случае пытаемся сознательно ковать жизнь, стремясь создать то, что будет сильнее нас и лучше нас. Жизнь показывает нам на каждом шагу, что отцы и деды не только не страшатся «нечестия» и «безжалостности», но, наоборот, в отсутствии потомства видят тяжкую божью кару, а наличие его – то, что дети выросли, вышли в жизнь и т. д. – рассматривается как основание спокойно и с удовлетворением взирать на ушедшую в прошлое личную жизнь и возможность умереть с сознанием выполненной жизненной задачи.
Таков голос жизни, свидетельствующий не только о здоровом инстинкте, но и о глубоком, может быть, еще неосознанном смысле, заложенном в сочетании представителей двух полов, в семье, деторождении, в взаимоотношениях родителей и детей, братьев и сестер, кровных уз и т. д. в их подготовительном значении для общественных, государственных, общечеловеческих и мировых связей. Нам нет нужды долго останавливаться на этой стороне жизни: мировая литература, не говоря о примерах повседневной жизни, дала нам так много художественных образов из сферы таких переживаний и показала нам, какой неистощимый поток ценностей льется из этого вечного источника. Достаточно вспомнить здесь Антигону.
Таким образом «телу» должны быть гарантированы его права в неумаленном виде, и в противоположность несуразному, диковинному образу андрогина необходимо культивировать в облагороженной форме античную черту – любовь к красоте человеческого тела, стремясь развить его в художественное целое, как прекраснейшее произведение матери-природы и человеческих желаний и усилий – той культурно-творческой силы, из которой в мировое русло потечет еще один более или менее мощный поток творческих достижений, еще ряд прибыльных струй в лоно сущности.
* * *
Мы бросили беглый взгляд на один из путей физического творчества, и там на каждом шагу становилось ясным то, что мы подчеркнули неоднократно, а именно, что нет изолированной физической жизни, что самомалейший акт способен вынести нас на простор общих связей и большой глубины и широты. Для этой стороны особенно характерно, каким сложным клубком переживаний окутывается половой акт и в какую мощную и благородную силу вырастает он, когда он выявляется во всей его человеческой полноте и связности. Без осознания этой связности и полноты загадка жизни не поддается решению. Уже на голом физическом акте личность развертывает богатую душевную скалу переживаний, и акт тем значительнее, чем глубже он по своим связям. Инстинкт самосохранения, этот физический погонщик человека на первой ступени, уже в самом себе несет свое ограничение и видоизменение, потому что на том пути, на который он ведет по необходимости, рождаются преоборение самого инстинкта и его претворение в постепенно одухотворяющуюся форму, потому что на пути одухотворенности наилучшим путем удовлетворяется и самый инстинкт самосохранения, и достигается нечто самодовлеющее и в своем значении незыблемое: естество может и должно превратиться в культуру или по меньшей мере встать под контроль культуры. На смену вечной зависимости голого физического принципа приходят устойчивость и все более повышающаяся независимость одушевленного и одухотворенного существа, творящего свою действительность и свою сущность. Отсюда становится вполне понятным жизненное предпочтение одухотворенности: путь углубления и укрепления жизни, усиления ее интенсивности и повышения ее ценности и смысла вплоть до достижения самодовлеющего царства лежит именно здесь. Претворение голого инстинкта жизни может подняться на такую высоту, на которой он совершенно утрачивает свой прежний ограниченный и грубый смысл и как будто уничтожается совершенно, превращаясь в свою противоположность: человек может вырасти до сознания необходимости уничтожить свою жизнь; но этот акт может иметь совершенно иной смысл и значение: он может явиться актом наивысшего взлета и утверждения жизни и мощи личности, достижения той грани, на которой открываются уже перспективы бессмертия и божественности. Такова, например, жертва жизнью матери ради ребенка, жертва своими детьми ради общего блага, жизнь, принесенная в жертву всякой великой самоотреченной любви и т. д. Так сотворенное понемногу и неуклонно берет все возрастающий перевес над данным, чисто фактическим, пропитывая его и подчиняя себе. Эта неизбежность объясняется тем, что раз возникшее душевно-духовное начало может творить дальнейшие следствия, не только не ослабевая, но от творчества все усиливаясь.
Для этой характерной черты душевной жизни поучителен пример, о котором нам напоминает в своем романе Гейерстам «Голова медузы». Там он напоминает нам легенду о Персее и его борьбе с Медузой: он нес с собой в решительный бой свой щит, свою гордость, произведение человеческих рук, восхищавшее его своею красотой и блеском; он выставил его перед собой, и таким образом взгляд его не был всецело поглощен видом Медузы, а отчасти приковывался видом щита, вселявшим в Персея радость и мужество; это спасло его от общей участи окаменения и дало возможность свершить то, что другим не удавалось – именно потому, что он шел в борьбу вооруженный не только фактом, но и сотворенной им «фикцией», не давшей ему потонуть в созерцании голой действительности. Если бы мы видели мир во всей его – часто жестокой – наготе без противопоставления ему сотворенных нашей душевной жизнью возможностей, мы перед ним окаменели бы давно, как перед головой Медузы. Мужество борьбы и творческие порывы возможны только там, где нарастает мысль о возможности иного, где нет поглощенности фактическим состоянием; наоборот, будет правильнее утверждать, что для творчества, как и вообще для борьбы за новое, необходим перевес идеи – «сотворенного» – над фактическим обстоянием.
С этой точки зрения и должны быть оценены первые проблески не простого переживания действительности, а ее приятия или неприятия, пережитого восхищения или негодования, первый созданный рисунок, первая окраска, например, сосуда, первые проблески песни, искусственно создаваемого ритма и рифмы и т. д. – все это истоки великого творческого потока и необъятных творческих возможностей. Слабо мелькнувшая мысль о возможности иного, первая – хотя бы и грубейшая – сознательно поставленная цель окончательно пробивает брешь в фактическом обстоянии – если бы оно вообще было возможно в абсолютном смысле – и вводит нас в новый мир, настоящий мир, мир претворения и творчества.
Мы не собираемся здесь снова подымать весь исторически бесконечно осложненный спор о роли причинности действующей и целевой, о causae effi cientes и causae fi nales; мы здесь можем с точки зрения наших интересов ограничиться более краткими указаниями, хотя бы и с некоторым риском быть обвиненными в догматизме и в недостаточности обоснования. В конце концов и защитник одного рода причинности, причинности как causae effi cientes, не может забывать, что каждая мысль и душевное переживание осознанное, помимо своей силы как цели и ценности, бесспорно обладает некоторой действительностью и значением уже просто потому, что они также есть как факт, как все свершившееся, и потому им принадлежит какое-то влияние и причинность в мировом свершении: раз мысль, идея возникла, она этим самым уже есть несомненный реальный фактор. Конечно, таким образом признается известное значение и реальность и за абсурдами, но оно так и есть; абсурды только действительны – действуют, как полагается действовать абсурдам: ложная, безобразная или безнравственная мысль или идея, если она еще нераспознана в ее подлинной сути, действует (действительна) отрицательно, разрушительно; но если она распознана и оценивается как таковая, то тогда она становится также созидательным фактором, способным отрицательным путем помогать положительному творчеству.
Но действительность одушевленная и одухотворенная подчинена особой арифметике, в которой дважды два, выражаясь образно, может дать в итоге и не четыре, две малые слагающие могут создать в итоге великую равнодействующую. Здесь многое и многое зависит от того, чем и как насыщается душевная жизнь личности, и в какой мере вновь вошедший элемент пропитал и охватил наличное состояние личности и видоизменил ее связи. В этой сфере, как должно быть хорошо известно каждому из собственных переживаний, как говорил Кант, «призывать к мужеству значит уже на половину создавать его; наоборот, образ мышления малодушный, дряблый, самому себе совершенно не доверяющий и ожидающий помощи извне, подрывает напряжение всех сил человека и делает его даже недостойным этой помощи». Но призывать приходится всегда только к тому, чего еще нет, что только мыслится как более или менее вероятная возможность.
Это должно сделать нам понятным, почему в конце концов даже фикция способна стать плодотворной. О Вл. Соловьеве передают его друзья, что он однажды по близорукости принял скорлупу пасхального яйца, надетую детьми на палочку, за одиноко растущий цветок, и это повело к тому, что вдохновленный его видом Соловьев почувствовал потребность и достаточный подъем, чтобы излить свои эмоции по этому поводу в стихах. Представим себе, что на этом пути у близорукого поэта выросло бы гениальное произведение; что изменилось бы в его ценности оттого, что оно порождено фикцией, только помысленной действительностью? Что в том, что сам факт мал и ничтожен? Так малое и ничтожное само по себе может в известном сочетании в переживаниях личности родить великое, а великое кончить почти ничем, когда гора, как говорят, родит мышь.
Таким образом и зло, и фикция, и ложь, и безобразие со всеми приносимыми ими страданиями находят свое место в общем свершении. Важно в этом случае, как оценены они, какое отводится им личностью место, в какую общую связь они входят и что они будят в личности. Особенно важно, какою степенью чувства, веры и убежденности насыщено их переживание личностью. Этим определяется характер и степень действенности, порождаемой ими. Завет любви к ближнему и идея смирения сами по себе маленькие мысли среди мириад других мыслей, но насыщенные всей идеальной полнотой личности, веры и убеждения они превратились в мировой фактор, вплетенный во всю историю человечества, хотя христиане сплошь и рядом и показывают себя худшими язычниками.
Так с каждым шагом личность в своих душевных переживаниях обретает возможности становиться все богаче, творить из себя все новое и новое. Как совершенно правильно подчеркнул Бергсон[1028], каждая мысль и каждое чувство уже в силу самого своего повторения становится уже не той, что она была раньше, становится новой. Наша личность никогда не повторяется; даже тогда, когда она теряет и беднеет, она никогда не приходит к тому, чем она была, как и стояние на одном месте для нее немыслимо.
Таким образом в душевной жизни, поскольку мы ее изолируем здесь в интересах изложения, идет созидание новых мировых возможностей, новой действительности, вводятся новые силы, выделяя и слагая, вширь и вглубь. Человек никогда не останавливается на данности, он всегда в ней отбирает, оценивает, дополняет своим воображением, привносит свои предвосхищения, свой колорит, он всегда живет в мире, который он отчасти создает сам и все больше стремится приспособить к себе. У розы, например, свой аромат, свои форма и цвет, именно данные и никакие иные у данного цветка, но я любуюсь, даю ей фон из тысячи моих воспоминаний, сопоставлений с ей подобными, из эмоций, жизненных сочетаний чисто человеческого свойства, как брак и невеста, любимая женщина, похороны и могила, торжество поэта или артиста и т. д. Я могу сделать это не только в моем восприятии, но я могу посадить эту розу в разные сочетания и этим определить ее действенную роль: в петлице, на поясе у женщины, в вазе на письменном столе, в венке на крышке гроба, в одиночестве или в букете – все это придаст ей – одной и той же, разный характер, т. е. она будет в сущности, в своей действенности не одной и той же. Так растет и творится новый мир на этом пути.
Но все это становится возможным именно в силу свободы, в силу возможности свободной оценки и свободного выделения и слагания и в меру его. В основе всего этого творчества сущности и ее видов и степеней лежат истина, добро, красота, их принципы. Мы творим на основе их или ими. Мы уже раньше стремились показать, что истину нужно понять активистически, что она творчески-созидательна, что истина недействующая или недейственная, это есть нечто нелепое, внутренне противоречивое; бездейственность первый и верный признак отсутствия истины. На пути истины мы одухотворяем, а это значит, обосновываем и повышаем действенность и творческие перспективы, также возможности создания самодовлеющего мира, освобожденного от власти времени и условий. На этом мы здесь останавливаться не будем, отсылая читателя к главе об истине.
Здесь мы на момент обратимся к той стороне творческой жизни, которую принято называть эстетической. Здесь творческая струя выявлена наиболее ярко и жизненно убедительно. Самый черный пессимист, резко ощущающий мир как течение железной необходимости, лишенной всякого творческого почина, не может уйти от простого и неустранимого факта претворения, с которым мы встречаемся на каждом шагу: это то великое преображение, когда самая неприглядная действительность слагается в божественное целое в эстетическом созерцании, хотя бы ее как будто только копировали в картине, в романе и т. д. Глядя на изнурительный, невыносимо тяжелый труд заводских рабочих на чугунолитейном заводе, мы можем ощущать только ужас и дыхание ада; но вот художник (Менцель) дает нам новую остроту зрения, научает нас видеть ту же самую действительность, но уже в ином виде: мы смотрим на его картину, можем чувствовать не только реализм, но и красоту, и творческое веяние, и «дыхание божества». Более того, достаточно нам выделить и обособить, как в картине, клочок действительности, чтобы он заговорил эстетически претворенным языком. Так мы в самом назначении факта быть в данном случае в сфере эстетического претворяем его облик и его значение и сущность: фактически безразличное, может быть, даже темное и отталкивающее в зависимости от того, в какую раму оно вставлено, как оно «обрамлено», может стать прекрасным и увлекательным, как Пан Врубеля, как картины заговора, преступления, как образ Иуды, как самосожжение фанатиков и т. д. Действительность берется при этом так, как она есть, но меняется только ее «рама», создается только своеобразная временная или условная обособленность, как на это правильно указал в своей «Эстетике» Гаман. Зло, месть, ненависть и т. д. – все это может претвориться в эстетическом творчестве.
Все это имеет первостепенное значение для разрешения мировой проблемы в сторону пессимизма или оптимизма: для того, кто помнит о волшебной силе эстетики как практики пессимизм уже прорван самым решительным образом, потому что все фактически данное – при условии даже полного сохранения верности фактическому обстоянию – может быть одухотворено эстетически, а это значит, что даже у зла, у тьмы, поскольку они становятся причастными к царству творчества, поскольку они становятся эстетическими или красивыми, постольку они освобождены от власти зла и отрицания; красивое зло не совсем зло уже по одному тому, что оно красиво, как некрасивое добро теряет соответственно потому, что оно некрасиво. Это то, о чем нам говорит на каждом шагу жизнь искусства.
Такое претворение стоит вне всяких сомнений особенно потому, что восприятие эстетическое, как и всякое восприятие, ничего не берет пассивно, но все перерабатывает и пересоздает творчески. В этом смысле и художник, и поэт – оба бесспорные творцы, о которых Роден говорит[1029]: «Стоит лишь большому художнику или великому писателю коснуться какого-либо из перечисленных безобразий, и оно моментально преобразовывается… одним мановением волшебной кисти оно делается прекрасным». Это волшебство, добавим мы от себя, удается именно потому, что каждое явление потенциально несет в себе все эти возможности, иначе мы никогда не поверили бы в них, и они нас не могли бы убедить художественно, если бы между ними и действительностью совершенно отсутствовала всякая связь.
Эта творческая мощь принимает особенный размах и значение в той сфере, где она не утрачивает связи с известной дозой реализма и связи с т. н. действительностью, но и не позволяет связывать себя и выходит на простор полного творческого раскрытия творческой фантазии личности – там, где обывательский и в сущности вне искусства лежащий вопрос «было или не было в действительности?» утрачивает всякое значение и становится законным и истинно понятным только одно «художественно или нехудожественно?», «внутренне правдиво и убедительно или нет» и в этом смысле «действительно или недействительно?»[1030]. В мире тогда появляется новая прослойка, новые факторы и фигуры, по существу обладающие бесспорной действительностью и действенностью и самым фактом своей сотворенности нашедшие себе жизнь и значение. Раз возникнув в меру своей художественной цельности и совершенства, они, эти продукты эстетического творчества, входят в армию живых сил культуры, и вся дальнейшая жизнь личности совершается при их участии и отчасти под их влиянием; через личность они обретают отраженное влияние и на все мировое свершение. До Шекспира не было Гамлета и Отелло, до Пушкина не было Онегина и Татьяны, до Гете не было гетевского Фауста и Мефистофеля, они их «выдумали» или, мы скажем, родили своей творческой фантазией; но это относится к истории их возникновения, к эпохе, предшествовавшей им, не знавшей их и творившей жизнь без них. Мы же все питомцы той действительности, которая без них немыслима и не была бы; они нас учили и воспитывали – пусть только в меру нашего образования и восприимчивости – не меньше, чем те, кого мы знали узко жизненно как определенных лиц. С эпохи поэта созданная им фигура живет и воздействует, несомненно, во много раз глубже, длительнее и шире, чем тысячи и тысячи физически живущих и живших людей. Все последующие эпохи создавались не только теми, кто жил в предыдущих, но и теми «сотворенностями», которые возникли раньше, освободились от конкретной человеческой власти, сами, так сказать, напитались ею, ожили и пошли самостоятельно в жизнь, расселяясь по умам и душам с раннего детства и влияя на их рост и направление. Когда Г. Лебон говорит, что мертвые не совсем ушли, что они оставили здесь часть своей души и сущности и отчасти правят нами, то он прав, но прав в особом смысле: они правят нами, собственно, не сами, а через те «сотворенности», которые пережили их, которые остались жить и творить жизнь по своему, в своем новом сочетании с реальными в обычном смысле творцами и с новыми продуктами творческого порождения. Вспомним только, что жизнь и действительность – действенность гениальных творений длится даже не века, а тысячелетия, если даже отвлечься от их вневременного значения. На этом фоне приобретают свое настоящее значение такие гениальные блестки мысли, какие мы находим у Ницше, когда он говорит: «Необходимо понять основное художественное явление, которое именуется «жизнь» – созидающий дух»[1031].
Отлитое в единство формы и содержания, когда значение, как нечто внутреннее, нашло свое внешнее выражение в соответствующей форме – единство формы и содержания мы и считаем тем, что представляет собой эстетическое явление, когда к нему подходят со стороны формы – красота в широком смысле этого понятия творит свой победный путь в мир и мировое свершение. Это единство может найти свое осуществление во всем, начиная от пустыни, от безотрадных видов Сахары, от одинокого камня, от унылого вида безбрежных однообразных степей и кончая всей сложностью и возвышенностью прямых человеческих переживаний и взаимоотношений личностей; потому что во всем есть своя доля значения, своя «идея». Нам будет нетрудно понять и почувствовать ее, если мы не замкнемся в традиционное ожидание одного этического содержания и оправдания. Пустыня, как и камень, как развесистое дерево, может лежать совершенно вне добра и зла, но быть красивым и многозначительным в иных направлениях. Одним из них, между прочим, является и то, что так удачно отметил Вл. Соловьев: это организующая мощь всего того, что приобщилось к эстетическому царству.
Достигнутые единства формы и содержания именно в силу своей цельности создают деятельную мощь и широкие возможности связей – то, что делает в действительности эстетический сепаратизм немыслимым: красота, как и истина, и добро, есть только особый характер действенности, но действенности несвязанной определенным предметом или руслом: в каждой из них или, лучше сказать, из каждой из них может вытекать жизненная полнота и всесторонность. Это и является моментом, оправдывающим утверждение Ницше, что высшего раскрытия искусство достигает в человеческой личности, развернутой во всей ее полноте и мощи, и что основным явлением художественности надо считать «жизнь – творческий дух». Сама природа и вещи далеко не лишены этого «божественного» характера, но они несут в себе только возможности, которые способны развернуться во всей их полноте только под волшебным влиянием человеческого принципа, только при прикосновении магической палочки творческой личности – той самой личности, о королевской щедрости которой правильно говорил Ницше.
Мы подчеркиваем, что речь в этом случае идет не об ограничении сферы, а о раскрытии горизонтов и возможностей. С этой точки зрения, вообще нужно сказать, что культура, в том числе и художественная культура, это не только произведения в обычном значении этого слова, но в нее входят и творцы их и может быть не меньше, а иногда больше, чем их произведения. Россия это не только «Война и мир», но и Толстой; Германия это не только Фауст или «Критика чистого разума», но и Гете и Кант. Более того, отсюда совершенно ясно вытекает, что в итоге получается целое, которое само имеет свое определенное лицо, лицо народа, класса и т. д. В этом смысле вполне правомерна речь об особой культуре отдельных социальных групп. Конкретные личности, индивидуальные и социальные – групповые, не меньшие культурные ценности. С практической – педагогической – точки зрения особенно интересно отметить, что в царстве эстетических ценностей человеческому телу – этой тоже вещи – принадлежит вполне правомерное место, и с этой точки зрения физическое воспитание должно быть оправдано не только как образование средства и орудия, но ему принадлежит самостоятельная эстетическая ценность. Что человек сам может явиться величайшим произведением, это должно быть отнесено ни только к его духовному укладу, но и к его телу. Идеальное положение, конечно, достигается там, где достигается идеальная их полнота и гармония.
При этом глубоко знаменательно то, что в эстетической сфере при превращении естественных вещей в культурные ценности открывается возможность рассматривать вещи как отраженные личности, как организмы и живое, и отсюда становится особенно понятной их неприкосновенность и ценность. Мы не могли бы ничего почувствовать в них, если бы они не были созданы творческой художественной силой, «организованы» по антропоцентрическому принципу[1032]. Попытки оторвать их от действительности и подлинно человеческого основаны опять-таки на отвлеченно изолирующей точке зрения. Обычно эстетические ценности противопоставляются этическим в том, что первые рассматриваются как типично созерцательные ценности: «ценности этого рода строят эстетический предмет или художественный смысл объектов, которые лежат вне сферы воли и поступков, не зовут нас к деяниям, как личности с их этической свободой, а наоборот – они являются типичными примерами благ, по отношению к которым мы держимся, спокойно рассматривая или созерцательно оценивая»[1033]. Но это опровергается тем, что перед нами как бы то ни было ценности, которые по существу не могут быть лишены императивного характера; их действие только распространяется не на объекты прямо, а на личности, но оно от этого не становится менее активным. Это типичное свойство действенности созерцательных состояний. Спокойствие, как будто бездейственно-созерцательное состояние, связанное с эстетическим наслаждением, объясняется не пассивностью, а своеобразием действия – перенесением центра тяжести его в самые эстетически наслаждающиеся личности и в действие через эту преломляющую среду, т. е. действие дано не непосредственно только постольку, поскольку речь идет о воздействии на вещный мир. В этом их персональном действии, когда даже вещи персонализируются на эстетическом пути, и заключается их великое воспитательно-образовательное действие, значение. В этом смысле это могучий культурный фактор с громадным диапазоном действия. Таким образом и с этой стороны нет отрыва от антропоцентрического принципа.
Так, на этом пути льется поток творчества сущности, пробивается струя абсолютного. Красота, как учил Платон, один из верных симптомов присутствия бога, его откровения в этом мире. Не даром религиозные, высшие эстетические состояния всегда находили себе соответствующее выражение в ритме музыки, в различных формах искусств, в пении и танцах – вся история человечества красноречиво говорит нам о богодейственной роли эстетических факторов: такова роль музыки, пения, живописи, пластики, религиозных танцев и т. д. в прошлом и настоящем, как нет сомнения в том, что эта связь останется и на будущее время, поскольку будут живы религиозные переживания. Красота, претворяясь в совершенную индивидуальность, этим самым осуществляет в себе совершенную общность, универсальность. В их соединении и кроется сущность.
Все это оправдывает наше безусловное присоединение к мысли, что красота есть один из великих благодетельных путей в мире, что красота может спасти мир, если в этом явится нужда и если мы не будем изолировать ее, поскольку она и не допускает изоляции в действительности. Улучшение, совершенствование возможно не только на пути нравственного оздоровления и возвышения – одним из таких путей является и путь эстетического творческого выявления. Человек-личность должен научиться, – а может быть, даже просто только дать себе простор? – смотреть на жизнь и мир не только с насупленными бровями нравственного проповедника и с наморщенным лбом и напряженным взором сомневающегося мыслителя или, наконец, фанатически настроенного религиозного борца за святость и правду – можно не только стремиться к звездам, но можно и должно просто радоваться и наслаждаться их блеском и красотой (Гете). Если человек сумел пробудить в своей душе способность понимать красоту и ценить эстетические переживания и явления, если он вскрыл в себе способность глубоко отзываться на сонаты Бетховена, на поэзию Гете, на скульптуру Родена и т. д., то он не только сам вырос и обогатился, но вошел в сферу обогащения мира, он приобщился к царству творцов, хотя бы сам он во всю свою жизнь не сочинил внешне ни одного стиха, не вылепил ни одной фигуры и т. д. Уже в одном этом мир его перестает быть продуктом темной механической силы; мир его тогда уже спасен от беспросветного пессимизма: достаточно факта существования творчества личности, красоты в разных формах, искусства, философского творчества Платона, Рафаэля и т. д., чтобы можно было найти опорную точку для отражения – и отражения решительного – черной волны абсолютного пессимизма и почувствовать в жизни мира и человека дуновение божественно освежающей струи. В красоте в мире пробивается ясный луч вечности.
XIV. ТВОРЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Поток творческих агентов, если мы условно расчленим его, льется в двух постоянно перемежающихся и сливающихся формах: это ряды живых, конкретных деятелей, выдвинутых естественным порядком, и ряды культурно сотворенных; первые можно было бы условно назвать первичными творческими произведениями и силами, последние – вторичными. Выясняя условия положительного решения вопроса о жизненном миросозерцании, мы отметили коренное значение той мысли, что наряду с установлением и признанием идейных основ, целей и ценностей должно быть ревниво сохранено признание роли и смысла конкретного мира во всем его живом разнообразии, должен быть понят и принят смысл индивидуально-конкретного, особенно человеческой личности во всей ее полноте. К этому мы обратимся теперь; задача наша облегчается тем, что мы уже многое сказали своим утверждением реальности конкретного мира и отрицанием субъективности чувственных качеств: нам остается только сделать некоторые дополнения.
Признание роли индивидуального бытия в принципе становится вне сомнения уже в утверждении действительности этого индивидуального существования. Действительность есть действенность не только в целом виде, но действует все, что действительно, все находит свою определенную роль и задачи в мировом свершении в большей или меньшей мере как творческий фактор. Тем более бесспорным становится индивидуальное значение личности, так как она вообще есть только постольку, поскольку существует индивидуальность, она есть микрокосмос, олицетворенный сконцентрированный космический принцип, каждая на свой лад, как на истинном пути, так и в заблуждении и, так сказать, самоотрицании. В этом смысле каждая индивидуальность обозначает возможность или действительность своего особого мира. Чтобы понять все значения этой мысли, нам стоит только взять творческий принцип в его наиболее выраженной форме, а именно – в человеческой личности; тогда нам становится ясным, что с существованием индивидуальности становятся возможными уже не мир, а миры в самых разнообразных сочетаниях. В данном случае особенно важно отдать себе отчет в том, что нет действительности вне действительных индивидуальных явлений; она должна мыслиться как своеобразная ценность – совокупность, которая никогда не могла бы быть ею, если бы она не являлась итогом сочетания индивидуальных ценностей. Таким образом восстанавливается космическое значение индивидуальности, и мы избавляемся от широко распространенной философской несообразности, когда мы вместо объяснения мира и жизни своей интерпретацией просто устраняем их и заменяем своей более или менее удачной фикцией.
Индивидуальность не только ценна и обладает известным космическим значением и сущностью, именно как индивидуальность, но она несет в себе известную необходимость, и фактически обосновывается этим целым. Как правдиво отмечает Вл. Соловьев[1034], полное единство было бы «пустым и мертвым безразличием», а чтобы этого не было, «уже в самом абсолютном порядке должно быть различие, ибо хотя каждый и носит или выражает собою одну и ту же абсолютную идею всеединства, но каждый особенным образом», т. е. космическое единство немыслимо без индивидуального существования. В известном восклицании Канта, что он ни за что не хотел бы прожить свою жизнь еще раз[1035], слышится, с нашей точки зрения, не пессимизм только, а сознание, что всякое повторение, в особенности же повторение самого себя является в этом случае совершенно излишним, ненужным, лишенным смысла и оправдания. Сознание, что вы только один из повторяющихся многих, так сказать, пресловутое жизненное «пушечное мясо», является уничтожающим, глубоко принижающим сознанием, потому что не вы, так кто-либо другой, и в вашем существовании нет никакого оправдания и смысла самого по себе. Эта идея нашла свое глубокое отражение в житейски широко распространенном страхе перед встречей со своим «двойником», как бы делающим вас излишним или во всяком случае конкурирующим с вами в существовании. Чем более что-либо повторяется, тем более оно сводится на простое средство и утрачивает свое самостоятельное значение; индивидуальность же, тем более оправданная своей нужностью для системы, к которой она принадлежит, приобретает свое особое самостоятельное значение; она есть не только средство, но отчасти само целое. Такую неповторяющуюся индивидуальность в ее роли в жизни можно было бы сравнить с землей, совершающей двоякое движение – вокруг своей оси и вокруг солнца.
Как ни парадоксально это звучит, но индивидуальность является свойством, необходимым еще и с другой точки зрения. Вопреки мнению, что человек в силу своей индивидуальности и индивидуальных проявлений должен быть неминуемо безнадежно одинок в мире, мы должны здесь энергично подчеркнуть, что если бы мир и люди были лишены индивидуальности и во всем повторяли друг друга, то жизнь превратилась бы в нестерпимую тоску и одиночество, и едва ли бы жизнь по-человечески оказалась бы возможной. Взаимное понимание, интерес друг к другу и стремление к общению обусловливаются только в общем наличностью совместного базиса в виде однохарактерных способностей, общего языка и возможности взаимного понимания, во всем же остальном необходимо не тождество, а разнообразие проявлений и индивидуальность. Две мозаичные фигуры с одинаковыми выступами по сторонам никогда не придутся друг к другу, и между ними всегда будет пустое пространство. Только индивидуальности, своеобразно пополняющие друг друга, могут подойти друг к другу; то, что чужая душа в ее глубинах недоступна чужому глазу, это есть почва столько же для одиночества при неблагоприятных обстоятельствах, столько при положительном сочетании для интенсивного интереса друг другу, любви и деятельного проявления. В жизненном совете, рекомендующем остерегаться давать прочесть себя до конца, кроется глубокий смысл, потому что тогда вас можно как до конца прочитанную книгу отложить в сторону и не проявлять к вам интереса – повторение излишне. Ведь и к старой книге, и к старому любимому автору мы обращаемся, чтобы вынести из него обновленное и пополненное новыми черточками впечатление. Так текут мир и жизнь в самых своих переживаниях и отдельных звеньях и состояниях вечно новыми, никогда не повторяют себя, как правдиво отмечает это А. Бергсон, находя в этом твердую гарантию для себя в характере времени. Мир во всем принципиально несет возможность вечно нового, он всегда вне опасности повториться, потому что он всегда в движении и действии.
Мы таким образом снова возвращаемся к неоднократно подчеркнутой нами мысли, что бытие и действительность могут иметь только один разумный смысл действительности: быть, значит, не пребывать в застывшей неизменности, а так или иначе действовать и действовать индивидуально, хотя бы и всегда в социальной оправе. Если мы снова вернемся к основному принципу, который приоткрывает для нас завесу над миром, к принципу человека – личности, то там мы ясно прочтем ту мысль, что индивидуальность обозначает более или менее раскрытую возможность самоосуществления. Исходя именно из этих положений, Фихте требовал для человека обеспечения возможности труда, потому что это вполне равноценно требованию признания прав человека на жизнь, на бытие. Перед каждым существом стоят только более или менее широкие возможности самоосуществления; в этом смысле правильно говорят, что у нас нет и не может быть полного знания самих себя: мы в сущности скорее знаем себя – и тоже неполно – такими, какими мы хотели бы быть, мы больше знаем себя как задачу. Мать-природа поставила человеку известные грани, наделила возможностями и предоставила дальше непрерывно искать самого себя, своей никогда не завершенной полноты в постоянной жизнедеятельности с утратами и достижениями, всю жизнь творя себя и из себя.
«So wird das Schicksal zur Aufgabe und Tat». (Так судьба претворяется в задачу и итог деяния. Гете.)Но то, что в человеке выявляется в ясной форме, то разлито во всем мире, только с соответствующими ограничениями и видоизменениями, потому что мир жив антропоцентрическим принципом.
Все это приводит нас к утверждению, что в мире идет творчество – с положительными и отрицательными возможностями в перспективе, которое мы за неимением более удачного термина назовем условно реально-пластическим: этим мы хотим подчеркнуть, что творится не только продукт, отделяющийся от творца самого, но что сам творец собою творит и являет новое и творческое. Поясним это на примере красивой мысли Метерлинка, который говорит: «У нас есть возможность творить добро, красоту, даже геройство, но мы ничего не делаем. А вот стоило Христу встретить на своем пути толпу детей, женщину-блудницу или самаритянку, и во всех трех случаях человечество трижды поднялось на высоту, равную богу». Здесь не только получился объективный религиозно-моральный итог, но сама личность Христа предстала во всей ее конкретной полноте трижды как нечто особое, прекрасное явление в себе: один раз во всей его жизненной позе среди толпы детей, другой раз во всем его явлении во встрече с падшей женщиной и т. д.; все это говорит нам, что жизненно важен не только идейный итог, но и конкретно пережитое, и сам переживающий во всей его жизненной полноте, потому что он во всем этом является новым и делает новым весь мир, хотя бы и с малым сдвигом, посильным малой личности. Важно и ценно не только произведение, порожденное вдохновением, но важен и ценен сам вдохновенный индивид, именно в этом своем состоянии, хотя мы знакомимся большею частью и замечаем только творение, но не творца и его состояния, или любуемся на них и ценим их только тогда, когда талантливый художник поставит их перед нами в живой полноте, как картину или скульптуру; тогда мы зажигаемся их вдохновенным или в себя ушедшим взором, их устремленной или напряженной фигурой, представляющей монолит из напряженных мускулов, как в скульптуре Родена «Мыслитель» и т. д. И если мир теряет много от сожженного храма в Эфесе или от уничтоженного Реймского собора, то не меньшим ударом во всяком случае по миру приходится считать и уничтожение самого автора – утрату творца как жизненного явления, обретающего различное значение и дающего каждый раз новый иной размах и иную реальную сущность и фигуру.
Мы подчеркиваем, что речь идет не об эстетическом значении и впечатлении, а о всей широте конкретно реального бывания. Это то, что можно было бы пояснить примером общения с богато одаренной натурой: в каждом взаимодействии с ней, она дает вам явление вполне реальное, конкретное и вместе с тем новое и по-новому значительное; здесь только это явление выступает более рельефно, потому что мы встречаемся с одаренным человеком, но оно в различных степенях есть везде. В этом, между прочим, и кроется объяснение того, что личность важна и значительна не в статическом виде, не в застывшей своей сущности, а в ее различных выявленностях, осуществляющихся в новом виде с каждым новым моментом: дитя, отрок, юноша, мужчина, старец, если говорить о различиях в крупном масштабе, – одно и то же существо, но все они не средства и не переходная только ступень к последующему, а каждое из них обладает своим самостоятельным значением и сущностью; Толстой, Наполеон или просто Иванов, Петров в юности, в зрелости, в преклонном возрасте не одно и то же; они единство и в то же время множество в единстве, и ни одно звено не позволяет в принципе выбросить себя за борт, хотя бы в конкретном осуществлении оно подчас имело, с нашей точки зрения, только отрицательное значение.
Это справедливо не только в применении к фазам отдельной личности, но то же самое нужно сказать и относительно сообщества, более или менее сложных соединений. Например, первая поездка Платона, далеко еще не выполнившего своего философского дела, как известно, закончилась тем, что навязанный ему в спутники спартанский посланник Поллис по просьбе сиракузского тирана Дионисия высадил Платона на острове Эгине, находившемся в то время в жестокой вражде с Афинами. В итоге Платону угрожала или смерть, или продажа в рабство. Представим себе на момент, что его не увидел бы и не спас выкупом один из его друзей, что легко могло произойти. Ясно, что тогда угас бы не разгоревшись не только мировой светильник сам по себе, но не было бы и неизмеримых малых и великих культурных следствий, вытекавших из личности Платона. Пусть найдется скептик или поклонник необходимости в культуре и скажет нам, что на его место история поставила бы с той же необходимостью какого-либо иного; но жизнь создала уже на этом месте именно эту жизнь, которая прервалась, и ничто не мешало иному быть одновременно с Платоном. Как бы и велико ни было иное явление, оно всегда остается самим собой, занимает свое, особое место и ни в какой мере не заменит не только грандиозной фигуры Платона, но даже и одного из малых сих, хотя мы, конечно, можем и не замечать малых утрат, поглощенные крупными явлениями или очень близкими нам. В личности особенно ярко вскрывается, что малая причина может родить очень крупные действия, как и исключение ее может устранять длинную вереницу реальных ее следствий.
Широта и глубина этих следствий становится тем более понятной, если мы вспомним, что понятие реального существа, тем более личности, прикрывает многостороннюю, многогранную направленность и связи. В философии исстари отмечалось, как нечто бесспорное, что простое не может быть индивидуально, индивидуальное всегда сложно. Как говорит Риккерт[1036], самое слово индивид можно истолковывать в том смысле, что перед нами объединенное сложное образование, которое может быть разложено, но которое значительно именно в своей сложности и потому не должно подвергаться разложению. Но сложное уже в силу своего состава не может быть в простых отношениях ко всему остальному миру; наоборот – здесь перед нами необозримое разнообразие положений, действительных и возможных. В этом кроются великие творческие возможности.
Таким образом каждый может и должен выявить себя, может и должен творить собой самим, своей реальной фигурой, а не только своими произведениями. Там, где мы этого не сознаем, это все равно вершится, но только вне сознания, вне нашего воздействия, как выйдет, может быть, удачно, а может быть, и плохо, и губительно. Такое творчество самого себя тем полнее, чем мы более размышляем над собой, своими поступками и проявлениями, чем более мы сознаем себя как творческую мощь и возможности.
Все это приоткрывает завесу над еще одной загадкой, разрешает еще одну двойственность и противоречие с самим собой у человеческой личности. Мы имеем в виду тот трагизм, который создается у человека на почве невозможности примирить в своем сознании и деятельности стремление выявить полностью свою индивидуальность и вместе с тем не оставаться в одиночестве, в страшной оторванности, сохранить связь с социальным, вечным и универсальным, в то время как обычно индивидуальная жизнь представляется утопанием в преходящем и изолированном. На самом деле эта дилемма вовсе не является дилеммой, выражающейся в непреклонной формуле «или – или». Что личность в сути своей социальна, об этом мы говорили уже раньше, выясняя самое понятие личности. Мы едва ли погрешим против истины, если выскажем опасение, что вечность и связь, иными словами, универсальное утрачивается именно тогда, когда индивид покидает почву своеобразности и плывет в русле общего, повторно и, может быть, многократно данного; тогда он только экземпляр, один из многих, тогда он легко заменим, он только средство, лишенное самостоятельного значения. Тем более нет смысла и в калейдоскопических сменах, в простых перемещениях, хотя бы они и не были похожи друг на друга. Только в индивидуальном – творческом, в индивидуально творящем свою особую сущность кроется смысл и универсальное значение: все индивидуальное в этом случае имеет универсальное значение; универсальное является в этом случае итогом-совокупностью и без индивидуального само немыслимо. В действительности путь к универсальному значению, к смыслу, к сущности ведет только через индивидуальное, в котором они и созидаются, творятся. Общее всегда только формально, оно бескровно и бесплодно, оно всегда продукт отвлечения, искусственности, как бы оно ценно ни было, оно всегда вместе с тем одинаково и не знает и исключает все индивидуальное; разрыв с индивидуальностью есть первое условие возникновения общего.
Таким образом подлинный жизненный индивидуализм, основывающийся на конкретном творчестве во всей его живой полноте, ведет нас не к атомизации, не к распылению жизни и мира, единства мира, а к его пониманию, обоснованию и к созиданию этого единства. Все это говорит нам, что стремление сохранить свою индивидуальность, найти свою особую роль в жизни, одним словом, быть на своем месте есть не только здоровый инстинкт и плодотворная жизненная тяга, но это же положение должно рассматриваться как жизненный императив универсального значения – в нем скрыта глубокая жизненная правда и мудрость. Нам нет особой необходимости добавлять, что это «быть» может иметь только один смысл действенного существования. Эту мысль отчасти и выразил Ницше в своем противопоставлении аполлоновскому обману с его «вечностью красивой формы» культа и проявления дионисийского духа как духа непрерывного творчества. Так должна быть понята вся жизнь. Человек живет не только в сотворенном и творимом мире, но он и самого себя творит беспрестанно, хотя бы это творчество иногда принимало отрицательный оттенок. Он не только homo sapiens, но он и homo faber, как говорит Бергсон[1037]. Как это ни странно звучит, он может даже смерть одеть в такую форму, которая будет говорить о его способности творческого преображения. Жизнь показывает нам возможность таких явлений во многих своих сторонах, в актах героизма и самопожертвования. Отголосок такой победы над смертью слышится нам в известных идеях Мечникова, который видел идеал человеческой природы в ортобиозе, т. е. в создании такой жизни и конституции человека, чтобы он мог достичь долгой, деятельной и бодрой (жизни) старости, приводящей в конечном периоде к возникновению чувства насыщения жизнью и к желанию естественного конца. При этом Мечников справедливо указывал, что этот естественный конец не будет вызывать ужаса, как теперь, а явится счастьем, необыкновенно приятным ощущением, как ощущение усталого путника, засыпающего в удобном пристанище, обретающего покой. В жизни не раз указывали, как умирают просто, легко и радостно те, кто дожил здоровым образом до глубокой старости. Современные работы Штейнаха, Лихтенштерна и др., может быть, и являются некоторым введением к осуществлению этой мечниковской мечты.
Человек не один на этом пути. Пусть природа в своей жизни оказывается не в состоянии выбиться сама за пределы положенных ее творчеству границ; тем не менее идет «вечная игра жизни», в которой, природа-мать творит одни и те же, но бесконечно разнообразные типы, но в сущности, в частностях никогда не повторяет самое себя, являясь вечным обновлением, вечным зарождением нового. В человеке природа только полно и близко нам открывает свою душу, свою тайну, к которой она во всем остальном стремится непрерывно, но к которой она оказалась способной пробиться только в человеке. В нем ясно сказывается, что он не только живет действительностью, но что он создает ее и приумножает ее. Каждая индивидуальность обозначает возможность и известную действительность своего особого мира. С существованием личности существуют уже не мир, а миры. Если бы мы могли освободить слова Лейбница от специфических черт его учения, мы могли бы повторить его слова, когда он утверждает[1038]: «Души разнообразят и представляют вселенную на бесконечное количество ладов, которые все различны и истинны; души, так сказать, умножают вселенную во столько раз, сколько это возможно, так что сообразно с этим они приближаются к божеству, сколько возможно, соразмерно различию их степеней, и дают вселенной все совершенство, к какому она способна». Мы же, с своей точки зрения, не знаем границ возможностей такого самотворчества и творчества мира. Ясно во всяком случае, что в богатстве и полноте творческого раскрытия личности, в ее многогранности кроется и обогащение всего мира – мысль исключительной важности и практически, в частности, для педагогики.
XV. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО В КОЛЛЕКТИВЕ
Уже в предыдущей главе мы бегло напомнили о том, что индивидуальность в ее подлинном смысле ни в каком случае не должна рассматриваться как повод к утверждению атомизации, разрозненности мира. Здесь нам хотелось бы несколько дополнить эту нашу мысль и раскрыть хоть отчасти ее содержание в некоторых дальнейших следствиях. Реально-жизненная, правдиво конкретная точка зрения совершенно неоспоримо приводит нас к утверждению, что индивидуальности нет в смысле твердой фиксации, установления неподвижных границ, что она, наоборот, по самому своему существу, как и все живое, находится в вечном движении и текучести, непрерывно сообщаясь со всем остальным миром и переливаясь в него и вбирая его в себя. Таким образом у нас имеются все основания утверждать, что индивидуальность, уже с чисто органической точки зрения, не может не быть связана со всем остальным: мы все связаны друг с другом рождением, жизнью, общим животно-родовым происхождением и т. д. Все это отнюдь не обязывает нас повторять одно и то же нашей жизнью и проявлениями, но оно гарантирует нашу общую связь уже в чисто животном органическом смысле, хотя бы в форме преемственности и непрерывной связи поколений. Эта связь прекрасно подтверждается фактом наследственности, выступающей не как рок, но в проявлениях настоящего дающей прямой, хотя и известным образом модифицированный отголосок прошлого. Та же сторона находит свое отражение в сложных бессознательных наслоениях от прошлых поколений в человеческой душе, что дало право говорить о власти мертвых в жизни человечества – в том, что мы несем в себе не только то, что выношено нами, но и слышим в себе и видим в своих поступках своего рода претворенную в органическое соединение амальгаму из наших стремлений, мыслей и чувств и какой-то иной власти, смутно сознаваемой нами или вовсе ускользающей от нас и тем не менее оставляющей свои следы в нас самих и в нашем поведении. Нам остается только еще подчеркнуть нашу память, неустанно ткущую свои нити, убегающие в далекое прошлое, вширь и вглубь. Человек с его большей или меньшей индивидуальностью не может быть один и никогда не бывает один. У него есть история и будущее, он живет в обществе и в среде себе подобных. История и общество – это действительно необходимые условия, без которых нет и не может быть человека, не может быть индивидуальности в подлинном смысле этого слова[1039]. С этой мыслью мы и попытаемся теперь познакомиться поближе.
Если принципиальное противопоставление социального и индивидуального является вполне оправданным, оправданным для научного исследования, то философски, с живой, жизненной точки зрения это противопоставление является совершенно несостоятельным и должно быть принято только как принцип, но отринуто как неправильно понятое жизненное явление. В сущности и с научной точки зрения теперь намечается несколько иной взгляд на этот вопрос: на пути своего развития общество все больше и больше нуждается в индивидуальном выявлении своих сочленов, настолько, что уже в современных условиях степенью дифференцированности коллектива можно измерять культурный уровень общества; индивидуальность и общественность становятся все более в положение взаимно друг друга обусловливающих фактов.
Выход за пределы индивидуальности продиктован не только условиями органического существования; он лежит в самом существе деятельности, каждый акт которой и состоит в таком выходе из самого себя и обозначает вступление на путь взаимопроникновения с другим и многим. Уничтожение возможности такого выхода за свои – условно принимаемые нами – пределы обозначало бы уничтожение возможности и смысла деятельности, а это должно быть понято как уничтожение смысла существования, как уничтожение жизни в конечном счете. Это особенно ярко сказывается в тех сторонах жизни индивидуальности, где мы имеем дело с сознательными стремлениями, особенно с идейными стремлениями личности, потому что таким путем уничтожалась бы вся сфера, связанная с возможностью человеческого поведения. В библейском повествовании об одиночестве Адама и признание господом богом необходимости дать ему общество в образе его спутницы, как и в евангельском «не добро быть человеку одному» слышится то же правдивое, глубоко жизненное понимание действительности. Стремление к среде и взаимодействию с нею является не только фактом неизбежным и органически необходимым, это не только основное влечение самого живого существа, но это для человека есть основное условие возможности сохранения его разумности. Как говорит Фихте[1040], изолированный человек не может быть полным, настоящим человеком, потому что он неизбежно вступает в противоречие с самим собой. Все ссылки на явления обратного порядка, как аскетизм, как стремление самого индивида уйти от среды и общения, не опровергают нашей мысли, потому что все эти явления стали возможными уже на почве известной пройденной культуры и прожитого человеческого общения. Потерять среду или хотя бы утратить самую идею возможности ее значит потерять в себе человеческую личность со всеми дальнейшими следствиями из этого. Каждый на своем месте делает свое особое дело, но уже в своем индивидуальном задании и выполнении он включается в более широкий круг и ищет признания и утверждения как себя самого, так и своего дела и своих установлений. Смысл изолированности для личности – это уничтожение свободы, жизненного нерва личности. Нужно во всей полноте усвоить себе мысль, что зло лежит не в индивидуальном начале, самом по себе, которое вовсе не требует сепаратизма и оторванности, а только в отпадении от системы, в разрушительности атомизации, когда индивидуальное превращается в сепаратное или онтологически замкнутое, эгоистическое. Вл. Соловьев глубоко прав в своем утверждении, что «истинный индивидуализм требует внутренней общности и неразлучен с нею»[1041]. Мы, с своей точки зрения, внесли бы только одну необходимую поправку, что и общность на пути своего раскрытия чем дальше, тем больше требует индивидуализма и неразлучна с ним[1042]. Личность реальна в обществе, но и общество реально только в личности.
Таким образом человек не только фактически включен в общество, в социальное целое той или иной формы, но он и в своих стремлениях и созидательной деятельности находится на пути все большего включения в коллектив, на пути установления сотрудничества; задача индивидуализма сводится в этом случае к отысканию своего места, своих форм жизни и творчества, в утверждении таким путем своей самодовлеющей ценности и смысла своего особого существования. Вне связи с себе подобными, с миром все это утрачивает свой смысл, значение и сущность. Не даром мы не можем мыслить себе человека вне связи минимум с породившими его существами, как и рождение его является актом общения, хотя бы только двух человеческих существ. С жизненной точки зрения, роковая ошибка противопоставлять личность и социальное целое принципиально друг другу; они могут сталкиваться друг с другом, но это вытекает не из существа их, а из временных, сменяющихся условий, как это и было в истории человеческого общества.
Проблема индивидуальности должна найти свое естественное расширение и продолжение в том, что индивидуальность есть не только личная, у отдельного существа, но она вполне понятно получается и у коллективных единиц, у социального целого, хотя бы уже просто потому, что они так или иначе слагаются из индивидуально осуществляющих себя единиц. Не только единичная индивидуальность включена в то или иное социальное образование, но и социальная индивидуальность сама включена в дальнейшее более широкое целое и так вплоть до включения в универс, который оказывается всеохватывающим, всеобъемлющим индивидуальным целым. Все это включение индивидуальностей друг в друга в порядке расширения и углубления их общего сочетания и взаимообусловленности обозначает расширение и углубление творческих возможностей до пределов в конечном итоге мирового космического творческого процесса. Семья, класс, народ, раса может и действительно выступает со своей особой неповторяющейся индивидуальной ролью, со своей особой творческой ролью, значением, смыслом и сущностью; каждая такая социальная индивидуальность не только способна созидать свои особые индивидуальные ценности, но к ней приложимо все то, что и к частной индивидуальности, т. е. и то, что она несет, помимо всего, свою особую ценность в самой себе, так сказать, реально пластически, своим конкретным обликом, тем, что она есть и что она есть. В этом вскрывается глубокий смысл народно-национальной индивидуальности, все ее бесконечно важное значение не только для себя, но и для человечества и всей мировой, универсальной жизни. Творческие возможности безграничны. Все это совершенно неоспоримо убеждает нас в том, что никогда человек-личность не станет излишним для мира, как и сам никогда не дойдет до той ступени, на которой ему была бы не нужна социальная включенность и связь, излишен оказался бы мир и его жизнь[1043]. И та, и другая сторона абсолютно незаменимы друг для друга, они взаимно обусловливают друг друга, более того – их разобщение есть еще одно пагубное следствие расчленения живой действительности в философском рассмотрении, еще один акт отвлеченной, психологистической мысли. Нам остается только еще со всей энергией подчеркнуть, что таким образом человечество и человечность есть не миф, а подлинная реальная действительность, как и народ и народная индивидуальность. Их реальность гарантируется индивидуальностью – личностью и необходимо вытекающей из нее ее включенности в более широкую и глубокую социальную и коллективную индивидуальность.
Конечно, нет нужды особо оговаривать, что все это очень далеко от утверждения исторической идиллии, от игнорирования иногда в истории очень болезненно протекавшего и протекающего процесса создания этих индивидуальностей, процесса включения в более объемлющую индивидуальность, как и могут очень остро сложиться взаимоотношения отдельных индивидуальностей разных формаций. В этом жизнь и движение. Так, может быть, борьба между ними никогда не прекратится, но она неизбежно меняла, меняет и должна изменить свои формы. Как ни жестока современность, но от нас не должны ускользать проблески, хотя и медленного, но все-таки существующего процесса выработки известных регулирующих норм; нельзя не видеть благоприятных симптомов в том, что теперь делаются чрезвычайно энергичные попытки не просто бороться, но идейно оправдать себя в этой борьбе, в чем слышится пробивающееся реальное международное право, намечается перенесение центра тяжести в идейную, культурную сторону. Таким образом и здесь намечается постепенный переход от пребывания в естественном состоянии, когда право – это сила, в культурно регулируемое – переход от механизма к телеологии, от простой причинности к осмысленности, от фактического обстояния к одухотворенности. Все это утратит характер чрезмерной идеализации, если мы будем помнить, что путь, пройденный нами в культуре, совсем не так велик и грандиозен, как это казалось и кажется поверхностным наблюдателям. С этой точки зрения и следует расценивать то, что происходило в прошлом человечества: сначала один народ в борьбе в буквальном смысле уничтожал другой, пожирая своего противника, потом явились формы борьбы в порабощении физическом, за ними последовали формы государственно-правового уничтожения и утонченного экономического использования, когда даже может быть сохранена известная государственно-политическая самостоятельность. И вот мысль наша, логически продолжая эту линию создания новых форм борьбы, вполне оправданно рисует себе в будущем эру, когда борьба выразится в свободном культурно-духовном соревновании на почве социального, государственно-правового, экономического равенства. Это будет обозначать победу, действительную победу, когда будут только победившие, когда победителями окажутся и побежденные, потому что они в этом случае также приобретают, в то время как в современных условиях не только побежденный, но и победитель часто является жестоко пострадавшим и многое невозвратимо утратившим. Кто бы не победил в культурном соревновании, в конечном итоге все выигрывают. Поэтому в народных индивидуальностях и их борьбе надо видеть большой положительный смысл. Истинное единство может создаться только на этой почве, когда все народы в идеале сочетаются не в однородность и полное совпадение, делающее ценным только один экземпляр, а в единство своеобразного, в котором сохраняется особый характер каждого и открывается возможность живого взаимодействия и солидарности; иначе жизни и действительности у человечества быть не может.
Этим самым подчеркнута и другая сторона: такую все расширяющуюся включенность нельзя мыслить как рок – она дается в меру творческой мощи и творческого выявления отдельного народа. История человечества дает нам очень интересное жизненное подтверждение: в далеком прошлом существовало много народов, проживших века, живет и теперь много разных народов, но все они или исчезли, или исчезнут, не оставив по себе и воспоминаний как о самостоятельной или самоценной действительности; они включились в общую действительность матери-природы и потонули в ней, как тонет остальной животный и растительный мир. История как история прошла мимо них. С точки зрения созидания сущности они сами по себе не внесли ничего и вошли в общий поток мира только как его материал. Только индивидуально и творчески выявившие себя народы обрели самостоятельную действительность и являются существенными.
Вся история и должна рисоваться нам как постепенный путь самоопределения и самосознания человечества в лице его отдельных представителей, частных и коллективных индивидуальностей. Вся мировая человеческая история совершалась таким образом, что вначале она шла в темноте или вне сознательного процесса, и вся культура в ее первых проблесках рождалась как бы механически. Но дальше стало раскрываться то, что было в живом заложено в возможности; в отдельных представителях стало нарастать осознание себя и своей роли в жизни и истории, пока она окончательно не вступила в поле сознания. С этого момента человечество в отдельных своих представителях открывает для себя возможность, все больше претворяемую в действительность, сознательно воздействовать на решение своей судьбы или во всяком случае своего земного пути. Если раньше человек видел перед собой ход жизни как какую-то неведомую непреодолимую силу, располагающую его жизнью, то теперь перед ним открывается все более крепнущая надежда в нарастающей степени определять это продвижение по пути культуры вплоть до перспективы полного господства над культурным развитием.
Таковы задачи и направление индивидуального и коллективного творчества: здесь пробегает тот путь, на котором они встречаются и могут идти солидарно, не отрываясь друг от друга; более того, вся мощь их и возможности раскрываются только на этом пути взаимообусловленности и взаимопроникновения. Когда Платон решительно объединил на одной абсолютной цели личность и общество, он шел по глубоко правильному пути. Ошибка, как и у всех абсолютистов данного толка, заключалась только в том, что он в проведении этой идеи, в путях и средствах радикально нарушил равновесие и растворил личность в коллективе[1044]. В действительности личность в ее жизни без коллективной базы и ее атмосферы неизбежно идет на убыль, если ей не удается снова от себя начать социальную линию; личность сама в самом своем существе социальна и без этого немыслима, она жива связью поколений, она сама есть огромная наследственная связь; личности нет и не может быть без прошлого и известной широты связей в настоящем, как и просветов в будущее; общество же живо и выявляется только в личностях и в соединенных ее проявлениях; их нет друг без друга: даже в самом примитивном обществе живет личность, хотя бы только в потенции, и даже в самой индивидуализованной личности живет социальная черта и общественные позывы. Человек-личность становится ею именно благодаря своей способности опираться на прошлые поколения и на свои настоящие связи.
Таким образом социальные организации – именно в силу их характера как своеобразных творческих факторов, имеющих свое самостоятельное значение, – не только обладают техническим значением для личности, как охрана ее интересов и свободы, но им присуща и самостоятельная роль и значение, как и всяким творческим индивидуальностям, а если принять во внимание их больший масштаб и во времени, и в пространстве, то нам станет понятным и их большее значение в сравнении с индивидом частным, если вообще их противопоставлять друг другу. Таким образом ни Платон и Гегель в их абсолютизации коллектива, государства, ни Штирнер и Ницше в их абсолютизации индивидуальной личности не сказали всей правды, а берут только часть ее: есть индивидуальности единичные и коллективные, тесно и неразрывно связанные друг с другом в их жизни и существе; в живой действительности они идут неотрывно в живом непрерывном взаимодействии и взаимообусловленности: они и самоцели, и средства друг для друга одновременно. В этом смысле мы повторим слова Канта, что «величайшая проблема для человеческого рода, к разрешению которой его принуждает природа, – это достижение гражданского общества, построенного на всеобщем праве»[1045], так как не только само общество только в этом случае способно полно и углубленно организовать свою индивидуальность как созидательную мощь, но только в этом случае раскрываются настоящие возможности и перспективы для творческих выявлений личности, осуществляется наибольшая свобода всех, способность к действенности и созиданию, в которых оба – и общество, и единичная личность – находят свою действительность. В сущности таким образом общество не только не исключает личности, но оно впервые открывает для нее возможность выбиться из положения средства для природы и общемирового хода и обрести самостоятельное значение. Мы раньше неоднократно останавливались на мысли, что в существе личности, в ее деятельной сути лежит с первых шагов не только сосредоточенность на самой себе в форме все углубляющегося самосознания, но и неизбежный, необходимый выход за самую себя. Все это ясно показывает нам, что полное ее раскрытие возможно только в обществе, в живом взаимодействии личностей, так как только при нем при взаимодействии и взаимоотношении личностей возможно развернуть всю скалу идеальных ценностей. Об этом говорит определение общества, как его дает Фихте[1046]: «Обществом я называю отношение разумных существ друг к другу. Человек должен жить в обществе, он не может быть полным, завершенным человеком и противоречит самому себе, если он остается изолированным». При этом для своего полного раскрытия он нуждается во взаимодействии с индивидуально развитыми и индивидуально проявляющимися личностями. Чем общество более однородно (что значит менее развито), тем более неблагоприятна обстановка для входящей в него личности: с общественной точки зрения, важен не унисон личностей, а их гармония, слагающаяся из индивидуальностей и их индивидуальных деятельностей, каждой на своем месте, – та гармония, которая может и должна получаться в итоге, но никогда не устраняет отстаивания себя и борьбы за свое собственное содержание и формы. Если в примитивном коллективе все это дано только в потенции, то задача культуры заключается в том, чтобы осуществлять все большие возможности в этом направлении. Связь с коллективом становится тем больше, чем больше и глубже он раскрывает свои творческие возможности и открывает простор для творческой деятельности входящей в него личности. Так обосновывается требование свободы в здоровом, нормально раскрывающемся коллективе, потому что требование свободы необходимо вытекает из признания творческой природы и назначения человека.
Все это можно было бы подкрепить другими соображениями, также ведущими к тем же следствиям: смысл и удовлетворение личности лежат в том, что сверхлично, в идейном порядке, и в этом смысле она неизбежно стремится подняться над самой собой; но смысл и значение коллективных устремлений в конечном итоге должны уходить в ту же высь, где интересы общества и личности могут найти все большее, все более гармоничное, взаимно все более обогащающее положение. Конечно, ясно начинает это положение вырисовываться только на высоких степенях развития как личности, так и общества. Этим объясняется то, что не всякий коллектив или общество может и чувствует себя вправе требовать от индивида подчинения себе; как говорит Вл. Соловьев[1047], «степень подчинения лица обществу должна соответствовать степени подчинения самого общества нравственному добру» – правильнее было бы сказать, степени подчинения идейным, ценным принципам вообще. И на том, и на другом лежит необходимое обязательство оставаться верным человеческому достоинству в широком смысле этого слова; только в соответствии с этим становятся правомерными их требования друг к другу. Таким образом личность и коллектив, при всем перевесе второго в его жизненной роли, не подчинены друг другу в принципе, а координированы и взаимно обусловливают друг друга. Они выступают в жизни не только слитно, но и могут обретать свое самостоятельное значение как творческие факторы – один (личный) более свободный и несвязанный, способный поддаваться сознательному направлению и более или менее гибкий, и другой, пока все еще чрезвычайно тяжеловесный, медлительный и мало управляемый сознательными стремлениями в прямом смысле.
Таким образом нам становится понятной вековая борьба народов и социальных групп, классов за свою индивидуальность, за ее свободное выявление и за простор для своей деятельности. Это тоже борьба за творца и творчество и его свободу. Бесспорно, в развитии народа, как и всего человечества, господствуют определенные законы, но только с теми же ограничениями, как и в индивидуальной жизни. Это господство тем больше, чем ниже культурный уровень данного коллектива; на ступени первобытности оно условно может быть характеризовано как стадия, близкая к полному отсутствию свободного самоопределения; но с каждым шагом вперед по пути культуры такой коллектив увеличивает и углубляет возможности своего освобождения, и тем более тяжело на чашку весов общечеловеческой жизни начинает ложиться «меч идеологии», тем большее значение приобретает та или иная «организованность психики».
Человечество на этом пути прошло пока еще только очень небольшой этап, который мы в нашем культурном нетерпении, соблазняемые возможностями, перспективами, быстротой и вообще аналогией с единичной личностью, все время переоцениваем и готовы на основе этой мнимо грандиозной исторической пробы отрицать возможности свободного самоопределения у коллектива, социальной группы.
Таким образом на почве общего творческого принципа раскрывается нам смысл исторического развития. Когда этот смысл определяется понятием свободы, то это вполне правдиво, но только не доведено до конца, потому что сама свобода, утверждаемая нами, тотчас требует своего логического и жизненно необходимого пояснения; это пополнение заключается в указании на творчество и рост творческих возможностей. Начав только с потенции, только с возможности в будущем, человек индивидуально и коллективно все выше и глубже идет по пути расширения этих возможностей. Беспомощность ребенка в раннем детстве и его мощь в развитом состоянии может служить до некоторой степени символизацией этой линии развития от «механизма к телеологии». Смысл истории в свободе, но смысл свободы в творчестве, в котором создается нечто самодовлеющее и полагается конец «дурной бесконечности» никогда не оправдывающихся и никогда в себе не завершенных стремлений. Это значит, смысл истории в расширении и укреплении творчества. Так претворяется и укрепляется основной, всеобъемлющий принцип устремления к жизни и бытию, сам по себе лишенный определенного смысла: смысл не есть, а он созидается, творится. В истории он творится на различных путях народных индивидуальностей, ценность которых в данной стадии еще не выявилась в достаточно осознанной мере, но каждый дальнейший шаг будет нарастанием этого сознания, и с ним должна будет расти взаимная заинтересованность народов и всего человечества в этих творческих народных и вообще коллективных индивидуальностях, вместе с тем стремление беречь, ценить, уважать их и т. д., – линия роста гуманности и человечности, которая намечается логически необходимо на этом пути. Как ни сурово наше бурное время, тем не менее мы решаемся утверждать, что вся история слагается в этот путь, и мы с точки зрения общих интересов можем уверенно смотреть в будущее, поскольку не угаснут человеческие стремления и не прекратится историческое развитие, так как оно ведь не неизбежный оптимистический рок, а только оптимистическая широкая возможность.
Все это показывает нам, что в исторической трилемме – человек или народ, или человечество – нет правильной постановки вопроса: тут не может быть места «или», здесь нет взаимно исключающих членов, а есть только их все разрастающееся в возможностях сотрудничество. Субъект истории един, но не единичен, а перед нами сотрудничество и объединение, зарождающееся искоркой в прошлом, развертывающееся с болями и страданиями в настоящем и рисующееся как яркое пламя и свет в далеких горизонтах будущего. Все эти три фактора – личность единичная, социальная, народная и т. д., индивидуальность и человечество – нельзя оторвать друг от друга без того, чтобы не подорвать плодотворность, жизнеспособность и смысл существования двух других. И личности принадлежит своя, в своем роде огромная, полная глубокого смысла роль в истории.
XVI. К АПОЛОГИИ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ
В беглом обзоре путей творчества и его диапазона, намеченных в предыдущем изложении только в общих примерных чертах, мы стремились показать возможность на указанном нами пути выйти на простор абсолютного – достижения во временных конкретных формах того, что освобождается от власти времени и превращается в принципе в чистую активность, т. е. в чистую действительность. Этим самым уже в достаточной мере подчеркиваются две мысли, которые нам хотелось бы оттенить в этой главе. Первая из них заключается в том, что земная наша жизнь не должна омрачаться и обесцениваться тоскующими взорами по потустороннему миру и рассматриваться только как его тень. Если бы это было так, тогда не было бы большей бессмыслицы, как продолжать жить и придавать значение тому, что творится в переживаниях, устремлениях и оценках земного существа – человека; отказ от мира и презрение к нему – единственно правильный выход из этого положения – отрицание воли к жизни наиболее логичный вывод. Только постоянное и прочное обладание может располагать к любовному и заботливому отношению; никому, конечно, не придет в голову устраивать на бивуаке прочное каменное жилище, всякий знает, что для этого достаточно простой палатки или наскоро сколоченного шалаша. Отцы церкви, как и стоики, были вполне последовательны, когда они, веря в иной мир и считая его ценным, находили излишним придавать слишком много значения земным интересам и условиям, обществу, государству и т. д., потому что все это тлен и суета и налагает только путы и тяготы, не давая ничего взамен. Для воли к жизни необходимо усмотреть в ней самой смысл и значение, в ее конкретной форме; нужна перспектива достижений не где-то и как-то, а здесь, на земле. Только так можем мы чувствовать в себе волю свершить великое, сверхчеловеческое, божественное. Но для этого всего прежде всего должна быть сама земная действительность вне сомнений; душа наша должна быть свободна от обессиливающих сомнений, говорящих о том, что мы гонимся и растрачиваемся в погоне за иллюзиями и пустотой. Эту твердую почву и дает наша точка зрения, подчеркивая действительность, и при том творческую действительность, единую, цельную – ту самую, которою живем мы, и никакую иную.
Здесь же, на тех же путях, вскрывается другая тенденция: укрепления прав индивидуальности и индивидуальных форм действительности. Так, здесь, на земле, может быть отыскана, правильнее говоря, создана самодовлеющая ценность и смысл жизни и мира. Только при этом условии может прекратиться нелепое явление, когда живя тоскуют по жизни, когда в некоторых случаях человек только потому не может найти смысла, что он в возможности уже при нем, а он стремится найти его где-то вне себя, и при том часто в форме абсолютного конца. Мы часто никак не можем понять, что этот конец, если бы он оказался возможным, мог бы оказаться только концом действительным, именно прекращением всего. Меж тем конец, при котором сохраняется смысл и значение жизни, это конец, который бы не закрывал дальнейших перспектив; это должна быть добрая бесконечность, в которой возможны достижения, но обозначающие призыв к дальнейшему созиданию и действительности. В этом смысле та вечная «игра жизни», на которую постоянно жалуются как на превратности судьбы, как на поток, в котором будто бы уносится все, есть в сущности не зло, а великое благо, полное большого положительного смысла: мы стремились показать, что в нем есть возможность достижения вечности, но вместе с тем это поток вечного обновления и зарождения. Мы таким образом стремимся подчеркнуть – но только без фаталистического привкуса, только как возможность – «что образ божественной жизни есть прежде всего образ индивидуального, а не общего»[1048]. С этой точки зрения, и антиномичность жизни и нашего земного мира приобретает, как мы это стремились показать всем предыдущим изложением, совершенно определенный положительный смысл. Смысл антиномии в возможности и перспективе дальнейшего созидания и достижения мира абсолютного значения. «Счастливый» конец, который вместе с тем не является началом, хотя бы только в возможности, есть величайшее оскудение и несчастье: с этим концом придет и конец чувства жизни, потому что чувство жизни дается только известным преодолением, хотя бы борьба шла сквозь вереницу страданий. Об этом именно говорит нам жизнь во все времена и на всех возможных языках, – о том, что без борьбы, «от себя», так сказать, пришедшие радости не ощущаются большей частью как радости и положительные ценности, а преодоленные горести и страдания обвеиваются интимной близостью, теплым чувством, хотя бы и с примесью грусти, и могут стать источником скрытого или явного удовлетворения. Действительность не радостна и не печальна сама по себе, но она может стать и тем, и другим.
Таким образом «юдоль страданий и слез» должна быть понята и принята не как временное чистилище, из которого нужно стремиться вырваться, а как необходимый подлинный жизненный путь и сфера, в которой имеется самодовлеющая ценность: земная жизнь есть не только путь к «в себе пребывающему», но и возможная сфера его созидания; она не только средство, но и самоцель в известной степени. Этим мы категорически отклоняем ту гримасу, которая исторически сложилась под влиянием религиозной метафизики и искажает человеческое лицо мыслью о греховности «этого» мира и тоскою по иному «бытию». Таким путем мы приходим к мысли о том, что не только нет никаких оправданий для того, чтобы «гасить» человека, свет человеческий и бежать от земли, но наоборот у нас намечается безусловный императив человеку и «земному» миру стремиться к действительности, к действенному бытию, потому что на нем и в нем может быть вскрыто, создано и «в себе пребывающее», творчески обретен смысл.
Весь мировой путь и путь человечества может быть понят как в той или иной форме производимый процесс организации – в человечестве это процесс организации творческой силы с определенной перспективой созидания самодовлеющих ценностей, создания смысла – ценностей и смысла не где-то и как-то и не в общем, отвлеченном виде, а в конкретной форме, реально и индивидуально, жизненно существующего. Таким образом индивидуальное находит свое оправданное место, и расцвеченный мир и жизнь могут предстать пред нашим пониманием не как ступеньки бесконечной лестницы, ведущей к чему-то иному, не только как средство для этого иного, но и в их особом самостоятельном значении и ценности, а тогда у нас есть прямое основание утверждать, что таким путем открывается необъятная перспектива к расширению и углублению жизни, ее ценности и смысла, потому что в каждом индивидуальном мировом проявлении становится возможным раскрытие божественного смысла. Все зависит от того, с какой глубиной, широтой и значительностью развертывается во всем индивидуальном разнообразии действительности творческая мощь и действительность: чем глубже, шире, интенсивнее они в их направленности на творчество самоценностей, тем глубже, шире, интенсивнее и осмысленнее жизнь.
Понятие жизни и углубление жизни является в наших глазах вполне оправданным понятием, несмотря на всю необъятную сложность того содержания, которое оно покрывает. В основе этого объединения лежит все тот же единый принцип, о котором мы уже упоминали неоднократно: антропоцентрический принцип. На нем совершается все сроднение действительности и объединение ее в единое целое, допускающее применение к себе единого понятия жизни. Этот принцип впервые объясняет нам в достаточной мере, почему человеческой личности могут стать понятными и дорогими все переливы мировой жизни, весь калейдоскоп существ, явлений и состояний: личность при этом не отрывается коренным образом от самой себя, по существу во всем мире и жизни она понимает и дорожит своей сердцевиной, это просто следствие из признания самого себя, основоположности своего принципа. Вся суть только в том, что в человеческой личности в ее развернутом состоянии этот принцип выявляется действительно и достаточно полно, а в остальном мире в различных градациях вплоть до состояния полной латентности, до состояния только возможности, и при том не в данной особи, а в той системе, к которой данное явление принадлежит. Это сроднение не есть простое фактическое обстояние, но оно, как можно вывести из всего предыдущего изложения, созидается, устанавливается действенно. Быть в этом случае целому обозначает и быть индивидуальному, а последнее в свою очередь не мешает установлению самых широких, неограниченных сверхиндивидуальных связей и взаимоотношений. Так ткутся космические связи между человеком, этим микрокосмом, со всем мировым целым, макрокосмом, – глубина их может быть бесконечно различна в зависимости от творческого размаха и мощи личности: личность может насытить сравнительно ничтожный факт путем своего переживания и одухотворения его до полноты безграничной ценности; даже тьма и неразумие могут найти свой свет и разум. Не даром в истории человеческой культуры и мировоззрения не раз делались попытки понять тьму и зло как необходимые ингредиенты нужного и осмысленного мирового, даже божественного процесса: тьма для света, зло для добра, дьявол для бога, изначальная бесформенность, хаос и неопределенность для последующей оформленности, упорядоченности и организации; первые являются материалом или фоном для последних. Как мы это отмечали раньше, личность-индивидуальность обозначает возможность неограниченной интенсификации и углубления действительности; она в том же мире и вместе с тем несет с собой свой особый мир. Так творится интенсификация, расширение, углубление и насыщение смыслом мира и жизни. Вся природа участвует в этом поступательном творческом продвижении, но она творит как бы в одном только направлении, и только в человеческой личности открываются творческие возможности без природной скованности одной сферой естества – открываются через одухотворение, через очеловечение, через своеобразную персонификацию естества, как говорил Ницше, через превращение тупого физического или физиологического факта в моральную необходимость, например, путем такой жизни, чтобы в надлежащее время была бы в полной готовности воля к смерти – готовность победить наиболее крупный естественный фактор, каким является инстинкт самосохранения, голое стремление «быть во что бы то ни стало»[1049].
Так творится бесконечно разнообразная действительность на путях одухотворенной жизни с сохранением полного единства и без всякого отрыва от естественного мира. Лучше всего мы можем пояснить эту мысль на художественной и мыслительной деятельности личности. Напряженной мыслью, вдохновенной фантазией, сконцентрированной волей человек создает научные, философские теории и поэтические, и художественные произведения, новые миры, новые представления и т. д. Все эти продукты творчества возникли, конечно, в этой действительности и по поводу действительных и даже определенно материальных объектов и находят свое выражение в тех же действительных и также материальных формах и средствах; но сами объекты, вещи никогда не дадут одни того, что получается из них и на них при творческом воздействии личности, которая соединяет или разъединяет их в своеобразные сочетания и создает из них новую действительность, как и новую оболочку для мысли и «духа». Те звуки, из которых в конце концов получились сонаты Бетховена, или те краски, из которых слагаются картины Тициана, как и мрамор, на котором выявился творческий гений Родена, физически и внешне в сущности так же малы и незначительны, как и все им подобные, разрозненно существующие мириады кусков или глыб мрамора и красочных мазков, как мириады звуков: разрозненные звуки, хотя бы и из сонат Бетховена, в принципе то же, что и скрип двери, дребезжание падающей и ломающейся посуды, визг собаки, шелест листьев дерева или свист ветра за окном. В этом виде они входят в общее природное хозяйство и обретают свое место только через природу; они сами по себе лишены значения; только при организации и одухотворении маленьких фактически существующих «осколков» действительности они могут и в известных случаях обретают бесконечно важное значение и ценность. Без личности это объекты физики, с нею это, кроме того, и прежде всего живые звенья великой божественной цельности и своеобразного единства, это сама конкретизированная божественная сущность. Таковы Платон, Рафаэль, Гете, Бетховен и т. д. персонально и в своих творениях в их конкретной форме. Ведь даже из философа Платона нельзя исключить или недооценить как живой факт его речь, то платье, в каком выступает его мысль. С этими явлениями мир и жизнь уже перестают быть простым бытием одного направления и напластования, с наличием их пессимизм уже прорван. При этом, конечно важно избегнуть односторонности и не суживать путей углубления и интенсификации жизни: всякое одухотворение есть в принципе объединение внутреннего и внешнего, но оно может идти и от внешнего к внутреннему, и от внутреннего к внешнему: так мысль, фантазия ищут себе выхода в своем творении, но также и сотворенный Платон, Бетховен и т. д. говорят нам, воздействуют на нас и зовут к сотворению нового животворного единства. Такова та языческая черта, которой так не хватает современной европейской культуре.
Таким образом становится понятным, что мы имеем в виду под нашим указанием на одухотворение; нам нет нужды оговаривать, что все это не имеет ничего общего с спиритуалистическим одухотворением мира, с утверждением особого «духа» – этого порождения психологической отвлеченной мысли. Мы, с нашей точки зрения, ни на одну минуту не покидаем здесь почву конкретного, живого мира, действительность которого характеризуется на основе принципа действенности и смысл которой не есть, а творится. Весь этот процесс, как мы уже не раз подчеркивали, лучше всего развертывается на коренном носителе основного принципа – на человеке. Вся суть бытия его заключается в деятельности, и без нее у личности жизни быть не может. Отсюда вытекает ее право на труд, обосновываемое правом на жизнь, но не только право, но и фактическая мощная обусловленность, которая приводит к тому, что можно отказаться от жизни, но нельзя, желая жить, отказаться и быть личности без деятельности. Но вся деятельность человека протекает таким образом, что он в своем труде так или иначе воздействует на мир и создает новые пласты действительности, новый так называемый культурный мир в широком смысле этого слова; этот мир весь слагается из природы, естества, в той или иной форме обработанной человеком, «очеловеченной», а это и есть то, что ближе всего подходит под наше понятие «одухотворенности», в чем дан синтез больший или меньший, более или менее действенный синтез личности и вещи. Таким миром человек окружает себя все больше и больше – этим делом своих рук. Таким образом становится возможным умозаключение и от вещей к человеку. Так археолог, найдя камень, на котором виднеются следы точения, называет его орудием и не колеблясь убедительно для себя и для нас умозаключает к человеку, о его существовании, формах его жизни и т. д. Здесь мы встречаемся с одним из бесчисленных ручейков действительности, которые вносят свою долю в углубление и интенсификацию жизни.
Так создается уже на почве общего космического устремления, как бы напора самой жизни, оправдание энергии к земной жизни и ее созиданию, которые в конечном итоге на той же деятельной почве должны родить свой самодовлеющий смысл и абсолют – тот смысл и значение, которые не нуждаются ни в каком фиктивном мире: задача дается здесь, в этом мире, и ее решение должно быть найдено и может быть найдено только здесь же[1050].
С этой точки зрения, забота о земных интересах, направленных на раскрытие и углубление жизни и ее творческих возможностей, приобретает свой определенный смысл и оправдание. И здесь нет оснований отворачиваться от той действительности, в которой мы должны выполнить свои задачи и удовлетворить свои стремления. Наоборот, необходимо со всей ясностью подчеркнуть, что прозаический вопрос желудка, поставленный в формах, достойных человеческой личности, в формах культурно-социальной организованности, есть вопрос первостепенной важности, вполне законно требующий к себе напряженного внимания, потому что речь в этом случае идет не о простом питании животного организма, а о создании и поддержании дееспособности культурно-творческой силы. Этим находят свое оправдание и свой смысл стремления социализма вырвать хозяйственную жизнь человечества из сферы хищничества, хозяйственного хаоса и неорганизованности, перевести ее из грубого, слепого естества в формы культуры: и здесь намечается вполне осмысленный и оправданный путь от естества к культуре, путь углубления, интенсификации жизни. Не связывая себя вообще в других отношениях, мы должны присоединиться к словам Германа Когена, который говорит[1051]: «Где ставятся преграждающие плотины потоку жизненной силы, там воля, чистая воля не может процветать… Эвдемонизм желудочного вопроса обозначает не больше не меньше как попечение чистой этики о дееспособности чистой воли и о чистоте самосознания. Этот эвдемонизм представляет собой противоположность эгоизма».
В этой же плоскости – заметим бегло – находит свое объяснение и ужас, и протест против уничтожения человека физически, против убийства и смертной казни, поскольку речь идет не только о голом инстинктивном стремлении к самосохранению, но и об уразумении этого факта в общем миросозерцании. Как сильны эти факторы, это видно из того, что они дают свои отражения даже в наших отношениях к животным, где самый акт уничтожения жизни, несмотря на то, что он нам нужен для поддержания нашей жизни и служит нашему инстинкту самосохранения, внушает нам отвращение и оказывается способным создавать такие явления, как отказ от мясной пищи и убежденное вегетарианство. Мы склонны рассматривать его как отголосок основного факта. Для нас, человеческих личностей, этот факт протеста против уничтожения жизни человеческой личности вытекает в своем смысле из того, что жизнь отдельного лица должна рассматриваться не только как средство, но что она есть самоцель и вместе с тем самоценность: с уничтожением личности не только уничтожается, как говорят Кант и Фихте (по поводу допустимости самоубийства), носитель нравственного закона, но прерывается вообще одна из творческих сил, и с нею обрывается целый ряд самодовлеющих возможностей. Таким образом в этом уничтожении человеческого индивида, могущего стать личностью, совершается проступок не против индивида только, а против всего человечества, более того, здесь имеется определенный отрицательный проступок космического порядка, проступок против абсолютных интересов. Это нам ясно говорит об абсолютном долге беречь человеческую личность и дать ей возможность раскрыться во всей ее творческой дееспособности.
Таким образом, следовательно, становится ясным, что возможность раскрыть свои способности и развиться в полноценную социально и культурно-созидательную индивидуальную силу есть не привилегия, а право и обязательство. С этой точки зрения получает свой настоящий смысл проблема образования и воспитания. С этой точки зрения, нельзя признать право на жизнь и не признать права на развитие, культуру и образование, как и разумный труд. Как важны все эти положения в их следствиях и приложении для прикладных дисциплин, как педагогика, народное образование, юрисдикция и т. д., об этом говорить здесь излишне[1052].
В этом аспекте становится понятным, что счастье и удовлетворение в их возможности и осуществлении обусловливаются, само собой разумеется, объективными условиями и в этом смысле могут и «выпадать» на долю человека, но все-таки в сердцевине их они могут быть не даны, а только взяты, активно достигнуты. Жизнь нам нередко показывает, как мы абсолютно не ценим блага, которые без всяких усилий и в изобилии поставляет нам действительность, как в богатстве поселяется ужас полного личного опустошения, среди материального оскудения живет дух бодрости и безмятежности; так один, живя в культурном центре, снедаем тоской и чувством скуки и однообразия, другой выносит из посещения пустыни массу впечатлений и подымающих мыслей; один окружен красотами и не видит и не чувствует их, другой в выгоревших степях умеет подметить свои прелести и т. д. Каждый берет из этой действительности то удовлетворение, которое делает возможным объективная действительность, но и которое он способен взять. С этой точки зрения получают свой глубокий смысл классически простые слова Демокрита: «Глупцы желают долгой жизни, не испытывая радости от долгой жизни». «Самое лучшее для человека – проводить жизнь в наивозможно более радостном расположении духа и в наивозможно меньшей печали». «Желающий быть в хорошем расположении духа.., что бы он ни делал, не должен стремиться (делать) свыше своих сил и своей природы…» Именно потому, что счастье и удовлетворение не только дается, но и в меру сил человека берется им, необходимо установить соответствие между желаниями и силами человека. В этом смысле величайшее счастье оказаться в жизни на своем месте, хотя люди часто плохо понимают себя и не ценят этого соответствия.
Мы стремились показать, что таким образом на пути стремлений углубить, расширить и повысить интенсивность жизни сходятся и голое фактическое устремление к жизни, и ее идеальное содержание и ее самодовлеющий смысл. Таково относительное оправдание материализма, «прав материи», мимо которых не могли пройти даже философы – трансцендентисты и религиозные философы. То боговоплощение, о котором говорит, например, Беме, Баадер, в России Соловьев, находит в нашей концепции свой аналог, но уже без всякого ослабления этой действительности фикциями потустороннего характера. «Горние» высоты должны быть достигнуты и достигаются здесь в одном, действительном мире. Сказать, что человек долженбыть, как это делают религиозные философы, это значит, с нашей точки зрения, так же решительно сказать, что вся эта действительность, все это «земное» должно быть, но тогда необходимо пойти дальше, как мы это и делаем, и сказать, что здесь, на земле, совершается подлинный абсолютный процесс, творятся настоящие, абсолютные смысл и сущность – без этого уничтожаются первые положения. Линия «боговоплощения» идет в действительности, и мы окажемся несравнимо ближе к истине, если будем говорить о ней как о линии «богодействия» или «боготворчества». Наш «бог» должен и может быть только с нами.
XVII. О СМЕРТИ И БЕССМЕРТИИ
Мы очень далеки от мысли рисовать космическую идиллию, наоборот, все наши усилия направлены на то, чтобы показать полную нейтральность бытия как такового показать, что мир и жизнь сами по себе, если бы их можно было мыслить в «чистом» виде, не хороши и не дурны, что они становятся тем или другим или и тем, и другим в зависимости от того, что в них творится. То «богодействие», или «боготворчество», на которое мы указали в предыдущей главе, не есть нечто безусловно гарантированное, а только возможность. Но все-таки получается аромат большого оптимизма, и из всего нашего изложения слышится – особенно на фоне отрицания какого-либо иного мира, утверждения нашей земной действительности как единственной – веление и призыв жить и действовать с твердой верой и убеждением в возможность глубокого смысла жизни. К речам этики категорического императива о долге сохранять свою жизнь мы добавляем призыв к жизни, мы отмечаем ее положительные, привлекательные возможности и действительные достижения – одним словом, мы ясно подчеркиваем всем ходом наших размышлений решительный уклон в сторону оптимизма. Мы неоднократно подчеркивали всеобщее господство категории жизни – та тяга, о которой Достоевский устами Раскольникова говорит: «Где это я читал, как один приговоренный к смерти за час до смерти говорит или думает, что если бы ему пришлось жить где-нибудь на высоте, на скале, на такой узенькой площадке, чтобы только две ноги можно было поставить, а кругом будут пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение, вечная буря, оставаться так, стоя на аршине пространства, всю жизнь, тысячи лет, вечность – то лучше так жить, чем сейчас умирать. Только бы жить и жить». Мы уже раньше вспоминали о том, что небытие для нас не представимо, непреодолимо мыслью, неприемлемо, что оно для нас чистый абсурд, совершенная нелепость и что за ним даже в мысли, склонной отрицать бытие радикально, все-таки как-то умещается позади привкус какого-то бытия.
И вот в этой атмосфере всеобщего устремления к бытию и жизни посреди широкого потока возможного творческого обогащения, расширения и углубления жизни подлинным смерчем врывается мысль о смерти и творимом ею неуклонном и непрерывающемся опустошении. Это то, как его называл Вл. Соловьев, физическое зло, которое побуждает этот мир рассматривать не как сферу жизни, а как царство смерти. Как говорить о росте и углублении жизни, когда мир и жизнь, по-видимому, поглощены медленным или быстрым, скрытым или явным умиранием. Все чудеса достижений, которые свершаются в этом мире, оказываются ни к чему, потому что приходит известный неустранимый момент, и все исчезает. В жизни идут постоянные и неизбежные прорывы; как говорит Вл. Соловьев в «Трех разговорах»: «Пусть культура и мир растут, но ведь основное зло, смерть, неуничтожимо, а если этот вопрос в высшей инстанции решается смертью, если последний результат вашего прогресса и вашей культуры есть все-таки смерть каждого и всех, то ясно, что всякая прогрессивная культурная деятельность ни к чему, что она бесцельна и бессмысленна». Нам вспоминается по этому поводу потрясающее впечатление, какое произвела смерть композитора Скрябина, когда сцарапанного прыщика на губе оказалось достаточным, чтобы унести в могилу в кратчайший срок крупную творческую силу.
Если бы на таких фактах заканчивалось все, то пессимизм и безнадежность были бы совершенно неизбежны. Так вырастает необходимость так или иначе разрешить эти обессиливающие сомнения. Тысячелетия штурмует человечество в философской, научной и художественной мысли эту проблему. Так поэт Метерлинк рисует нам в «Аглавене и Селизетте» картину свержения Смерти с ее престола, чтобы освободить место для Любви и Мудрости, победа которых обеспечивается самопожертвованием, вытекающим из них. Кант убежден, что никогда не существовала честная человеческая душа, которая могла бы перенести мысль, что со смертью все приходит к концу, и благородное настроение которой не давало бы ей возможность питать надежду, что ее потом ждет будущее, хотя и в иных условиях и форме[1053].
Где же выход из этого положения с точки зрения нашего миросозерцания? К ответу на этот вопрос мы и обратимся теперь.
Прежде всего мы должны поставить весь вопрос в иной форме. Традиционная проблема в форме бессмертия «души» для нас совершенно отпадает, потому что она вся построена на отвлеченности, – на разделении души и тела, на расчленении того, что есть и может быть только едино и судьбу чего можно обсуждать правдиво философски только в живой цельности. Смерть этого целого есть факт, которого нельзя отрицать, которому нужно смотреть прямо в глаза, и этого не могут изменить никакие ухищрения мысли. Бессмертие «души» тем более несостоятельно, что оно приводит к все тому же миру, только в слабой, отраженной форме, но при том еще отягощенному совершенно безысходными противоречиями, как это нам показывает религиозно-философский трансцендентизм[1054]. Если весь вопрос заключается в существовании данного конкретного существа – существовании наивно, просто фактически взятом, то здесь ответ ясен и не подлежит ни малейшему сомнению: смерть неоспорима, и за ней для данного индивида нет ничего: он исчезает.
Но уже тут требуются некоторые поправки, которые не устраняют самого факта смерти и не дают за ним в традиционном направлении «бессмертия души» никаких перспектив, но внесут несколько иное освещение самого факта смерти и потребности в дальнейшей жизни во что бы то ни стало.
Не подлежит ни малейшему сомнению, что смерть вовсе не является безотносительно и во всех случаях тем абсолютным «физическим злом», как она рисуется Вл. Соловьеву. Все та же живая действительность и литература часто говорит нам об ином. Наряду с Соловьевым, видевшим в смерти «бесчинство», можно было бы назвать огромное число авторов, которые склонны видеть в ней если не благо, то во всяком случае не безусловное зло. Так многие думают, например, как Шопенгауэр, что смерть по существу лишена мучения, что житейски правильно – и это подтверждается научно, по мнению Шопенгауэра, – что естественная старческая смерть протекает незаметно, как засыпание; перед этим угасают понемногу желания, страсти, и, следовательно, не может быть и горя, связанного с ними, «дни протекают все быстрее, все совершающееся утрачивает свою значительность, все обесцвечивается»[1055]. Материалист Дюринг утверждает не без оснований, что смерть не была бы окрашена для нас в такие черные цвета и не пугала бы нас так, если бы мы не переносили дальше своих жизненных представлений и не мыслили себе за ней какое-то иное существование[1056]. Как известно, Мечников видел идеал физически-телесного творчества человека, идеал человеческой природы в ортобиозе, т. е. в создании такой жизни и конструкции человека, чтобы он мог достичь долгой и бодрой жизни и старости, приводящей в конечном периоде к возникновению чувства насыщения жизнью и к желанию естественного конца. При этом Мечников указывал, что естественный конец этот не будет вызывать ужаса, как теперь, а явится счастьем, необыкновенно приятным ощущением, как ощущение усталого путника, засыпающего в удобном покое.
И мы действительно знаем, как нередко умирают старики, не отравленные ложно культурной жизнью, умирают просто и легко, именно засыпая, живя последнее время в спокойном, иногда даже радостном ожидании конца. В житейских и философских ламентациях по поводу смерти действительно совершается постоянная подстановка, когда грядущий завершительный акт для индивида рассматривается не с точки зрения прекращения сознания и всех душевно-телесных функций, а на него переносится – и за него – переживания живого человека и оцениваются с последней точки зрения. Весь акт рисуется так, как если бы смерть была насильственной, противоестественной. Между тем следует рисовать себе картину нормальной смерти, чтобы правильно оценить этот факт, и тогда она должна будет представиться в том виде, как ее рисует Мечников и как ее нередко переживает рабочий человек, просто и естественно доживший до глубокой старости. Это в сущности уже естественное угасание с постепенным приглушением всех жизненных функций и в тот момент, когда наступает явление, именуемое смертью, для индивида все заканчивается; это уже не потусторонность, а, с точки зрения существования данного организма, простое исчезновение без всяких дальнейших перспектив. Для того чтобы правдиво оценить этот факт, необходимо смотреть на него с точки зрения жизни, а не смерти: дело здесь уже не в том, что предстоит, потому что там для индивида как данности ничего больше нет, и нечего страшиться, а нужно понять значение этого акта в свете того, что мы покидаем и теряем.
Представим себе на момент человека-личность, до некоторой степени «язычника», который имел в себе достаточно жизненных сил и стимулов, чтобы солнечно брать жизнь cо всеми ее радостями и горестями, который не был отравлен культурной рефлексией и нес в себе в здоровом состоянии волю к жизни и к деятельности. Представим себе такого человека, который проходит нормальный жизненный путь; этот путь, хотя бы он был полон и страданий, должен быть индивидуально интересен, потому что здоровая конституция его обеспечивает ему интенсивность и полноту жизнеощущений даже тогда, когда нам со стороны его переживания не будут представляться особенно интересными и ценными, представим себе такого человека, боровшегося и достигавшего, плакавшего и радовавшегося, развернувшего субъективно широкий жизненный диапазон, напившегося, так сказать, жизнью. Нет сомнения, что такой человек, когда придет его пора в естественной форме, должен и может встретить закат своей жизни так, как утомленный путник встречает перспективу отдыха. Представление о смерти искажено представлением о болезнях, созданных искажениями культурной жизни, моральными и физическими, вплоть до питания и половой жизни, и нам рисуется не естественная смерть, а та гримаса, которая получается на почве нужды и излишества и т. п. ненормальностей. Пусть в жизни мы не можем отделаться от этих ненормальностей совсем или в близком будущем, но чтобы правильно судить о смерти, мы должны представить ее себе так, как она есть в нормальном состоянии, – так, как умирают старики, здоровые нормальные люди в народной массе. В сущности культурный человек со всеми его страхами перед смертью выступает перед нами как гурман, поразительно жадный, ненасытный, судорожно цепляющийся за жизнь. Нет ничего удивительного, что такие люди искажают свое лицо при жизни гримасой страха перед смертью и, живя, умирают.
Подлинная правда должна и может заключаться только в одном: в стремлении жить хорошо, правдиво и красиво, но и умереть, когда придет пора, также правдиво и красиво, без клеветы на мир и жизнь и без гримасы ужаса, и без притязаний. С точки зрения такой нормально прожитой жизни, для индивида нет зла, тем более что он не может не сознавать, что позади за ним, поскольку он заинтересован в жизни, идут свежие ростки, которые многое воспримут и поведут дальше и дадут свое. Недопустимо, некрасиво, безобразно – и морально, и эстетически – это пресловутое стремление жадных до жизни индивидов вечно быть в голой фактической форме существования, желание гурмана вечно есть, на всех пирах, никогда не насыщаясь и не утоляясь, своеобразные данаидовы бочки. Победа человека может быть одержана не на пути бесплодного устремления сохранения, самого факта жизни данной индивидуальности и не в непрерываемости ее, а в том, чтобы, по прекрасному изречению Ницше, «перевернуть глупый физиологический факт в нравственную необходимость: так жить, чтобы в надлежащее время явить волю к смерти». О том, в какую страшную беду может вырасти невозможность умереть вовремя, об этом говорит достаточно красноречиво сама действительность. Литература увековечила этот образ человека, не могущего умереть, в фигуре Агасфера. И кто знает, не большая ли и не самая ли страшная кара это придумана для человека? Мы склонны думать, что это именно так, не даром легенда назначила это наказание за преступление против бога; очевидно тяжкая смерть, насильственная оказывалась тут недостаточной, потому что у нее есть свой конец.
Таким образом смерть, и с индивидуальной точки зрения, есть явление, относительное в его ценности. Она может стать злом, когда она преждевременна или насильственна, когда она налагает свою «костлявую» руку на здоровые еще жизнеспособные ростки. Но и тут объяснение кроется в несколько ином размышлении, на которое мы укажем дальше. Здесь же необходимо еще отметить, что смерть, если мы отвлечемся на момент от интересов индивида, биологически не есть смерть, а некоторая перформация, изменение форм общей жизни, разложение данного комплекса на иные. Как говорит Дюринг[1057], «умирание есть тоже акт жизни, и потому оно получает свой характер от отношений, которые устанавливаются к предшествующим состояниям. Поэтому мы никогда не должны рассматривать смерть вне связи с жизнью, за которой она следует. Более того, мы можем даже утверждать, что только тот умрет спокойно и достойно, кто умел в жизни держаться благородно и твердо».
В итоге само собой получается утверждение, что смерть нормально, сама по себе не может и не должна набрасывать тень на жизнь, как и страх перед ней является необоснованным разумно. Тут сказывается просто все то же безудержное господство категории жизни, но мы знаем, должны быть и есть пути для внесения сюда разума и смысла.
Прорыв наивного понимания бессмертия должен начаться с того, что мы дадим ясный ответ на вопрос, в какой жизни мы заинтересованы. Ведь и трансцендентист не решится утверждать, что его чаяния лежат в чисто физическом существовании, в существовании в трехмерном пространстве как таковом; ему больше, чем кому бы то ни было, важно подчеркнуть нематериальную жизнь, жизнь духовную, блаженную, вообще ценную именно своей противоположностью голой материальности. Таким образом выясняется, что все наши стремления в дальнейшей жизни могут найти свое удовлетворение и на ином пути, чем существование в трехмерном пространстве; здесь нигде не говорится, что это должно быть именно такое или аналогичное бытие; наоборот, можно с уверенностью констатировать, что там, где стремлению к бессмертию придают такой смысл, там впадают в грубейшую форму материализма и обоготворения физически-земного мира, а в таком понимании бессмертие есть грубейшее заблуждение и морально крайне отрицательное явление. С таким обещанием вечной жизни необходимо бороться, как с тяжелым предрассудком, обладающим большим практическим и нравственным разрушительным свойством. История показала нам, каким богатым источником лжи, фарисейства и насилия является эта идея: надежда на потустороннее вознаграждение, например, дала целый пласт тяжелого нароста на церквах разных вероисповеданий и запутала их в сугубо земные дела, начиная с продажи индульгенций и кончая разного рода ожиданиями вознаграждения «на том свете», как и в грубые идолопоклоннические представления о боге, о загробной жизни, о царстве божием и т. д. Было бы наивно думать, что современная верующая масса далеко ушла от представлений о тех часто весьма сомнительных радостях, которые сулились в свое время в загробной жизни античному греку или современному мусульманину: в той или иной форме везде следом за этим идут грубые обманчивые обещания «земли обетованной», с реками медовыми и берегами кисельными…
Но если это бессмертие или иную жизнь перестать представлять грубо земно-материально, прекратить ничем неоправданное и прямо противоречивое и предосудительное гипостазирование ее в несколько прикрашенное – то же пространственное – переиздание, то тогда теряется смысл и основание противопоставлять ее этой земной жизни или пытаться искать ее умещения в той же плоскости. Наоборот, уже и здесь априори становится ясным, что эта новая действительность должна быть какой-то иной, подлинно одухотворенной действительностью. В сущности именно религиозный человек мог бы согласиться с этим больше, чем кто-либо иной.
На вопрос о бессмертии мы можем дать только один ответ: оно для нас не подлежит сомнению, но в той форме, которую мы назвали бы виртуальной – не о бессмертии индивида в его физическом существовании говорить надо, а о продолжении жизни того творческого дела, которому он дал жизнь, о непреходящем сохранении тех значений, которые обретены, сотворены. Это тоже действительность и действительность в настоящем смысле этого слова, которая продолжает действовать, не убывая, постоянно творчески, в меру своего значения излучая творческую силу и созидая жизнь. У нее, как и у всего действительного, имеются свои степени и интенсивности. Это и только это можно понимать под вечной жизнью, уход из-под власти времени и от прикованности к месту: подлинное бессмертие обретается на пути творчества сущности. В таком понимании становится возможным сохранение жизни как действенности, потому что нет в сущности разрыва с тем миром, который является единственным как подпочва, как существование. В отдельных актах творчества и созидательных достижений в своей собственной личности человек прорывается к этому бессмертию и на вершине своего раскрытия в принципе может мыслить творчески осуществленной всю полноту своей личности, в этом смысле может мыслить возможным личное бессмертие, но бессмертие виртуальное, бессмертие значения, бессмертие так называемого идейного действия и действительности – бессмертие не в данном, а в созданном, не в естестве, а в культуре. Над этой сферой смерть не властна. Мировая катастрофа может снести весь мир, но это гибель именно мира, но не культуры, не созданного: значение его остается, как остается истина, красота, правда, хотя ушел автор, введший их в жизнь.
Но главное – здесь больше, чем когда-либо и где-либо, мы должны напомнить еще Кантом высказанную мысль, что вечность надо мыслить не как в бесконечность идущее время, а как «конец всякого времени»[1058], т. е., скажем мы, освобождение от всякого времени: это и достигается в действительности не естественно данной, а в действительности претворенной, творчески созданной в том же естестве, действительности преображенной. Там именно преодолевается вечно колеблющаяся, текучая, убегающая вдаль времен и сменяющая место почва, и без устранения ее обретается, создается подлинное бессмертие, подлинный абсолют, досягаемый и вместе с тем открывающий все новые перспективы. Прав по своему Вл. Соловьев, когда он говорит, что «конец всякой здешней силы есть бессилие, а конец всякой здешней красоты безобразие»; но он забывает к этим естественным явлениям добавить те моменты, когда они же выступают перед нами в преображенном виде, когда бессилие превращается в беспредельную мощь, а безобразие приобретает характер неземной красоты, излучающей ослепительный свет и творческое тепло; когда беззаветная преданность, например, мужество, смелость, стойкость, любовь и т. д. преодолевают смерть и тогда сам по себе отталкивающий нас труп преображается, ужас и инстинктивное отвращение сменяются восхищением, благоговейным восторгом, даже обоготворением; здесь обретается источник для дальнейшего созидания, новые силы, источник для вдохновения. Здесь именно поэт и художник черпали свое вдохновение и создавали и будут создавать длинные вереницы прекрасных образов, не только измышленных, но и в действительности данных. Никто не скажет, что в картинах, как «Pieta», дается безобразие. Разлагающийся труп героя не опровергает нас, потому что здесь с поразительной близорукостью игнорируют, что тело, как тело умершего человека, есть он только в условном смысле, это тоже своего рода абстракция от человека – это то, что исключено из данного своеобразного жизненного единства и с момента смерти вошло в простое естество, в общий обиход природы, это природный естественный процесс, и разлагается уже не человек, а идет определенный естественный процесс в природе, в то время как мы по воспоминанию продолжаем еще персонифицировать и говорить о нем. Таким образом и получается, что незаконная персонификация, держащаяся за труп, не может не увидеть разложения и безобразия, а мы, обращенные к живому, действительному единству, берем последний этап и видим тело как завершительный акт, как точку над данной жизнью, как последний плод со всей его включенностью в общую жизнь и тем, что вокруг него в порядке созидания жизни может возникнуть и возникает – малое, ничтожное, как в смерти обыденного человека, и великое, и творчески плодотворное, как в смерти больших людей. Не даром действительность нам неоднократно показывает на примере великих людей, что подлинный размах их влияния и знакомства с ними начинается иногда с того момента, на котором обыкновенные люди заканчивают почти все расчеты с миром, – с их смерти. Тут часто открываются настоящие врата в сотворенный ими мир, великая красота, великий подъем и т. д. Такова своеобразная игра действительности – то, что дает право говорить о ее диалектическом характере.
Таким образом отпадает и ссылка на то, что в перспективе неизбежной смерти человек не может не чувствовать себя, если он думает глубже над жизнью, на бивуачном положении в этом мире, характер временности не может не убивать в корне его энергии к земному устройству, не может не подчеркивать тщету всех «здешних» дел, потому что безумие приниматься на бивуаке за постройку каменных палат. Текучесть, временность имеют, конечно, как мы стремились это подчеркнуть, свой определенный положительный смысл, но они идут в порядке естества и нисколько не устраняют созидания подлинной действительности, а наоборот – являются необходимой почвой и материалом для созидания ее, потому что культура и творчество сущности – всегда претворение, одухотворение, они всегда – с плотью и кровью естества.
Вместе с тем – отметим это коротко – находит свое разрешение та потребность, которая играла не последнюю роль в требовании бессмертия души. Мы говорим об идее справедливой ответственности за содеянное в жизни, породившей религиозное ожидание страшного суда и т. д. Мы также видим возможность этой справедливости, но она идет не в порядке загробного судилища в загробном мире – картина, опять-таки отдающая ароматом грубого антропоморфизма и гипостазирования все той же земли, да еще во всем расцвете человеческой слабости, несколько курьезная, – а эта ответственность осуществляется в порядке следствий из того, чем был человек, что он создал: насколько он включил себя в мир творчества сущности или остался вне него и даже прегрешил против него и не только обесплодил себя, но и разрушил себя как творческую возможность. Для удовлетворения потребности в справедливой ответственности нет никаких оснований конструировать особую потустороннюю действительность, переиздавать земную действительность в каком-то слегка исправленном виде, нет этих оснований, тем более, что этим в сущности цель не достигается, так как эта потусторонность всегда способна навевать сомнения и как-то слишком далека человеку, чтобы быть в силах всегда уверенно и твердо направлять его действия. Так легко успокоиться на мысли о том, что грехи будут замолены, или просто положиться на божественную благость и всепрощение.
И здесь, конечно, можно было бы указать все те же биологические основы и проявления – попытку решить весь вопрос на пути устремления в направлении «дурной» бесконечности. Индивид связывает себя со всем окружающим, стремясь утвердить и углубить свою жизнь и хотя бы в переносном смысле преодолеть естественный предел, не отдавая себе отчета в том, что на этом пути естество непобедимо – что рождается, то и умирает. Он стремится спаять с собой окружающий вещный и персональный мир, и всякое ощущение все большей нужды в нем со стороны окружающего мира наполняет его повышенным чувством жизни, как и сознание своей ненужности, сознание себя как лишнего человека резко подрывает чувство жизни и способно привести к самоуничтожению. Здесь, может быть, можно было бы найти много данных для освещения, в частности, вопроса о власти, жажде славы, признания и тому подобных явлениях. Здесь находит свое объяснение тот часто встречающийся факт, что нас наполняет чувством удовольствия то, что нас замечают, что нас «все» знают, что мы гордимся своими путешествиями, знакомством со многими городами, что более умный и более образованный, но менее «бывалый», просидевший свою жизнь в своем гнезде человек нередко невольно ощущает свою ограниченность в сравнении с другим лицом, обладающим противоположными свойствами. Человек продолжает себя в своих детях и т. д. Все это настолько говорит понятным языком, что мы здесь на этом останавливаться не будем. Так ткет человек свои связи, стремясь во времени и на естественном пути преодолеть смерть и утвердить жизнь, как бы главным образом количественно множа ее. Но нити эти постоянно рвутся, и власть времени только находит для себя лишние подкрепления. Самое интересное в этом случае заключается в том, что стремление утвердить себя все равно приводит к утверждению другого, который также пытается увековечить свою индивидуальность и терпит ту же неудачу, передавая ее третьему, четвертому и так до бесконечности. На этом пути жизнь для индивида завершается неизбежно смертью, и ничего другого быть не может: жизнь должна закончиться смертью, чтобы дать дальше новую жизнь; так идет непрерывный поток этих переливов жизни и смерти в естественном русле по мириадам индивидуальных ручейков.
Смерть и время могут быть преодолены только на пути творчества сущности. Глубина и степень этого прорыва в бессмертие определяется диапазоном и размахом творчества. С этой особой точки зрения мы могли бы присоединиться к словам Фихте[1059], когда он говорит по поводу жизни:
«Поведай мне, что подлинно любишь, чего ты ищешь всей полнотой твоих стремлений и жажды, когда ты надеешься найти истинное, усладу твоим собственным я… Эта-то любовь и есть жизнь» – потому что в ней раскрывается творчество сущности, и это-то и есть тот путь, на котором может быть обретено преодоление времени в его различных степенях. Мировая катастрофа может смести все, но тогда вообще исчезают и все вопросы, и нам тогда беспокоиться и спорить не о чем – этот ответ мы можем дать абсолютному скептику, если бы таковой объявился в подлинном смысле этого слова. Многие люди действительно, как говорит Фихте, не живут, потому что не любят, но и потому, что не ненавидят, потому что не творят, а вегетируют, утопают в естественном питании и размножении. Пусть это звучит язычеством, но мы должны сказать, что тот, кто умеет горячо беззаветно любить, должен уметь пламенно, сжигающе ненавидеть, ненавидеть противоположное, он должен гореть желанием не только созидать, но и защищать со всем воинственным пылом любящего существа свой предмет.
Только так организуется и развертывается подлинная творческая жизнь со всей ее плотью и кровью; только так она будет представлена правдиво и освобождена от того аромата традиционной святости, за которым под названием смирения так легко скрывается фарисейство или оскопление, обескровление, неподвижность и смерть. Так раскрывается новая сфера действительности, которой нельзя не поверить, потому что она истинно действенна, как действенно все идейно сотворенное, действенно не убывая, как об этом нам красноречиво говорит каждый момент культурной жизни, начиная от развалин, например, Парфенона и кончая любым поэтическим или вообще художественным образом современности или каким-либо конкретным ценным образом живой жизни. Каждый из нас, если он для проверки этой действительности – действенности на минуту поглубже задумается над тем, кто его воспитывал, растил и укреплял, легко увидит, что фигура конкретного воспитателя, жившего с нами, в полном смысле слова тонет в сонме сотворенных невидимых агенсов в виде художественных, исторических, жизненных образов и сил, которые говорили нам и прикосновение за прикосновением ковали нас каждую минуту, говорили ли они нам что-либо со страниц книги, с полотна картин на стенах, из массивов зданий и мостов или из уст нашего воспитателя, просвечивая через его фигуру и личность. Этот мир – подлинная, несомненная действительность.
Мы неоднократно подчеркивали, что и здесь у нас нет никаких оснований для разжижения этой действительности, потому что это не идея только, но и там, где речь идет об идее, там дана вся полнота живой конкретности, иначе эта идея ложь и бессилие. О подлинном характере этой действительности лучше всего говорит то, что она вполне может сохранять индивидуальность. Творчество сущности идет не по пустынной дороге отвлеченных экстрактов и выжимок из живого, где веет всегда чем-то отжившим, а в русле ценности-совокупности, куда каждое звено только потому и может войти, что оно носит своеобразный облик и несет в себе свою своеобразную действительность-действенность; иному там места быть не может. Там сохраняется не только индивидуальность сотворенного, но и индивидуальность творившего, хотя бы уже потому, что всякое творчество несет в себе черты своего творца и говорит о нем, а тем более то, что сотворено персонально, жизнью своей, этим высшим произведением, которому по мнению некоторых, как Ницше и Уайльд, человек отдает свой настоящий гений. Творчество сущности не только не обозначает, что мы в нем отряхиваем прах этого мира с ног своих, но он всем своим смыслом требует индивидуальности и расцвеченной полноты, он живет ею. Иначе это и быть не может, потому что это не трансцендентный мир, а все тот же мир, но претворенный и одухотворенный смыслом; в него не вошло только то, что не сумело или не смогло создать себя, открыть для себя доступ творческим путем, но это тот же живой мир.
На этом пути подлинная личность – человек – находит для себя ту возможность укоренения себя в вечном божественном мире, о котором говорит Вл. Соловьев. Так идут перед нами в жизни и истории ряды этих живых и полных сотворенных сущностей, бессмертных, неиссякаемо действенных. Сократ, Платон, Демокрит, Аристотель, Гомер, Фидий, Пракситель, Шекспир, Гете, Ньютон и т. д. – разве это не действительность, разве это не неувядающая живая сила, преодолевающая силу времени и места, постоянно просвечивающая сквозь века и тысячелетия? Не нарастает ли эта сила, чем дальше, тем больше? Но ведь перед нами не только они: живут Одиссей, Ахилл, живет Психея, живет Пан, Зигфрид, живут все они индивидуально лично и народно сотворенные, но живет и действителен древний Парфенон, Рим, живет и действует определенно, своеобразно Кельнский собор, откопанный римский цирк, собор Парижской Богоматери, тысячи других материальных проявлений культурного духа и творчества. Из века в век растут и множатся эти силы и идут на претворение естества, на преодоление его в его пространственно-временных формах. И нет никаких оснований думать, что эта мощь иссякнет; наоборот, она несет в себе источник своей силы и своего своеобразного действия, когда можно давать, ничего не теряя, и естественно должно творить новое, не погибая сама, т. е. следом за этим действием необходимо идет обогащение. Принципиально этот мир несет свои возможности в себе, но он немедленно превращается в действительности в ничто, когда его отрывают от живого течения жизни, от живых носителей, от данного конкретного мира. Он действителен и действует только в нем, а не где-то в потустороннем царстве. Времени подвластен его материал и проявитель, но не сам он. Так творится синтез «земли и неба», одухотворение, божественный процесс творчества сущности в единственно возможной для действия сфере. Это и есть подлинное богодействие.
В общем итоге не в смерти дело, а в преждевременности ее, в том, что творчески дееспособная личность выбывает из сферы творчества, как живой источник, преждевременно порываются возможности не только лично-индивидуальные, но и социальные, что исчезает живая основа, носитель тогда, когда она еще не изжила себя. Всякая смерть должна быть таким образом оценена не с точки зрения того, что она сама есть какое-то зло и что за ней грядет для индивидуальности некое загадочное загробное царство, а о ней можно судить только с точки зрения жизненных следствий, с точки зрения того, что покинуто, не завершено, разрушено здесь, в этом мире, какие нити порваны, и что ею подорвано, в особенности в сфере первичных – в противоположность производным – творческих сил, какими являются живые люди. И вот тогда нам представится беспощадная картина собственно не смерти, а естественного хода вещей, находящегося по ту сторону добра и зла; мы тогда действительно увидим мириады жизней, смятых колесницей естественного течения, увидим предсмертные муки и муки тех, кто должен был бы жить, увидим отягощенность и расплату за «грехи отцов» и т. д., но тогда смерть представится во многих случаях как избавление. И мы снова вынуждены повторить здесь, что дело здесь не в смерти, а в жизни и ее течении. Поэтому здесь и только здесь может и должно совершаться преодоление простого естества и неразумия в жизни и организации человечества. «Пусть мертвые погребают мертвых», как и мефистофелевское «Für Leichnam bin ich nicht zu Hause» – все это глубоко правдиво: живое должно твориться живым.
Из насильственных и преждевременных форм смерти много внимания уделялось той, которая причиняется по собственной воле индивида самому себе. Большинство решений клонилось в сторону осуждения этого факта, как противоестественного и морально недопустимого. Вопрос этот труден не столько потому, что в его принципиальной стороне кроются большие сложности – наоборот, вся судьба его решается на почве определенного миросозерцания, и когда определенный взгляд на мир и жизнь созрел, то решение это должно вытекать само собой. Главные затруднения возникают на почве того, что мы оцениваем здесь постоянно конкретные явления и при том живо захватывающие нас именно в своей живой полноте и конкретности, потому что они касаются живых лиц и живых человеческих отношений, устанавливающихся всегда в живых конкретных, своих особых условиях; таким образом нам бывает чрезвычайно трудно выявить, обобщить и вынести какое-нибудь общее решение. Так в жизни это явление осуждается одними как слабость и трусость, другими рассматривается как следствие душевного расстройства, третьими превозносится как героизм и проявление величайшей человеческой мощи. И это явление разнообразно, как сама жизнь.
Но тем не менее мы можем указать здесь на то общее решение – не устраняя индивидуальных, и при том многочисленных отклонений во все стороны, – которое вытекает из всего нашего миросозерцания и жизнепонимания. И вот здесь вырисовываются для нас в крупных чертах две стороны, самоубийство с точки зрения естественного течения и самоубийство с точки зрения творчества сущности.
С точки зрения естественного течения, совершающегося в порядке господства всеподчиняющей категории жизни, уход из жизни есть только факт, который должен быть принят к сведению. Он может задевать чувство жизни других людей, так или иначе связанных с данным лицом, но поскольку они также идут в русле естественного течения, нет той основы, на которой можно было бы осудить факт самоубийства. Индивид почувствовал себя по тем или иным причинам неспособным продолжать жизнь, и этим решается дальше для него весь вопрос. Здесь можно было бы только рекомендовать помнить, что этот шаг бесповоротный и потому нуждается в очень осторожном отношении, – сторона, которой как раз часто нет у самоубийц. Умереть никогда не поздно, и преждевременный уход есть именно преждевременный шаг, который и может осуждаться только как неудачное или ошибочное решение, но не может и не должен влечь за собой нравственного осуждения. Человек вправе располагать своей жизнью, потому что на естественном пути есть только голая дурная бесконечность и речь идет только о том, чтобы насытиться жизнью. Если кто-либо не чувствует больше жажды и не стремится удовлетворить ее, то этого никто не может поставить ему в вину. Противоестественность сама по себе не обозначает предосудительности: естественна жизнь, но естественна и смерть, а когда она наступает, это уже вопрос в естественной смене вещей второстепенный. Самоубийство в свете инстинкта жизни только противоестественно, но непредосудительно и потому допустимо. Все здесь решается тем, хочу ли я и могу ли жить, – других мотивов нет.
Но уже здесь в полосе естества возникает один вопрос, который вносит новую черту в освещение этого явления. В то время, как нет никаких оснований считать предосудительным уход от жизни отдельного индивида, поскольку он решает свою собственную судьбу, мы не можем, поскольку мы стоим на страже жизни и сами всецело подчинены тяге к жизни, допустить, чтобы уходящий уносил с собой чужую жизнь; нет сомнения, что в принципе каждый самоубийца затрагивает жизненные интересы других, он неминуемо бьет по своим близким – минимально оставляя им заботу о своем теле и все связанные с этим житейские осложнения. Но собственно здесь осуждение может быть только относительным, до тех пор, пока рядом с естественными интересами не станут другие. Не все ли равно, как переместится общий итог жизни в конце концов? И тем не менее мы чувствуем в этом случае момент, который мешает нам категорически сказать свое «да» по этому вопросу.
Объяснение этого кроется в том, что поскольку дано сознание и сознательное решение, мы именно и обсуждаем такие формы самоубийства, поскольку дан человек, мы уже не можем оставаться в полосе изолированного естественного течения, и перед нами выступают мотивы культурно-творческого порядка, к которым мы теперь и обратимся. И здесь мы должны подчеркнуть, что в принципе индивид может распоряжаться своей жизнью. Если он не видит смысла в жизни, т. е. не чувствует себя в силах участвовать в творчестве сущности и жить ею и вместе с тем не приемлет простого животного существования, когда он должен опуститься до вхождения, как вещь, просто в какую-либо полосу или систему естественного течения в его устремлении в бесконечность на пути простого удовлетворения потребности в существовании, то нет не только никаких оснований осуждать уход такого лица, но можно признать за этим актом известную ценность, потому что такая личность, не будучи в состоянии положительно участвовать в творчестве, своим уходом из жизни вырывается из власти простого естественного течения, преодолевает естество и этим подчеркивает свою безусловную неудовлетворенность им и искание иного, хотя бы эти поиски оказались безуспешными. Каждый самоубийца должен думать не над тем, что он совершает грех против какого-то божественного закона или нарушает нравственный закон, а ему необходимо понять, что он уничтожает творческие возможности, связанные с ним, и этим самым оставляет себя во власти естества, во власти времени, вычеркивает себя из сферы дальнейшего творчества, и ему остается только простор явить в своем уходе из жизни акт, достойный человека, – достойно, красиво умереть, не оставляя после себя впечатления трусливого ухода от жизни, испуга от борьбы или ухода во имя зла. В конце концов и самоубийство может стать будирующим фактором, может внести живую струю, поднять на борьбу и творчество и т. д. Все здесь зависит от того, чем этот акт мотивирован, что он порывает и что он создает. Во всяком случае он должен прежде всего оцениваться в плоскости интересов самого индивида. Мы не остаемся в этом случае в стороне: уход соратника, если самоубийца является таковым, может влиять и на нас, но он не может унести с собой сущности, потому что созданное вне его власти, несозданное же вне вопроса, а сам он дальше отдается во власть естества, включает себя в общий ход мирового хозяйства – дальше его некому судить, негде, да и не нужно, потому что его нет: все, что было он, остается в этом мире и в своей ценности и значении, в своей актуальности-действительности определено всей жизнью, на которой он в последнем акте, как на последней странице своей жизненной книги после последнего слова, своим уходом поставил точку. Может быть мы, заинтересовавшись книгой, невольно перевернем страницу, как бы ожидая продолжения, но там мы ничего не найдем: книга кончилась. Мы можем, конечно, говорить дальше о том, что автор мог бы дать еще дальше, но это уже устремление дальше, это больше аналогия с самим собой, «что сделал бы я», и оценка того места, которое мы можем уделить данному произведению в библиотеке, составленной из жизней творцов действительности. И здесь таким образом все зависит от того, каким ароматом обвеян уход, что разрушается и что создается. Хотя индивид не изолирован и не может ни одного акта совершить, не затрагивая других, тем не менее нет никаких оснований в принципе принуждать жить, тем более что самое важное, оправданное смыслом, – это творчество, на принудительном пути не дается и быть не может. Творчество сущности есть процесс свободы, и судьба его решается самой личностью. Там где она говорит свое «не хочу» или «отказываюсь», этим решается все.
В общем итоге самоубийство нужно признать противоестественным явлением, но не предосудительным, а только обесценивающим самого индивида, если он в последнем акте не сумеет подняться на большую высоту самотворчества. Так проходят перед нами длинные вереницы сильных и слабых. Вот перед нами игрок, проигравший государственные средства и уходящий из жизни, гонимый страхом ответственности. Вот другая фигура человека, уходящего из жизни, чтобы не дать надругаться над собой, чтобы спасти свое человеческое достоинство; вот уход из протеста против насильника, перед нами становится высокий героический образ римской матроны, заколовшей себя, чтобы поднять на борьбу против обесчестившего ее человека. Представим себе на момент человека, который бросает жизнь, когда он оставляет позади себя беспомощных детей, которым он дал жизнь, и мы должны будем сказать, что перед нами недопустимое явление, если оно не оправдано полным бессилием помочь им. Но тот же факт может предстать перед нами в совершенно ином цвете, если человек уходит от тех же детей во имя их и их жизненных интересов, хотя сам он хотел бы еще жить; в этом случае мы можем увидеть личность, которая поднялась на огромную высоту морального творчества и, может быть, смыла с себя много такого, что над ней тяготело в жизни. Художественное творчество может без конца черпать из этого источника живые образы, разнообразные, как сама жизнь. В принципе же мы подчеркнем, что у каждого есть право жить, но за ним остается и право уйти. Действительная же жизнь может, не изменяя этому принципу, сделать и жизнь, и смерть долгом, как и поставить между ними, как крайними этапами, тысячи других возможностей. Важно хорошо жить, но важно и хорошо умереть.
XVIII. ПРОБЛЕМА ДОБРА И ЗЛА
Как ни заманчива картина понимания мира в свете творческих возможностей, тем не менее у каждого человека, знающего суровую действительность, неизбежно должно зародиться серьезное сомнение в жизненной правдивости такого мировоззрения не только потому, что перед ним будет стоять своего рода memento mori – физическая смерть, но он не может игнорировать и другого факта – возможности и существования моральной смерти. Вглядываясь в мир и жизнь, мы как будто на каждом шагу встречаемся с жесточайшими гримасами ее, с актами вопиющей несправедливости и морального упадка. Недаром же говорят, что если бы оказалось возможным однажды каким-либо волшебным актом приподнять сразу завесу над миром и показать его нам во всей его нравственной наготе, то мы окаменели бы от ужаса и отчаяния: так широка волна зла, преступления, разврата и т. д. Всем, кто попытается изобразить мир и ход жизни в хоть сколько-нибудь оптимистическом духе, не пройти мимо тех неизбывных мук и сомнений, которые рождаются в душе человека, например, у постели больного или умирающего в тяжелых страданиях ребенка, маленького невинного существа, или в наших недавних военных и революционных переживаниях, когда гибли от мертвой, механической силы ни в чем не повинные старики, женщины, дети и с каждым днем множились сироты и обездоленные. Все мрачные темные нити вплелись в мировой клубок как будто совершенно неустранимо, и, как показала история человеческой мысли, мы до сих пор безуспешно мечемся в поисках за удовлетворительным решением всех этих проклятых вопросов, за возможностью примириться с миром – как говорил Гете, стремясь «мир понять и не презирать».
Какой бы ослепительной ни казалась нам белизна мирового одеяния, нам не удастся обойти молчанием, как говорил Иван Карамазов, тех кровавых пятен, которые несмываемо запятнали мир во всем его историческом прошлом и настоящем. Но чтобы жить, необходимо, если не смыть их, то по крайней мере примирить с ними так ли иначе наше сознание и совесть: необходимо преодолеть зло, необходимо «разъяснить» его, отвести ему определенное место, до некоторой степени понять его своеобразный разум. И мы знаем, в истории человечества шли и идут постоянные мечты о том, что рано или поздно окажется возможным человеческими или сверхчеловеческими силами преодолеть зло и окончательно очистить мир. Религиозные системы полны все этих сотериологических стремлений, но не только они: на том же пути находятся и этизирующие мировоззрения, которые готовы видеть подлинный смысл жизни в преодолении зла. Не так еще давно Джемс писал[1060], что смысл жизни решается именно в этом направлении, что «зло нужно выкинуть, выбросить за борт, через него нужно перешагнуть и принять участие в образовании мира, который забудет о самом его имени и месте». Мир без зла, без теневых сторон – таков идеал, который рисуется не одному только Джемсу; и у нас тотчас же подымается новый проклятый вопрос, так ли уж это все будет хорошо – вопрос о том, что не только возможно ли это, но главное – нужно ли это? И целый хор голосов из истории человеческой мысли отвечает нам убежденным указанием на метафизичность зла, на необходимость противоречий, на необходимость зла для добра и т. д. Так Вл. Соловьев верил, что «бог допускает зло, поскольку имеет в своей премудрости возможность извлекать из зла большее благо или наибольшее возможное совершенство, что и есть причина существования зла».
Все эти так называемые проклятые вопросы и величайшие загадки для человеческого ума при этом обладают еще той особенностью, что они не только «тайны», но и вместе с тем самое уверенное и непреложное знание, каким только владеет человек. Можно даже сказать, не рискуя впасть в особенно большое преувеличение, что мы никогда факты не констатируем с такой непреложностью, как мы это делаем в области нравственных оценок. Все мы хорошо знаем, что голос совести – там, где она начинает говорить – звучит непреложно и настолько неумолимо, что перед ним стушевываются самые изощренные доводы разума. В одном и том же явлении сочетались наше величайшее непоколебимое знание и наше самое мучительное неведение.
Что такое зло – этот фактор, искажающий мировое лицо в уродливую гримасу? Какова его природа и место? И можно ли жить и мириться с миром, когда в нем есть зло? В каком отношении к нему находится человек? Само собой понятно, что все ответы на эти вопросы полны самых ответственных выводов не только в теоретическом отношении, но в особенности для всей сферы нашего практического отношения к миру, нашего поведения. Эту практическую тенденцию подчеркивали уже древнейшие философы. Так Фалес уже задавал себе коренной вопрос, ведущий в гущу этических проблем: «Как нам прожить наилучшим образом и наиболее справедливо?» Все эти вопросы сопровождаются сомнением в том, возможно ли дать на них абсолютный ответ. Непоколебимая уверенность, присущая голосу совести, как будто говорит за необходимость абсолютного и непреложного ответа, а вместе с тем фактически мы никак не можем выбраться за пределы относительности в том русле, где протекает наша практическая жизнь. Это столкновение абсолютных притязаний и относительных достижений Георг Зиммель возводит в универсальный трагизм жизни: как говорит он, даже в области половой жизни для полагания себя нужно прийти в соприкосновение с другим полом[1061]. Итак, где же выход?
Прежде чем мы перейдем к обсуждению возможного ответа на этот вопрос, нам хотелось бы указать на один факт немаловажного значения, отмеченный Рудольфом Ойкеном, что проблема зла в античной философии не носила того характера, какой она получила у нас: для греков зло было по преимуществу побочным явлением миропорядка; даже у реалиста Аристотеля оно еще не получило той окраски реальной, хотя и отрицательной сущности, какую ему придали в Средние века. Только когда античный мир стал проявлять ясные признаки жизненного утомления, стал ослабевать и впадать в старчество эллинистической эпохи, когда понемногу исчезло типичное эллинское утверждение жизни и радостное устремление к ней и стал брать перевес мрачный взгляд на земную жизнь (уже у поздних стоиков), вместе с нарастанием религиозного трансцендентизма зло стало все больше сгущаться, пока в концепции христианства не превратилось в «мощную реальность». Этот ход мыслей нашел своеобразное завершение в убеждении, что корень зла лежит в самой человеческой природе и что на этом поле и должен разыграться решительный бой со злом; здесь может быть решена не просто человеческая проблема, а задача космического характера: мир может быть спасен только победой над злом в человеке. В этом направлении идет не только религиозная проповедь, но в том же направлении наряду с религиозно-философскими учениями пошли и некоторые другие философские учения; назовем здесь для примера Канта и Фихте с одной стороны и Шопенгауэра с другой.
В такой концепции, как метафизическое, и при том бытийственное понимание добра и зла, сгущают их в образы бога и дьявола, и отсюда начинает литься широкий поток богохульственных выводов, на которые мы обратили внимание в первой части этого труда, в гл. о религиозно-философском трансцендентизме. Там мы стремились показать, что этот взгляд приводит к такому положению, при котором бог не бог, но и дьявола постигает то же несчастие: или один становится над другим и берет на свою ответственность его, что совершенно нелепо, или же над ними помещается еще что-то высшее, но тогда весь клубок недоумений и несообразностей только передвигается. Все положение вообще должно свестись к какому-то невероятному метафизическому попущению, тем более что потом злое начало, как у Шопенгауэра, должно само себя уничтожить, породив из себя, из тьмы свет, а доброе начало, если первенство за ним, должно было метафизически начать с того, что является злейшим актом – с попущения зла, допущения возникновения или появления злого начала. Как мы это стремились показать в первой части, в гл. об оптимизме и пессимизме у Лейбница и Шопенгауэра, нет такой логической брони, которая могла бы оградить один из них от просачивания в него элементов другого, и при том в очень заметной степени.
Мысль о метафизической природе зла в этой бытийственной форме настолько несостоятельна, что мы не видим оснований дольше останавливаться на ней здесь. Это тем более понятно, что вся проблема добра и зла уже во всех таких системах самих переносится в область характеристики действия. И Вл. Соловьев утверждает, что мир во зле лежит, говорит[1062], что «зло есть всемирный факт, ибо всякая жизнь в природе начинается с борьбы и злобы, продолжается в страдании и рабстве, кончается смертью и тлением», а это в конце концов ясно говорит нам о том, что суть дела здесь не в пребывании, а в действии того или иного характера; только в действии может быть различен и установлен высший или низший вид природы данного фактора.
Для нас по всему ходу наших размышлений является неоспоримой та мысль, что разгадки нужно искать не в бытии как таковом, что само по себе бытие совершенно нейтрально, оно только возможность, которая может выявиться и в ту, и в другую сторону или, правильнее говоря, может быть и тем и другим одновременно в различных степенях и сочетаниях. Там, где идет речь о простом бытии, там в сущности необходимо прямо говорить о материи и механическом совершении: они ближе всего и правдивее всего рисуют ту стадию, которую можно назвать простым, голым бытием; в ней кроется оправдание материализма как мировоззрения. В этом смысле мы и утверждаем, что голое естество только естество, оно чуждо всяких оценочных моментов, оно по существу индифферентно и иным быть не может. Для простого бытия, как и для голого совершения, для простого процесса, протекающего в порядке механическом, глубоко характерно то, что течение как чувственных процессов в нас, так и утонченных переживаний, если они протекают вне борьбы, просто в виде своеобразного потока, не имеют никакого нравственного значения, как не будет признан нравственно осужденным, убийцей тот, кто помимо своей воли, падением, например, своего тела лишил жизни другого человека, как не будет вменено в героизм спасение другого существа человеку, когда он совершил этот поступок, абсолютно не имея его в виду, не стремясь к нему, абсолютно в порядке общего хода внешних событий. Эта роль механическо-автоматического фактора будет оценена нами дальше и ей будет отведено в решении проблемы добра и зла соответствующее место. Пока же нам существенно установить, что бытие само как таковое, в голом состоянии, мертво фиксированное или, как мы готовы сказать, как материя, нечто механическое – оно само морально совершенно нейтрально, оно вне добра и зла и никакого отношения к ним не имеет; более того, если бы мир остался только в этом состоянии или форме и не шел дальше, не могло бы существовать и самой проблемы и понятия нравственности, понятий добра и зла. Поскольку материализм останавливается в своем миропонимании на этой стадии, он вполне прав в своем отклонении абсолютной морали, в своих попытках отвести им место только в порядке все тех же фактов, которые, объясняются естественным путем, путем борьбы за существование и обладают только относительным значением.
Все это заставляет нас обратиться к тому, чьей специфической проблемой и является проблема добра и зла, а когда нам удастся раскрыть ее в применении к человеку, тогда мы можем пойти и дальше, и, может быть, проблема добра и зла раскроется для нас вообще во всем своем существе. Такой подход оправдывается тем более, что на протяжении веков шли и идут попытки усмотреть корень зла в самой человеческой природе. Так ли это?
И так, и не так. Нам нет нужды сопротивляться мысли Канта, что в человеческой натуре кроется злое начало, потому что если бы человек не нес в себе известные моральные возможности от природы, было бы вообще безнадежным делом пытаться говорить в применении к нему о добре и зле, но мы должны разойтись с ним, когда он говорит о «радикально» злом «корне» в природе человека, потому что этот радикализм находит свое естественное устранение в существовании в человеке наряду с злым началом бесспорно доброго принципа; если бы злое начало было радикальным и лежало в самой природе человека, тогда борьба с ним должна была бы быть признана совершенно безнадежной, она могла бы идти только по пути уничтожения этой природы, т. е. по пути уничтожения человека. В этом случае последовательно мыслим только тот путь, который избрали религиозные учения, которые, приняв такой взгляд на человеческую природу, пришли к убеждению, что здесь уже положение может быть исправлено только чудом благодати, сверхъестественным актом, который должен преобразить в корне эту природу, т. е. в сущности пересоздать человека. Но тогда утрачивает свой смысл и вся борьба, раз все лежит тут не в силах человека, тогда исчезает самый вопрос, потому что моральное свершение попадает тогда в полосу общего мирового свершения, естественного или сверхъестественного, это в данном случае совершенно безразлично; суть в том, что тогда нет смысла в ответственности человека, он уже тогда не субъект, а только объект среди объектов, хотя бы и со своим своеобразным характером. Между тем и Кант, и жизнь не становятся на путь фатализма или механистического воззрения и ждут, и повелевают борьбу, которую человек должен вести и, следовательно, может вести своими собственными силами. Более того, нравственность немедленно уничтожается, как только она не автономна, а обоснована велением извне, хотя бы это было веление божественное. Борьба эта должна разыграться в самом человеке и при том при непременном участии обоих факторов, чувственности и разума; при отсутствии их нет ничего, при наличии только чувственной природы будет морально безразличное состояние, только естественное; если бы разум остался один, он также ничего бы не дал, потому что он был бы пуст, бессодержателен, безобъектен. Оба они должны быть, и должна быть возможность их взаимодействия, взаимовлияния и некоторой слитности, т. е. нельзя их просто рассматривать как «радикальные принципы» зла и добра. К их роли в создании добра и зла надо подойти, очевидно, как-то иначе. Мы должны решительно отклонить вместе с Фихте «нелепую клевету на человеческую природу, будто бы человек рождается грешником… Он в жизни вырастает в грешника»[1063].
Но вместе с тем ясно, что он нравственно опускается или возвышается не тем, что он просто живет, а в акты жизни привступает какой-то новый элемент или характер, от которого и начинается поток добра и зла. Таким образом мы тоже попытаемся отыскать его исток в человеке, но уже не в смысле метафизической основы и не в смысле неизменного радикального принципа, а на ином пути. Когда мы обращаемся к человеку и там продумываем до конца явление, именуемое нравственно добрым и злым, то нам открывается картина совершенно иного порядка, чем ее рисуют нам метафизики, повергающие нас в сущности своим взглядом на сущность добра и зла в бездну безысходного отчаяния: там мы находим действительно этап коренного значения, подлинный революционный перелом, имеющий, как мы надеемся показать это дальше, космическое значение, но он заключается, говоря традиционным термином, не в грехопадении, потому что падение уже предполагает наличие добра и зла, потому что падать до зла и добра было неоткуда и некуда, а суть его лежит в грехопознании, в осознании, в первом различении добра и зла, в первом понимании этого характера жизненных – своих и чужих – актов. Об этом говорит нам не только простая неумолимая логика, но об этом говорит нам вся жизнь человечества, как и вся картина морального вырастания отдельного человека, его воспитания. С первого момента, как забрезжится в его душе это различение, трудным путем углубления и постоянных мучительных сомнений и соскальзываний идет назревание нашего нравственного я – настолько трудным, что из сферы роста и колебаний мы не выходим и на вершине нашего развития.
В сущности и Кант стоит на том же пути, когда он говорит, что «положение «человек зол» должно обозначать не что иное, как то, что он сознает моральный закон и тем не менее принимает в свою максиму (при случае) отклонение от него»[1064], иными словами, дело здесь прежде всего в «сознании морального закона», хотя бы оно и выявилось уже в итоге известного поступка – только при этом условии становится возможным говорить о нравственном проступке или заслуге. Таким образом в изначальном, в исходном пункте должно мыслиться не падение и не утрата лучезарного какого-то царства, которым мы обладали, а нами оставлена позади себя стадия безразличного, голо животного, естественного состояния – так сказать, чистая материя. Но тогда в «грехопознании» надо все-таки видеть достижение, переход к высшей ступени и, правильнее всего сказать, переход и достижение величайшего значения, способного затмить все последующее: это шаг из моральной потусторонности в сферу добра и зла – шаг, представляющий величайшее из чудес и самую трудную проблему для понимания всего; проникнув в ее тайну, мы могли бы затем уже более или менее легко понять всю картину нравственного мира.
Этот шаг совершился и совершается в человеке – эта мысль и должна послужить нашим путеводителем. Адам и Ева с их изначальной невинностью в райском состоянии были просто естественными существами в чисто животном состоянии, не знавшими ни добра, ни зла, не ведавшими стыда, жившими от того, что послала мать-природа. Такие существа и сейчас живут вокруг нас во всей невинности животного состояния. Разница между животными и ими заключается только в том, что в этих первых людях жила потенция – возможность выйти из этого состояния, перешагнуть через Рубикон чисто животной невинности.
Но в сущности мы можем рассматривать эту стадию как своего рода фикцию, как пограничное понятие, которое определяет не столько устойчивое положение, сколько служит вспомогательным средством для решения нашего вопроса. Уже потому, что мы имеем здесь дело с некоторой природной предрасположенностью, не дающей человеку застыть на этой стадии, мы можем не придавать ей статического характера и утверждать, что человек – хотя бы в минимальной степени – всегда живет в мире морали, что эту его стадию правильнее всего рассматривать как минимум, как своего рода бесконечно малую величину, граничащую с отсутствием ее. Ясно, во всяком случае, что это специфически человеческий мир и что встретиться с ним и у человека мы можем только тогда, когда он живет как человек, когда в нем обнаруживаются хотя бы проблески личности. Должна быть личность, и при том в действительности, что значит в действенности, как мы помним, чтобы стал возможным нравственный мир.
Как мы это показали раньше, в едином акте живой жизнедеятельности рождается наше я, наше самосознание, как и сознание среды, персональной и вещной. Оно рождается не как одна искорка, вокруг которой потом постепенно разгорается осознание всего остального мира, внутреннего и внешнего, а уже на первой ступени в противопоставлении себя и более или менее сложного другого; без этого различения я нет и быть не может. В первом акте, повелительно диктуемом нам Фихте, «помысли себя самого» в сущности нет простоты, а в нем дана вся конкретная сложность действительности данного индивида; даже у примитивнейшего дикаря, раз он оказался способным помыслить самого себя, нет этой простоты, которая внесена философом во имя чистоты логического акта, и у него своя – маленькая, но все-таки жизненная полнота.
Этот неизбежный акт противопоставления и различения нам здесь особенно важен: в нем и с ним появляется не простая мысль о себе, голо теоретическая, а в нем и с ним дана мысль о своей отдельности, о возможности своей большей или меньшей независимости, хотя бы эта мысль шла на фоне осознания своей фактической, почти животной связанности внешними условиями – мысль о возможности иного, того, чего еще нет, но что желательно и что могло бы быть. Эта идея самым неразрывным образом связана с инстинктом самосохранения, с отстаиванием себя, с бытием нашего я. Поясняя живущее в нас влечение к абсолютной независимой самодеятельности и непримиримое отношение к мысли, что я существую только для чего-либо иного или через кого-либо иного, Фихте правдиво добавляет[1065], что это влечение я чувствую, как только я воспринимаю себя, оно нераздельно соединено с сознанием меня самого, оно же связано с различением себя от другого и возможно только при нем, оно необходимо при этом включает в себя мысль о возможности иного, а это в свою очередь, если мы раскроем его содержание, обозначает наличие оценки, как бы примитивна она ни была, первый проблеск идеи должного, идеи блага, идеи добра и зла, хотя бы ими были добро и зло в готтентотском понимании. Необходимо при этом отдать себе отчет в том, что действие отличается от простого изменения тем, что в нем есть цель, а это говорит нам о том, что без мысли об ином, еще не данном, несуществующем действие невозможно, но без него немыслим и человек. А раз он вне сомнений, то вне сомнений оказывается и наше положение. Для возможности жизни нужен не только я и мир, но нужна мысль об ином, еще не существующем или просто несуществующем, иначе перед нами был бы застывший сфинкс – впрочем, о нас бы тогда в первую очередь не было смысла и говорить.
Здесь, с нашей точки зрения, исток нравственности или врата в этот мир. Этим уже еще лишний раз подчеркивается, что только в мире человека может быть добро и зло. Когда нам говорят, что зерно пшеничное, упавшее на землю, только тогда даст жизнь, когда пройдет через смерть, мы никогда не выберемся из тяжких недоумений, оставаясь на почве традиционной религии, потому что мы не избавимся от вопроса, зачем богу понадобилось давать жизнь через смерть, добро через зло, все через неизъяснимые муки мириад невинных существ? Тогда перед нами только страшный, богохульственный обвинительный акт против бога. Все эти сомнения отпадают, как только мы из мира миражей вернемся в подлинную действительность и поймем, что это есть мир человека и именно его; тогда нам становятся понятными противоположности и прохождение через них. Эпопея евангельского «пшеничного зерна» – это эпопея человека и человеческая, это его закон, это он жив и живет противоположностями. Устранение противоречий и противоположностей из мира, эту бесконечную задачу можно было бы формулировать как путь или веление очеловечения мира.
Проблема нравственности – даже более чем какая-либо другая – должна и может быть решена только на почве антропоцентрической и конкретной, на почве живого, действительного мира. Смысл и значение нравственности разжижается и уничтожается прямо пропорционально разжижению и уничтожению конкретного мира и человека. Стоит ли тратить свои соки и нервы на мираж? Тот же антропоцентризм ясно звучит и в вопросе измученного или возмущенного человека «за что», «почему», потому что в нем предполагается разумная мотивированность или возможность ее; в нем слышится требование разумно, человечески оправдать данный акт или явление с его особым характером, оправдать и принять или осудить и отвергнуть автономно, самому. Как говорит Лотце[1066], если бы даже сам бог захотел поведать человеку добро, он должен был бы сделать это, дав человеку возможность самому понять это сообразно своей природе, человечески…
Здесь мы должны снова со всей энергией подчеркнуть, что наш антропоцентризм вовсе не обозначает полного оголения всего остального мира от принципа нравственности и добра и зла. Наоборот, поскольку мы рассматриваем антропоцентрический принцип как принцип, далеко выходящий за пределы только человека в непосредственном смысле, в данном случае ограниченный сферой целевой деятельности, мы должны принять и следствия из этой мысли и положения: зародыши нравственных явлений мы можем найти везде, где есть приобщение к человеческому принципу в данной его форме; поскольку животные, по словам Киплинга «как люди», постольку у них возможны отдельные проявления, близкие к человеку. Вся суть только в том, что для нас остается спорным вопрос о наличии у них одного необходимого условия, а именно: хотя бы некоторой степени самосознания, в силу чего нам представляется парадоксальным говорить о проблесках нравственности у животных. Сколько человеческого, столько приобщения к миру добра и зла – таков наш общий вывод.
Весь ход предыдущих размышлений должен был показать нам, что из антропоцентрического принципа вытекает ряд существенных следствий. Вспомнить о них здесь тем более уместно, что это даст нам возможность пойти дальше в нашем понимании проблемы добра и зла. Одно из условий, с которым неразрывно связан наш основной принцип, заключается в утверждении принципа активизма. Это условие должно быть подчеркнуто особенно на том пути, где ищут решения проблемы нравственности. Мы раньше отмечали не раз, что вся суть философии и ее решений определенно императивного характера; такова природа истины, такова же природа добра. Все философские положения не только констатируют, но всегда и особенно требуют. Они никогда не останавливаются на простом фактическом обстоянии; они всегда направлены на подлинную действительность, а это значит – на действенность. Все они обретают свой смысл только в действительности, в жизни; вне нее, отвлеченно совершенно нелепо говорить о них. Запутанные узлы неразрешимых и противоречивых загадок образовались на длинном историческом пути человеческой мысли именно там, где делались попытки эти проблемы подлинной конкретной действительности решать на почве абстракции, в отвлеченной форме и в применении к отвлеченному я или совсем безотносительно. С нашей точки зрения, это обозначало попытку измерить длину мерами веса или наоборот. Нет действительности и, значит, действенности, нет и не может быть и речи о нравственности: где речь о добре, там речь о действии. Отказ от действия вообще обозначает отказ от осуществления сферы нравственности. Конечно, в сложных культурных условиях могут создаваться такие положения, когда бездействие становится необходимым, но это только завуалированное действие. Вообще же отказ от действия есть действие, и при том действие, сталкивающееся с самим принципом нравственности, с возможностью ее: это покушение на самую нравственность, на само добро, но только с совершенно несостоятельными средствами, так как пока есть человек-личность, нельзя уничтожить действие, в какой бы скрытой или явной форме оно ни проявлялось.
Все это должно убедить нас в том, что решения проблемы добра и зла надо искать на почве активизма. В эту сферу ведет только один путь, – путь действенного подъема. В этой сфере нельзя просто быть, обстоять, а можно только делаться, становиться. Но эта действенность не есть и не может быть простым изменением – она определяется целью, принципами, она объединяется в известное раскрытие в итоге этой действенности определенным смыслом. Человечность и активизм вместе отливаются, как мы это видели раньше, в свободу. Подлинная действенность только и может быть свободной, как мы это стремились показать в одной из предыдущих глав. Во всякой действенности должна быть определенная та или иная цель или объединяющая идея или содержание, но полнота их и простор для их выявления получаются только там, где раскрывается, осознается и осуществляется свобода, т. е. где есть личность.
Таким образом мы находим еще одну черту в природе нравственности – свободу, без которой опять таки нет смысла говорить о самой проблеме. Тот, кто пришел бы к отрицанию свободы, этим самым поставил бы крест на проблеме добра и зла. С точки зрения подлинной жизни, все это не внушает никаких сомнений, потому что там, где добро или зло, нравственность, там совершился выбор из той или иной альтернативы; но где выбор, там свобода, – в этом жизнь не допускает ни малейших сомнений и колебаний. Всякая попытка нарушить эту свободу, самоопределение, автономию обозначает соответствующую попытку уничтожить возможность добра. Понятия человечности, действенности и свободы можно было бы поставить без всякой натяжки в отношение раскрывающих друг друга идей. Вот почему уничтожение свободы обозначает такой нестерпимый по своей болезненности акт – потому что он неминуемо должен обозначать уничтожение самого человека и погружение его в роли элемента в какую-нибудь систему, как это имеет место в отношении вещей; тогда уже перед нами не человек, не личность, а только вещь среди мириад других вещей.
Этой спаянностью человечности, свободы и нравственности еще раз подчеркивается, почему царство добра простирается только настолько, насколько простирается антропоцентрический принцип – и при том в меру его. Если мы раньше говорили, что под человеком еще нет настоящего выбора, а над ним уже нет, то теперь мы снова подчеркнем, что свобода подлинная может быть только у человека, а потому у него только и может быть подлинный нравственный мир: в мир добра и зла нет другого пути, как через человека. Такова необходимая поправка, особенно важная потому, что исторически выявилась и во многом все еще держится пагубная пелагианская мысль, что зло от свободы, а добро только от бога; величайшее достояние человека и через него всего мира не может быть опорочено, как источник одного зла: весь мир нравственности человечен и возможен только при свободе.
Но это ведет нас дальше, если мы вспомним, что нет свободы воли, а есть свобода личности, что свобода мыслима только в подлинной действительности и у подлинного живого существа, человека во всей его живой, подлинной полноте. Это ясно говорит нам, что у нас нет никаких оснований выбросить за борт естественную природу человека, чтобы вложить судьбу нравственного мира в руки «чистого» разума: мы знаем, что это очищение покупается ценой уничтожения того, ради чего оно предпринимается. Мы должны подчеркнуть в интересах реабилитации опороченного «естества» в человеке, что в них свой живой смысл и оправдание через то целое, в которое оно входит и от которого его нельзя отрывать в философском рассмотрении. Мы должны здесь осознать во всей ее значительности ту мысль, которую мы передадим здесь словами Канта: «Естественные склонности сами по себе добры, т. е. не заслуживают осуждения; было бы не только напрасно, но и вредно и подлежало бы порицанию пытаться уничтожить их. Их нужно, может быть, только обуздать»[1067]. Мы только с своей стороны больше подчеркнем, что они сами по себе вне добра и зла, но что они полны своего глубокого значения и в применении к проблеме добра и зла: они действительно не должны быть устранены, да и неустранимы, если бы даже этого можно было бы пожелать – тому, кто ищет истины на пути философии, т. е. стремится понять подлинную действительность, нужно взять человека во всей полноте и не пытаться его сокращать путем вылущения естественных склонностей.
Весь вопрос относительно естественных склонностей должен быть перенесен на иную почву. Через естественную свою природу человек включен в определенную систему и постольку определяется ходом этой системы, общим ходом природы и ее закономерностью; постольку на него распространяется общий механизм, устраняется свобода и исчезает нравственная жизнь; но здесь есть и другая сторона: естественные склонности, естественная природа человека включена с свою особую систему в данном человеке и действует в нем и через него и здесь ее роль – без нарушения общего хода природы – становится уже иной. При наличии естества мыслимо только осуществление свободы и, следовательно, и нравственности; только в этом калейдоскопе смен страданий, радостей и т. д. возможен выбор, возможен подъем и падение и все плоды из царства добра и зла, подвига и героизма и т. п. Свершенное по естественной склонности не есть еще добро, но морально оно уже небезразлично: здесь весь вопрос решается не противоположностью к «естеству» – подлинный ригоризм, справедливо высмеянный Шиллером, а только тем, что отметил Соловьев: важно, чтобы данный поступок, вытекавший из природы, из естественных склонностей индивида, сознавался как ценный, мог бы быть включен в разумную сферу и мог бы быть свершен и при отсутствии этой склонности. Ради нравственности, добра вражда к естеству не только не нужна, но она просто вредна и должна осуждаться. В мире неестественном – хотя бы и сверхъестественном – нет места нравственности. И в сфере нравственности человеку нужно и должно оставаться тем, что он есть: животным, дитятей природы, естественным существом, но не только им, а еще чем-то – существом культурным, что отнюдь не обозначает устранения естества, а только его претворение, подчинение его культуре. Об этом именно – а не о вражде и уничтожении – и идет речь в проблеме нравственности.
Таким образом вполне естественно отпадает опасность ригоризма и вместе с тем сохраняется та борьба культуры-разума с естеством-чувственностью, в которой рождаются и добро, и зло, и в которой открывается возможность осознания своего долга, нравственных обязанностей: доброе естественное течение должно не просто констатироваться в этом случае как существующее, но и как должное: естество же пришедшее в столкновение с основным принципом добра, должно быть преодолено и введено с помощью культурного претворения в то русло, где оно, оставаясь естеством, вместе с тем пришло бы в согласие с принципом добра. В понятии обязанности или долга нет никаких оснований видеть повод к исключению инстинкта и замене его разумным убеждением: у счастливых натур они могут и идут в гармонии друг с другом; если бы это было иначе, то нравственность и добро были бы противоестественными явлениями, что явно бьет в лицо разуму и смыслу. На этом именно и построена злая эпиграмма Шиллера на ригоризм Канта[1068], явная несообразность одевается в форму серьезного ответственного принципа, и этим достигается великолепный эффект злой иронии и насмешки. Индивид, направленный на объективные, в том числе и этические ценности, повысился не только философски в своем ранге, потому что он стал личностью, но он укрепил себя и биологически в известном смысле, потому что он не только по смыслу, философски, но и жизненно связал себя с широкой социальной, объективной основой, как бы отождествил себя с ней, и таким образом в его существовании становятся заинтересованными тем более широкие круги жизни, чем больший круг захватывают признанные им объективные ценности, в данном случае этические ценности, тем шире и глубже он приемлем и желателен социально. Индивид на этом пути становится как бы сверхиндивидуальным; на него отчасти распространяется значение этих ценностей[1069].
Таким образом царство морали, естественно, должно перестать быть пустыней, заполоненной одной добродетелью, как однообразным сыпучим песком, и должно расцветиться всем богатым калейдоскопом жизненных красок, как это мы надеемся отметить дальше. Пустыня эта создается все тем же отвлеченным, умерщвляющим подходом к живым явлениям, и неудивительно, что в итоге получается мертвое и пустынное. Всепоглощающий нравственный закон, принцип добра покупает это единообразие и безусловность дорогой ценой изгнания всего живого. Мы далеки от мысли отказаться от него целиком, мы хотим только понять его в той связи, в какой он должен быть взят, мы хотим отвести ему то место, какое принадлежит ему по праву, не меньше, но и не больше. Добро, как и зло, всегда конкретно, оно определенное жизненное явление – не худосочное отражение категорического императива, а сама полнокровная действительность; но принцип его, искусственная выжимка из него может быть дана в виде искусственного отвлеченного принципа всеобщего, формального характера. Это явление вполне равноценно, например, законам логики, которые предназначены определять познание, но сами по себе неспособны создать ни малейшей мысли, если мы не возьмем их самих как одни из многих суждений, подчиненных тем же законам, т. е. когда они уже не законы. Этим нисколько не умаляется значение нравственного принципа, но он перестает быть молохом, во имя которого сжигается вся красочность живого добра в живом мире. Мы распознаем во всей сути чисто формальный характер его и в этом смысле всю его бессодержательность вне применения к живым явлениям. В известном смысле мы не можем не присоединиться к словам Вл. Соловьева, который очень остроумно говорит[1070] по поводу такого отвлеченного принципа в роли безусловного принципа действительного поведения человека как о положении, при котором «химик, например, стал бы требовать или считать возможным, чтобы люди употребляли вместо воды чистый водород»; это действительно была бы «моральная химия». Этот принцип имеет свой огромный смысл, как и водород не для питья, а на своем месте, указанном химией.
Принцип нравственности есть именно принцип ее, но не сама она. Первый может и должен быть безусловным, но именно потому он формален, отвлечен и сам по себе лишен конкретного содержания; добро же всегда содержательно, конкретно и полно, а потому может быть безусловным только в своем особом смысле. Пусть нам не кажется, что мы таким путем открываем простор для губительного релятивизма и морального произвола: относительность прежде всего может быть очень далека от произвола, она не моральный атомизм, но самое главное: для нравственной устойчивости и оправдания нашей требовательности нужно только отстоять безусловность принципа, изъять его из произвола личности и внешних обстоятельств, среди которых творится жизнь[1071]. Это и достигается установлением формального принципа, идеей долга, но само добро должно быть, как жизнь, полно и содержательно. Так может и должен быть изжит тот трагизм универсального характера, о котором говорит Зиммель[1072], когда жизнь устремлена к абсолютному, и в то же время она в действительности никогда не может выйти из власти относительного и противоположностей: в наших моральных переживаниях, в нравственном мире абсолютное достигается, но только с формальной стороны; относительное держит нас в своей власти, но только по содержанию, а в общем итоге все это дано едино и нераздельно в конкретной полноте.
В этом смысле формула нравственного принципа и в нашей теории становится очень важной задачей, и мы не собираемся пройти мимо нее – нам только хотелось бы поставить ее на свое место. Переходя к попытке отметить приемлемую для нас формулу этого принципа, мы не можем не подчеркнуть, что мы уже несклонны абсолютировать значение этой формулы: она только формула, а вся суть в конкретном добре. Уже в простодушной форме, в какую одел свой ответ в глубине веков Фалес, заложена вся мудрость, которая нужна для нравственного принципа: «Каким образом нам прожить лучше всего и справедливее всего? – Если мы сами не будем делать того, что порицаем в других». В этой мысли истории важно было только раскрыть больше положительный момент, который у Фалеса в его примитивном ответе заслонен отрицательным указанием на то, чего не надо делать. Отсюда ведет нас история к длинному ряду формулировок, которые мало что прибавляют нового: ведь даже утилитаризм в лице Милля завершил свои рассуждения тем, что поставил свой принцип в неразрывную связь с тем, что с первого взгляда надо было бы считать его антиподом – с евангельским «люби своего ближнего, как самого себя». Он говорит[1073]: «В сущности вся этика пользы заключается в золотом правиле Иисуса Назарейского: поступай так, как каждый желает, чтобы с ним поступали, и люби своего ближнего, как самого себя, составляет идеальное совершенство утилитарной нравственности». В категорическом императиве основной принцип этики нашел свое наиболее значительное завершение, и мы готовы остановиться на нем в той его форме, которая повелевает поступить так, чтобы мы могли пожелать превращения руководящего нами принципа во всеобщий, мировой закон, как у нас нет оснований возражать против лозунга Фихте, повелевающего желать, чтобы «разум, и только он господствовал в мире», потому что он в разум уже влагает практический момент. Во всех дальнейших формулировках в сущности раскрываются оттенки и следствия, а в основном остается все та же мысль, освященная веками, жизненной мудростью и величавой простотой: во всем и везде руководись любовью к миру и людям и слушайся голоса своей совести.
Фихте выразил[1074] основной принцип морали еще в форме императива: «Выполняй всегда твое назначение» и этим показал, что формула только формула, и что мы должны пойти в нашем стремлении понять добро и зло дальше, так как весь свой смысл этот принцип получает из сложного содержания и из тех следствий, которые заложены в понятии «назначения». Чтобы не оставаться только теоретическим измышлением, бесплодным и оторванным от действительности, основной нравственный принцип должен найти для себя прочную базу в действительности, которая и помогает ему стать мощным действительным фактором. Мы должны перейти на почву творческого понимания и попытаться на этом пути понять добро и зло, потому что там именно достигается все самодовлеющее и свободное от власти времени и от мучительного вопроса «почему» и «для чего».
XIX. ДОБРО И ЗЛО В СВЕТЕ ТВОРЧЕСТВА СУЩНОСТИ
Что мы не можем, не должны останавливаться на простом формальном принципе, подкупающем нас своим абсолютным характером, это ясно следует из речи о долженствовании. Формула Канта «ты можешь, так как ты должен» только потому может кое-что сказать нам, что мы насыщаем ее скрыто тем содержанием, о котором она не говорит сама, но без которого она немыслима и которое просто подразумевается. Поэтому мы должны освободиться от боязни содержания и должны попытаться перейти на конкретную почву, и этим самым сделать попытку решительно порвать с пониманием нравственности и добра, которое построено на учете запрещения; на понятии добродетели отступления, нашедшем свое выражение в формулах, начинающихся со слов «не делай». Мир и жизнь были бы вообще никуда не годны, если бы специфическая сфера человеческих переживаний носила только отрицательный характер.
Единственно правдивый путь ведет нас к тому, чтобы ясно постичь, что принцип морали регулятивного порядка, что в нравственности, в добре заложен и этот императивный регулятивный элемент, но что само добро в коренном существе своем есть и может быть только творческого характера, созидательной природы: добро, ничего не создающее, не добро; зло, ничего не разрушающее, не зло; добро только то, чему во всяком случае, в той или иной форме присущ творческий характер. Вот та мысль, которая намечается в итоге нашего размышления над миром и жизнью.
Чтобы подробнее обосновать ее, мы должны здесь напомнить еще о той подпочве, на которой раскрывается этот созидательный характер добра и разрушительная природа зла. Мы неоднократно подчеркивали, что весь мир и жизнь необходимо рассматривать не в статическом состоянии, в котором они пребывают только в фикции отвлеченного мышления, а в живом движении, в живых напластованиях, в взаимопополнении и претворении старого и нового. Мы начали с той правды, которую отмечает материализм, – со стадии материи и механистичности, и стремились показать, что это только искусственно фиксируемая ступень, не статическая, а динамическая, которая естественно в поисках жизни к укреплению себя ведет все дальше и дальше в русле всеобъемлющей категории жизни, пока на этом пути не вскроется нечто самодовлеющее и не откроется перспектива нового мира – мира, не исключающего первый, а представляющего тот же мир, но только преображенный и претворенный.
Обращаясь к этим стадиям мирового свершения, к этим напластованиям в мире и жизни в вопросах этики, мы прежде всего встречаемся здесь с тою же – если можно так сказать – биологическою картиной: вся этическая жизнь раскрывается перед нами как борьба за расширение жизни, как своего рода «хитрость разума» на службе у начала жизни. Всякий этически добрый акт говорит о том, что данное существо живет и жить дает другому или другим, что в меру этого акта свершилось или в идее утверждено расширение и углубление жизни. Но этим вопрос не исчерпывается, так как добрый акт несет в себе по своему смыслу императив и дальше во всем служит этому расширению жизни. В актах помощи ближним, в спасении жизни их, в подаяниях, в готовности пострадать за «други своя» и т. д. все та же власть категории жизни. В богатом разнообразии проявлений добра в жизни акты самопожертвования, как будто говорящие об отказе от жизни, на самом деле должны представляться нам, как мы уже заметили, «хитростью разума» на службе у начала жизни: здесь мы попускаемся меньшим для достижения большего; мы отдаем предпочтение данному акту, потому что он способен при его последовательном продолжении и перенесении укрепить и расширить область жизни. Характерно, что там, где нравственный по своим мотивам поступок дает жизненно отрицательные результаты, мы никак не можем отделаться от привкуса коренного умаления достоинства данного поступка. Услужливый медведь, проявивший «чистую» волю послужить другому существу, оказался не просто опаснее врага, но он и морально потерял что-то незаменимое. С точки зрения морали «чистой» воли, он нравственно тем более высок, что он стремился оказать добро даже и не ближнему своему, а существу особого рода – человеку. Человек, который бросится спасать тонущего по самой «чистой», доброй воле и в итоге потопит его, избегнет своего и чужого нравственного осуждения только в том случае, если он искупит этот «добрый» поступок своей собственной гибелью. Жизненно не подлежит сомнению, что добру нет оснований радоваться соседству с глупостью, что оно не может нейтрально относиться к ним, что оно от них проигрывает; будем последовательны и признаем то, что есть в жизни обратного: это то, что умное зло несет в себе что-то, что часто смутно для нас несколько понижает нравственное осуждение. В сущности это и делает понятным нам тот факт, что нет зла превыше того, которое причиняется бесцельно, ради зла, неоправданно смыслом, т. е. неумно, так, ни к чему; нас как будто несколько умиротворяет наличие некоторого разума и во зле.
Все эти факты непонятны и необъяснимы для отвлеченной точки зрения, для морали «чистой» воли, для тех, кто абстракцией изолирует этические переживания, отрывает их от их живой связи с другими сторонами жизни. Наоборот, все они становятся вполне понятными с точки зрения нашего мировоззрения: глупое добро не привлекает нас, потому что оно вопреки своему существу способно повести к разрушению жизни, потому что оно внутренне противоречиво, оно и для жизни, и в то же время против жизни. Нужно прямо и резко сказать, что доброму человеку не только не обязательно быть дураком, что нередко предвкушается в жизни, но что добро также не мирится с глупостью и неуклюжестью, как и вся жизнь. Об этом именно говорит тот кислый привкус, который присущ эпитету «добрый» в жизни.
Добро – то, что расширяет, укрепляет жизнь, и оно тем больше, чем больший диапазон мира и действительности оно захватывает. В этом кроется также разгадка того, что добро можно характеризовать как единство и организованность: это та же самая мысль о службе мотивам укрепления жизни, но только несколько детализованная в направлении указания путей для добра. Организованность и единство являются верными и лучшими путями для расширения и укрепления жизни. Индивид в этом случае не расстается со своим коренным стремлением к жизни, он только находит форму осуществления более прочную и повышающую его шансы на успех: чем выше единство, сплоченность и организованность, тем выше гарантия жизни. В конечном итоге может нам, как Вл. Соловьеву и его школе, рисоваться завершенное всеединство и организованность как высшее добро; но мы добавляем, что на этом пути толкования мы видим не самодовлеющую ценность, а наиболее прочную и надежную форму осуществления жизни, иными словами единство и организованность не самоценность, не последнее, а они только высшее средство для одного и того же – для тяги жизни.
Мы не сомневаемся, что при беглом прочтении этих мыслей легко могут всплыть некоторые примеры из той же жизни, которые как будто говорят против нашей мысли. Например, нам скажут, что часто преступники, особенно играющие своей головой, обнаруживают особую организованность и сплоченное и ревниво сохраняемое единство. Но этот пример ничего не говорит в опровержение нашего утверждения: это единство и организованность, не только внешне, но и внутренне, в существе своем направленные на рознь и дезорганизацию мира и жизни большего масштаба и в конечном счете всего целого жизни, т. е. они внутренне противоречивы, они единство для розни, организация для дезорганизации. В своем же кругу преступники и ценят их как добро и добродетель. Поступки тем более ценны и действенны, т. е. тем большее добро, чем они больше едины и организованы и внешне, и внутренне, и в своих путях, и в своих целях, и чем больший диапазон действительности они захватывают.
Этим самым на пути умозаключения к противоположному сказано уже многое о природе зла, о его разрушительной роли: зло там, где перед нами в том или ином смысле нарушение жизни, в конечном счете явное или прикрытое задерживание или устранение ее и ее расширения и углубления. Это путь атомизации живого путем действия или задерживания, как это происходит в дурном поступке, когда человек отдал предпочтение данному моменту или своему переживанию, удовлетворению, не спрашивая себя и не заботясь или прямо пренебрегая общими связями и следствиями. В этом смысле оправданы речи о зле как об обособлении и разъединенности, потому что в потоках жизни при этом получается перерыв. Злом будет всякое противопоставление себя общему потоку жизни, если при этом не имеется в виду осуществлять ту же жизнь на новых путях, а только идет самоутверждение себя в своей отдельности вопреки общему и в отрыве от него.
Зло достигает своей вершины в разладе и разрыве космического масштаба, когда жизнь не просто уничтожается и становится невозможной, но когда сама она в своих разорванных ручьях идет против себя, уничтожаясь собой в хаотических перебоях и столкновениях. Так примитивной и религиозной мысли рисуется первоначальное, «безбожное» состояние мира, хаос. Так на том же пути родилась мысль о том, что природа в существе своем есть коренное зло, потому что все в ней стремится отстоять только свое бытие вопреки общей жизни или за счет ее. На этом же пути находит свое объяснение и мысль Фихте, утверждавшего, что корень зла и смерти лежит в косности и неподвижности, движение же и действие являются основою добра. Косность и неподвижность заставляет по меньшей мере поток жизни если не прекратиться, то застыть.
Но, скажут нам, тогда камень, как и все то, что обнаруживает наибольшую косность и неподвижность, окажется величайшим злом; и не будем ли мы тогда вынуждены в тяжком разладе с общим тоном и основами нашего мировоззрения признать вместе с религиозными трансцендентистами всю природу в корне злой? Но эта опасность нам в действительности не угрожает. В самом деле: косность и неподвижность для зла, движение и действие для добра – они только почва, условия, возможности; далее мы уже подчеркнули основное значение для появления самой проблемы зла и добра сознания иного, чего нет в простом естественном свершении. Наконец, мы не можем забывать, что природа не хаос и дезорганизация, а только единство и организация особого порядка, где они покупаются на пути естественной необходимости, жесточайшей борьбы, огромной растраты сил, порождаемой неорганизованностью и отсутствием сознания. Это то единство и организованность, которые открывают простор для культуры; они только возможности подлинного единства и организации; характер этого единства, его бездейственность, и в этом смысле недействительность лучше всего характеризуется тем, что в природе могут соприкасаться пространственно два или несколько способных к соединению элементов и тем не менее не слиться воедино. Только культурное воздействие открывает им простор соединений и новых образований. Косность не зло, но оно возможность зла, как и действие еще не добро, но оно может стать им. И камень не остается просто в бездействии, он только участвует в жизни в целой системе и потому должен в своей роли рассматриваться вместе с этой системой, так сказать, разделяя ее участь. Вот это действие в системе и есть то, что под названием механической силы подрывает добро. Этим фактором навязывается часто та или иная необходимость свершения недолжного, уничтожается свобода, и именно потому уже намечается дурное. В этом весь смысл и оправдание очеловечения, окультуривания мира, смысл перехода от механизма к телеологии, от естества к культуре – то, что должно совершиться через человека и его действительность.
Так в действительности на всех путях идет стремление к укреплению и углублению жизни, так на этом общем пути находит свое объяснение нравственная жизнь и оценки. Но, конечно, это для нас все-таки далеко еще не ответ: здесь мы еще не нашли самого главного; здесь дается объяснение, но нет еще ответа о смысле. Мы здесь все еще на пути той бесконечности, которую Гегель называл дурной и которую нужно заменить доброй. Это достижение дается тем, что мы, не нарушая прав биологического понимания добра и зла, перейдем на почву творческой природы добра – на тот путь, где снова, как в области истины и красоты, намечается выход к своеобразному творчеству сущности. Добро есть сотворенная сущность-достижение, в своем значении освобожденное от власти времени настолько, что нет смысла спрашивать здесь о нем. Здесь мы снова переходим в область мира особого порядка, мира значений, раскрывающегося не в отвлеченных сущностях и не где-то и как-то, а в этом и только в этом конкретном мире во всей его живой красочности и неразложенности. Добро всегда на естественной почве, но оно вместе с тем всегда неестественное, а сотворенное из естества, так сказать, в воле и сознании выкованное. Что бы ни было и как бы ни было, но в добре творчески достигнута вневременность, достигнуто конкретное самодовлеющее, не уносящееся в общем потоке смен и случайностей. Это своего рода световые пункты, от которых начинает исходить непрерывающееся излучение, эманация, при которой нет утрат. Добро – творчески созданная сущность, подлинная действительность, пребывающая действенно. В каждом добром акте, в каждом отдельном достижении добра достигнута не только незыблемая почва самодовления, но в ней дана – в меру диапазона достижения – гарантия на дальнейшее обогащение мира и жизни, на возможность подвинуть мир еще на один шаг вперед на пути к творчеству сущности, на пути от естества к культуре, от необходимости механической к той форме ее, которая зовется свободой, на пути к «разуму», от тьмы к свету… Весь этот характер добра, как и его конкретность, затемняются для нас тем, что мы пытаемся понять его изолированно, нежизненно, забывая, что это сама конкретная жизнь во всей ее полноте, что нравственная жизнь нами только искусственно выделяется из единой цельной жизни, что она может быть помыслена нами, но и в мысли, как и в жизни, она остается в конкретной форме и с конкретным содержанием.
Нравственная жизнь, осуществление добра – это один из путей или один из вариантов творчества сущности, в котором не только осуществляется добро, но и слышится ясно мотив красоты и истины как неизбежные спутники подлинного добра, в котором в данном случае для нас лежит центр тяжести. Платон был глубоко прав, когда он и в своей философской системе пытался сохранить прекрасную античную идею о единстве идеи добра, красоты и истины – такова в сущности его идея добра. Мы дифференцировали и должны были дифференцировать их для осознания, изучения, но в жизни, в действительности они неразлучны; иначе красота не убеждала бы нас, как истина; добро ни восхищало бы, как это делает красота; истина оставляла бы нас холодными, не знала бы подъема и вдохновения и не давала бы нам сил подчас умирать за нее и т. д.
В малом масштабе об этом говорит каждый нравственный поступок, каждое совершившееся и совершающееся добро. Об этом ярко говорит нам вся мировая литература и история. В акте самопожертвования человек прорывается не только к сотворенной самоценности, не только он сам в меру этого акта освободился от власти времени и причинности, без устали погоняющей дальше и дальше в дурную бесконечность, не только он приобщился к царству сотворенной сущности – так как он есть в живом своем деянии, – но в нем выявляется и художественное достижение, и оказывается осуществленной или осуществляющейся какая-то жизненная истина или, полнее сказать, правда. Вот передо мною лежит модный Джон Локк «Где любовь», за которым можно отдохнуть от умственного напряжения; вглядитесь в фигуру Джимми Педгета с его готовностью сжечь на добре самого себя; вот он, сам беспомощный в жизни, берет осиротевшую девочку-дочку своего друга на свое попечение и в общем дает ей, может быть, гораздо больше, чем ей могли бы дать ее отец и мать; вот он во имя спасения Нормы и своего друга Морланда становится под пулю и отдает себя на поругание и неприкрашенную, тяжкую нужду и т. п. менее значительные акты. Вглядитесь в эти акты и в фигуру локковского героя и в свои впечатления, и вы увидите, что остается не только удовольствие от художественного образа, но и совершенно определенное ощущение не только выявления добра, но и красоты в отдельном его поступке и во всей его фигуре и бесспорной победы какой-то, может быть, смутно ощущаемой правды. Неуклюжая фигура с взъерошенной головой и опущенными нескладными усами, сама по себе далекая от красоты, тут озаряется новым светом и понемногу становится прекрасной, – очевидно потому, что добро залило новым светом эту фигуру, а правда дала ей характер стойкости, выпрямила ее стан и сообщила ей монументальную незыблемость. В фигуре Арнольда Винкельрида – возьмем опять-таки первый случайно приходящий в голову пример, – собравшего в свою грудь копья врагов и добровольно умирающего во имя родины и своих ближних, перед нами не только моральный герой, но перед нами эстетически прекрасная и жизненно правдивая фигура. Это и открывает простор художнику рисовать и изображать добро: оно просится в краски, в звуки, в слово, как оно красочно и живо в действительности. Отсюда боль и разочарование, когда мы встречаемся с жизненным диссонансом, когда в том, что мы считаем добром, мы неспособны усмотреть лучшей внутренней красоты, а по существу мы ждем, что добро должно быть и вообще красиво.
В зле же всегда подрыв действительности, подрыв смысла, впадение во власть времени и дурной бесконечности; в нем всегда ложь и безобразие, как бы мы ни пытались его оправдать и приукрасить: стоит только художнику попытаться в красивом образе злого человека не сказать правды, что он зол, не внести обезображивающую его черту, делающую его красоту мнимой и уничтожающую ее в меру присущего ему зла, как все произведение начнет звучать фальшью, неискренностью, как начнет гибнуть художественность. Тенденция изображает Иуду безобразным – или даже в красоте тем более обезображенным – вполне понятна, как понятно стремление нарисовать образ, например, Христа в виде неземной красоты, а те, кто пытались рисовать его в подлинной человечности, в сущности прибегали только к утонченному, непрямому выявлению все той же красоты: они заставляли только эту красоту просвечивать через обыденную человеческую форму, чтобы тем сильнее использовать силу контраста; стоит только на момент убрать этот элемент, и нас никто не сможет убедить, что перед нами попытка изобразить божественную фигуру: мы никогда художнику не поверим.
Мы далеки от мысли переносить все это просто на фактическое обстояние жизни. Здесь сфера контраста и противоречий, здесь часто истина умалена антиэстетической формой, красота очернена злом и многое потеряла от этого, здесь тьма нераспознанного, ложно оцененного и т. д. Но все эти противоречия не опровергают нас, а наоборот; как мы уже отметили, стоит только художнику не дать почувствовать злую красоту как злую, т. е. с элементом безобразия в ней, как мы попадаем в сферу кричащей лживости.
Добро творчески созидательно. Отсюда мы по противоположности делаем вывод, что зло неизбежно разрушительно, что оно по меньшей мере способно создавать перерывы. Здесь необходимо внести некоторую поправку, не лишенную существенного значения. Речь идет о том, есть ли зло нечто космически непоправимое, существует ли в мире такое зло, которое бы не было в каком-либо отношении добром или которое не приводило бы в конце концов к некоторому добру? Косвенно мы уже приняли на себя некоторые логические обязательства в этом вопросе: мы энергично подчеркнули, что мир человека – это мир противоположностей, и что все его творчество протекает в этой атмосфере противоположностей и противоречий. В мире таким образом при его текучести идут своеобразные переливы, и это уже одно способно заставить нас задуматься над вопросом о том, что зло не всегда безнадежно. В природе всякого зла заложена внутренняя противоречивость, которая должна вести к самоуничтожению. Об этой возможности для зла и отрицательных явлений послужить добру и положительному говорил в свое время Гераклит, утверждавший, что «болезнь делает приятным здоровье, зло – добро, голод – насыщение, усталость – отдых». Та же мысль в обобщенной форме повторяется рядом философов, например, Яковом Беме, который говорил, о метафизической необходимости противоположностей, о том, что зло предназначено также служить добру.
Как ни парадоксальной на первый взгляд кажется эта мысль, тем не менее в ней есть своя правда. Зло именно тем и отличается, что оно внутренне противоречиво, что оно само губит себя, что оно в конечном итоге противожизненно; оно и должно приводить к тому, против чего оно направлено, потому что оно в существе своем хаос и дезорганизация. В этом роковая логика зла. Оно должно гибнуть на изоляции – на том, на чем всегда угрожает гибель и добру: стоит только его оторвать от живой связи, изолировать, как получается часто обратное: добро может превратиться в зло, и при том тем большее, чем глубже и шире оно было до этого. Узкий изолированный моралист может оказаться в итоге не менее страшным, губительным и близким к безнравственности, чем прямой злой человек. В этом смысле прав Уайльд, утверждающий, что нет позы более безнравственной, чем поза моралиста, всегда готового, добавим мы, забыть обо всем остальном и начать насиловать жизнь и личность, укладывая их в это прокрустово ложе. Мы знаем, сколько зла порождается такой суженной, изолированно взятой нравственной прямолинейностью; к какой лжи и злу приводит, например, изолированный императив «не лги» или «не убий», как из них часто может получиться при изоляции «допусти зло», «дай убить» и т. д.
Таким образом нет ничего парадоксального в утверждении, что зло также может послужить добру, и должно в конечном итоге послужить добру, потому что оно неминуемо рано или поздно должно вызвать соответствующую реакцию всего соприкасающегося с ним живого. Вся суть в том, чтобы это зло было распознано как зло, а это рано или поздно должно произойти, потому что зло внутренне противоречиво и должно само разоблачить себя. Действие родит противодействие. Зло само себя изолирует, оно ведет к своему уничтожению, но жизнь не знает просто пустых мест, как и застывших состояний, и потому на его место должно прийти противоположное ему. В этом отчасти кроется оправдание и смысл знаменитого положения «чем хуже, тем лучше». Произвол и бесправие рождают тем большую тоску по праву и законности, угнетение ведет к жгучей жажде свободы. История дает сплошную картину таких переломов, когда, например, крепостничество породило стремление к освобождению крестьян, угнетение негров заставило культурный мир устыдиться и с оружием в руках добиваться для них человеческого правового положения, когда хозяйственный уклад открыл для этого возможности и т. д. Так это и должно быть, на пути зла, конечно, не может быть устойчивого положения; вопрос о саморазоблачении для зла всегда есть более или менее вопрос времени. Если мы возьмем во всей глубине и широте свое единство с миром, с действительностью – мысль, что мы не существуем изолированно, то безнравственность легко можно понять как восстание и поход против самого себя.
Эта мысль о связях, которые разбегаются во все стороны, ведет нас дальше, – к уяснению социальной природы добра. Именно об этом говорило утверждение, что ему не может быть места в застывшем мире, в мире бездействия, в мире, в котором нет отношений, в мире одиночества. Добро в самом существе своем обозначает выход за самого себя, призыв к другим на путь творчества сущности. Эта обусловленность средой оказывается настолько велика, что человек не может даже осуществлять себя как нравственное существо, творить добро, если он оказывается только в мире вещей; некоторые возможности, но быстро беднеющие, открываются в этом случае только потому, что человек до этого – предполагается – прошел через социальную среду со всем, что, принадлежит к ней. Без людей, без человеческой среды человека нет и быть не может. Коген формулировал эту мысль так[1075]: «Всеобщность образует не только счастливый конец, но она есть и правдивое начало». В семье ли, в обществе, в сословии, в государстве и т. д., но человек всегда с кем-либо – в культуре допускается только перемещение в том отношении, что он может жить и мыслью о равных себе, но со всеми отрицательными следствиями, которые несет с собой такая изолированная жизнь – не даром о ней в жизни говорят как об одичании и даже при религиозном интересе рисуют отшельников безумствующими. Этой социальной природой добра объясняется и то, что корень нравственности искали и ищут в таких явлениях, как сочувствие-симпатия, сострадание, жалость, общность той или иной формы. Вещи характеризуются тем, что они сами в бездействии, что они действуют только в системе, что они изолируют человека, оставляют его с самим собой, как бы заражают бездействием, в котором нет и не может быть места добру, не может быть места творчеству вообще, т. е. не может быть места человеку. «Не добро быть человеку одному» – это глубокая жизненная правда, которая может быть перередактирована дальше в положение Вл. Соловьева «не добро быть народу (обществу, вообще социальной единице) одному». В сущности и в эгоизме, о котором мы упомянем дальше, человек не стремится к одиночеству, и эгоизм есть определенное явление социального порядка.
Эта черта и проявляется уже в ребенке, который стремится к признанию и одобрению – черта, которая должна быть очень вдумчиво и осторожно учтена в педагогической теории и практике. Отсюда же становится вполне понятным тот факт, что дурной поступок никогда не оставляет нас равнодушными, хотя бы он в своем предмете и следствиях как будто касался только того, кто его совершает; мы бессознательно действуем и судим так, как будто твердо знаем, что нет в моральной области поступков, которые бы были замкнуты в круг одного лица; здесь как будто говорит мысль, что если это и возможно, то все-таки в принципе должен мыслиться возможным их выход за свои пределы. Это, конечно, не патент на вмешательство в чужую жизнь; наоборот, вся суть этической жизни говорит об ее автономии и необходимости щепетильного, осторожного отношения к ней; мы приводим этот факт только как обстоятельство, подтверждающее социальную природу нравственности.
Подчеркивая социальный характер нравственности, мы вместе с тем должны здесь решительно выступить против того нивелирования, опасность которого всегда несет в себе единый абсолютный формальный нравственный закон: им утверждается безапелляционно единый, твердо зафиксированный характер нравственности везде один и тот же: нельзя быть немножко нравственным, быть более или менее нравственным; добро есть добро, не больше и не меньше – оно едино и стойко; различия и степени живут в том, что для нравственности совершенно безразлично. Поскольку речь идет о формальном принципе и следствиях из него одного – отвлеченно, – мы не стали бы возражать против этого ригоризма. Но все положение меняется, как только мы припомним, что нас интересует не отвлеченная оценка, явление чисто теоретического порядка, а живое добро со всей его жизненной полнотой: тогда рядом с первым, нисколько не мешая искусственному, теоретическому рассмотрению, по своему тоже законному, становится вполне правомерный, философски диктующийся и жизненно оправданный иной взгляд.
Сохраняя свой социальный характер, добро вместе с тем всегда находится на просторе жизненной индивидуальности, иначе оно утрачивало бы свое значение в творчестве сущности. Эта индивидуализация вливается в добро, если можно так выразиться, с двух сторон: со стороны содержания и со стороны субъекта, в котором и на котором рождается этический феномен. Каждый субъект, как и каждый объект в действительности вкраплен в всестороннюю связь и взаимодействие; оставаясь самим собой, они тем не менее в силу того антуража, в каком они оказываются в отдельном случае, обвеяны всегда своим особым ароматом: в действительности они никогда не бывают одни и те же, хотя речь идет в этом случае только об оттенках. Таким образом можно было бы сказать, что в каждом живом акте вместе с нами сотрудничают всегда невидимые соратники, создающие в общем сочетании бесконечный калейдоскоп человеческих поступков вплоть до теоретически невероятных превращений зла в добро и обратно, когда добрый человек может пасть до низин зла. В примерах нет недостатка: вот перед нами Вл. Соловьев с его бесконечной добротой, заставлявшей его раздавать почти все, что у него было; он дает средства купить корову крестьянину, который оказывается заведомым деревенским богатеем и чуть ли не кулаком; изолированно, отвлеченно перед нами бесспорно безупречный акт; жизненно перед нами неумное, жалкое явление, о котором приходится сожалеть, потому что из него должно жизненно проистекать зло: и для Соловьева, обманутого, и для крестьянина, соблазненного легкостью стяжания жизненных благ, и для окружающих – для всех же прежде всего потому, что добро здесь предстает перед нами в глупом, немощном виде. Мировая история и литература переполнена примерами злодеев, превратившихся чуть ли не в святых и обратно. Достоевский не одинок в своем описании праведников, созданных проступком, грехом, преступлением. Сам старец Зосима из «Братьев Карамазовых» прошел через такие потрясения; так он без всякого повода искровянил своего денщика, потом умилился, покаялся, лобызался с ним и пошел по пути внутреннего переворота. Его таинственный почтенный посетитель – тот убил любимую женщину за отказ выйти за него замуж, скрыл преступление, подвел другого человека, а затем через 14 лет покаялся. В последнем акте очень интересно то, что у него уже были жена и дети, и если бы его не сочли за сумасшедшего, то он во имя спасения своей собственной души загубил бы своим признанием всех их, неповинных. Так чистый акт раскаяния, безусловно нравственно ценный, может в живой действительности в известном сочетании действующих лиц и условий превратиться в новое преступление.
Все это не может и не должно умалять и подрывать значение нравственного принципа, но это должно указать только на то, что роскошь теоретического упрощения и прямолинейности может себе позволить только отвлеченная точка зрения; в мировоззрении же, в думе о действительном мире и жизни необходимо уметь смотреть в глаза действительности и нужно пытаться взять всю их полноту для правдивого понимания жизни и правдивых императивов. Все это говорит нам о том, что в живом моральном акте, в живом, действительном добре все едино, полно, как и в жизни, в нем включены и форма, и содержание – лучше сказать, в теории оба они выделены из него; поэтому содержание, полнота эта не безразлична для добра а имеет свое и подчас очень большое значение. Диапазон наших стремлений, цель и содержание, осуществленные в добре – все это бросает свой определенный свет и окраску на нравственное достоинство поступка и достижения. Отвлеченный философ со своим стремлением к расчленению и изоляции легко забывает, что в данном случае перед ним предмет размышления, который немедленно исчезает, как только к нему прикладывается слишком неосторожно анатомирующий нож: жизни уже нет, остается только труп… Зиммель вполне прав в своей критике Канта, когда он говорит, что для суждения о нравственной ценности человека, отклонившегося от абсолютного повиновения нравственному закону и давшего простор своим чувственным, земным позывам, не все равно, находит ли он себе удовлетворение в симфониях Бетховена, в эпикурейских, тонко учтенных удовольствиях или в объятиях проститутки, в дурмане и опие, в грязном притоне. Между Петронием, например, и Лукуллом или каким-либо умным и образованным человеком – животным лежит, бесспорно, огромное расстояние и с моральной точки зрения, а не только с точки зрения целесообразности. Между тем местом, которое займет полная верность нравственному принципу, и тем, на которое должно встать полное отпадение от него, располагается в живой действительности не пропасть, ничем не заполненная, а живая лестница ступеней с бесконечным разнообразием и оттенками, которых теория никогда не сможет учесть даже приблизительно.
Это тем более правильно, что момент разнообразия и расцвечения морального мира вносится, как мы это уже подчеркнули, и с других сторон: изо всех жизненных сочетаний и со стороны творящей добро силы-личности. С точки зрения отвлеченного принципа и отвлеченной точки зрения должен получаться или рай, или ад, но и то, и другое достигается однократным актом во всей его полноте. Вот, например, у Вл. Соловьева универсальное спасение наступает в едином чудодейственном акте, как он его описывает нам в «Трех разговорах», и при том именно тогда, когда создалось совершенно катастрофическое моральное положение, положение полной греховности. Все мировое развитие было только какой-то странной прелюдией, совершенно лишенной смысла с точки зрения абсолютной мощи, оказавшейся способной произвести весь переворот независимо от мирового развития и его прямой логики, и при том в едином однократном акте. Вот перед нами этика долга, не знающая степеней и разнообразия, вращающаяся в альтернативе или добро – или зло и незнающая никакой средины; но тогда первый же акт добра и зла дал все, что можно дать в этой сфере, а в остальном совершается бессмыслица, повторение, пустые моральные страницы. Вот шопенгауэровская Нирвана, покрывало Майи, которое должно быть сорвано однажды единым гениальным актом, и тогда все должно разом погрузиться в Нирвану…
На самом деле, в подлинной действительности это не так. Прежде всего с реальностью субъекта утверждаются во всем их разнообразии все его поступки; индивидуальное перестает быть случайным, оно приобретает характер реальности и смысла; с разжижением их растворяется человеческая личность, и утрачивают свой смысл вообще все вопросы, а тем более проблемы морали. В совершенном или совершающемся добре претворилось в жизнь или претворяется в своеобразной форме особое «я должен» «я хочу» и «я могу» – я не отвлеченный, а конкретный, вот этот со всеми живыми особенностями живого человека; поэтому и мой акт, и совершенное мной не может не быть индивидуальным. Более того, только так и может быть добро и нравственная жизнь, только так возможность – нравственный принцип – превращается в реальную действительность – добро. Общее есть только теоретические моральные соображения, более или менее правильные и обоснованные, и только индивидуальное может быть морально ценной действительностью. Личная воля в этом смысле вовсе не зло и не «мучительный огонь», который нужно потушить, а это то поле, вне которого и без которого не растут такие плоды, как добро и зло. Ошибка Вл. Соловьева заключается не в том, что он говорит о зле и страдании как о «состояниях индивидуального существа», а в том, что он не распространяет той же мысли на добро и нравственность. Если зло и страдание живет в этом мире, то и для добра и радости также нет иного места, кроме земного мира. Ввод в новый мир нравственная жизнь обозначает не потому, что в ней мы покидаем эту единственно реальную почву, а потому, что здесь же, в этом же мире созидается, претворяется действительность; естество культивируется, но это все то же – хотя и окультуренное – естество.
Если бы можно было отбросить специфическое религиозно-философское обоснование из относящейся сюда мысли Н. А. Бердяева, мы бы охотно подчеркнули блестящую формулу его: «Творческая мораль индивидуальна и космична, в ней творческая энергия индивидуальности переливается в космос, и космос наполняет собой индивидуальность. В творческой морали личное переживается как мировое, и мировое как личное… Моральная задача каждого неповторимо индивидуальна»[1076], вот тот вывод, который нам хотелось бы подчеркнуть как нашу основную идею, как подлинную картину нравственной жизни и осуществления добра: нравственный мир не может быть пустыней, а это пышный цветущий сад – иначе нелепо было бы стремиться к нему и ценить его. Фактически так оно и есть: не отрываясь от формального принципа – допустим, кантовского категорического императива, – каждый одевает свой поступок в индивидуальную форму не только своего круга, но и свою. Разве Офелия, Корделия, Гретхен, Татьяна, Мария Волконская и многие другие правдивые жизненные типы душевной чистоты и добродетели повторяли друг друга и не были в этой стороне своей жизни также индивидуальны, как они не совпадали друг с другом по времени и не повторяли друг друга физически? И не говорит ли в сущности о том же нам категорический императив? Представьте на момент, что профессор философии по чистой совести и во всей жизненной полноте пожелал бы, чтобы принцип его поступков стал всеобщим законом, и вы увидите, что мир будет ввергнут в бездну насилия и безобразия, потому что жизнь должна быть втиснута в один ручеек. Подлинная действительность всегда индивидуальна во всем, индивидуальна она и в области нравственной жизни, добра и зла. Этим объясняется мысль Р. Ойкена, который говорит[1077]: «Индивид никогда не должен сводиться на роль простого члена общества, государства, церкви; при всем внешнем подчинении он должен, как микрокосм, удерживать за собой внутреннее превосходство; каждый индивид духовного свойства больше, чем весь видимый мир»… Как значительны следствия нашего утверждения для прикладных дисциплин, как педагогика – теория и практика, – это ясно само собой и должно быть развито в другом труде.
Таким образом, скажут нам, в сферу нравственной жизни вносится релятивизм? Нет. Прежде всего мы уже неоднократно подчеркивали, что мы не подрываем нравственный принцип в его абсолютной форме, пока он остается на своем месте, в чисто формальном виде. Но относительность, присущая нашему пониманию, ограничивается и попадает в настоящий свет только тогда, когда мы вспомним, что в нашем понимании, как оно и есть в действительности, каждый моральный поступок, каждое добро есть творческий акт, есть творчество сущности; это есть индивидуальное обретение сущности и абсолютного значения в конкретной жизненной полноте. Если под релятивизмом в этом случае понимать, что добро не одно, что оно участвует в течение действительности и в ее конкретных сменах, что оно живет и многолико, то мы этот релятивизм принимаем безусловно; но он вполне совместим с абсолютным значением, с творчеством абсолюта – сущности. Таким образом нам остается здесь только ясно и отчетливо подчеркнуть тот вывод, который слышится сам собой: у добра и зла есть степени, мир добра и зла многообразен и многолик.
На этом мы могли бы закончить размышление над основным положением нравственной жизни, но для иллюстрации мы коротко затронем еще некоторые стороны этого вопроса. На этом пути получает свое место как эгоизм, так и альтруизм. Обычный взгляд на них нуждается в существенных поправках. Если в общем не вызывает сомнений, что полный эгоизм может привести не только к моральной гибели, но и к разрушению и хаосу вообще, то относительно абсолютного альтруизма господствует иной взгляд. На самом же деле к нему применимы те же – только обращенные – характеристики с точки зрения его ценности и жизненных следствий. Если А, В, С и т. д. совершенно откажутся от дум и забот о себе, а будут помнить только о других, то нравственная жизнь, как и жизнь вообще, будут уничтожены совершенно, потому что тогда никому ничего не нужно – жизнь утрачивает свои стимулы и свое содержание, деятельность – эта почва и сфера свободы и нравственности исчезает[1078].
Абсолютированный альтруизм, самоотречение также должны привести к абсурду, и прав тот, кто говорит, что традиционная мораль христианского мира, живущая этой идеей самоотречения, добродетели только послушания, смирения, буржуазна в глубочайшем смысле этого слова, что альтруизм – это замаскированный утилитаризм, что он неискренен, неполон, а иначе он уничтожил бы себя, добавим мы. Относительный альтруизм, не исключающий думы о себе как правомерной, получает свой смысл у нас как через связь в фактической действительности и во взаимной заинтересованности, так и через сферу творчества, где совершается сотрудничество и все являются за одного и один за всех, – полная взаимная заинтересованность. При единстве развития мира и жизни и раскрытия их смысла каждый несет на себе универсальную ответственность, каждый тогда заинтересован в том, чем станет этот мир; тогда судьба соратника для меня, естественно, небезразлична, как в целом, так и в его отдельных достижениях и поступках. Это могло бы бросить свет на роль и смысл общественного мнения, на наше неравнодушное отношение даже к таким фактам нравственной жизни, которые нас прямым образом совершенно не касаются, на симпатии и антипатии и т. д.
Все это проливает яркий свет также на ту сторону, которая всегда рискует в отвлеченной морали остаться в тени, хотя она имеет огромное значение. Мы говорим об обязанностях по отношению к самому себе. Они становятся бедой только тогда, когда они остаются изолированными, оторванными от здоровой связи и определяемости социальными и общими обязанностями и неразрывного соединения с ними и взаимопроникновения. Ложная струя в правдивое освещение этого вопроса вносится тем, что эти обязанности по отношению к самим себе трактуются так, как будто этим узаконяется безудержный эгоизм и устанавливается произвол личных хотений. Но ведь это именно обязанности, а не позывы индивида; они, значит, также подчинены определенным принципам, также должны быть освещены разумом и самосознанием и оправданы смыслом, что их вполне ограждает от вырождения, которое несет с собой изоляция.
Более того, можно себе мыслить эти обязанности по отношению к самому себе и в такой форме, что они в известных случаях в интересах сохранения человеческого достоинства будут побуждать к актам величайшего героизма и личного самопожертвования, и полного преодоления эгоизма, как и готовности полностью растворить свое я, как это рекомендует известный мистический завет, чтобы найти себя. Здесь именно, в этих обязанностях по отношению к себе раскрывается долг защищать свое человеческое и личное достоинство, беречь свою честь, отстаивать свою индивидуальность, как бы она мала ни была, хотя бы ее стремился стереть величайший гений. В живой действительности все моральные обязанности до такой степени взаимно слиты и едины, что мы можем выделить их только искусственно. Поэтому прав Бердяев, когда он называет вопрос об эгоизме или альтруизме банальным и элементарным и утверждает, что «есть божественная правда не только в любви к другому, но и в любви к себе»[1079]. Добродетели смирения, саморастворения может и должна быть противопоставлена языческая добродетель мужества, личного героизма, благородства и смелости; только в их здоровом сочетании и взаимном пополнении и ограничении можно найти подлинную здоровую нравственную жизнь. В словах бунтаря Ивана Карамазова, который восклицает: «Не хочу я, наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами! Не смеет она прощать ему!» есть своя безусловная правда, и моральная правда. Здесь должно звучать не требование мщения, но какая-то доля сохранения справедливости и уважения к себе и к личности растерзанного ребенка – та доля, которая не позволяет даже в потустороннем царстве, в окончательном космическом судоговорении сделать бывшее небывшим: тот мир, который должен наметиться в этом случае в итоге для тех, кто в это верит, должен быть лишен этой диссонирующей черты, иначе мы никакими путями не устраним лживой ноты в этом случае. Нора Ибсена могла решить вопрос о своей подавленной личности в духе первого варианта, когда она покидает свою семью и детей во имя своего человеческого достоинства и могла закончить и в духе второго решения, когда прощальный взгляд на ни в чем не повинных малюток решает ее судьбу, и она остается нести свой крест. Но и в том, и в другом случае личность ее родилась, и она будет ее отстаивать; и первый путь не менее оправдан нравственно, чем второй в известных условиях; какой из них должен быть избран, это уже решает вся совокупность условий, в которых действует данная личность. Одно бесспорно: долг личности хранить и защищать свое достоинство и свое лицо не только как носителя принципов и творческого агенса, но и как самого себя, как данную индивидуальность. Такое отсутствие обязанностей по отношению к самому себе несостоятельно потому, что оно неизбежно в конце концов вырождается в уничтожение самой живой силы, самого носителя, т. е. на этом пути подрывается сам принцип. Вот почему только известная степень подчинения может быть долгом. Безостаточное растворение себя никогда не может быть нравственным, потому что каждое автономное деяние личности, даже если она жертвует собой, рождается ею же и одновременно утверждает ее. Это остается неустранимым «индивидуалистическим» моментом социальной нравственной жизни, и постольку социальная этика, как мы ее понимаем, не стоит в противоположности к индивидуальной этике[1080].
В действительности все эти обязанности по отношению к другим и к самому себе должны идти и идут слитно: защищая свое достоинство, мы храним достоинство всех, достоинство просто человека. Любовь к человеку несет в себе любовь к другим, но и в не меньшей мере к себе. Тот, кто презирает себя, никогда не может и не будет искренно любить других. Так называемая вселенская любовь не может исключать меня и моего я, иначе она превращается в нелепость: одно ничто мыслит и любит другие, которые сами по себе то же ничто – царство нулей, пустое место… Вселюбовь будет только тогда, когда она направится не только в безбрежные дали мира во всех направлениях от меня, но и когда она охватит меня и с моим конкретным существованием.
Таким образом намечается не простое многообразие мира нравственных переживаний, но он становится миром, так сказать, со многими вершинами: мир нравственный кульминирует только с формальной стороны в высшем добре и в высшем благе, – это только их идея. В реальной же действительности высшее добро и высшее благо – это вершины бесчисленных пирамид, образуемых в нравственном мире индивидуальными творцами нравственных переживаний и благ. Таким образом нормальные высшие цели не могут и не должны быть одни; они многообразны, не исключая друг друга. Реально жизненно нравственный мир ученого, политика, практика, ремесленника и т. д. – при всей его концентрации на нравственном принципе, как на математическом центре, вращается вокруг индивидуальной оси – личности, а дальше может не совпадать в своей форме и содержании не только в данный момент, но и в своей высшей точке: то, что за высшее сочтет ученый, не может быть ценным для практика, и наоборот; если один может остановиться как на своем нравственном идеале, на созерцательном постижении истины и добра, то другой, может быть, увидит вершину своего духовно-морального мира в любви к миру и жизни или в растворении себя в своем божестве и т. д. Мировая литература, философская и беллетристическая, показала нам достаточно это многообразие, как и то, что нравственный мир может соответственно особому мироощущению найти свой кульминационный пункт даже и не в нем самом, а в мире, например, эстетическом. Мир добра и высшее благо у Платона, Спинозы, Канта, Фихте, Толстого, Соловьева, или Шекспира, Гете, Пушкина и тысяч других – нужно ли доказывать, что все это в сущности не мир, а миры со своим особым завершением.
Ясно, что при таком понимании должно быть уделено особое место блаженству. Нет никаких оснований чувствовать себя обязанным как будто оправдываться и извиняться, как это делает ряд моральных теорий, за присутствие в прекрасном обществе нравственных феноменов этого сочлена, потому что он не парвеню, не случаен, а он вполне законен, он укоренен в конкретной личности и настолько слит с нею и с ее переживаниями, что трудно даже сказать, что он является неизбежным спутником добродетели, он просто неразделен с нею. Если в жизни нравственный поступок может дать пучину страдания, то это нисколько не протиоречит наличию блаженства в меру сознания сути своего поступка и удовлетворения собой, в то время как жизнь в порядке следствий и окружающей обстановки, т. е. в порядке жизненной сложности может привести и к тяжелым лишениям. Ведь, как мы это неоднократно подчеркивали, нравственная жизнь только искусственно выделенная сторона жизни живой; это как бы особое сечение через жизнь. Поэтому нет никаких оснований оправдывать эвдемонизм, опять-таки если он не ставится в изолированное положение, если им не пытаются открыть все замки. Он есть вполне нормальное, этически правомерное явление, и нет этики, которая была бы неэвдемонистична в более или менее утонченном виде, лишь бы в центре нравственной жизни стоял основной регулятор ее, совесть.
Фихте определяет этот центральный двигатель нравственного мира как непосредственное сознание нашего определенного долга[1081]. Против такого определения можно возраить только то, что оно недостаточно полно и не вскрывает сущности этого фактора, если мы не насытим формулу Фихте скрытым содержанием, как это делает сам Фихте. Для совести так же характерно знание, как и определенное чувство или ощущение должного; более того, последнее несравненно существеннее и значительнее первого и именно оно-то и создает специфический характер совести, обосновывает ее непоколебимость и делает ее сплошь и рядом непреодолимой для доводов разума и рассудочных доказательств, потому что они говорят не тем языком, которым говорит совесть. Чтобы глубже понять ее, мы должны отдать себе отчет в том, что она говорит, ведь не только в узкой сфере моральных переживаний, но голос ее властно звучит и там, где речь идет об истине и красоте, о правде широкого порядка; существуют и должны быть не только совестливые поступки в области добра, но существует и должно быть совестное мышление; в особенности философия должна рассматриваться и твориться как глубоко совестное деяние. Сама непосредственность сознания долга, о которой говорит Фихте, ясно указывает, что здесь речь идет не о дискурсивном характере и не о теоретическом только плоде. Вся сущность совести вскрывается для нас в том, что это есть прежде вceго чувство или ощущение творческой потенции или возможности данного сочетания, данного предполагающегося или совершаемого поступка, когда голос совести повелевает совершать его, и чувство или ощущение разрушительности данного поступка, если совесть высказывается против него. Эта творческая, созидательная мощь или разрушительная возможность ощущается просто как сила, скрытая или выявляющаяся во мне действующем; я не могу ее не знать, потому что я ее чувствую, потому что это я сам, точно так жe, как я не могу не знать, что я сейчас дышу, раз я на это обратил внимание.
Все дело только в том, чтобы понять, почему это ощущение творческой или разрушительной возможности немедленно овладевает нашим вниманием и становится самым непреложным нашим знанием? Ответ на это лежит в той же плоскости: она вскрывается немедленно, как только затрагивается человек или человеческое, т. е. опять-таки в прямом или переносном смысле действие направлено на я, на меня самого, на принцип, которым все живо, на антропоцентрическую основу, ту самую, которая несет все творческие возможности. Только этим путем мы получаем ясный ответ на вопрос о том, почему сфера совести это сфера человеческая, что она не распространяется на голые вещи или же распространяется на животных, растения, природу, вещи только постольку, поскольку они допускают скрытое или явное очеловечение или по крайней мере вчувствование в них человеческого элемента. Так мы можем считать непозволительным губить какого-нибудь жучка, растоптать без нужды полевой цветок, ставя их ясно или смутно в аналогию с собой через понятие жизни, но у нас и мысли не поднимется о допустимости или недопустимости сломать щепку или раздергать по ниточкам лоскуток, если только они не будут очеловечены прямым образом трудом и культурой человека или же не вскроются для нас как возможность той или иной культуры, являющейся определенной формой очеловечения.
Таков источник и объяснение непреложности голоса совести. То, что он звучит в различных областях, не только в области нравственности, но и в области истины, это обозначает не принципиальную разницу, а только разницу обнаружений и направлений: в царстве добра перевес в непосредственном действии, в сфере истины центр тяжести лежит в теоретическом осмысливании, и совесть говорит постольку, поскольку там предвидится возможность действия, или есть оно как мыслительное переживание и действие.
Жизнь едина, и голос совести должен звучать во всех ее созидательных проявлениях, поскольку они свободны. Границы власти совести определены границами и диапазоном свободы. При изоляции и оторванности от жизненной широты и полноты в конце концов и голос совести может превратиться в глубочайшую ложь и огромный разрушительный фактор. Совесть поэтому должна не только охватить известную широту жизни в многообразных ее проявлениях, но она должна углубиться и оживиться умом, просвещением, она должна сочетаться со стойкой волей и тонким, здоровым чувством; она также не должна быть мумией, набальзамированной в тиши отвлеченной мысли. Иначе совестливость может привести человека к безнадежному разладу с самим собой или же сделает его разрушителем жизни во многих ее сторонах, не доступных пониманию узкого моралиста.
Без любви нет благоприятной почвы для добра, но любить можно только живое; мертвое же можно только оплакивать; но все живое многолико и многоцветно, его нельзя втиснуть в одну абсолютную вершину, хотя бы она и называлась высшим добром. Единый моральный абсолютный закон, не одетый в плоть и кровь богатым разнообразием жизненных форм и содержаний, сам без тысячи вариаций, неминуемо опустошил бы все и уничтожил нравственную жизнь, потому что он вообще уничтожил бы всякую жизнь – если бы он вообще мог дойти до нашего слуха. В самом деле, он дышал бы безнадежным максимализмом, который бы предъявлял непосильные требования; им неизбежно должно было бы сопутствовать ясное сознание их невыполнимости, сознание, что они выше наших сил. Такое сознание является самым губительным фактором, потому что оно ведет не только к тому, что мы не доделаем известного дела, но мы просто отказываемся от всяких попыток приступить к нему, в этом случае как бы говорит мысль, что все равно ничего не выйдет, не стоит и пытаться.
Вот почему такой максимализм и узость – мы знаем это на примере религии и нравственности – создает такое богатое количество фарисеев и такой разврат: не выполнить просто, это проступок; но не выполнить на фоне ясного и категорического требования, это уже разврат. Так люди творят поклоны в церкви и разбой теми же руками вне нее. Этика должна дышать действительным не только велением, но и призывом; она не может, не должна поселять чувства безнадежности усилия – наоборот; но для этого она должна не нарушать так называемого закона трудности мотивации: напряжение воли возможно только до того момента, пока идет сознание целесообразности и достижимости цели. Религия привлекает, учитывая это, на помощь веру во всемогущество божества и его благость; для нас в этике есть только один исход, это насыщение императивов ароматом достижимости и посильности. Это и есть то, что дается конкретным разнообразием нравственного мира и его достижений. Мы как будто не просто говорим «ты можешь, так как ты должен», но мы при этом предполагаем как нечто само собой разумеющееся, что от тебя никто не требует того, что не в твоей воле и не в твоих силах. Это безусловно необходимо, потому что призывать к мужеству это значит наполовину создавать его (Кант) и волю к действию – к сфере творчества добра.
На такой основе строится подлинная жизненная мораль, подлинное добро – творится автономно самым самораскрытием жизни и личности. Для нее также нет никаких оснований искать подпорок в потустороннем мире; наоборот, всякая попытка трансцендентного обоснования и нарушения автономии в нравственном мире ведет к уничтожению его. Тогда открывается вся правота пламенно гневных, негодующих слов Ницше, который восклицает, обращаясь к таким добродетельным: «Вы ко всему хотите еще оплаты, вы добродетельные? Хотите вознаграждения за добродетель и неба за землю и вечности за ваше сегодня»?
XX. К ВОПРОСУ ОБ АБСОЛЮТЕ
Таким путем изо всех пор действительности, действительности не измышленной, не разъяснением и устранением сконструированной, а живой и подлинной, бьет такой же живой и подлинный фонтан абсолютного. К нашему пониманию абсолютного мы должны добавить некоторое пояснение.
То, что он, как и все, насыщен человеческим духом, что он, как мы говорим, антропоцентричен, именно это не только не влечет за собой его подрыва, завершающегося катастрофой полного релятивизма, но наоборот, только человечный, наш, «земной» сотворенный и творящийся абсолют и может быть абсолютом. Все традиционные ссылки на логику здесь бессильны что-либо изменить: не действительность по логике, а логика по действительности. Как говорит Джемс[1082], «наш ум не может заживо замуровать себя, как личинка в куколке. Во что бы то ни стало, он должен говорить на одном языке со вселенной, которая его породила». С точки зрения построения подлинного, действенно философского мировоззрения и жизнепонимания в попытках найти истину в изолированности и оторванности человека и абсолюта, в себе замкнутом и самодовлеющем разуме и крылась причина той безнадежности, какою отдает от всех таких систем. В них всегда просвечивала в итоге скептическая мысль, что все относительно и что в сущности никакого абсолюта нет.
Но нужен ли он? Не можем ли мы, следуя по той же извивающейся тропинке просто человеческого существа, ограничиться живой сменой, царством преходящего и не стремиться к безусловному? Весь ход нашего изложения вел нас к убеждению, что этот незыблемый устой совершенно необходим. Весь вопрос заключался только в том, как найти его подлинно, жизненно, так, чтобы он не отдавал могилой измышления или застылости, а дышал бы жизнетворным духом и широкими возможностями. Мы видели, что смысл оказался обретаемым не просто на пути жизни и ее смен, а в колее творчества, в обретении самодовлеющих абсолютных значений. Только на этом пути может быть преодолена дурная бесконечность, в перспективе которой нам в истории философии пытались рисовать абсолютное и этим создавали полную безнадежность его достижения или осуществления. Гегель глубоко правдиво осудил эту бесконечность, назвав ее дурной, и в ней тот абсолют, который вдали, который только в отдаленной, безнадежной перспективе и никогда в действительности. Это обозначает, что он в сущности бесплоден, не нужен, и тем более, чем дальше он от действительности. В этом отношении чрезвычайно характерна полная горьких неудач попытка старого Платона связать абсолют в виде мира идей с действительностью, с миром генезиса. Мотивы смысла, логики, разума, чтобы не затеряться в нескончаемой дали и не повиснуть в воздухе, требуют абсолюта. Он действительно «необходимое предположение всей нашей сознательной разумной жизни»; мы можем успокоиться только тогда, когда мы найдем это последнее и в то же время первое.
Но где надо искать этого абсолюта и в чем его видеть?
Коренным аргументом в пользу утверждения абсолюта как основы мира является исстари – и в науке, и в жизни – указание на то, что, переходя от одного явления действительности к другому в поисках их корня и истоков, мы не можем затеряться в безбрежности; пусть это фактически так и происходит, но мысль наша в принципе не мирится с отсутствием начала; если мы не можем указать его фактически, то для нас совершенно бесспорно его существование, раз существует этот мир со всеми его изменениями. Из ничего ничего и не бывает, а если есть что-либо, то оно должно иметь свое начало. Таким образом вопрос об абсолюте как начале и истоке всего бытия совершенно необходим и неустраним. Как бы ни была длинна причинная нить, которую мы ткем, но она может убегать в бесконечность только в логике, в действительном же свершении, раз есть что-то, должен быть и исток, хотя бы он по своей отдаленности вполне подходил под бесконечность.
Но этот аргумент бьет мимо цели. Тот вопрос, который здесь поставлен, пресловутый вопрос о «начале всех начал», мог считаться специфически философским вопросом только до тех пор, пока философия оставалась общим родным лоном всех наук, пока она не дифференцировалась в своих задачах, пока она не стала тем, что она есть: учением о мировоззрении. С этого момента положение должно резко перемениться, и как бы парадоксально это ни звучало, но нужно ясно усвоить себе, что этот вопрос – повторяем, поскольку речь идет о корне, об истоках бытия, поскольку мы ищем корня вещей и вещественного начала, – этот вопрос есть проблема науки, а не философии. Только положительное знание может и должно дать ответ на этот вопрос. Эта специфическая проблема прежней метафизики должна поступить и фактически поступила в ведение положительного научного знания. Кому угодно считать ее метафизической, он может это делать, но ему надо тогда быть последовательным и идти дальше: к признанию, что в основной своей проблеме позитивные науки метафизичны и иными быть не могут. И действительно, поскольку в понятие метафизики входит вопрос об абсолютном бытийственном корне всех вещей, положительные науки в основной своей дисциплине не могут быть не метафизикой, как бы ни было непривычно и как бы еретически ни звучало это утверждение. Для нас в данном случае совершенно несущественно, где и в чем они установят это начало и в каком виде: будут ли это атомы, носящиеся в бесконечном пространстве и в универсальном вихре создающие наш мир, будут ли это электроны, ионы или просто пространство, даже просто первосила, это все равно – слово здесь принадлежит положительной науке, и только ей. To, что она или прямо материалистична, или несет в себе эту тенденцию – по крайней мере, до сих пор, – это ее имманентная проблема. Философии как таковой здесь совершенно нечего делать – ей нечего здесь делать даже предвосхищением, на которое любят ссылаться: при современном положении научного знания такие «предвосхищения» будут фантасмагориями, отягощающими саму философию и тяжко порочащими ее в глазах науки; она здесь придет в «чужой монастырь со своим уставом».
Мы надеемся дальше указать, в каком пункте открывается перспектива гармоничной связи живого мировоззрения с научными выкладками по этому вопросу; пока же нам особенно важно подчеркнуть, что начало всех начал, начало всех вещей – это прямой предмет положительных наук, именно они должны в конечном счете дать ответ на этот вопрос. Философии же, для которой над всем должен господствовать вопрос о подлинном смысле живой, неразложенной действительности, надо идти иным путем, потому что этот абсолют, абсолют положительных наук ее не может удовлетворить, и она никогда не найдет его сама в устойчивой форме. В этом пункте мы решительно расходимся с философской традицией, искавшей абсолюта позади нас и наделявшей его всеми признаками бытия, но бытия элеатского порядка. От такого абсолюта, как мы уже заметили и подчеркивали раньше, в первой части этого труда, нет пути к жизни, к действительности. Они не только идут мимо него, сами по себе, но если из такого статически пребывающего абсолюта делать последовательные, серьезные выводы, то он способен только совершенно обесцветить и обесплодить нашу жизнь и мир; как мы стремились показать это в первой части этого труда, при изучении типов решения проблемы смысла жизни, в этом случае создается клубок неразрешимых мучительных в своей безысходности загадок, так как абсолют все, и его нет возможности тогда освободить от грязи, вины, бессмыслицы – от всего, что не только есть, но и от того, что возможно в мире. Джемс остроумно говорит[1083], что такой абсолют должен передумать все глупости и вздор, которыми загромождена наша жизнь, и вообще обратиться в место свалки не только ценного, но и всякого мусора. Такой бытийственный статический абсолют, абсолют «позади нас» есть вообще все, и потому при нем не нужно больше ничего – все становится излишним, исключенным. Некуда идти и незачем. При таком абсолюте человек и личность совершенно невозможны, действенность и активизм уничтожаются в корне, потому что всякое стремление к чему-либо говорит о том, что чего-то нет, т. е. что абсолют не абсолютен. Все застыло тогда раз и навсегда, и ничего иного быть не может. В прославленной неизменности можно было бы указать только одно преимущество – это способность рационализации, но этот плюс превращается в ничто, если мы учтем при этом, что с исчезновением процесса, изменения, движения исчезает и жизнь, и содержание, и становится в конце концов излишней и невозможной сама познающая мысль.
Вполне естественно, что такой абсолют позади нас ведет неизбежно не только к непреодолимому клубку противоречий, но и к прямой бессмыслице, так как он, как мы это стремились показать в первой части этого труда на исторических образцах, в корне уничтожает деятельность, активизм, свободу, а с ними и личность человека, он поглощает в себе все, и в частности от человека и для человека не остается решительно ничего[1084]. В этом отношении изумительным по своей показательной силе является тот факт, что даже самая оптимистическая концепция на основе такого абсолюта при последовательном проведении приводит для личности к самым безнадежным выводам; она является золотой, но все-таки клеткой, мир неминуемо превращается в пустыню[1085]. Глубоко поучительно, что Спиноза с его неумолимой логикой и последовательностью радикально исключил при своем абсолюте-субстанции всякие проблески свободы.
Такой абсолют, взятый философски, представляется и логически несостоятельным. Он заставляет болеть всеми недугами смешения логического выведения с реальным следованием, меж тем как из такого философского чудища «позади мира», награжденного всеми признаками элеатизма, нельзя вывести реально ни одной, даже микроскопической частицы жизни и движения. Есть только то, что действует, а то, что действует, изменяется само и изменяет другое; что изменяется, то во времени; таким образом понятие бытия имеет смысл (как действительность) только в мире времени и пространства. О чем-то и как-то данном вне этого мира мы можем мыслить, или незаконно очеловечивая иной мир, или же абсолютно не можем его мыслить, а только постулируем нечто верой. Таким образом абсолют позади мира с философской точки зрения является внутренне противоречивым. Если он источник мира, то как сделать от него первый шаг, когда это с ним несовместимо, ибо он тотчас перестает быть абсолютом; если он добро, нам непонятно в мире зло, и обратно; если он тьма, непонятен свет и т. д.
При всех этих перипетиях ясно обнаруживается одна, с нашей точки зрения, глубоко характерная черта, выявляющаяся скрыто или явно; это то, что абсолют, чтобы быть им, не может отрываться от человека или человеческого принципа. Действительность, жизнь – все это говорит именно о сердцевине личности. Как мы это отметили раньше, абсолютным и в области теоретической мысли для нас может быть только то, что коренится в неизменном характере человеческого мышления, в самой его природе; что, значит, не может мыслиться иначе и является самоочевидным. То же самое нужно сказать об абсолютном везде – нигде он не отрывается от человеческого в подлинном смысле этого слова. В старых метафизических системах в абсолюте сгущался просто и наивно человек в целом или в его тех или иных душевных свойствах; у более современных абсолютистов эта струя принимает более утонченный, изощренный характер, измененный до неузнаваемости отвлечением, но все-таки это всегда нечто человеческое, и ничем иным оно быть не может[1086]. При этом никогда не следует упускать из вида, что простой абсолют как таковой, без насыщения его элементами ценности, философски совершенно бессилен что-либо дать, не говоря уже о том, что мы своей мыслью ежеминутно возносимся над ним и хотя бы в одном отношении решительно лишаем его достоинства абсолюта и становимся над ним. Колоссальное, неизмеримое, универсальное чудище в роли абсолюта само по себе еще не покоряет нас; «начало всех начал» ни на йоту не обосновывает и не повышает его ценности, его достоинства, а тем менее нашего уважения к нему. Шопенгауэр показал нам на своем примере в исходном пункте своей системы, как можно этому абсолюту отказать даже в проблесках положительного. Способность вечно быть достаточна для факта, но совершенно недостаточна для смысла. Но тогда, когда в него вносятся элементы ценностей, он становится уже безусловно очеловеченным, да при этом еще, оставаясь «позади» мира, напитывается целым клубком противоречий, то превращая в загадку зло, если он добро, то добро, если он зло и безрассудность.
По отношению к этому абсолюту «позади мира» и применимы слова Джемса[1087], когда он говорит: ведь как абсолют мир не может вызвать нашей симпатии, так как он лишен истории. Абсолют как таковой не действует и не страдает, не любит и не ненавидит; ему чужды потребности, желания и стремления, неудачи и успех, друзья и враги, поражения и победы. Такой абсолют, если бы он был возможен, не нужен, не важен – он совсем в стороне от нас, существует неизвестно для чего, и мы идем совершенно мимо него, вне всякого отношения к нему. И вот, когда мы пытаемся осмыслить все то, что должно быть в подлинном абсолюте, то мы приходим к ряду свойств, которые в бытийственном абсолюте приводят к внутреннему противоречию, к несовместимости, но без труда умещаются в абсолюте, выраженном в сущности сотворенной, в абсолюте как итоге. Исстари в понятие абсолюта входят идея всеохвата, его центральность, неистощимость-бесконечность, абсолют как нечто безусловное, вечное и непреходящее, но дальше все эти признаки пополняются элементами несколько иного порядка – идеей самодовлеющего значения, общеобязательности, качественной определенности, ценности, дееспособности-активности, идеей неистощимого начала жизни и действия. В понятии абсолюта всегда смешивали два понятия, принципиально глубоко различные: абсолют как всеохватывающее начало, количественный абсолют; абсолютное как общезначимое, качественный абсолют, который и охватывает вторую группу свойств, упомянутых нами. Первый – количественный абсолют – это предмет положительных наук, позитивного знания, так как о нем говорит пространственно-временный мир; к нему ведет в своих истоках эмпирическая действительность, изучаемая положительными науками с их особым подходом, с особыми методами. Второй абсолют – подлинно философский абсолют; именно к нему стремится философская мысль; о нем говорит каждый акт подлинной, живой, неразложенной, человеческой действительности, в каждом переживании, и тем больше, чем выше творческий элемент. Платону принадлежит бессмертная заслуга, что он смело и решительно произвел философски совершенно необходимое слияние воедино сущности и ценности (у Платона – прежде всего добро), подчеркнув, что философски в абсолюте важна не пространственно-временная бесконечность – количество, хотя мы и не склонны пренебрегать им, иначе нарушилась бы жизнь и цельность, а центр тяжести лежит в бесконечности совершенства, в полноте значения, в его непреходящем и действенном характере.
В теории творчества сущности нам освещается тот путь, на котором мы пробиваемся к подлинному живому философскому абсолюту, к абсолютному как итогу, результату. Такова правда великой идеи Гегеля, нуждающаяся только в перенесении ее из пустыни логических отвлеченностей на почву живой действительности. На различных и многообразных путях, всюду и везде, даже в самом малом переживании может осуществляться этот абсолют, всегда достижимый, но и всегда живой. Этот абсолют, отмеченный нами в главах о творчестве сущности и о путях творчества, подлинно жив, он не убывает и в то же время может давать жизнь и стимулы; он абсолютен, но он не закрывает перспектив, не исключает относительного, но вечно зовет; он и недвижим, и живет и движет; он причиняет, но он вне вины и прегрешения и не впутывает нас в противоречия, не лишает действия и свободы, а наоборот – зовет к ним и требует их.
Так творческий гений, как и гениальное творение, становятся абсолютными в меру своей творческой мощи, но это не преграда для других, а призыв, новый простор. Идеологически сотворенные, они в сущности, в своей творческой сущности становятся реально действенными. Эта сущность, сущность сотворенная, в противоположность сущности трансцендентной, бытийственной, грубо метафизической, есть нечто такое, что всегда при себе и в то же время вечно растет и живет, и действует, и открывает новые просторы творчеству. В этом абсолюте живет и значение и императив, только он может претендовать на безусловность, общепризнанность и самодовлеющее значение; только в нем может быть ценностный элемент, перед которым склоняется наша мысль, воля и чувство, и мы выбиваемся из-под власти дурной бесконечности в царство полной свободы и самодовлеющего значения. Тут именно достигается тот покой, от которого не отдает могилой и склепом – успокоение не кладбища, а жизненного вида с широкой дальнейшей перспективой. Это абсолют тех, кто хочет жить и созидать, а не заниматься похоронами, как бы они ни были пышны, хотя бы даже по разряду религиозной метафизики.
Таким путем мы сможем понять, не прибегая к хотя бы и блестящим фантасмагориям и сверхъестественным измышлениям, к мистическим силам, подлинные жизненные явления. Тогда нам станут понятными энтузиазм и волнение, и подымающая сила, истекающая от великих творцов культуры. Не только из Платона, Ньютона, Рафаэля, Бетховена эманирует сотворенная сущность и чувствуется подлинный абсолют, но и мы, слушающие и вдумывающиеся, и переживающие, приобщаемся к нему, впитываем в себя и сами творим, хотя бы в малой дозе нашего сопереживания. Огромная подымающая сила идет отсюда именно потому, что человек, даже если он и не творец сам по себе, на этом пути окунается в сферу творчества и абсолюта, он испытывает минимально возможность и для себя достижения сущности и сотворчества, тем более что понять это значит в известной степени творчески дополнить, ибо писатель, музыкант в этом смысле никогда не готовы при всем своем совершенстве и всегда оставляют место активному читателю и слушателю сотворить и даже пересоздать по-своему[1088].
XXI. К ВОСПИТАНИЮ ЧЕЛОВЕКА
Так призывом и императивом как заключительным аккордом завершается антропоцентрическая теория творчества сущности. Это точка зрения человека, и она обращена к человеку и зовет его. Здесь кольцо замыкается: теория порождается практикой, ею поставлен вопрос и дана отправная точка для теоретических построений в форме различенных я, живой среды и внешнего мира; завершая этот путь, мы снова вступаем в сферу практической жизни, но уже вооруженные сознанием абсолютных ценностей, ощущением абсолюта; мы теперь понимаем действенность идей и стремлений, мы понимаем творчество абсолюта, мы несем его с собой как творящееся в нас и нами, веря в добро, истину, красоту и т. д., любуясь, утверждая и одобряя или отрицая и порицая. Из жизни и действенности мы вышли, ею мы и завершаем; где знание, там антропоцентризм, но в деятельности и вере мы, подкрепляемые этим знанием, пробиваемся к ощущению, чувству абсолюта вообще. Смысла не было, но на описанном нами пути личность может создавать и создает его – смысл мира, как и надо было ожидать, лежит не позади его, а впереди.
На этом пути разрешается в положительном смысле проблема назначения человека. Этот положительный характер не есть рок, он может быть и не быть, он есть дело самого человека. Этим самым для человека спасается все его положение и становится возможным не только ценное назначение, но и положительный смысл. Ценное назначение само по себе может быть и у средства, даже у вещи, но смысл возможен у человека и через него, и только тогда, когда человек сохраняет характер субъекта, свободной культурно-творческой силы, какой он и может стать в действительности, и как он рисуется в нашей концепции. Смысл не в созерцании, а в действии, хотя бы речь шла о созерцании «бога» или «вечного царства идей или значений». В этом открывается глубокий смысл и назначение человека. Гете мудро указывал, что пример Саула, отправившегося искать отцовских ослиц и нашедшего царство, иллюстрирует глубочайшую истину, а чудо хождения по водам он трактует как иллюстрацию значения непоколебимой веры в видимо невозможное – той веры, без которой невозможно великое созидание и творчество. Так человек начал с естества, с материи, с бессмыслицы и может подняться – и в известном смысле поднялся и подымается – до высоты культуры, претворенного естества, самодовлеющих ценностей, вечности, сущности и абсолюта, сохраняя право на свою индивидуальность и даже обязуясь осуществлять ее. Так естество и культура гармонично сливаются в нем в один императив: естество заставляет его стремиться развивать все свои задатки полно и глубоко, культура и смысл принимают это не только как факт, но они венчают это положение безусловным велением: будь везде на своем месте и действуй и твори так, как только можешь ты – или – как это формулировал Риккерт[1089] – «ты должен, если хочешь поступать хорошо (а я бы сказал: осветить себя и свою жизнь смыслом. – М. Р.), твоею индивидуальностью выполнять в том индивидуальном пункте действительности, в котором ты находишься, то, что лишь ты можешь выполнить, так как ни у кого другого в повсюду индивидуальном мире нет той же самой задачи, как у тебя, и затем ты должен устроить всю твою жизнь так, чтобы она объединялась в телеологическое развитие, которое в своей совокупности может быть рассматриваемо как выполнение твоей никогда не повторяющейся жизненной задачи», или, как можно сказать еще, будь всегда самим собой и стремись раскрыть свои творческие возможности. Так сливаются естественный и императивный смыслы и превращаются в единый мощный смысл, который тем, что он дает оправдание, этим же самым дает величайшее счастье и удовлетворение – неомраченный смысл даже в атмосфере пройденного тяжелого, страдного пути: естество и культура – соединившись – объединяют на творчестве сущности гармонично все существо человека, его разум, волю и чувство. Счастье при этом не только перестает быть грехом, оно не только извинительно, но стремление к нему законно, необходимо и ценно. Оно ведь не есть сплошной «шоколад». Наоборот, для него нужен фон, сознание противоположностей, преодоленного и преодолеваемого, нужно еще не достигнутое и влекущее. Счастье мыслимо только динамически, т. е. не в полной удовлетворенности, а в силе и стремлении.
Но этот синтез не единственный: всею сутью положения человека и его пути утверждается неразрывное единство личного и универсального смысла, когда в человеке ярко может светиться радостная и оплодотворяющая мысль, что не только мир нужен ему, но и он нужен миру, что между ними ткутся кровные узы. Так оправдывается и универсализм, и индивидуализм в их сочетании в стремлениях человека, который завоевывает космическое значение, но идет по пути отстаивания своей индивидуальности и не хочет быть просто поглощенным миром и потонуть в общей жизни. Как говорит Гегель, «великие люди в истории – это те, чьи собственные частные цели содержат субстанциальный элемент, которые суть воля мирового духа». Но этот субстанциальный элемент имеет свои бесчисленные степени, и каждая личность может внести его в свою жизнь и стать универсальной в своем значении не только как средство, но и как субъект. Идея греческого космоса-гармонии не есть естественный факт, а это творческая задача: он может и должен создаться. Здесь человек может и должен быть не только исполнителем чужих предначертаний, нагруженным долгом, но и творцом-сотрудником при наличии абсолюта, но абсолюта впереди, а не позади[1090].
Этот космос рождается из синтеза земли и неба, но это небо уже иное: это не небо трансцендентистов и фактического обстояния, а это свет из будущего, это мир еще не претворенных и не осуществленных значений, которые и ждут своей «земли», чтобы впервые стать подлинной действительностью. В этом смысле человек живет на грани двух миров: на грани мира фактов и мира идеалов, целей, ценностей, и жизнь его тем осмысленнее, чем шире и глубже ему удается их синтез, их претворение воедино в себе и собой. Это и есть подлинное его «богодействие», «боготворчество», когда в перспективе не мертвая точка или недосягаемое или разом завершенное – и покой могилы, а вечное достижение, углубление и расширение, способное дать радость достижения и в то же время возможность дальнейшего: достижение без дальнейшей перспективы, как и перспектива без достижения, внутренне противоречивы и бессмысленны.
То, что из всего этого рождается чувство и сознание космической ответственности, тем большей, чем крупнее личность, это ясно само собой; это только оборотная сторона сознания своей нужности миру, как и мира себе. Эту «тяготу» можно было бы сравнить с давлением атмосферы на нас: мы не можем уподобляться голубю, который мог бы думать, что в безвоздушном пространстве он летал бы вполне беспрепятственно и без утомления. Без этой «тяготы» жизнь не только не становится легче, но, наоборот, она становится безотрадной, беспросветной. Смысл этой «тяготы» обозначает заинтересованность мира и личности друг в друге: человек в этом случае глубоко заинтересован в том, что выйдет из мира, а миру небезразличен человек, как бы он мал ни был. Это документирование их сродства – того, что человек в этом мире в родной его сфере. И в противовес тоскующим об ином мире Ницше правдиво убеждал: «Сломайте, сломайте мне заповеди тех, кто никогда не бывает веселым». Так становится понятным, что мы ценим широту кругозора у человека, что мы волнуемся, возмущаемся или восхищаемся тем, что совершается в мире, хотя бы это нас непосредственно не касалось, что для нас при вдумчивом отношении почти нет безразличных вещей.
Положение человека как естества, способного стать культурой, способного из движимого превратиться в подлинного двигателя, приводит к тому, что он всегда незакончен, он всегда несет в себе возможности, он может стать многим из того, что он сейчас не есть. Так говорят «война родит героев», когда как будто серый обыденный человек оказывается иногда способным творить чудеса; но он их не мистически получил, а вскрыл в себе при данных условиях то, что было неведомо и для него, и для других, потому что этого еще не было. Как естество и животное он определен; как человек он всегда, как бы он мал ни был, несет в себе еще неведомые возможности, и потому его личность дорога и неприкосновенна, независимо от его фактического достижения и раскрытости.
Здесь коренится неотъемлемое право человека на воспитание и образование и смысл их: здесь через систему педагогики открывается один из выходов в практическую действительность. Здесь именно находит свое оправдание та цель, которая ставится педагогике; она заключается в следующем: воспитать и образовать цельную личность. Раскрывая содержание этого понятия, мы приходим к выводу, что педагогика должна теоретически указать и практически провести средства и пути к воспитанию и образованию человека, как телесно и духовно, всесторонне индивидуально развитой, сильной, жизнеспособной социальной, самодеятельной, культурно-творческой силы. Отсылая читателя, интересующегося подробным обоснованием этого положения и всех вытекающих из него педагогических следствий, к нашим трудам по педагогике[1091], мы здесь ограничимся только общими указаниями на педагогические следствия из нашего мировоззрения. Это, с нашей точки зрения, тем более оправдано, что хотя педагогическая колея не единственный просвет из нашей теории в практическую жизнь, но в педагогике речь идет о коренной функции, без которой отпадает и все остальное: не будет человека и его личности, не будет этого корня всякой культуры, будет одно непретворенное естество; тогда нет ни смысла, ни права говорить о каких бы то ни было других сторонах.
В самом деле. Должен быть человек как существо не только животное, большее, чем животное. Это ясный вывод из всех наших размышлений. Оставаясь на почве голого естества – что для нас возможно только искусственно, – мы уже не вправе претендовать для человека на какие бы то ни было преимущества перед другими животными. В сохранении homo sapiens не больше смысла и оправдания, чем в сохранении любого зверя – у него не больше права на насыщение и жизнь, и весь вопрос должен свестись просто к голой силе и борьбе за существование, обычной для всех разновидностей животного царства. В этой же плоскости оказались бы и педагогические интересы: они целесообразны относительно, применительно к стремлению к самосохранению данной животной особи, но и то не все и не во всем. Вопрос о культуре должен отпасть тогда совершенно; в медведе и волке тогда не меньше смысла и оправдания, чем в человеке, с тою только разницей, что человек только куда более опасный хищник и соперник, чем его животные собратья, потому что только он homo faber, т. е. владеет орудиями и способен создавать новые.
Но уже этим сказано, что он не только животное: как мы стремились показать, в самом своем естественном животном стремлении быть и жить он выходит на путь сверхъестественного, культурного претворения действительности и находит подлинное царство человека в высшем смысле этого слова. В логическом и императивном следствии «должен быть человек», как скрытая предпосылка, живет мысль, что и может быть человек; это значит, что в нем должны быть вскрыты во всю глубь и ширь борец (естество) и творец (культура), хотя нужно подчеркнуть, что наше раздельное указание этих сторон в нем не должно быть понято как утверждение их действительной разобщенности; наоборот, мы подчеркиваем, что это не слагаемые, а элементы, т. е. что они получены путем искусственного выделения ради теоретических интересов. В аспекте «философии человека», как и в свете подлинно жизненного взгляда, человек как объект воспитания должен быть взят весь, во всех его сторонах – так, как берется полная человеческая личность. Узость старой точки зрения заключалась в том, что она мыслила совершенство и совершенствование индивида этически, меж тем как оно должно быть расширено до своих живых пределов – до понимания и внимания ко всей личности развивающегося человека. Воспитание и образование и должно углубленно и всесторонне раскрыть все возможности в этих двух направлениях в человеке. В главе о личности мы отметили четыре точки зрения, с которых может быть охвачена вся полнота и глубь выявлений человека: это взгляд на него как на: 1) дитя природы, естества; 2) индивидуальность; 3) члена социальных образований; 4) сочлена культуры. Здесь нам остается только добавить некоторые пояснения.
В императиве «должен быть человек» прежде всего санкционируется его бытие, как животного, как естественной базы, и к педагогике предъявляется требование воспитать его жизнеспособность, иначе исчезает и все остальное. Таким образом вырастает как первая необходимая задача воспитать здоровое, сильное, стойкое, жизнеспособное тело. В этой, с точки зрения многих, прозаической задаче сразу обнаруживается увлекательная черта выхода за голо животные задачи – в том, что здоровье, сила, стойкость, ловкость и т. п. физические свойства отливаются неизбежно в требование преодоления нескладности и воспитания гармоничного, физически красивого существа. Рядом с этим становится задача воспитания жизнеспособности в том направлении, на которое неоднократно указывал наш труд: человек должен научиться чувствовать себя в этом мире и с естественной точки зрения в родной сфере; он должен воспитаться так, чтобы не подымать безнадежного бунта против природы, не искажать жизни нездоровым неприятием неизбежных естественных актов и только стремиться подчинить их культуре и претворить, поскольку это возможно. Так, например, мы должны научиться встречать смерть как естественное явление, борясь с нею там, где она является результатом противоестественности и теневых сторон культуры, т. е. лже-культуры; так мы должны естественно принимать целый ряд физиологических функций и не пытаться презирать себя за них; так женщину надо научить сознавать и ощущать необходимый акт деторождения, вынашивания и кормления как нормальный, не только не подымая бунта против него как против «состояния животности», но и окутать его ореолом материнства, которое сделает его источником великой радости. Так человек может и должен научиться претворять и естественные стороны своей жизни в источник «человеческой» жизни для себя. Это диктуется сохранением жизни так же, как и интересами культуры. Только воспитание такого мироощущения гарантирует дееспособную личность и все связанное с ней.
Само понятие личности вскрывает и обосновывает для нас и другую великую педагогическую задачу, ясно вытекающую также из предыдущего положения. В понятии личности лежит деятельность, осуществление ее свободы в указанном нами раньше смысле. Таким образом в принципе «должен быть человек» выражено не только безусловное право человека на деятельность и труд, но и безусловная задача воспитать его к деятельности и труду, что может быть дано именно деятельностью и трудом. Отсюда в частности вытекает великое воспитательное значение организованного труда вообще и трудовой школы в частности. Эта задача вполне гармонично сочетается с первой, потому что в обоих идет речь об одной цели, только взятой с разных сторон; и там, и тут, кроме того, идет речь о своего рода языческой черте – о повышении воспитанием деятельности и влечения к труду, интенсивного чувства энергии жизни и радости от борьбы как необходимая мера против квиетизма, этого настроения угасающей жизни.
Несколько ранее мы отметили, как мы последовательно приходим к императиву, приведенному нами в той форме, какую ему придал Риккерт. Продолжая его в педагогику, мы таким образом из веления «должен быть человек» последовательно выводим педагогическое задание всестороннего воспитания человека, стремясь раскрыть всю его положительную индивидуальность, оздоровленную воспитанием широких социальных черт. Пусть культура наша в данное время все еще далека от гармоничного сочетания индивидуальности и социального характера; в принципе, как мы это стремились показать[1092], нет никаких оснований противопоставлять их друг другу; наоборот, мы убеждаемся, что они обусловливают друг друга. Борясь за свою индивидуальность и развитие ее, каждый человек имеет не только право на это, но он должен бороться за нее и в социальных, и в культурных интересах. Поэтому педагогика должна воспитанием помочь вырастить и гармонизовать эти стороны.
Это тем более возможно, нужно и важно, что таким путем в разнообразии индивидуальностей, в богатстве различных интересов и стимулов обосновывается и углубляется взаимный интерес и связь, а не в одинаковости, как это утверждается общепринятым мнением. Так вырастает задача на индивидуализированных путях воспитать чувство всеобщей связи и взаимной заинтересованности, которая в конечном счете должна отлиться в тепле чувства и волевых стремлений в мощное чувство любви к человечеству, жизни и миру. Воспитание этой широкой и углубленной любви есть одна из величайших задач педагогики, ибо «если я говорю языками человеческими и ангельскими, но любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, но не имею любви, то я ничто», я бесплоден и холоден, как смерть, – тогда нет и не может быть места творчеству и смыслу… Эта великая любовь в сущности и должна устранить «клеветников на мир», о которых с таким пламенным негодованием говорил Ницше.
В эту проповедь любви и ее воспитания должна быть внесена коренная поправка, которая напрашивается сама собой, хотя она для многих на первый взгляд может прозвучать диссонансом. Воспитание всеохватывающей любви и чувства всеобщей связи не должно вырождаться в культуру пассивности и сентиментализма. Мы уже отметили, что подлинная любовь – любовь деятельная; она может и должна подвинуть на борьбу за любимое, но и против нелюбимого. Любит по настоящему только тот, кто умеет и ненавидеть, кто готов к бою за свой идеал. Таков жизненный пафос, и человеку в его мире, мире противоположностей надо уметь выбирать и отстаивать ценное, но и бороться одухотворенно против неценного. Плоха воинственность только нападающая; защитная же воинственность не только непредосудительна, но она должна тщательно воспитываться для службы идеальным ценностям. Недаром человеку доставляет радость только то, что он берет борьбой и усилием, что он берет с бою; но для борьбы и успеха нужно любить одно и так же сильно ненавидеть и не желать другого. И воспитателю надо пробудить в воспитанниках не только любовь в прямом смысле, но надо познакомить детей с пафосом негодования, с пылом воинственности на борьбе со злом, ложью и их носителями. Должна быть воспитана мужественная воля творца и борца.
Только на этом пути самодеятельности и борьбы может быть выкована личность, способная творить жизнь и создавать сущность и смысл. Только так человек может найти себя самого, раскрыть эту одну из величайших тайн, стоящих перед ним; ибо тайна эта открывается только тому, кто рвется к ней, воюет за нее и покупает ее своими ранами и страданиями, иначе человек сам себя не узнает и уйдет из жизни, унося с собой невскрытой и бесплодной свою тайну. Человек рождается только в самодеятельности, труде и борьбе, потому что он никогда не бывает дан в готовом виде, он всегда задача.
Так обосновывается педагогическая трудовая система.
Таким путем открывается и еще одна педагогическая перспектива: найти себя значит создать свою личную устойчивость, самодовление, – то зрелое равновесие, которое впервые гарантирует осуществление лозунга «быть на своем месте» и полный размах и глубь свободы, этой подлинной сердцевины личности. Плод этот зреет также постепенно и должен культивироваться с детства. Только отсюда открывается широкий горизонт господства и над собой, и над вещами, что неразрывно в конце концов связано друг с другом.
Отсюда из всестороннего раскрытия человека как цельной личности со всеми ее сторонами и следствиями открывается перспектива космического значения, которую ряд философских учений принял за исходный пункт: человек был сначала космической пылинкой среди пылинок, он не был центром вселенной, но он может и должен сделаться им, переместив центр из голого бытия в деяние, в царство сотворенного.
Таков его путь, если он должен быть озарен светом смысла.
СПИСОК ИЗДАНИЙ, ЦИТИРУЕМЫХ М. М. РУБИНШТЕЙНОМ
Аристотель. Этика. СПб., 1908.
Авенариус, Р. Критика чистого опыта: в популярном изложении А. Луначарского. М., 1905.
Алексеев, С. А. (Аскольдов). Мысль и действительность. М., 1914.
Бергсон, А. Соб. соч. в 5 т. СПб., 1914.
Бергсон, А. Материя и память. Исследование об отношении тела к духу. СПб., 1911.
Бергсон, А. Смех в жизни и на сцене. СПб., 1900.
Бердяев, Н. А. Два типа миросозерцания (По поводу книги С. Л. Франка «Предмет знания») // Вопросы философии и психологии. 1916. № 4. С. 302 – 315.
Бердяев, Н. А. Смысл творчества: опыт оправдания человека. М., 1916.
Бердяев, Н. А. Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н. К. Михайловском. СПб., 1901.
Бережков, Ф. Субъективны ли чувственные качества // Георгию Ивановичу Челпанову от участников его семинариев в Киеве и Москве. 1891 – 1916. Статьи по философии и психологии. М., 1916.
Бинэ, А. Душа и тело. М., 1910.
Бруно, Дж. Изгнание торжествующего зверя. СПб., 1914.
Булгаков, С. Н. Философия хозяйства. М., 1912.
Булгаков, С. Н. Софийность твари (космодицея) // Вопросы философии и психологии. 1916. № 2 – 3. С. 79 – 194.
Булгаков, С. Н. Трансцендентальная проблема религии // Вопросы философии и психологии. 1914. № 4. С. 580 – 652.
Бэн, А. Психология. СПб., 1887.
Вильман, О. Дидактика как теория образования в ее отношениях к социологии и истории образования. Т. 1 – 2. М., 1904 – 1908.
Виндельбанд, В. О свободе воли. Двенадцать лекций Вильгельма Виндельбанда. М., 1905.
Виндельбанд, В. Прелюдии. Философские статьи и речи. СПб., 1904.
Вышеславцев, Б. П. Этика Фихте. М., 1914.
Грановский, Т. Н. Т. Н. Грановский и его переписка. Т. 1 – 2. М., 1897.
Грот, Н. Я. О научном значении оптимизма и пессимизма как мировоззрений. Одесса, 1884.
Гуссерль, Э. Философия как строгая наука // Логос. 1911. № 1. С. 1 – 56.
Декарт, Р. Метафизические размышления. СПб., 1901.
Джемс, В. Вселенная с плюралистической точки зрения. М., 1911.
Джемс, В. Прагматизм. Новое название для некоторых старых методов мышления. СПб., 1910.
Достоевский, Ф. М. Записки из мертвого дома. СПб., 1894
Зеньковский, В. В. Проблема психической причинности. Киев, 1914.
Зиммель, Г. Истина и личность: (Из книги о Гете) // Логос. 1912 – 1913. № 1 – 2. С. 37 – 52.
Ильин И. А. Проблема оправдания мира в философии Гегеля // Вопросы философии и психологии. 1916. № 2 – 3. С. 280 – 355.
Ильин, И. Философия как духовное делание // Русская мысль. 1915. № 3. С. 112 – 128.
Кант И. Критика практического разума. СПб., 1908.
Кант И. Религия в пределах только разума. СПб., 1908.
Карлейль, Т. Sartor Resartus. М., 1902.
Короленко, В. Г. Очерки и рассказы. Кн. 5. М., 1915.
Котляревский, С. А. Философия конца. Трубецкой Е. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. Т. I – II // Вопросы философии и психологии. 1913. № 4. С. 313 – 338.
Кошелев, А. И. Записки Александра Ивановича Кошелева. Берлин, 1884.
Кронер, Р. Философия «Творческой эволюции» (А. Бергсон) // Логос. 1910. № 1. С. 86 – 117.
Лало, Ш. Введение в эстетику. М., 1915.
Лапшин, И. Опровержение солипсизма // Ученые записки основанные Русской учебной коллегией в Праге. Прага, 1924. Т 1. Вып. 1: Философские знания. С. 13 – 67.
Лапшин, И. И. Проблема чужого я в новейшей философии. СПб., 1910.
Лейбниц, Г.-В. Избранные философские сочинения. М., 1908.
Лопатин, Л. М. Вл. С. Соловьев и князь Е. Н. Трубецкой // Вопросы философии и психологии. 1913. № 5. С. 375 – 419.
Лопатин, Л. М. Настоящее и будущее философии // Вопросы философии и психологии. 1910. № 3. С. 263 – 305.
Лопатин, Л. М. Неотложные задачи современной мысли // Вопросы философии и психологии. 1917. № 1. С. 1 – 80.
Лопатин, Л. М. Положительные задачи философии. Ч. 1 – 2. М., 1886 – 1891;
Лопатин, Л. М. Положительные задачи философии. 2 – е изд. Ч. 1. М., 1911.
Лопатин, Л. М. Философские характеристики и речи. М., 1911.
Лосский, Н. О. Мир как органическое целое // Вопросы философии и психологии. 1915. № 2. С. 99 – 152.
Лосский, Н. О. Обоснование интуитивизма. Пропедевтическая теория знания. СПб., 1906.
Маковельский, А. О. Досократики. Ч. 1 – 3. Казань, 1914 – 1919.
Милль, Д. С. Система логики силлогистической и индуктивной. М., 1900.
Новгородцев, П. И. Об общественном идеале // Вопросы философии и психологии. 1916. № 4. С. 440 – 511.
Пассек, Т. П. Из дальних лет. Воспоминания. Т. 1 – 3. СПб., 1905 – 1906.
Пирсон, К. Грамматика науки. СПб., 1911.
Покровский, М. Идеализм и законы истории // Правда. 1904. № 2 – 3.
Пыпин, А. Н. История русской литературы. Т. 1 – 4. СПб., 1898 – 1899. Религиозно – философская библиотека. Вып. 20. О цели и смысле жизни. М., 1909.
Ремке, И. О достоверности внешнего мира для нас // Новые идеи в философии. 1913. № 6. С. 66 – 98.
Риккерт, Г О понятии философии // Логос. 1910. № 1. С. 19 – 61.
Риккерт, Г Науки о природе и науки о культуре. СПб., 1911.
Риккерт, Г. Философия жизни. Изложение и критика модных течений философии нашего времени. СПб., 1922.
Роллан, Р. В стороне от схватки. Петроград, 1919.
Скабичевский, А. Очерки умственного развития нашего общества. 1825 – 1860 // Отечественные записки. № 12. 1870. С. 85 – 123.
Соловьев, В. С. Русская идея. М., 1911.
Cоловьев, В. С. Собр. соч. В 15 т. СПб., 1873 – 1877
Спенсер, Г Статьи о воспитании. СПб., 1914.
Станкевич, Н. В. Переписка Н. В. Станкевича. 1830 – 1840. М., 1914.
Толстой Л. Н. Сочинения графа Л. Н. Толстого. М., 1887.
Трубецкой, Е. Н. Метафизические предположения познания. Опыт преодоления Канта и кантианства. М., 1917.
Трубецкой, Е. Н. Мировая бессмыслица и мировой смысл // Вопросы философии и психологии. 1917 № 1. С. 81 – 113.
Трубецкой, Е. Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. В 2 т. М., 1913.
Умов, Н. Недоразумения в понимании природы // Научное слово. 1904. № 10. С. 21 – 31.
Флоренский, П. А. Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. М., 1914.
Флоровский, Г. К обоснованию логического релятивизма // Ученые записки, основанные Русской учебной коллегией в Праге. Прага, 1924. Т. I. Вып. 1: Философские знания. С. 93 – 125.
Франк, С. Л. Предмет знания. (Об основах и пределах отвлеченного знания). СПб., 1915.
Франк, С. Л. Философия и жизнь. Этюды и наброски по философии культуры. СПб. 1910.
Фребель, Ф. Избранные сочинения. М., 1906.
Фришейзен-Келер, М. Учение о субъективности чувственных качеств и его противники // Новые идеи в философии. Существует ли внешний мир? 1913. № 6. С. 1 – 65.
Хвостов, В. М. Очерки истории этических учений. Курс лекций. М., 1912.
Шестов, Л. И. Memento mori. (По поводу теории познания Эдмунда Гуссерля.) // Вопросы философии и психологии. 1917. № 4 – 5. С. 1 – 68.
Шпет, Г. Г. Мудрость или разум? // Мысль и слово. Вып. 1. 1917.
Шпет, Г. Г. Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ея проблемы. М., 1914
Штайнер, Р. Истина и наука. Пролог к «Философии свободы». М., 1913.
Штумпф, К. Душа и тело // Новые идеи в философии. Душа и тело. 1913. № 8. С. 91 – 107.
Эйнштейн, А. Эфир и принцип относительности. Петроград, 1922.
Энциклопедический словарь. Изд. Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Т. 40. СПб., 1897
Юм, Д. Трактат о человеческой природе. Юрьев, 1906.
Яковенко, Б. В. К критике теории познания Риккерта // Вопросы философии и психологии. 1908. № 3. С. 379 – 412.
Яроцкий, А. И. Идеализм как физиологический фактор. Юрьев, 1908.
Яроцкий, А. И. Ценность религии с биологической точки зрения. Юрьев, 1915.
Barth, P. Elemente der Erziehungs– und Unterrichtslehre. Leipzig, 1912.
Bergson, H. Essai sur les données immédiates de la conscience. Paris, 1908.
Bergson, H. L’Évolution créatrice. Paris, 1910.
Bruno, Giordano. De Immenso et Innumerabilibus (Lib. 1, 2, 3). Napoli, 1879.
Bruno, Giordano. De Immenso et Innumerabilibus (Lib. 4, 5, 6, 7, 8). Napoli, 1884.
Busse, L. Philosophie und Erkenntnistheorie. Leipzig, 1894.
Tulii Ciceronis, M. De divinatione et defato libri. Francofurti ad Moenum, 1828.
Cohen, H. Ethik des reinen Willens. Berlin, 1907.
Descartes, R. Philosophische Werke. Leipzig, 1904 – 1905.
Dühring, E. C. Der Wert des Lebens: eine Denkerbetrachtung im Sinne heroischer Lebensauffassung. Leipzig, 1881.
Erdmann, B. Logik. Halle, 1892.
Eucken, R. Grundlinien einer neuen Lebensanschauung. Leipzig, 1913.
Eucken, R. Die Lebensanschauung der großen Denker. Eine Entwick-lungsgeschichte des Lebensproblems der Menschheit von Plato bis zur Gegenwart. Leipzig, 1909.
Fichte, J.-G. Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. Jena, 1794.
Fichte, J.-G. Johann Gottlieb Fichte’s Leben und literarischer Briefwechsel. Leipzig, 1862.
Fichte, J.-G. Werke. Auswahl in sechs Bänden. Leipzig, 1908 – 1912.
– Die Anweisung zum seligen Leben. Bd. 5.
– Die Bestimmung des Menschen. Bd. 3.
– Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. Bd. 1.
– Grundlage des Naturrechts. Bd. 2.
– Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters. Bd. 4.
– Reden an die deutsche Nation. Bd. 5.
– Rückerinnerungen, Antworten, Fragen. Bd. 2.
– Sonnenklarer Bericht an das größere Publikum über das eigentliche Wesen der neuesten Philosophic Bd. 3.
– Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. Bd. 2.
Fischer, K. Geschichte der neuern Philosophic Bd. 1 – 8. Mannheim, 1865 – 1893.
Foerster, F M. Schule und Charakter. Beiträge zur Pädagogik des Gehorsams und zur Reform der Schuldisziplin. Zürich, 1907.
Frischeisen-Köhler, M. Über die Grenzen der Erziehung // Zeitschrift für pädagogische Psychologie und experimentelle Pädagogik. Leipzig, 1912. S. 521 – 529.
Gaudig, H. Die Idee der Persönlichkeit und ihre Bedeutung für Pädagogik // Zeitschrift für pädagogische Psychologie und experimentelle Pädagogik. Leipzig, 1912. S. 19 – 30; 113 – 135; 497 – 500.
Gisycki, G von. Grundzüge der Moral. Leipzig, 1883.
Haym, R. Hegel und seine Zeit. Berlin, 1857.
Hegel, G W. F Georg Wilhelm Friedrich Hegel’s Werke. Bd. 1 – 19. Berlin 1832 – 1942.
– Die Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. Die Logik. Bd. 6. 1840.
– Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht und Staats-wissenschaft im Grundrisse. Bd. 8. 1833.
– Phänomenologie des Geistes. Bd. 2. 1832.
– Vorlesungen über die Naturphilosophie. Bd. 7. 1842.
– Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Bd. 9. 1840.
– Die Wissenschaft der Logik. Die Lehre vom Seyn. Bd. 3.1833.
– Die Wissenschaft der Logik. Die Lehre vom Wesen. Bd. 4. 1834.
– Die Wissenschaft der Logik. Die subjektive Logik, oder: Die Lehre vom Begriff. Bd. 5. 1834.
Hessen, Sergius. Über individuelle Kausalität. Freiburg, 1909.
Heussler, H. Francis Bacon und seine geschichtliche Stellung: ein analytischer Versuch. Breslau, 1889.
Höffding, H. Religionsphilosophie. Leipzig, 1901.
Kant, I. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Leipzig, 1912.
Kant, I. Briefe. Leipzig, 1911.
Kant, I. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Leipzig, 1897.
Kant, I. Kant’s Gesammelte Schriften. Berlin.
– Kritik der praktischen Vernunft. Bd. 5. 1913.
– Kritik der reinen Vernunft. Bd. 4. 1911.
Kant, I. Kants populäre Schriften. Berlin, 1911.
Kant, I. Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft. Leipzig, 1900.
Kant, I. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Leipzig, 1903.
Kant, I. Versuch einiger Betrachtungen über den Optimismus. Königsberg, 1759.
Kant, I. Über Pädagogik. Leipzig, 1875.
Kant, I. Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf. Leipzig, 1881.
Kern, B. Das Problem des Lebens in kritischer Bearbeitung, Berlin, 1909.
Kretzschmar, J. R. Die freie Kinderzeichnung in der wissenschaftlichen Forschung // Zeitschrift für pädagogische Psychologie und experimentelle Pädagogik. Leipzig, 1912. S. 380 – 394.
Lask, E. Fichtes Idealismus und die Geschichte. Tübingen, 1914.
Lask, E. Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre. Eine Studie über den Herrschaftsbereich der logischen Form. Tübingen, 1911.
Leibniz, G. W. Die Theodicee. Bd. 1 – 2. Leipzig, 1883.
Liebmann, O. Zur Analysis der Wirklichkeit: philosophische Untersuchungen. Straßburg, 1880.
Lotze, H. Metaphysik: drei Bücher der Ontologie, Kosmologie und Psychologie. Leipzig, 1912.
Lotze, H. Mikrokosmus: Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit; Versuch einer Anthropologie. Bd. 1 – 3. Leipzig, 1856 – 1864; Bd. 3. Leipzig, 1872.
Lucretius Carus, Titus. De rerum naturae libri sex. Leipzig, 1914.
Medicus, F. J. G. Fichte. 13 Vorlesungen geh. an der Universität Halle. Berlin, 1905.
Meumann, E. Intelligenz und Wille. Leipzig, 1908.
Mill, J. S. Utilitarianism. London, 1874.
Müller, G. E. Zur Analyse der Gedächtnistätigkeit. T. 1 – 3. Leipzig, 1911 – 1913.
Münsterberg, H. Grundzüge der Psychologie. Leipzig, 1900.
Münsterberg, H. Philosophie der Werte: Grundzüge einer Weltanschauung. Leipzig, 1908.
Natorp, P. Sozialpädagogik. Stuttgart, 1899.
Nietzsche, F. Werke. Bd. I – XI. Leipzig, 1906.
– Also sprach Zarathustra. Bd. VII.
– Ecce homo. Bd. XI.
– Menschliches, Allzumenschliches. Bd. III.
– Schopenhauer als Erzieher. Bd. II.
– Versuch einer Selbstkritik. Bd. I.
– Der Wille zur Macht. Bd. X.
– Wir Philologen. Bd. II.
Rauber, A. Homo sapiens ferus oder die Zustände der Verwilderten und ihre Bedeutung für Wissenschaft, Politik und Schule: biologische Untersuchung. Leipzig, 1885.
Reichwein, A. Kritische oder skeptische Pädagogik. Die Erziehung. Leipzig, 1927. S. 177 – 200.
Rickert, H. Der Gegenstand der Erkenntnis. Freiburg, 1892.
Rickert, H. Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften. Tübingen, 1902.
Rickert, H. Probleme der Geschichtsphilosophie. Heidelberg, 1905.
Rickert, H. System der Philosophie. Bd. 1. Allgemeine Grundlegung der Philosophie. Tübingen, 1921.
Rickert, H. Zwei Wege der Erkenntnistheorie. Transzendentalpsychologie und Transzendentallogik. Halle, 1909.
Sanchez, F. Quod nihil scitur. De divinatione per somnum ad Aristotelem. In libr.: Aristotelis Physiognomicon Commentarius. Roterodami, 1649.
Scheler, M. Vom Ewigen im Menschen. Leipzig, 1921.
Schopenhauer, A. Arthur Schopenhauers sämtliche Werke. Bd. I – VI. Leipzig, 1891.
– Aphorismen zur Lebensweisheit. Bd. IV.
– Epiphilosophie. Bd. II.
– Nachträge zur Lehre von der Bejahung und Verneinung des Willens zum Leben. Bd. V.
– Die Welt als Wille und Vorstellung. Bd. I – II.
Schuppe, W. Grundriss der Erkenntnistheorie. Berlin, 1910.
Seneca, Lucius Annäus. Ausgewählte Schriften des Philosophen Lucius Annäus Seneca. Leipzig, 1884.
Simmel, G. Hauptprobleme der Philosophie. Leipzig, 1910.
Simmel, G. Philosophische Kultur: gesammelte Essais. Leipzig, 1911.
Simmel, G. Die Probleme der Geschichtsphilosophie: eine erkenntnistheoretische Studie. Leipzig, 1907.
Sigwart, C. Logik. Bd. 1 – 2. Tübingen, 1921.
Volkelt, J. Arthur Schopenhauer: seine Persönlichkeit, seine Lehre, sein Glaube. Stuttgart, 1907.
Windelband, W. Die Geschichte der neueren Philosophie in ihrem Zusammenhang mit der allgemeinen Kultur und den besonderen Wissenschaften. Bd. 1 – 2. Leipzig, 1899.
Wundt, W. Grundzüge der physiologischen Psychologie. Bd. 1 – 3. Leipzig, 1908 – 1911.
Wundt, W. Logik. Bd. 1 – 3. Stuttgart, 1906 – 1908.
Zeitler, J. Nietzsche’s Ästhetik. Leipzig, 1900.
Примечания
1
Спор о прагматизме // Русская мысль. 1910. № 5 (Участники Н. Бердяев, С. Булгаков, С. Котляревский, Л. Лопатин, С. Лурье, М. Рубинштейн, П. Струве, А. Топорков, кн. Е. Н. Трубецкой, С. Франк, В. Хвостов).
(обратно)2
Там же. С. 149 – 150.
(обратно)3
Там же. С. 115, 124.
(обратно)4
П. Наторп. Философия как основа педагогики. Пер. с нем. и предисл. Г. Г. Шпета. М., 1910. С. 3.
(обратно)5
В. Ф. Эрн. Сочинения. М., 1991. С. 307 – 318.
(обратно)6
А. М. Рубинштейн. Из неопубликованных воспоминаний. Архив Е. А. Свет.
(обратно)7
Н. С. Романов. Летопись города Иркутска за 1902 – 1924 гг. Иркутск, 1994.
(обратно)8
Архив музея ИГУ. «Личное дело о службе ректора Ун-та М. М. Рубинштейна». Известно, что М. Рубинштейн вел переписку с Г. Шпетом и по поводу возможного участия в журнале «Мысль и слово» в 1917 – 1918-м гг. См.: Густав густавович Шпет. Архивные материалы. Воспоминания. Статьи / Под ред. Т. Д. Марциновской. М., 2000. С. 24 – 25.
(обратно)9
П. Каптерев. Рец. на кн.: М. М. Рубинштейн. Очерк педагогической психологии в связи с общей педагогикой. М., 1920 // Педагогическая мысль. М. 1921. № 9 – 12. С. 66.
(обратно)10
В. Зеньковский. Русская педагогика в 20-м веке. Париж, 1960.
(обратно)11
Е. Г Боннэр. Дочки-матери. М., 1994. С. 115.
(обратно)12
Спорные вопросы марксистской педагогики / Сб-к статей под ред. А. З. Иоаннисиани. М., 1930.
(обратно)13
Из неопубликованного отзыва канд. пед. наук Е. Игнатьева на книгу проф. М. М. Рубинштейна и проф. В. Е. Игнатьева «Психология, педагогика и гигиена юности». 1951 г. С. 1 – 2. Архив Е. А. Свет (внучки М. М. Рубинштейна).
(обратно)14
Там же. С. 2.
(обратно)15
Там же. С. 3.
(обратно)16
Из неопубликованной анонимной рецензии на текст лекции проф. М. М. Рубинштейна «Воля и ее воспитание». 1951 г. С. 2. Архив Е. А. Свет.
(обратно)17
Д. В. Иванов. Становление педагогической концепции М. М. Рубинштейна в первой четверти XX века. Дисс. На соискание уч. ст. канд. пед. наук. Иркутск, 1999.
(обратно)18
В. Сластенин. М. М. Рубинштейн – философ, психолог, педагог // М. М. Рубинштейн. Проблема учителя. М., 2004.
(обратно)19
Подробнее см., например: М. Pauscker. Einführung in den Neukantianismus. München, 1997; H.-L. Ollig. Der Neukantianismus. Stuttgart, 1979.
(обратно)20
См. также: Н. А. Дмитриева. Русское неокантианство: «Марбург» в России. Историко-философские очерки. М., 2007.
(обратно)21
См.: Н. С. Плотников. Философия «Проблем идеализма» // Проблемы идеализма. М., 2002; М. А. Колеров. Idealismus militans // Там же.
(обратно)22
Необходимо отметить, что некоторые представители немецкого неокантианства (прежде всего Коген, Наторп и Виндельбанд) в различные периоды своего творчества также обращались к религиозно-философской проблематике – в основном это были попытки укоренить религию в системе философии культуры. Религиозное чувство в этой перспективе предшествует идеям Истины, Добра и Красоты, воплощаемых в логике (науке), этике (нравственности) и эстетике (искусстве). Данное чувство оказывалось не подвластно отчетливым дефинициям, но представлялось нормативным для всех эмпирических проявлений мира культуры. Вера рассматривалась как связующее звено между идеальным и реальным планами бытия, как главенствующее условие осуществления ценностей. Но философия, являясь продуктом сознания, незамутненного мистическими порывами, оставалась в рамках неокантианства, как правило, свободной от стремления непременно упорядочить отношения веры и рациональности, исчерпывающе определить истоки религиозного начала в мире культуры.
(обратно)23
С. Н. Булгаков. Философия хозяйства. Трагедия философии / Соч. в 2 тт. Т. 1. М., 1993.
(обратно)24
М. М. Рубинштейн. Философия и общественная жизнь в России: Набросок // Русская мысль. 1909. №. 3. С. 180 – 190.
(обратно)25
Б. Л. Пастернак. Охранная грамота. ПСС в 13 тт. М., 2003 – 2005. Т. 3. С. 168.
(обратно)26
Там же.
(обратно)27
Kistiakowski, Theodor. Gesellschaft und Einzelwesen. Eine methodologische Untersuchung. Strassburg, 1899. Phil. Diss. Ref. Windelband;
Rubinstein, Moses. Die logischen Grundlagen des Hegelschen Systems und das Ende der Geschichte. Freiburg, 1906. Phil Diss. Ref. Rickert;
Bubnoff, Nickolai von. Das Wesen und die Voraussetzungen der Induktion. Heidelberg, 1908. Phil Diss. Ref. Windelband;
Hessen, Sergius. Über individuelle Kausalität. Freiburg, 1909. Phil Diss. Ref. Rickert; Steppuhn, Fedor. Wladimir Ssolowjew. Heidelberg, 1910. Phil Diss. Ref. Windelband; Gawronsky, Dimitry. Das Urteil der Realität und seine mathematischen Voraussetzungen. Marburg, 1910. Phil Diss. Ref. Cohen, Natorp;
Lourié, Samuel. Das disjunktive Urteil; Eine logische Untersuchung. Heidelberg, 1910.
Phil Diss. Ref. Windelband ;
Ssalagoff, Leo. Vom Begriff des Geltens in der modernen Logik. Heidelberg, 1910. Phil Diss. Ref. Windelband ;
Rubinstein, Sergej. Eine Studie zum Problem der Methode absoluter Rationalismus (Hegel). Marburg, 1914. Phil Diss. Ref. Cohen, Natorp.
(обратно)28
Подробнее см.: Н. Плотников. «Логос» в истории европейской философии: Проект и памятник // «Логос» в истории европейской философии: Проект и памятник. Сб. материалов под ред. Н. С. Плотникова. М., 2006. С. 7 – 12.
(обратно)29
См. В. Куренной. Философский проект «Логоса»: немецкий и русский контекст // «Логос» в истории европейской философии: Проект и памятник. С. 13 – 72.
(обратно)30
Напр.: П. Сорокин. Рец. на «Логос». Международный ежегодник по философии культуры. 1911 – 1912 гг. Книга вторая и третья // Вестник психологии, криминальной антропологии и педологии. Пг, 1912. № 3. С. 62 – 65.
(обратно)31
А. Штейнберг. В поисках философии будущего // Русская мысль. 1911. № 6. С. 39 – 43.
(обратно)32
Ф. А. Степун. Бывшее и несбывшееся. В 2 тт. Нью-Йорк, 1956. Т. 1. С. 175.
(обратно)33
Г. Г. Шпет. История как проблема логики. М., 2002.
(обратно)34
А. Белый. Стихотворения и поэмы. М.-Л., 1966. С. 304.
(обратно)35
А. Белый. Символизм как миропонимание. М., 1994.
(обратно)36
М. М. Рубинштейн. Очерк конкретного спиритуализма Л. М. Лопатина // Логос. 1911 – 1912. № 2 / 3. С. 248 – 249.
(обратно)37
Ф. А. Степун. Открытое письмо А. Белому по поводу статьи «Круговое движение» // Труды и дни. 1912. № 4 – 5. С. 74 – 86.
(обратно)38
Н. Rickert. Die Philosophie des Lebens. Tübingen, 1920. S. 176.
(обратно)39
М. М. Рубинштейн. О смысле жизни. В 2-х ч. Ч. 1. Л., 1927. С. 11.
(обратно)40
М. М. Рубинштейн. Очерк педагогической психологии в связи с общей педагогикой. М., 1920. С. 14.
(обратно)41
М. М. Рубинштейн. О смысле жизни. Ч. 1. С. 132.
(обратно)42
Д. Чижевский. Философские искания в современной России // Современный записки. Париж. 1928. № 37. С. 501 – 524.
(обратно)43
М. М. Рубинштейн. О смысле жизни. Ч. 2. С. 262.
(обратно)44
М. М. Рубинштейн. О смысле жизни. Ч. 1. С. 140.
(обратно)45
Там же. Ч. 2. С. 49.
(обратно)46
П. Наторп. Философия как основа педагогики. С. 8.
(обратно)47
П. Прокофьев. Рец. на кн.: Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию // Современные записки. Париж. 1924. № 28. С. 447 – 453.
(обратно)48
М. М. Рубинштейн. Очерк педагогической психологии в связи с общей педагогикой. С. 33.
(обратно)49
Там же. С. 259.
(обратно)50
Там же. С. 260.
(обратно)51
Там же. С. 498.
(обратно)52
Там же. С. 2.
(обратно)53
Там же. С. 7.
(обратно)54
М. М. Рубинштейн. Идея личности как основа мировоззрения: Критич.-философск. очерк. М., 1909. С. 11.
(обратно)55
Там же. С. 17.
(обратно)56
Там же.
(обратно)57
Там же.
(обратно)58
М. М. Рубинштейн. Очерк педагогической психологии в связи с общей педагогикой. С. 49.
(обратно)59
Там же. С. 50.
(обратно)60
Там же. С. 48.
(обратно)61
Там же. С. 73.
(обратно)62
Там же. С. 482.
(обратно)63
Там же. С. 498.
(обратно)64
Там же.
(обратно)65
Там же. С. 52.
(обратно)66
Так, и Ф. Степун вспоминал, что на семинаре Виндельбанда в Гейдельбергском университете шла оживленная дискуссия о свободе воли. Виндельбанд, следуя Канту, отмечал, что признание за человеком свободы воли хоть и невозможно с научной точки зрения, но с нравственной – необходимо. Интересно, что вопрос о наказании решался им при этом «и не в научно-причинном, и не в этически-нормативном плане, а в плане целесообразности». Наказание преступника оправдывалось необходимостью защиты общества от «асоциальных элементов» (Ф. А. Степун. Бывшее и несбывшееся. Т. 1. С. 104).
(обратно)67
I. Kant. Über Pädagogik. Bochum, 1961. S. 81 – 82.
(обратно)68
М. М. Рубинштейн. Очерк педагогической психологии в связи с общей педагогикой. С. 513. Интересно, что во времена сталинского террора М. Рубинштейн написал на титульном листе одного из экземпляров хранящейся в домашней библиотеке Е. А. Свет книги «О смысле жизни»: «Использование слова «бог» ничего общего не имеет у автора с религиозной традицией» и объясняется «властью общепринятой терминологии».
(обратно)69
М. М. Рубинштейн. Очерк педагогической психологии в связи с общей педагогикой. С. 519.
(обратно)70
Там же. С. 472.
(обратно)71
Редакторы приносят благодарность А. Резниченко за содействие в подготовке к изданию текста «Смысла жизни».
(обратно)72
Впервые: М. М. Рубинштейн. О смысле жизни. В 2 ч. Ч. 1. Л.: Типолит. «Вестник Ленинградского Совета», 1927. – 198 с. Издание автора. Не переиздавалось (Прим. ред.).
(обратно)73
J.-G. Fichte. Anweisung zum seligen Leben. W [erke]. [Bd.] v. S. 115.
(обратно)74
Ibid. S. 159.
(обратно)75
Ф. М. Достоевский. Записки из мертвого дома. С. 10.
(обратно)76
Данная глава представляет собой переработанный вариант статьи «Основная задача философии» // Сборник трудов профессоров и преподавателей Государственного иркутского университета. Отд. I. Науки гуманитарные. Иркутск, 1921. Вып. II. С. 47 – 55 (Прим. ред.).
(обратно)77
B. Джемc. Вселенная с плюралистической точки зрения. С. 114.
(обратно)78
Э. Гуссерль. Философия, как строгая наука // Логос. 1911. № 1. О точке зрения Э. Гуссерля см. критическую статью Л. И. Шестова Memento mori // Bопросы философии. 1917. На аподиктичность как признак науки указал И. Кант в предисловии к «Метафизическим основам естествознания».
(обратно)79
Энциклопедический словарь Брокгауза. Т. 40.
(обратно)80
Наука есть совершенное познание вещи (Прим. ред.).
(обратно)81
F. Sanchez. Quod nihil scitur. Р. 51.
(обратно)82
Я никак не могу согласиться с Г. Г. Шпетом («Мудрость или разум»), считающим, что философская научность определяется отрицательно, – приведенные признаки все положительны; ненужное же удвоение философией получается только при понимании ее как общей науки или науки о том, что есть.
(обратно)83
G. Simmel. Hauptprobleme der Philosophie. S. 8.
(обратно)84
В. Виндельбанд. Прелюдии. С. 5.
(обратно)85
Ср. типичное позитивистическое определение науки у К. Пирсона. Грамматика науки. С. 19, 55.
(обратно)86
См. труд Н. А. Бердяева: Смысл творчества, например, с. 18 и сл., где автор категорически заявил, что философия ни в коем случае не есть наука и ни в каком смысле не должна быть научной.
(обратно)87
Вл. Соловьев стоял на точке зрения таких же ожиданий. Ср. также А. Бинэ. Душа и тело. С. 142.
(обратно)88
G. Simmel. Hauptprobleme der Philosophie. S. 28.
(обратно)89
Ibid. S. 29.
(обратно)90
J.-G. Fichte. Rückerinnerungen, Antworten, Fragen. W. II. S. 206.
(обратно)91
Ср. Ibid. II. Über den Grund unsers Glaubens an eine göttliche Weltregierung. S. 127. «То, что я должен, это первое и самое непосредственное». Та же мысль в «Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre». Ibid. S. 612; и в «Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten». Ibid. I. S. 222.
(обратно)92
R. Eucken. Die Lebensanschauungen der großen Denker. Предисловие ко 2-му изданию.
(обратно)93
J.-G. Fichte. Sonnenklarer Bericht an das größere Publikum über das eigentliche Wesen der neuesten Philosophie. W. III. S. 627.
(обратно)94
С. Н. Булгаков. Философия хозяйства. C. 31.
(обратно)95
J.-G. Fichte. Die Bestimmung des Menschen. W. iii. S. 229.
(обратно)96
Ряд философов подчеркивает действенный характер науки. Например С. Н. Булгаков говорит: «Научное знание действенно» (Философия хозяйства. C. 184); «Научность есть только поза жизни, ее отношений» (Там же. C. 133).
(обратно)97
Ср. И. А. Ильин. Философия как духовное делание // Русская мысль. 1915. III. C. 120 и сл.; автор глубоко правдиво подчеркивает в духе немецких идеалистов, особенно И. Г. Фихте, «совестный и действенный» характер философского мышления.
(обратно)98
Г. Г. Шпет в своей интересной статье «Мудрость или разум» категорически высказался за второй член этой дилеммы, настаивая на философии как на «чистом» знании и видя в понимании философии как мудрости практический элемент, отклоняющий ее от подлинной задачи ее постижения сущего на скользкий путь неустойчивых императивов, где вопрос может решиться только для «имярека», для данного лица, каждый раз особо. Но дилемма ли перед нами? Безусловно, нет: научность не есть что-либо абсолютно отдельное от мудрости, а это есть только степень совершенства и устойчивости той самой мысли, которой преисполнена мудрость; ведь и мудрость рождается не только практическою жизнью, но и мыслью и рефлексией, на которой настаивает Г. Г. Шпет. Мы едва ли окажемся далеко от истины, если скажем: разум и мудрость это – средство – хотя и не всеохватывающее – и итог, хотя и расширенный до вытекающих из него практических следствий, или это – часть и целое. Г. Г. Шпет особенно подчеркивает, что вопросу о смысле жизни присущ «наш собственный личный характер»; в этом он прав, но это не минус, а плюс такой философии. Вся история философии и непреходящее значение давно возникших и постоянно сменяющихся систем являются живым свидетельством того, что иначе философию мыслить нельзя. Мое решение тесно связано с «имяреком» и не подойдет целиком другим, но оно дает основы, типы. При этом особенно важно помнить, как это подчеркивает и Г. Г. Шпет (с. 67), «человек всегда носит общество с собой», т. е. что он никогда не бывает один и что его решения никогда не бывают только личными, и чем они более философски научно оправданы, тем шире диапазон их значения. В противовес Г. Г. Шпету мы надеемся дальше показать, что подлинная истина никогда не остается чисто теоретической. Даже если согласиться с Гуссерлем, что философия это – учение о чистых принципах, то нет никаких оснований утверждать, что сюда входят только начала теоретического значения; наоборот, полнота теоретической осведомленности совершенно необходимо переходит в практическую колею мысли – в то, что называют в специфическом смысле мудростью. Дилемма «мудрость» или «разум» должна быть признана неправильной. Резкая грань между умозрением и жизнью проведена в книге: E. Lask. Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre. Eine Studie über den Herrschaftsbereich der logischen Form. S. 193.
Ср. Вл. Соловьев. Критика отвлеченных начал. Cоб. соч. ii. C. 184. Для него проблема смысла была также центральной. Срвн. Е. H. Трубецкой. Мировоззрение Вл. Соловьева. i. C. 40.
(обратно)99
Праматерь потомков Энея (Прим. ред.).
(обратно)100
Lucretius Carus, Titus. De rerum natura. I. 105.
(обратно)101
E. C. Dühring. Der Werth des Lebens.
(обратно)102
Ibid. S. 51.
(обратно)103
Ibid. S. 9.
(обратно)104
Ibid. S. 3.
(обратно)105
Ibid. S. 42.
(обратно)106
Философасты, профессора и чиновники от философии, философствующие ничтожества (Пер. ред.).
(обратно)107
E. C. Dühring. Der Werth des Lebens. S. 13.
(обратно)108
Ibid. S. 60.
(обратно)109
Ibid. S. 61.
(обратно)110
Lucretius Carus, Titus. De rerum natura. I. 95.
(обратно)111
Ibid. I. 60 и сл.
(обратно)112
E. C. Dühring. Der Werth des Lebens. S. 49.
(обратно)113
Жизненное благотворное влияние философии рисуется и Лукрецию. De rerum natura. I. 140, 111 и сл.
(обратно)114
А. И. Яроцкий. Идеализм как физиологический фактор; Религия с биологической точки зрения. См. его прямое заявление, с. 356.
(обратно)115
В. Kern. Das Problem des Lebens.
(обратно)116
E. С. Dühring. Der Werth des Lebens. S. 52.
(обратно)117
Ibid. S. 53.
(обратно)118
Вспомним для примера центральное значение идеи всеединства у Вл. Соловьева.
(обратно)119
Е. С. Dühring. Der Werth des Lebens. S. 64 и сл.
(обратно)120
Ibid. S. 65.
(обратно)121
Ibid. S. 47 и сл.
(обратно)122
Ibid. S. 68.
(обратно)123
Ibid. S. 109, 127.
(обратно)124
Ibid. S. 129.
(обратно)125
Ibid. S. 60.
(обратно)126
Ibid. S. 59.
(обратно)127
Ibid. S. 60.
(обратно)128
Ibid. S. 63.
(обратно)129
Ibid. S. 184.
(обратно)130
Ibid. S. 69.
(обратно)131
Ibid. S. 80.
(обратно)132
Ibid. S. 51.
(обратно)133
Ibid. S. 67.
(обратно)134
Ibid. S. 78.
(обратно)135
Ibid. S. 110.
(обратно)136
Ibid. S. 96.
(обратно)137
Ibid. S. 104.
(обратно)138
Ibid. S. 174.
(обратно)139
Ibid. S. 128.
(обратно)140
Ibid. S. 127.
(обратно)141
Ibid. S. 257.
(обратно)142
Lucretius Carus, Titus. De rerum natura. III. 54 (Человек гибнет, дело остается. Прим. ред.).
(обратно)143
E. C. Dühring. Der Werth des Lebens. S. 169.
(обратно)144
Ibid. S. 176.
(обратно)145
Ibid. S. 188 и сл.
(обратно)146
Ibid. S. 178.
(обратно)147
Ibid. S. 289.
(обратно)148
Lucretius Carus, Titus. De rerum natura. III. С. 953 и сл.
(обратно)149
E. С. Dühring. Der Werth des Lebens. S. 174.
(обратно)150
Ibid. S. 133.
(обратно)151
Ibid. S. 134.
(обратно)152
Ibid. S. 167.
(обратно)153
Ibid. S. 197 и сл.
(обратно)154
Ibid. S. 291.
(обратно)155
Lucretius Carus, Titus. De rerum natura. III. 975.
(обратно)156
Ibid. V. 176 и сл.
(обратно)157
E. C. Dühring. Der Werth des Lebens. S. 74.
(обратно)158
Ibid. S. 64 и сл.
(обратно)159
Е. Дюринг говорит с неудержимой ненавистью об евреях и обвиняет их, как в коренном грехе, в том, что они по-кошачьи цепляются за земную жизнь. Если бы это было правильно, то с точки зрения учения Дюринга ему следовало бы их поставить в образец всем другим народам: они тогда практически осуществляют то, что теоретически проповедует его философия.
(обратно)160
R. Eucken. Die Lebensanschauungen der großen Denker. S. 100.
(обратно)161
A. Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung. W. II. S. 687.
(обратно)162
Ibid. S. 355.
(обратно)163
Г.-В. Лейбниц. Защита бога. § 41. C. 264, см. также § 46.
(обратно)164
A. Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung. W. I. S. 402.
(обратно)165
Ibid.
(обратно)166
Ibid. I. S. 453.
(обратно)167
Г.-В. Лейбниц. Размышления относительно учения об едином всеобщем духе. С. 237.
(обратно)168
Г.-В. Лейбниц. Начало природы и благодати. С. 332 (§ 10 и сл.).
(обратно)169
Г.-В. Лейбниц. Монадология. § 69. С. 356.
(обратно)170
Там же. § 73.
(обратно)171
Там же. § 123. С. 289.
(обратно)172
J.-G. Fichte. Die Bestimmung des Menschen. W. III. S. 413.
(обратно)173
A. Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung. W. i. S. 453.
(обратно)174
Ibid. S. 422.
(обратно)175
Г.-В. Лейбниц. Письмо к Томазию. C. 34.
(обратно)176
Принцип индивидуации. (Прим. ред.)
(обратно)177
A. Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung. W. I. S. 403.
(обратно)178
Ibid. U. S. 674.
(обратно)179
Ibid. I. S. 404.
(обратно)180
Ibid. U. S. 681.
(обратно)181
Г.-В. Лейбниц. Начало природы и благодати. § 14. С. 334.
(обратно)182
Там же. §123. С. 289.
(обратно)183
Ср. G. W. Leibniz. Theodicee. I. S. 384.
(обратно)184
Ibid. § 30.
(обратно)185
См. гл. о Вл. Соловьеве.
(обратно)186
Г.-В. Лейбниц. Рассуждение о метафизике. § 7. С. 58.
(обратно)187
См. гл. о Вл. Соловьеве.
(обратно)188
Г.-В. Лейбниц. Защита бога. § 72. С. 274.
(обратно)189
Там же. § 28. С. 94.
(обратно)190
Leibniz. Theodicee. I В. § 151. С. 309.
(обратно)191
Ibid. § 30.
(обратно)192
A. Schopenhauer. Aphorismen zur Lebensweisheit. W. IV. S. 359.
(обратно)193
A. Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung. W. II. S. 550.
(обратно)194
Ibid. I. S. 376.
(обратно)195
A. Schopenhauer. Aphorismen zur Lebensweisheit. W. IV. S. 358. Интересно отметить высказываемую Шопенгауэром мысль, что здоровье выше всех внешних благ.
(обратно)196
A. Schopenhauer. Aphorismen zur Lebensweisheit. W. IV. S. 359.
(обратно)197
J. Volkelt. A. Schopenhauer. S. 374.
(обратно)198
A. Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung. W. II. S. 674.
(обратно)199
A. Schopenhauer. Paränesen und Maximen. W. IV. S. 469.
(обратно)200
Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung. W. I. S. 524. § 71.
(обратно)201
Ibid. S. 525.
(обратно)202
Ibid. S. II. С. 716.
(обратно)203
Ibid. S. 720.
(обратно)204
A. Schopenhauer. Nachträge zur Lehre von der Bejahung und Verneinung des Willens zum Leben. W. V. S. 326.
(обратно)205
A. Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung. W. I. S. 459.
(обратно)206
См. главу о Вл. Соловьеве.
(обратно)207
A. Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung. W. II. S. 722.
(обратно)208
Г.-В. Лейбниц. Защита бога. § 124 и сл. С. 289 и сл.
(обратно)209
G. W. Leibniz. Theodicee. § 52. S. 204.
(обратно)210
Г.-В. Лейбниц. Защита бога. § 59. С. 269.
(обратно)211
См. гл. о Вл. Соловьеве.
(обратно)212
П. И. Новгородцев в статье: Об общественном идеале // Вопросы философии и психологии. 1916. № 4. C. 441, оценивая общественный фатализм, справедливо спрашивает: «Что значат призывы к действию в борьбе, если все решается неотвратимыми имманентными законами истории?»
(обратно)213
Tullii Ciceronis. De fato. 12, 28.
(обратно)214
G.-W. Leibniz. Theodicee. § 8. S. 53.
(обратно)215
Г.-В. Лейбниц. Защита бога. § 59. С. 269.
(обратно)216
Это отмечают не только Куно Фишер, но и другие критики пессимизма и оптимизма. Ср. Н. Я. Грот. О научном значении оптимизма и пессимизма как мировоззрения. С. 22. По его мнению, эта точка зрения «так же законна, как законны и самые чувства и настроения человека, т. е. весь его индивидуальный душевный строй». Не без основания другой критик пессимизма Д. Селли говорит об инстинктивном пессимизме. Ср. также В. Джемс. Прагматизм. С. 141.
(обратно)217
Н. А. Бердяев. Смысл творчества. С. 9.
(обратно)218
F. Nietzsche. Also sprach Zarathustra. W. vii. S. 158.
(обратно)219
I. Kant. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. S. 3.
(обратно)220
Данная глава представляет собой переработанный вариант статьи: Проблема смысла жизни в философии Канта // Вопросы философии и психологии. 1916. № 4. С. 252 – 270 (Прим. ред.).
(обратно)221
I. Kant. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Vorwort. S. VI.
(обратно)222
Ibid. S. VIII.
(обратно)223
Ханжество (Прим. ред.).
(обратно)224
I. Kant. Kritik der praktischen Vernunft. S. 61.
(обратно)225
/. Kant. Populäre Schriften.
(обратно)226
Ibid. S. 54 – 55.
(обратно)227
I. Kant. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. S. 69 (C. 62. Русск. изд.).
(обратно)228
/. Kant. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. S. 202.
(обратно)229
I. Kant. Kritik der praktischen Vernunft. S. 25. Прим. II.
(обратно)230
Ibid. S. 124.
(обратно)231
I. Kant. Briefe. S. XIX.
(обратно)232
I. Kant. Populäre Schriften. S. 211.
(обратно)233
Ibid. S. 218.
(обратно)234
Ibid. S. 213.
(обратно)235
I. Kant. Kritik der praktischen Vernunft. S. 87 (C. 112. Русск. изд.).
(обратно)236
I. Kant. Kritik der reinen Vernunft. S. 562.
(обратно)237
I. Kant. Populäre Schriften. S. 291.
(обратно)238
I. Kant. Kritik der praktischen Vernunft. S. 88.
(обратно)239
I. Kant. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. S. 115 (C. 94. Русск. изд.).
(обратно)240
I. Kant. Kritik der praktischen Vernunft. S. 27 (C. 34. Русск. изд.).
(обратно)241
Ibid. S. 25 (C. 31. Русск. изд.).
(обратно)242
Ibid. S. 146 (C. 186. Русск. изд.).
(обратно)243
Ibid. S. 122.
(обратно)244
Ibid. S. 188.
(обратно)245
Ее приводит R. Eucken: Die Lebensanschauungen der großen Denker.
(обратно)246
I. Kant. Kritik der praktischen Vernunft. S. 64 (C. 84. Русск. изд.).
(обратно)247
I. Kant. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. S. 11 (C. 22. Русск. изд.). На блаженство как на непосредственное следствие из нравственного совершенства указывает также: Ibid. S. 73 (C. 66. Русск. изд.).
(обратно)248
I. Kant. Kritik der praktischen Vernunft. S. 110.
(обратно)249
I. Kant. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. См. также его Anthropologie in pragmatischer Hinsicht.
(обратно)250
I. Kant. Populäre Schriften. S. 213.
(обратно)251
Таково мнение и самого Канта. Указывая в: Kritik der praktischen Vernunft. S. 143 (C. 213. Русск. изд.), что высшее благо должно хотя бы в принципе считаться возможным, он добавляет: «В противном случае практически было бы невозможным стремиться к объекту, понятие которого в сущности было бы пусто и без объекта».
(обратно)252
I. Kant. Kritik der praktischen Vernunft. S. 213.
(обратно)253
Глава Von der Schöpfung im ganzen Umfange ihrer Unendlichkeit.
(обратно)254
I. Kant. Populäre Schriften. S. 211.
(обратно)255
И. Кант. Критика практического разума. C. 101.
(обратно)256
«Метафизика нравов», гл. «Переход от обычного нравственного познания к философскому». См. также: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. S. 45, рассуждение об отклонении мысли о самоубийстве.
(обратно)257
Толкование нравственного так же, как формального условия употребления свободы подтверждает и I. Kant. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. S. 3.
(обратно)258
J.-G. Fichte. Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. W. I. S. 223.
(обратно)259
J.-G. Fichte. Leben und Briefe. i. S. 57 – 58.
(обратно)260
J.-G. Fichte. Rückerinnerungen, Antworten, Fragen. W. II. S. 206.
(обратно)261
Ibid. III. Sonnenklarer Bericht an das größere Publikum über das eigentliche Wesen der neuesten Philosophie. S. 627.
(обратно)262
Ibid. II. Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. S. 544.
(обратно)263
Ibid. S. 612.
(обратно)264
Ibid. III. Die Bestimmung des Menschen. S. 413.
(обратно)265
Ibid. S. 411 и сл.
(обратно)266
Ibid. I. Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. S. 223.
(обратно)267
Ibid. S. 225.
(обратно)268
Ibid. III. Die Bestimmung des Menschen. S. 345.
(обратно)269
Ibid.
(обратно)270
F. Medicus. J.-G. Fichte. S. 85.
(обратно)271
J.-G. Fichte. Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. W. II. S. 616.
(обратно)272
Ibid. I. Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. S. 227.
(обратно)273
Ibid.
(обратно)274
Ibid. II. Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. S. 623.
(обратно)275
Ibid. S. 647.
(обратно)276
Ibid. S. 412.
(обратно)277
Ibid. II. Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre. S. 5.
(обратно)278
Ibid.
(обратно)279
Ibid. I. Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. S. 260.
(обратно)280
Ibid. III. Die Bestimmung des Menschen. S. 354.
(обратно)281
Ibid. I. Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. S. 271.
(обратно)282
Ibid.
(обратно)283
Ibid. II. Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. S. 593.
(обратно)284
Ibid. S. 623.
(обратно)285
Ibid. S. 466.
(обратно)286
Ibid. S. 580.
(обратно)287
Ср. Ibid. II. Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre: Der transzendentale Philosoph muss annehmen, dass alles, was sei, nur für ein Ich, und was für ein Ich sein soll, nur durch das ich sein könne. Трансцендентальный философ должен предположить – все, что существует, может существовать только для какого-либо «я», а все, что существует для «я», может существовать лишь благодаря «я» (Пер. ред.).
(обратно)288
J.-G. Fichte. Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. W. II. S. 403.
(обратно)289
Ibid. S. 406.
(обратно)290
Ibid. S. 582.
(обратно)291
Ibid. II. Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre. S. 84. См. также: Ibid. Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. S. 444, 616. Эта мысль повторяется у Фихте везде.
(обратно)292
J.-G. Fichte. Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. W. I. S. 85.
(обратно)293
Ibid. S. 225 и сл.
(обратно)294
Ibid. IV. Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters. См. Б. Н. Вышеславцев. Этика Фихте.
(обратно)295
J.-G. Fichte. Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters. W. IV. S. 430 и сл.
(обратно)296
Ibid. V. Anweisung zum seligen Leben. S. 235.
(обратно)297
Ibid. S. 239.
(обратно)298
Ibid. V. Reden an die deutsche Nation. S. 410 и сл.
(обратно)299
Ibid. V. Anweisung zum seligen Leben. S. 119.
(обратно)300
Ibid. S. 259.
(обратно)301
Ibid. S. 124.
(обратно)302
Ibid. S. 159.
(обратно)303
Ibid. S. 115.
(обратно)304
Ibid. V. Reden an die deutsche Nation. S. 409.
(обратно)305
Ibid. Anweisung zum seligen Leben. S. 159.
(обратно)306
Ibid. I. Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. S. 236.
(обратно)307
Ibid. III. Die Bestimmung des Menschen. S. 405.
(обратно)308
Ibid. I. Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. S. 225 и сл.
(обратно)309
M. Rubinstein. Das Wertsystem Hegels und die Entwertete Persönlichkeit // Kant-Studien. 1910. Bd. XV. H. 2 und 3.
(обратно)310
J.-G. Fichte. Anweisung zum seligen Leben. W. v. S. 162.
(обратно)311
G. W. F. Hegel. Vorlesungen über die Naturphilosophie. W. vii. S. 12.
(обратно)312
J.-G. Fichte. Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. W. I. S. 244.
(обратно)313
Ibid. S. 223.
(обратно)314
Ibid. II. Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. S. 615.
(обратно)315
Ibid. S. 650.
(обратно)316
Ibid. I. Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. S. 238.
(обратно)317
Ibid. S. 239.
(обратно)318
Ibid. S. 244.
(обратно)319
Ibid. V. Anweisung zum seligen Leben. S. 116.
(обратно)320
Ibid. II. Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. S. 658.
(обратно)321
Ibid. S. 659.
(обратно)322
В. C. Соловьев. Кризис западноевропейской философии. Соб. соч. I. C. 127.
(обратно)323
Последующее изложение представляет с некоторыми изменениями и сокращениями повторение тех мыслей, к которым меня привело мое исследование: Логические основы системы Гегеля и конец истории // Вопросы философии и психологии. 1905. № 5. С. 695 – 764.
(обратно)324
G. W. F. Hegel. W. II. S. 36.
(обратно)325
Ibid. S. 604.
(обратно)326
Ibid. V. S. 330.
(обратно)327
Ibid. XV. S. 689.
(обратно)328
Ibid. VI. S. 242; V. S. 329, 352.
(обратно)329
Ibid. IV. S. 195.
(обратно)330
G. W. F. Hegel. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. S. 70.
(обратно)331
Ibid. S. 10.
(обратно)332
G. W. F. Hegel. W.VII. Teil 2. S. 24.
(обратно)333
G. W. F. Hegel. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. S. 98.
(обратно)334
См., например, W. V. S. 349; W. XII, S. 266; W. XV, S. 685. Ср. также W. VI. S. 167.
(обратно)335
G. W. F. Hegel. W. XIII. S. 13.
(обратно)336
Ibid. V. S. 349.
(обратно)337
Ср. G. W. F. Hegel. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. S. 13.
(обратно)338
G. W. F. Hegel. W. VIII. S. 16.
(обратно)339
Предпосылкой (Прим. ред.).
(обратно)340
G. W. F. Hegel. W. VIII. S. 11.
(обратно)341
Ibid. S. 142.
(обратно)342
Ibid. II. S. 604.
(обратно)343
Ibid. III. S. 140 – 142.
(обратно)344
Ibid. XIV. S. 274 и сл.
(обратно)345
См. относящиеся сюда слова Гегеля в R. Наут. Hegel und seine Zeit. S. 447.
(обратно)346
Об этих понятиях говорит Н. Rickert. Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. S. 76, 393 – 395 и сл., а также E. Lask. Fichtes Idealismus und die Geschichte. S. 1 – 18.
(обратно)347
G. W. F. Hegel. W. XIV. S. 274 и сл.
(обратно)348
E. Lask. Fichtes Idealismus und die Geschichte. S. 16 и сл.
(обратно)349
G. W. F. Hegel. W. II. S. 22.
(обратно)350
Ibid. XIII. S. 38; Ibid. S. 501.
(обратно)351
Ibid. S. 46.
(обратно)352
Т. е. не стоящий в общей связи, совокупности.
(обратно)353
G. W. F. Hegel. W. II. S. 346.
(обратно)354
G. W. F. Hegel. W.XIII. S. 49.
(обратно)355
Ibid. VIII. S. 17: «…Ибо разумное, что есть синоним с идеей».
(обратно)356
См. относительно этого понятия E. Lask. Fichtes Idealismus und die Geschichte. S. 220.
(обратно)357
G. W. F. Hegel. W. U. S. 45.
(обратно)358
G. W. F. Hegel. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. S. 45.
(обратно)359
G. W. F. Hegel. W. XIII. S. 312.
(обратно)360
См. G. W. F. Hegel. Phänomenologie des Geistes. W. II. S. 174 – 175. Мы пользуемся словом «действительность» вместо слова «данное», как это делает Е. Lask. Fichtes Idealismus und die Geschichte. S. 396, так как область данного охватывает у Гегеля гораздо больше, чем понятие действительности, которую наш философ имел в виду в этом примирении, как мы это увидим дальше.
(обратно)361
G. W. F. Hegel. W. II. S. 175.
(обратно)362
Ibid. VIII. S. 17.
(обратно)363
Ibid. II. S. 19.
(обратно)364
Н. Rickert. Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften. S. 646 – 652.
(обратно)365
G. W. F. Hegel. W. XIII. S. 12.
(обратно)366
Nichts значит «ничто»; Nichtse – множественное число от этого слова.
(обратно)367
G. W. F. Hegel. W . IV. S. 177 – 183.
(обратно)368
G. W. F. Hegel. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. S. 15. Слово «того» подчеркнуто Гегелем.
(обратно)369
Слово «эмпирический» мы употребляем в самом широком смысле.
(обратно)370
G. W. F. Hegel. W. VI. S. 10; XIV. S. 274 и сл.
(обратно)371
G. W. F. Hegel. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. S. 10.
(обратно)372
G. W. F. Hegel. W. VI. S. 10.
(обратно)373
Ibid. S. 282.
(обратно)374
Ibid. У Гегеля непереводимая игра слов: «Aus dem Grunde kommt und zu Grunde geht».
(обратно)375
Ibid. S. 283, 386.
(обратно)376
Ibid. V. S. 338.
(обратно)377
Ibid. XIV. S. 274 и сл.; IV. S. 200.
(обратно)378
Ibid. VI. S. 190.
(обратно)379
Ibid. S. 317.
(обратно)380
Ibid. VIII. S. 22.
(обратно)381
Ibid. VI. S. 260.
(обратно)382
Ibid. VIII. S. 18.
(обратно)383
Ibid. VIII. S. 22.
(обратно)384
Ibid. VI. S. 386.
(обратно)385
Ibid. VIII. S. 23. Поэтому по Гегелю всякая истинная философия должна быть идеализмом. Ср. VI. S. 189, 283, 386; V. S. 339.
(обратно)386
G. W. F. Hegel. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. S. 46.
(обратно)387
Ibid. S. 260.
(обратно)388
G. W. F. Hegel. W. VI. S. 281.
(обратно)389
С прямым указанием на необходимость истинной действительности мы встречаемся в философии права. W. VIII. S. 347.
(обратно)390
G. W. F. Hegel. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. S. 360.
(обратно)391
Ibid. S. 93.
(обратно)392
Ibid. S. 500; W. VII. § 433.
(обратно)393
Ibid. XIV S. 486.
(обратно)394
Ibid.
(обратно)395
Ibid. S. III. С. 169.
(обратно)396
Ibid. S. 137.
(обратно)397
Ibid. S. 148.
(обратно)398
G. W. F. Hegel. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. S. 94.
(обратно)399
G. W. F. Hegel. III. S. 148, 156 и сл.; V. S. 339.
(обратно)400
Ibid. VII. S. 440.
(обратно)401
Ibid. VI. S. 196.
(обратно)402
Ibid. II. S. 605; XIII. S. 89; IV. S. 193 и сл.
(обратно)403
G. W. F. Hegel. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. S. 113.
(обратно)404
В себе и для себя (Прим. сот.).
(обратно)405
И. А. Ильин. Оправдание мира в философии Гегеля // Вопросы философии и психологии. 1916. № 2 – 3. С. 355.
(обратно)406
Там же. С. 304.
(обратно)407
G. W. F. Hegel. W . II. S. 346.
(обратно)408
G. W. F. Hegel. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. S. 49.
(обратно)409
G. W. F. Hegel. W . VI. S. 382.
(обратно)410
G. W. F. Hegel. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. S. 41 и сл.
(обратно)411
Ibid. S. 45.
(обратно)412
G. W. F. Hegel. W . II. S. 336, 346, 351.
(обратно)413
В данной главе кратко представлены основные положения, выдвинутые М. Рубинштейном в статье: Очерк конкретного спиритуализма Л. М. Лопатина // Логос. 1911 – 1912. № 2 / 3. С. 243 – 280 (Прим. ред.).
(обратно)414
H. Lotze. Mikrokosmus. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer Anthropologie. III. S. 420.
(обратно)415
Ibid. S. 43.
(обратно)416
Ibid. I. S. 406.
(обратно)417
H. Lotze. Metaphysik. Drei Bücher der Ontologie, Kosmologie und Psychologie. S. 31.
(обратно)418
Ibid. S. 168; См. ограничение человеческого познания. S. 179, 182, 301.
(обратно)419
Н. Lotze. Mikrokosmus. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer Anthropologie. I. S. 392.
(обратно)420
Ibid. S. 402.
(обратно)421
H. Lotze. Metaphysik. Drei Bücher der Ontologie, Kosmologie und Psychologie. С. 84.
(обратно)422
Ibid. S. 164.
(обратно)423
H. Lotze. Prinzipien der Ethik. (Прил. к Metaphysik). S. 610.
(обратно)424
Ibid. S. 481.
(обратно)425
Ibid. S. 381.
(обратно)426
H. Lotze. Mikrokosmus. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer Anthropologie. I. S. 383.
(обратно)427
Ibid.
(обратно)428
Ibid. S. 384.
(обратно)429
Ibid. S. 438.
(обратно)430
Н. Lotze. Prinzipien der Ethik. S. 615.
(обратно)431
H. Lotze. Mikrokosmus. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer Anthropologie. III. S. 577.
(обратно)432
Ibid. S. 45.
(обратно)433
Ibid. S. 52.
(обратно)434
Ibid. S. 83.
(обратно)435
H. Lotze. Prinzipien der Ethik. S. 624.
(обратно)436
Ср. H. Lotze. Mikrokosmus. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer Anthropologie. III. S. 432, 458.
(обратно)437
Ibid. S. 2, 69.
(обратно)438
Ibid. S. 41.
(обратно)439
Ibid. S. 43.
(обратно)440
См. Н. Lotze. предисловие к Mikrokosmus. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer Anthropologie, а также Medizinische Psychologie.
(обратно)441
Ibid. I. S. 397.
(обратно)442
Л. Н. Лопатин. Неотложные задачи современной мысли // Вопросы философии и психологии. 1917. № 1. С. 19.
(обратно)443
Л. Н. Лопатин. Положительные задачи философии. II. С. 47.
(обратно)444
Л. Н. Лопатин. Неотложные задачи современной мысли. С. 23; Л. Н. Лопатин. Положительные задачи философии. Последняя глава.
(обратно)445
Л. Н. Лопатин. Неотложные задачи современной мысли. С. 31.
(обратно)446
Там же. С. 49.
(обратно)447
Там же. С. 31.
(обратно)448
Там же. С. 41.
(обратно)449
Л. Н. Лопатин. Положительные задачи философии. i. Гл. 3.
(обратно)450
Л. Н. Лопатин. Неотложные задачи современной мысли. С. 78.
(обратно)451
Это подтверждает и близкий Вл. Соловьеву Е. Н. Трубецкой. Мировоззрение Вл. Соловьева. i. С. 140; об этом говорят и темы его сочинений.
(обратно)452
В. С. Соловьев. Оправдание добра. Соб. соч. VII. С. 8 и сл.
(обратно)453
Там же. X. Примечания.
(обратно)454
Там же. III. С. 173.
(обратно)455
Там же. VII. С. 179.
(обратно)456
Там же. С. 180.
(обратно)457
Там же. III. С. 334.
(обратно)458
Там же. С. 67.
(обратно)459
Там же. С. 104.
(обратно)460
Там же. VII. С. 201.
(обратно)461
Там же. III. С. 111.
(обратно)462
Там же. С. 321.
(обратно)463
Там же. VI. С. 418.
(обратно)464
Непременное условие (Прим. ред.).
(обратно)465
В. С. Соловьев. Соб. соч. II. С. 187.
(обратно)466
Там же. С. 280.
(обратно)467
Там же. С. 201.
(обратно)468
Там же. С. 281.
(обратно)469
Там же. С. 234.
(обратно)470
Там же. Предисловие.
(обратно)471
Там же. С. 314.
(обратно)472
Там же. III. С. 23.
(обратно)473
Там же. II. С. 21.
(обратно)474
Там же. С. 79.
(обратно)475
Там же. III. С. 117.
(обратно)476
Там же. С. 138; VII. С. 212 и сл.
(обратно)477
Там же. III. С. 111.
(обратно)478
Там же. С. 17.
(обратно)479
Там же. II. С. 75.
(обратно)480
Там же. С. 88.
(обратно)481
Там же. С. 72.
(обратно)482
Там же. X. С. XXXVIII.
(обратно)483
Там же. II. С. 113.
(обратно)484
Там же. С. IV.
(обратно)485
Там же. С. 124.
(обратно)486
Там же. VII. С. 270.
(обратно)487
Е. Н. Трубецкой. Миросозерцание Вл. Соловьева. II. С. 177.
(обратно)488
В. С. Соловьев. Соб. соч. VII. С. 8 и сл.
(обратно)489
Там же. X. С. XXXVII.
(обратно)490
Там же. VI. С. 418.
(обратно)491
Там же. III. С. 327.
(обратно)492
Там же. VI. С. 73.
(обратно)493
Там же. X. С. 32 и сл.; VII. С. 208.
(обратно)494
Там же. III. С. 322.
(обратно)495
Там же. С. 321; VII. С. 196.
(обратно)496
Там же. С. 197.
(обратно)497
Там же. С. 204.
(обратно)498
Там же. III. С. 135.
(обратно)499
Там же. II. С. 154.
(обратно)500
Там же. III. С. 271.
(обратно)501
Там же. VII. С. 19.
(обратно)502
Там же. III. С. 281.
(обратно)503
Там же. VII. С. 185, хотя в другом месте Соловьев добавляет, что история только подготовляет естественные и нравственные условия для явления богочеловека и богочеловечества (Там же. C. 208).
(обратно)504
Там же. С. 189, 211.
(обратно)505
Там же. С. 289.
(обратно)506
Там же. II. С. 168; VI. С. 415.
(обратно)507
Там же. II. С. 121.
(обратно)508
Там же. VI. С. 424.
(обратно)509
Там же. III. С. 102.
(обратно)510
Там же.
(обратно)511
Там же. VII. С. 11.
(обратно)512
Там же. С. 19.
(обратно)513
Там же. VI. С. 30.
(обратно)514
Там же. С. 418.
(обратно)515
Там же. X. С. 200.
(обратно)516
Там же. II. С. 301 и сл.
(обратно)517
Там же. III. С. 343.
(обратно)518
Там же. VII. С. 206.
(обратно)519
Е. Н. Трубецкой. Миросозерцание Вл. Соловьева. I. С. 325.
(обратно)520
Там же. II. С. 276.
(обратно)521
В. С. Соловьев. Соб. соч. III. С. 1.
(обратно)522
Там же. VII. С. 174.
(обратно)523
Там же. С. 177.
(обратно)524
Там же. III. С. 121.
(обратно)525
Там же. С. 124.
(обратно)526
Там же. X. С. 183.
(обратно)527
Там же. III. С. 135 и сл.
(обратно)528
Там же. VII. С. 189.
(обратно)529
Там же. X. С. 194.
(обратно)530
Там же. III. С. 275.
(обратно)531
Там же. VII. С. 254.
(обратно)532
Там же. С. 196.
(обратно)533
Там же. С. 154.
(обратно)534
Там же. С. 182 и сл.
(обратно)535
Там же. III. С. 275.
(обратно)536
Там же. VII. С. 9.
(обратно)537
Там же. С. 10.
(обратно)538
Там же. X. С. 173.
(обратно)539
Там же. VII. С. 205.
(обратно)540
Там же. С. 252.
(обратно)541
Там же. С. 256; X. С. 32 и сл.
(обратно)542
Там же. VII. С. 359.
(обратно)543
Там же. III. С. 121.
(обратно)544
Там же. С. 276.
(обратно)545
Там же. С. 277.
(обратно)546
Там же. С. 278.
(обратно)547
Там же. С. 319.
(обратно)548
Там же. VII. С. 65.
(обратно)549
Там же. III. С. 39, 124.
(обратно)550
Там же. VII. С. 165.
(обратно)551
Там же. II. С. 123.
(обратно)552
Там же. III. С. 319.
(обратно)553
Е. Н. Трубецкой. Миросозерцание Вл. Соловьева. I. С. 6.
(обратно)554
Ср. (Там же. I. С. 89) о том, что Соловьев закончил осуждением земного, отведя дьяволу активную роль в земной жизни.
(обратно)555
Там же. II. С. 288.
(обратно)556
В. С. Соловьев. Соб. соч. III. С. 112.
(обратно)557
Там же. С. 415.
(обратно)558
Там же. С. 121.
(обратно)559
Там же. С. 120.
(обратно)560
Там же. X. С. 183.
(обратно)561
Е. Н. Трубецкой. Миросозерцание Вл. Соловьева. II. С. 408, примечания.
(обратно)562
Е. Н. Трубецкой. Метафизические предпосылки познания. С. 325.
(обратно)563
Е. Н. Трубецкой. Миросозерцание Вл. Соловьева. II. С. 17.
(обратно)564
В. С. Соловьев. Соб. соч.Х. С. 87.
(обратно)565
Там же. С. 42.
(обратно)566
Хотя, нам кажется, Соловьев не везде удержался на этой позиции, и местами, где он отдает должное земле, он говорит о боге «отвлеченно».
(обратно)567
Е. Н. Трубецкой. Миросозерцание Вл. Соловьева. II. С. 391.
(обратно)568
В. С. Соловьев. Соб. соч. VII. С. 181.
(обратно)569
Е. Н. Трубецкой. Миросозерцание Вл. Соловьева. II. С. 394 и сл.
(обратно)570
В. С. Соловьев. Соб. соч. III. С. 121.
(обратно)571
Там же. С. 321.
(обратно)572
Там же. С. 189.
(обратно)573
M. Rubinstein. Das Wertsystem Hegels und die entwertete Persönlichkeit.
(обратно)574
В «Метафизических предположениях познания» Е. Н. Трубецкого (с. 286) говорится: «Если я говорю правду, это значит, что не только «я вижу зеленое», но и абсолютное сознание видит меня видящим зеленое».
(обратно)575
О нем см. гл. о Г.-В. Лейбнице и А. Шопенгауэре.
(обратно)576
Е. Н. Трубецкой. Миросозерцание Вл. Соловьева. II. С. 412.
(обратно)577
Там же. С. 409.
(обратно)578
То же допущение зла богом см. в гл. о Г.-В. Лейбнице.
(обратно)579
Е. Н. Трубецкой. Миросозерцание Вл. Соловьева. II. С. 408.
(обратно)580
Там же. С. 394 и сл.
(обратно)581
В. С. Соловьев. Соб. соч. VII. С. 212 и сл.
(обратно)582
Л. Н. Лопатин. Вл. Соловьев и князь Е. Трубецкой // Вопросы философии и психологии. 1913. № 5.
(обратно)583
В. С. Соловьев. Соб. соч. X. С. XXXVIII.
(обратно)584
Там же. VII. С. 180.
(обратно)585
Е. Н. Трубецкой. Миросозерцание Вл. Соловьева. I. С. 360.
(обратно)586
Там же.
(обратно)587
В. С. Соловьев. Соб. соч. III. С. 120, 284.
(обратно)588
Там же. С. 145.
(обратно)589
Е. Н. Трубецкой. Миросозерцание Вл. Соловьева. I. С. 361.
(обратно)590
В. С. Соловьев. Соб. соч. III. С. 281.
(обратно)591
Там же. VII. С. 19, 192.
(обратно)592
Там же. С. 211.
(обратно)593
Там же. X. С. 226.
(обратно)594
Е. Н. Трубецкой. Миросозерцание Вл. Соловьева. II. С. 288.
(обратно)595
С. А. Котляревский. Философия конца // Вопросы философии и психологии. 1913. № 4. С. 327.
(обратно)596
В. С. Соловьев. Соб. соч. III. С. 145.
(обратно)597
См. гл. о А. Шопенгауэре.
(обратно)598
См. формулу безусловного начала нравственности. Вл. Соловьев. Оправдание добра. VII. C. 189.
(обратно)599
I. Kant. Populäre Schriften. S. 269.
(обратно)600
I. Kant. Kritik der praktischen Vernunft. P. 101.
(обратно)601
Н. А. Бердяев. Смысл творчества. С. 95.
(обратно)602
Там же. С. 261.
(обратно)603
C. H. Булгаков. Трансцендентная проблема религии // Вопросы философии и психологии. 1914. № 4. C. 587 и сл.
(обратно)604
См. гл. о Вл. Соловьеве и Е. Н. Трубецком.
(обратно)605
Интеллектуальная любовь к богу (Прим. ред.).
(обратно)606
R. Eucken. Die Lebensanschauungen der großen Denker. S. 225.
(обратно)607
О рабстве воли (Прим. ред.).
(обратно)608
См. увлекательную статью Л. М. Лопатина: Неотложные задачи современной мысли // Вопросы философии и психологии. 1917. № 1; С. Н. Булгаков. Софийность твари. Там же. 1916. № 2 – 3. Ср. также Н. О. Лосский. Мир как органическое целое. Там же. 1915. № 2. С. 213 – 215.
(обратно)609
А. Schopenhauer. Epiphilosophie. W. II. S. 758.
(обратно)610
Seneca, Lucius Annäus. Ausgewählte Schriften des Philosophen Lucius Annäus Seneca. S. 142.
(обратно)611
Г.-В. Лейбниц. Рассуждение о метафизике. § 7. С. 58.
(обратно)612
С. Н. Булгаков. Софийность твари. С. 171 и сл.
(обратно)613
Ср. кн. Иова, гл. XIV: «Земля не закрой моей крови, и да не будет остановки воплю моему… К богу каплет око мое, чтобы человек мог препираться с богом, как человек с ближним своим».
(обратно)614
Г. Спенсер. Статьи о воспитании. С. 64.
(обратно)615
Л. Н. Лопатин. Неотложные задачи современной мысли.
(обратно)616
J.-G. Fichte. Anweisung zum seligen Leben. S. 121.
(обратно)617
При чтении Соловьева, Бердяева, Булгакова и др. пессимистические тона невольно заставляют вспомнить о Шопенгауэре, о буддизме. Всех их роднит идея «спасения» мира. Пессимизм христианства отметил Шопенгауэр; см., например: Die Welt als Wille und Vorstellung. W. I. S. 422. Ср. также: Ibid. II. S. 722 о связи с квиетизмом.
(обратно)618
F. Nietzsche. Also sprach Zarathustra. W. VII. S. 42 – 43.
(обратно)619
Н. А. Бердяев. Смысл творчества.
(обратно)620
Там же. С. 30.
(обратно)621
Там же. С. 246 – 247, 250.
(обратно)622
Там же. С. 14.
(обратно)623
Там же. С. 94.
(обратно)624
Там же. С. 124.
(обратно)625
Там же. С. 127.
(обратно)626
Там же. С. 131.
(обратно)627
В такую форму отлились старые попытки мыслить бога ограниченным. Ведь священные книги не раз рисуют столкновения бога и сатаны. Не только у Гете Мефистофель делает благодушное заявление, что он любит время от времени побеседовать «mit dem alten Herrn», – co стариком, и действительно беседует, но сатана искушал Христа; в кн. Иова упоминается также о беседах сатаны с богом; здесь сатана мыслится далеко не совсем пассивным и в отношении бога: бог упрекает сатану в том, что тот (гл. II) «возбуждал меня против него (Иова), чтобы погубить его безвинно».
(обратно)628
Н. А. Бердяев. Смысл творчества. С. 166.
(обратно)629
Там же. С. 237, 279.
(обратно)630
Там же. С. 315.
(обратно)631
Там же. С. 261.
(обратно)632
F. Nietzsche. Der Wille zur Macht. W. X. S. 190.
(обратно)633
Ibid. Also sprach Zarathustra. S. XVII.
(обратно)634
Ibid. S. 24.
(обратно)635
«Так говорил Заратустра» и «Воля к власти» (Прим. ред.).
(обратно)636
F. Nietzsche. Also sprach Zarathustra. Vorwort.
(обратно)637
Ibid. W. XI. S. 263.
(обратно)638
Iulius Zeitler. F. Nietzsches Ästhetik. S. 240.
(обратно)639
F. Nietzsche. Also sprach Zarathustra. S. 40. Von den Lehrstühlen der Tugend.
(обратно)640
Ibid. Der Wille zur Macht. IX. S. 472.
(обратно)641
Ibid. S. 523.
(обратно)642
Ibid. S. 527.
(обратно)643
Ibid. Also sprach Zarathustra. S. 12.
(обратно)644
Потусторонники (Прим. ред.).
(обратно)645
F. Nietzsche. Also sprach Zarathustra. S. 43.
(обратно)646
Там же. S. 124.
(обратно)647
Там же. S. 263. «Бог на кресте есть проклятие жизни», говорит Ницше: Der Wille zur Macht. W. X. S. 220, резко нападая на христианство.
(обратно)648
Ibid. S. 125 – 126.
(обратно)649
Ibid. S. 24.
(обратно)650
Ibid. S. 42 – 43.
(обратно)651
Ibid. Der Wille zur Macht. IX. S. 351.
(обратно)652
Ibid. Also sprach Zarathustra. S. 137.
(обратно)653
Ibid.XXVIII.
(обратно)654
Ibid. Der Wille zur Macht. X. S. 53.
(обратно)655
Ibid. Also sprach Zarathustra. VII. S. 137.
(обратно)656
Ibid. S. 135.
(обратно)657
Ibid. Der Wille zur Macht. IX. S. 351.
(обратно)658
Ibid. Also sprach Zarathustra. S. XXIX.
(обратно)659
Ibid. S. 20.
(обратно)660
Ibid. S. 486.
(обратно)661
Ibid. S. 175 – 176.
(обратно)662
Ibid. S. 130. Von den Mitleidigen.
(обратно)663
Ibid. Речь «Drei Verwandlungen»; Menschliches, Allzumenschliches. W. III. S. 53.
(обратно)664
Ibid. Der Wille zur Macht. IX. S. 294.
(обратно)665
Ibid. Вступление ко 2-й книге.
(обратно)666
Ibid. S. 478.
(обратно)667
Ibid. Also sprach Zarathustra. Речь «Drei Verwandlungen».
(обратно)668
Ibid. S. 250.
(обратно)669
Ibid. S. 46.
(обратно)670
Ibid. S. 43 – 44.
(обратно)671
Ibid. S. 48.
(обратно)672
Ibid. S. 43.
(обратно)673
Ibid. S. 112.
(обратно)674
Ibid. Речь «Von den drei Bösen».
(обратно)675
Ibid. S. 291.
(обратно)676
Ibid. Der Wille zur Macht. IX. S. 473.
(обратно)677
Ibid. Ecce homo. XI. S. 348.
(обратно)678
Ibid. Der Wille zur Macht. IX. S. 335.
(обратно)679
Ibid. S. 295.
(обратно)680
Ibid. S. 350
(обратно)681
Ibid. X. S. 362.
(обратно)682
Ibid. S. 145.
(обратно)683
Ibid. IX. S. 138.
(обратно)684
Ibid. X. S. 173.
(обратно)685
См. Foerster-Nietzsche. W. IX. S. XI.
(обратно)686
F. Nietzsche. Also sprach Zarathustra. VII. S. 167; см. также Der Wille zur Macht, например, W. IX. S. 199: «Моя формула – жизнь это воля к власти».
(обратно)687
Ibid. Der Wille zur Macht. X. S. 360.
(обратно)688
Ibid. IX. S. 468.
(обратно)689
Ibid. Also sprach Zarathustra. Nachlass. S. 484.
(обратно)690
Ibid. Der Wille zur Macht. X. S. 156.
(обратно)691
Ibid. Versuch einer Selbstkritik. W. I. S. 36.
(обратно)692
Ibid. Der Wille zur Macht. IX. S. 379.
(обратно)693
См. «Schopenhauer als Erzieher», а также «Wir Philologen».
(обратно)694
F. Nietzsche. Der Wille zur Macht. IX. S. 503.
(обратно)695
Ibid. Also sprach Zarathustra. S. 13, 24.
(обратно)696
Ibid. S. 115.
(обратно)697
Ibid. S. 268.
(обратно)698
Ibid. S. 86.
(обратно)699
Ibid. S. 125.
(обратно)700
Ibid. S. 486.
(обратно)701
Ibid. Der Wille zur Macht. IX. S. 215.
(обратно)702
Ibid. Вступление ко 2-й книге.
(обратно)703
Iulius Zeitler. F. Nietzsches Ästhetik. S. 74 – 81.
(обратно)704
Ibid. S. 5, 9.
(обратно)705
F. Nietzsche. Also sprach Zarathustra. VII. S. 335.
(обратно)706
Ibid. Der Wille zur Macht. X. S. 53.
(обратно)707
Ibid. S. 95, 100 – 101.
(обратно)708
Ibid. S. 220.
(обратно)709
Ibid. S. 75.
(обратно)710
Ibid. S. 76.
(обратно)711
Ibid. S. 143.
(обратно)712
Ibid. Also sprach Zarathustra. S. 58.
(обратно)713
Ibid. S. 262.
(обратно)714
Ibid. S. 298.
(обратно)715
Ibid. S. 311, 487.
(обратно)716
Ibid. S. 41.
(обратно)717
Ibid. S. 499.
(обратно)718
Ibid. Der Wille zur Macht. X. S. 74.
(обратно)719
Ibid. Also sprach Zarathustra. S. 200.
(обратно)720
Ibid. S. 359, 415.
(обратно)721
Ibid. S. 484.
(обратно)722
Ibid. Der Wille zur Macht. X. S. 90.
(обратно)723
Ibid. S. 15.
(обратно)724
Ibid. IX. S. 448.
(обратно)725
Ibid. S. 224, 229.
(обратно)726
Ibid. Also sprach Zarathustra. S. 28.
(обратно)727
Ibid. S. 245 – 246.
(обратно)728
H. Bergson. L’Évolution créatrice. S. 42, 192.
(обратно)729
Ibid. S. 393.
(обратно)730
Ibid. S. VI.
(обратно)731
Ibid. S. 152.
(обратно)732
Ibid. S. 178.
(обратно)733
Ibid. S. 11, 151.
(обратно)734
А. Бергсон. Введение в метафизику. С. 198.
(обратно)735
H. Bergson. L’Évolution créatrice. S. 84.
(обратно)736
Ibid. S. 270.
(обратно)737
Ibid. S. 279.
(обратно)738
Ibid. S. 283.
(обратно)739
Н. Bergson. Essai sur les données immediates de la conscience. P. 84.
(обратно)740
H. Bergson. L’Évolution créatrice. S. 268.
(обратно)741
Ibid. S. 112 – 113.
(обратно)742
Ibid. S. 283.
(обратно)743
Ibid. S. 122.
(обратно)744
Ibid. S. 278.
(обратно)745
Ibid. S. 307.
(обратно)746
Ibid. S. 287.
(обратно)747
Ibid. S. 290.
(обратно)748
Ibid. S. 288.
(обратно)749
Ibid. S. 6.
(обратно)750
Ibid. S. 273, 31.
(обратно)751
Ibid. S. 260.
(обратно)752
Ibid. S. 17.
(обратно)753
Ibid. S. 369.
(обратно)754
Ibid. S. 293.
(обратно)755
Ibid.
(обратно)756
Н. Bergson. Essai sur les données immediates de la conscience. P. 169.
(обратно)757
Ibid. S. 153.
(обратно)758
Н. Bergson. L’Évolution créatrice. S. 260.
(обратно)759
Ibid. S. 288.
(обратно)760
Ibid. S. 289.
(обратно)761
Ibid. S. 396.
(обратно)762
Ibid. S. 46 и сл.
(обратно)763
A. Бергсон. Введение в метафизику. С. 199.
(обратно)764
H. Bergson. Essai sur les données immediates de la conscience. P. 127 – 128.
(обратно)765
A. Бергсон. Введение в метафизику. С. 197.
(обратно)766
Ibid. S. 225.
(обратно)767
P. Кронер. Философия творческой эволюции // Логос. 1910. № 1. С. 110.
(обратно)768
Там же. С. 90.
(обратно)769
Я совершенно не могу согласиться с Л. М. Лопатиным, утверждающим в статье: Вл. С. Соловьев и князь Е. Н. Трубецкой // Вопросы философии и психологии. 1913. № 5. С. 401, что мысль Парменида есть в сущности невинная истина, потому что она сводится к тавтологическому суждению «чего нет, того нет».
(обратно)770
Аристотель. Этика. C. 161.
(обратно)771
I. Kant. Versuch einiger Betrachtungen Über den Optimismus.
(обратно)772
«Грезы духовидца». (Прим. ред.)
(обратно)773
J.-G. Fichte. Sonnenklarer Bericht an das größere Publikum über das eigentliche Wesen der neuesten Philosophie. W. III. S. 557.
(обратно)774
Ibid. Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters. W. iv. S. 63.
(обратно)775
В. С. Соловьев. Соб. соч. III. С. 275.
(обратно)776
Там же. VII. С. 9.
(обратно)777
Там же. X. С. 34 (Воскресные письма).
(обратно)778
Это отмечает и Э. Радлов в своем биографическом очерке к Х т.
(обратно)779
Г. Г. Шпет. Явление и смысл. С. 197.
(обратно)780
Религиозно-философская библиотека в. XX. 1909. C. 63.
(обратно)781
E. Lask. Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre. Eine Studie über den Herrschaftsbereich der logischen Form. S. 69.
(обратно)782
В. С. Соловьев. Соб. соч. VI. С. 418.
(обратно)783
Е. Н. Трубецкой. Мировая бессмыслица и мировой смысл // Вопросы философии и психологии. 1917. № 1. С. 104.
(обратно)784
Г. Г. Шпет. Мудрость или разум.
(обратно)785
Г. Риккерт. О понятии философии // Логос. 1910. № 1. С. 26.
(обратно)786
Эта мысль повторяется у Вл. Соловьева везде. Четко она сформулирована, например, в: Духовные основы жизни. Соб. соч. iii. С. 321 или: Смысл любви. Там же. vi. С. 418: «Под смыслом какого-нибудь предмета разумеется именно его внутренняя связь со всеобщей истиной».
(обратно)787
B. Kern (Das Problem des Lebens in kritischer Bearbeitung. S. 358) подчеркивает, что понятие цели имеет смысл только, если оно приводится в связь с сознанием – объективная целесообразность есть внутренне противоречивое понятие.
(обратно)788
В. Виндельбанд. Прелюдии. С. 25.
(обратно)789
Е. Н. Трубецкой. Миросозерцание Вл. Соловьева. I. С. 361.
(обратно)790
В. С. Соловьев. Соб. соч. III. С. 28.
(обратно)791
С. Н. Булгаков. Трансцендентная проблема религии. С. 587 и сл.
(обратно)792
R. Eucken. Die Lebensanschauungen der großen Denker. S. 428.
(обратно)793
К этому см. интересную мысль Н. А. Бердяева: Два типа миросозерцания. С. 314: «Образ божественной жизни есть прежде всего образ индивидуального, а не общего», а также: Смысл творчества. C. 150.
(обратно)794
Н. А. Бердяев. Смысл творчества.
(обратно)795
J.-G. Fichte. Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. W. I. S. 256. Ср. Ibid, S. 238 – мысль, что если бы идеал был достигнут, все субъекты стали бы совершенны, т. е. «все они были совершенно одинаковы друг с другом, они были бы одно, единственным субъектом», а это значит обнищание. Таким образом получается, что несовершенная стадия выше и лучше в общем итоге совершенной с ее единством.
(обратно)796
В. С. Соловьев. Оправдание добра. Соб. соч. VII. С. 206. И. Кант говорит, что высшее благо должно быть в принципе возможным, иначе стремление к нему практически немыслимо; см. «Kritik der praktischen Vernunft». S. 143.
(обратно)797
Е. Н. Трубецкой. Мировая бессмыслица и мировой смысл. С. 81.
(обратно)798
H. Bergson. Essai sur les données immediates de la conscience. P. 17.
(обратно)799
Г. Г. Шпет. Явление и смысл. С. 188 и сл.
(обратно)800
Н. Lotze. Mikrokosmus. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer Anthropologie. III. S. 43.
(обратно)801
В. Джемс. Прагматизм. С. 69. Ср. между прочим, Г. Лотце, а также Дж. Бруно Изгнание торжествующего зверя. C. 27, слова Софии.
(обратно)802
Впервые: О смысле жизни. Философия человека. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Тип. Иванова, 1927. – 269 с. Издание автора. Не переиздавалось (Прим. ред.).
(обратно)803
В данной главе кратко представлены основные положения, выдвинутые М. Рубинштейном в статье: Проблема «Я», как исходный пункт философии. – Иркутск: Тип. Окр. воен.-ред. совета ВСВО, 1923. – 37 с. (Отт. из «Труды профессоров и преподавателей Иркут. гос. ун-та». Вып. 5.) (Прим. ред.).
(обратно)804
Слов а П. Д. Юркевича – цитирую из Г. Г. Шпета: Явление и смысл. С. 18.
(обратно)805
См. Н. О. Лосский. Обоснование интуитивизма. С. 59.
(обратно)806
В начале было деяние (Прим. ред.).
(обратно)807
С. Н. Булгаков. Философия хозяйства. С 10.
(обратно)808
J.-G. Fichte. Sonnenklarer Bericht an das größere Publikum über das eigentliche Wesen der neuesten Philosophie. W. III. S. 557.
(обратно)809
Ibid. II. Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. S. 401.
(обратно)810
Ibid. S. 417.
(обратно)811
В. Джемс. Вселенная с плюралистической точки зрения. С. 185.
(обратно)812
См. Вл. Соловьев, предисловие к «Критике отвлеченных начал». Соб. соч. II. Ср. А. Бергсон. Введение в метафизику. С. 198.
(обратно)813
H. Веrgson. L’Évolution créatrice. P. 398.
(обратно)814
Ibid. P . 6 .
(обратно)815
Ibid. P. 53.
(обратно)816
Истинно сущее (Прим ред.).
(обратно)817
Совпадения противоположностей (Прим. ред.).
(обратно)818
См. Б. П. Вышеславцев. Этика Фихте. С. 255.
(обратно)819
Ложной предпосылкой (Прим. ред.).
(обратно)820
Игнорирование или подмену тезиса (Прим. ред.).
(обратно)821
Я пользуюсь выражением С. Н. Булгакова «Философия хозяйства».
(обратно)822
См. М. М. Рубинштейн. К методологии и гносеологии Декарта // Вопросы философии и психологии. 1909. № 2.
(обратно)823
F. Nietzsche. Also sprach Zarathustra. W. VII. С. 44.
(обратно)824
Ibid. S. 422.
(обратно)825
А. Бергсон. Введение в метафизику. С. 198.
(обратно)826
F. Nietzsche. Wille zur Macht. W. IX. S. 17.
(обратно)827
С. Н. Булгаков. Философия хозяйства. С. 166.
(обратно)828
Н. А. Бердяев. Смысл творчества. С. 43.
(обратно)829
Ср. H. Münsterberg. Grundzüge der Psychologie. S. 93.
(обратно)830
См. Г. Г. Шпет. Сознание и его собственник. С. 3.
(обратно)831
См. С. Sigwart. Logik. II. S. 256 – 257.
(обратно)832
Н. Rickert. Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften. S. 342.
(обратно)833
Отличительная черта (Прим. ред.).
(обратно)834
См. I. Kant. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, начало.
(обратно)835
Признаки, выдвинутые Вл. Соловьевым : Чтения о богочеловечестве. Cоб. соч.III. C. 67.
(обратно)836
М. М. Рубинштейн. Очерк педагогической психологии в связи с общей педагогикой. 4-е изд. М. 1927. Гл. II.
(обратно)837
В. Джемс. Вселенная с плюралистической точки зрения. С. 209.
(обратно)838
Вопреки мнению H. Münsterberg’a в «Grundzüge der Psychоlogie». S. 67.
(обратно)839
Ср. Т. Карлейль. Sartor Resartus. С. 44. «Человек – животное, владеющее орудием»… С. 43. «Без орудий он – ничто, с орудиями – все».
(обратно)840
J.-G. Fichte. Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. W . ii. S. 406 и 403, ср. также: «Die Bestimmung des Menschen». Ibid. iii. S. 347, где Фихте говорит, что он мыслит этот предикат, но «не измышляет» и также ссылается на непосредственное чувство.
(обратно)841
Раб, народ и угнетатель
Вечны в беге наших дней.
Счастлив мира обитатель
Только личностью своей (Гете. Западно-восточный диван. Книга Зулейки. Пер. В. В. Левика) (Прим. ред.),
(обратно)842
См. Н. О. Лосский. Обоснование интуитивизма. C. 2.
(обратно)843
См. Аскольдов. Мысль и действительность. C. 138 – 139.
(обратно)844
См. Вл. Соловьев. Критика отвлеченных начал. Cоб. соч. II. C. 151, 301. Также J.-G. Fichte. Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre. W. II. S. 84; Ibid. Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. S. 616.
(обратно)845
Ср. Вл. Соловьев. Критика отвлеченных начал. Cоб. соч. II. C. 301 и 303.
(обратно)846
Вл. Соловьев. Там же. VII. Оправдание добра. С. 212 – 213.
(обратно)847
Там же. III. Чтения о богочеловечестве. C. 23.
(обратно)848
W. Wundt. Logik. II. Th. II S. 276 и др.
(обратно)849
См. В. В. Зеньковский. Проблема психической причинности. C. 379.
(обратно)850
В моем особом понимании действительности, т. е. действенности – см. гл. IX.
(обратно)851
Е. Н. Трубецкой. Миросозерцание Вл. Соловьева. I. C. 14 – 15.
(обратно)852
J.-G. Fichte. Die Bestimmung des Menschen. W. III. S. 400.
(обратно)853
См. В. Джемс. Психология, гл. о личности.
(обратно)854
Ср. В. В. Зеньковский. Проблема психической причинности. С. 380.
(обратно)855
А. Бинэ. Душа и тело. С. 113.
(обратно)856
Ср. К. Штумпф. Душа и тело // Новые идеи в философии. 1913. № 8. C. 104, где он выражает готовность признать возможность порождения психической жизни органическими процессами (как и В. Джемс).
(обратно)857
H. Rickert. System der Philosophie. I. S. 195.
(обратно)858
Ср. С. Н. Булгаков. Философия хозяйства. C. 278.
(обратно)859
Ср. Вл. Соловьев. Критика отвлеченных начал. Соб. соч. II. С. 79, также R. Eucken. Grundlinien einer neuen Lebensanschauung. S. 91.
(обратно)860
Г. Г. Шпет. Сознание и его собственник. C. 15.
(обратно)861
Г. В. Лейбниц. Избр. соч. Размышление относительно учения о едином всеобщем духе. С. 236.
(обратно)862
J.-G. Fichte. Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. W . II. S. 615.
(обратно)863
Совпадали бы, были бы единым, единым субъектом (Прим. ред.). J.-G. Fichte. Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. W. ii. S. 238.
(обратно)864
Ibid. Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. S. 239.
(обратно)865
См. Dr. М. Rubinstein. Die logischen Grundlagen des Hegelschen Systems und das Ende der Geschichte // Kant-Studien. 1906. То же: Вопросы философии. 1905. № 5.
(обратно)866
Аргумент Ромэнса. См. И. И. Лапшин. Проблема чужого «я» в новейшей философии. С. 27.
(обратно)867
Одиночка (Прим. ред.).
(обратно)868
Человек создан свободным,
Пусть даже он родился в оковах. (Шиллер. Слова веры) (Прим. ред.).
(обратно)869
Из предисловия Конради к переводу «Утилитарианизм». С. XXIX.
(обратно)870
Ср. R. Eucken. Grundlinien einer neuen Lebensanschauung. S. 181.
(обратно)871
См. H. Bergson. Essai sur les données immédiates de la conscience. P. 169.
(обратно)872
Движущей силы (Прим. ред.).
(обратно)873
J.-G. Fichte. Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. W. II. S. 144.
(обратно)874
Ср. H. Cohen. Ethik des reinen Willens. S. 271.
(обратно)875
В. Виндельбанд. О свободе воли. С. 154 – 162.
(обратно)876
Там же. С. 131.
(обратно)877
Принцип разделения (Прим. ред.).
(обратно)878
H. Bergson. Essai sur les données immédiates de la conscience. P. 167.
(обратно)879
Свобода и необходимость суть одно (Прим. ред.).
(обратно)880
G. Bruno. De Immenso et Innumerabilibus. I. 11.
(обратно)881
Вл. Соловьев. Чтения о богочеловечестве. Cоб. соч. III. C. 21; VII. Оправдание добра. С. 38.
(обратно)882
А. Бергсон. Материя и память. С. 248.
(обратно)883
В. Виндельбанд. О свободе воли. С. 106.
(обратно)884
Ср., например, А. Бэн. Психология. ii. С. 262 – 274.
(обратно)885
Д. С. Милль. Система логики. С. 271.
(обратно)886
H. Münsterberg. Philosophie der Werthe. S. 134.
(обратно)887
A. Bergson. Essai sur les données immédiates de la conscience. P. 153.
(обратно)888
Порочным кругом (Прим. ред.).
(обратно)889
См. C. Sigwart. Logik. II. S. 520.
(обратно)890
G. von Gisycki. Moralphilosophie. S. 209. Ср. также: L. Busse. Philosophie und Erkenntnistheorie. I. S. 194.
(обратно)891
См. также G. Simmel. Die Probleme der Geschichtsphilosophie. Eine erkenntnistheoretische Studie. S. 68 – 69.
(обратно)892
Н. А. Умов. Недоразумения в понимании природы // Научное слово. 1904. № 10. С. 27 – 28.
(обратно)893
В. Г Короленко. Очерки и рассказы. С. 138.
(обратно)894
Вл. Соловьев. Критика отвлеченных начал. Соб. соч. II.
(обратно)895
J.-G. Fichte. Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. W . II. S. 553.
(обратно)896
Духовная связь (Прим. ред.).
(обратно)897
Ср. H. Bergson Essai sur les données immédiates de la conscience. P. 127, 128, но Бергсон говорит о целом души, меж тем как это тоже абстракция и действительности не охватывает.
(обратно)898
Эти мотивы слышатся и у Ф. Энгельса, когда он в письме к Г. Штаркенбергу писал: «Люди сами делают свою историю, но до сих пор не сознательно, не руководясь общей волей, по единому общему плану».
(обратно)899
H. Bergson. Essai sur les données immédiates de la conscience. P. 197 – 198.
(обратно)900
Мы на этом останавливаться не будем: В. Виндельбанд в «О свободе воли» хорошо осветил этот вопрос.
(обратно)901
J.-G. Fichte. Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. W . II. S. 553.
(обратно)902
См. И. Ремке. О достоверности внешнего мира для нас // Новые идеи в философии. 1913. № 6. C. 88.
(обратно)903
В развитии последующей мысли я нашел для себя удачно изложенное идейное подкрепление во вдумчивой книге С. Л. Франка: Предмет знания. C. 336 и сл., хотя мне чуждо его философское мировоззрение.
(обратно)904
И. Ремке. О достоверности внешнего мира для нас. C. 80 и сл.
(обратно)905
Ср. А. Бергсон. Введение в метафизику. С. 225; Н. О. Лосский. Обоснование интуитивизма. С. 76, где автор говорит, что «мир не я познается так же непосредственно, как и мир я».
(обратно)906
Например, см. O. Liebmann. Zur Analysis der Wirklichkeit. Philosophische Untersuchungen. S. 36.
(обратно)907
См. H. Lotze «Metaphysik. Drei Bücher der Ontologie, Kosmologie und Psychologie. S. 507 и сл.
(обратно)908
Ср. А. Бине. Душа и тело. С. 91.
(обратно)909
W. Schuppe. Grundriss der Erkenntnistheorie und Logik. S. 24.
(обратно)910
См. M. Фришейзен – Келер. Учение о субъективности чувственных качеств и его противники // Новые идеи в философии. 1913. № 6. C. 32.
(обратно)911
Цитирую из статьи Ф. Бережкова. Субъективны ли чувственные качества // Георгию Ивановичу Челпанову от участников его семинариев в Киеве и Москве. 1891 – 1916. C. 222.
(обратно)912
Там же. С. 215.
(обратно)913
См. М. Фришейзен-Келер. Учение о субъективности чувственных качеств. С. 47.
(обратно)914
См. вообще очень интересную статью М. Фришейзен-Келер, указанную нами в предыдущем примечании.
(обратно)915
См. к этому как и к дальнейшему абзацу: С. Л. Франк. Предмет знания. С. 73 и сл.
(обратно)916
Н. О. Лосский. Мир как органическое целое // Вопросы философии и психологии. 1915. № 2.
(обратно)917
Как если бы (Прим. ред.).
(обратно)918
Ср. Г. Г. Шпет. Явление и смысл. С. 192.
(обратно)919
Ср. А. Бергсон. Essai sur les données immédiates de la conscience. P. 197.
(обратно)920
Интересно, что Б. Эрдман вполне определенно высказался в пользу относительности логических законов, мотивируя это тем, что необходимость логических законов имеет силу только для нашего мышления, так как эта необходимость, как и всякая иная, основана на немыслимости суждений, противоречащих этим законам, а немыслимость сама зависит в свою очередь от условий нашего мышления. Антропологизм был бы избегнут, по мнению Эрдмана, только в том случае, если бы была гарантия, что условия нашего мышления суть в то же время условия всякого возможного правильного мышления, что положения, в которых мы формулируем эти условия, выражают единственно возможную сущность правильного мышления и поэтому вечны и неизменны. См. В. Erdmann. Logik. I. S. 527 и далее. Ср. также А. Бинэ. Душа и тело. С 11.
(обратно)921
См. Н. А. Бердяев. Два типа миросозерцания // Вопросы философии и психологии. 1916. № 4, также: Н. А. Бердяев. Смысл творчества. C. 43 – 45.
(обратно)922
Е. Н. Трубецкой. Миросозерцание Вл. Соловьева. I. C. 6.
(обратно)923
Ср. G. Simmel. Hauptprobleme der Philosophie S. 23, 28 – 29.
(обратно)924
Ср. H. Rickert. System der Philosophie. i. S. 376: «Nur eine für das Werthende Subjekt bestehende Weltordnung taugt zur Grundlage einer einheitlichen Deutung des Lebenssinnes». Лишь тот миропорядок, что предстает перед оценивающим субъектом, может заключать основание для целостного толкования смысла жизни (Пер. ред.).
(обратно)925
См. А. Бергсон. Смех. С. 7.
(обратно)926
F. Nietzsche. Also sprach Zarathustra. S. 86.
(обратно)927
Досократики. I. С. 164.
(обратно)928
Дж. Бруно. Изгнание торжествующего зверя. С. 28.
(обратно)929
Е. С. Dühring. Der Werth des Lebens. S. 84 и сл.
(обратно)930
См. H. Lotze. Mikrokosmus. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer Anthropologie. III. S. 48.
(обратно)931
Ср. H. Cohen. Die Ethik des reinen Willens. S. 278, 280, 283, 285.
(обратно)932
Вл. Соловьев. Воскресные письма. Два потока. Соб. соч. X. С. 49.
(обратно)933
Ср. психологически правдивые строки: E. C. Dühring. Der Werth des Lebens. S. 69, 78.
(обратно)934
Ср. Вл. Соловьев. Чтения о Богочеловечестве. Соб. соч. iii. С. 121; Там же. Духовные основы жизни. С. 279.
(обратно)935
Там же. VII. Оправдание добра. С. 48.
(обратно)936
J.-G. Fichte. Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. W. I. S. 239.
(обратно)937
Н. А. Бердяев. Смысл творчества. С. 165 – 166.
(обратно)938
Слова П. Д. Юркевича. См. Г . Г . Шпет. Явление и смысл. С. 8. Гегель говорил, что нельзя мечтать научиться плавать, не сходя в воду.
(обратно)939
Вл. Соловьев. Критика отвлеченных начал. Соб. соч. II. С. 280.
(обратно)940
F. Medicus. J.-G. Fichte. S. 85.
(обратно)941
Ср. интересные строки у С. Л. Франка. Предмет знания. C. 426.
(обратно)942
Активистический характер истины подчеркнут уже многовековой историей человеческой мысли. Ср., например, Дж. Бруно. Изгнание торжествующего зверя. C. 75.
(обратно)943
Г. Зиммель. Истина и личность// Логос. 1912 – 1913. № 1 – 2. С. 41.
(обратно)944
R. Eucken. Grundlinien einer neuen Lebensanschauung. S. 178.
(обратно)945
С. Л. Франк. Предмет знания. C. 433.
(обратно)946
Л. М. Лопатин. Положительные задачи философии. II. C. 231.
(обратно)947
См. Р. Штейнер. Истина и наука. С. 9 – 10.
(обратно)948
Бенедетто Кроче, из его письма 6-му интернациональному конгрессу философии в Кембридже (Масс.) в сентябре 1926 г.
(обратно)949
G. E. Müller. Zur Analyse der Gedächtnistätigkeit. III. S. 265.
(обратно)950
Ср. M. Scheler. Vom Ewigen in Menschen. S. 62.
(обратно)951
Ср. H. Rickert. System der Philosophiе. I. Гл. 1, а также его же: Философия жизни. С. 51.
(обратно)952
Reichwein А. Kritische oder skeptische Pädagogik // Die Erziehung. 1927. Die Erziehung. 1927. S. 193.
(обратно)953
Здесь интересно вспомнить о великом Спинозе, который в теореме во второй части своей «Этики» подчеркивает, что различие между человеком с истинными идеалами и человеком с ложными идеями заключается в степени реальности и совершенства. Он прямо указывает, что истинная идея относится к ложной, как бытие к небытию.
(обратно)954
Срвн. между прочим H. Lotze. Prinzipien der Ethik, приложение к Metaphysik. S. 615, где он говорит, что «истинным для познающего духа может быть только положение, согласующееся с обыкновениями мышления, которые этому духу его собственная природа делает необходимыми».
(обратно)955
См. П. А. Флоренский. Столп и утверждение истины. C. 74.
(обратно)956
См. гл. X. «Проблема смысла в философии религиозно-философского трансцендентизма», о Соловьеве, Е. Трубецком, Булгакове, Бердяеве и др.
(обратно)957
Ср. Н. А. Бердяев. Смысл творчества. С. 37.
(обратно)958
См. R. Eucken. Grundlinien einer neuen Lebensanschauung. S. 181.
(обратно)959
J.-G. Fichte. Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. W. II. 563 – 564.
(обратно)960
Ibid. III. Bestimmung des Menschen. S. 351.
(обратно)961
Ср. Вл. Соловьев: «Русская идея» кончается словами: «Истина есть лишь форма добра».
(обратно)962
I. Kant. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. S. 2.
(обратно)963
См. Вл. Соловьев. Критика отвлеченных начал. Соб. соч. ii. C. 79; также А. Бергсон. L’Évolution créatrice. S. 287 – 288. Ср. R. Eucken. Grundlinien einer neuen Lebensanschauung. S. 91 и сл.
(обратно)964
A. Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung. ii. S. 716 и 720.
(обратно)965
Л. Н. Лопатин. Вл. Соловьев и князь Е. Трубецкой // Вопросы философии и психологии. 1913. № 5. С. 401.
(обратно)966
H. Bergson. L’Évolution créatrice. S. 306 – 307.
(обратно)967
Ibid. S. 304.
(обратно)968
С. Л. Франк. Предмет знания. C. 127.
(обратно)969
И все к небытию стремится,
Чтоб бытию причастным быть.
(Гете. Единое и Все. Пер. Н. Вильмонта) (Прим. ред.).
(обратно)970
П. А. Флоренский. Столп и утверждение истины. C. 27.
(обратно)971
Ср. к этому прекрасные строки у J.-G. Fichte. Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. W. II. S. 403 и 406.
(обратно)972
В 6-м определении 2-й части своей «Этики».
(обратно)973
В 40-й теореме 5-й части.
(обратно)974
Основы естественного права (Прим. ред.).
(обратно)975
J.-G. Fichte. W. II. S. 21.
(обратно)976
H. Bergson. L’Évolution créatrice. S. 31.
(обратно)977
Г. Флоровский. К обоснованию логического релятивизма // Ученые записки. Т. 1. 1924. C. 116.
(обратно)978
См. H. Rickert. System der Philosophiе. I. S. 96.
(обратно)979
И. И. Лапшин. Опровержение солипсизма // Ученые записки. Т. 1. 1924. С. 39.
(обратно)980
I. Kant. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. § 60.
(обратно)981
R. Eucken. Grundlinien einer neuen Lebensanschauung. S. 184.
(обратно)982
Ср. B. Kern. Das Problem des Lebens. S. 118.
(обратно)983
Из 4-го тезиса доклада проф. К. Н. Корнилова в Психологическом институте. 1926 г.
(обратно)984
H. Lotze. Prinzipien der Еthik, Anhang zur Metaphysik. S. 610.
(обратно)985
А. Бинэ. Душа и тело. С. 149.
(обратно)986
Н. О. Лосский. Обоснование интуитивизма. C. 2.
(обратно)987
Интересное отражение философия тождества нашла в книге врача и естествоиспытателя: Prof. Dr. В. Kern. Das Problem des Lebens, например, S. 2, 343.
(обратно)988
О движении см. очень интересные строки у H. Веrgson. Essai sur les données immédiates de la conscience. P. 84.
(обратно)989
С. Н. Булгаков. Философия хозяйства. C. 79.
(обратно)990
В связи с этим в нашей атмосфере преобладающего влияния марксизма важно отметить одно интересное место в письме Ф. Энгельса к Конраду Шмидту: «И идея, и действительность движутся рядом, как две асимптоты, все время приближаясь друг к другу, но никогда не встречаясь. Эта разница их обоих и есть та разница, которая делает то, что идея не является непосредственно, без дальнейшего действительностью, а действительность не есть непосредственно ее собственная идея… Идея все же больше, чем фикция»; и дальше доказывается, что от несовпадения с действительностью идеи не становятся фикцией.
(обратно)991
См. B. Kern. Dаs Problem des Lebens. S. 16.
(обратно)992
Все живое из живого (Прим. ред.).
(обратно)993
Судьба, жребий (Прим. ред.).
(обратно)994
I. Kant. Kritik der praktischen Vernunft. P. 146.
(обратно)995
I. Kant. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. S. 34.
(обратно)996
J.-G. Fichte. Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. W. II. S. 466: «Мой мир меняется, это значит, я меняюсь…» См. также: J.-G. Fichte. Bestiminung des Menschen. W. I. S. 271: «Природа» груба и дика без руки человека и она должна быть такой, чтобы принудить человека выйти из бездеятельного природного состояния и обработать ее, чтобы он сам превратился из простого естественного продукта в свободное разумное существо».
(обратно)997
Ср. Вл. Соловьев. Чтения о Богочеловечестве. Соб. соч. III. С. 3.
(обратно)998
Ср. H. Cohen. Ethik. S. 15.
(обратно)999
Т. Карлейль. Sartor Resartus. С. 43, 44.
(обратно)1000
С. Н. Булгаков. Философия хозяйства. С. 235.
(обратно)1001
Об их коренном отличии от механического принципа говорит, например, А. Эйнштейн. Эфир и принцип относительности.
(обратно)1002
Действующая причина и конечная цель (Прим. ред.).
(обратно)1003
Вл. Соловьев. Оправдание добра. Соб. соч. vii. С. 197.
(обратно)1004
К. Штумпф. Душа и тело // Новые идеи в философии. 1913. № 8. C. 104. Того же взгляда держался, например, В. Джемс.
(обратно)1005
См. H. Rickert. System der Philosophie. I. S. 89.
(обратно)1006
В. В. Зеньковский. Проблема психической причинности. C. 379. Ср. W. Wundt. Logik. II. Th. II. S. 276 и др. См. также на эту тему вдохновенные страницы у H. Bergson. L’Évolution créatrice.
(обратно)1007
H. Lotze. Mikrokosmus. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Versuch einer Anthropologie. I. S. 384.
(обратно)1008
Ср. J.-G. Fichte. Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. W. I. S. 227.
(обратно)1009
Идея неповторяемости, бесконечного многообразия действительности подробно развита в H. Rickert. Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung; а также в H. Rickert. Probleme der Geschichtsphilosophie.
(обратно)1010
С. Н. Булгаков. Философия хозяйства. C. 43. См. также Вл. Соловьев. Оправдание добра. Соб. соч. VII. С. 259.
(обратно)1011
Ромэн Роллан. В стороне от схватки. С. 13 – 15.
(обратно)1012
Этот взгляд в сущности так же близок Канту, Фихте и Гегелю, как и русскому философу Вл. Соловьеву. У последнего интересно одно из его «Воскресных писем» под заглавием «Небо или земля?»
(обратно)1013
J.-G. Fichte. Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. S. 85 (1794 г.).
(обратно)1014
Ср. гл. о Гете: R. Eucken. Die Lebensanschauungen der großen Denker. S. 429.
(обратно)1015
В 1-й части этого труда.
(обратно)1016
См. В. Джемс. Вселенная с плюралистической точки зрения. Гл. III.
(обратно)1017
J.-G. Fichte. Die Bestimmung des Menschen. W. III. 362.
(обратно)1018
См. H. Bergson. L’Évolution créatrice. S. 11: «Время обозначает изобретение, творчество форм, непрерывное изготовление абсолютно нового». S. 17: «Всюду, где есть жизнь, можно найти следы времени». S. 31: «В этом смысле можно сказать о жизни, как и о сознании, что в каждый момент она нечто созидает».
(обратно)1019
Цитирую из R. Eucken. Die Lebensanschauungen der großen Denker. S. 192.
(обратно)1020
Высшего и полного (Прим. ред.).
(обратно)1021
Выражение Вл. Соловьева. Критика отвлеченных начал. Соб. соч. II. C. 168.
(обратно)1022
Ср. М. М. Рубинштейн. Эстетическое воспитание детей. 3-е изд. 1924. Гл. «Добро и красота в их взаимоотношении».
(обратно)1023
Жизнь разделять я не могу
На явное и скрытое,
Пред каждым в жертвенном долгу
За все, в единство слитое.
(J. W. Goethe. Zahme Xenien. Пер. ред.)
(обратно)1024
См. М. М. Рубинштейн. Половое воспитание с точки зрения интересов культуры. 1926.
(обратно)1025
Вл. Соловьев. Оправдание добра. Соб. соч. VII. С. 156.
(обратно)1026
Н. А. Бердяев. Смысл творчества. С. 202.
(обратно)1027
Вл. Соловьев. Оправдание добра. Соб. соч. VII. С. 156.
(обратно)1028
H. Bergson. Essai sur les données immédiates de la conscience. P. 153.
(обратно)1029
Цитирую из Ш. Лало. Введение в эстетику. C. 85.
(обратно)1030
Более подробно я касаюсь этого вопроса в моей книге: Эстетическое воспитание детей. 3-е изд. 1924, и в моих «Очерках педагогической психологии». 4-е изд. 1927. Гл. «О фантазии у детей и о материале детского чтения».
(обратно)1031
F. Nietzsche. Der Wille zur Macht. W. X. S. 214.
(обратно)1032
Ср. H. Rickert. System der Philosophie. I. S. 338.
(обратно)1033
Ibid. S. 334.
(обратно)1034
Вл. Соловьев. Критика отвлеченных начал. Соб. соч. II. C. 168.
(обратно)1035
См. предисловие F. Ohmann к письмам Канта. I. Kant. Briefe. S. XIX.
(обратно)1036
См. H. Rickert. Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften; H. Rickert. Probleme der Geschichtsphilosophie.
(обратно)1037
H. Bergson. L’Évolution créatrice. S. 151 – 152.
(обратно)1038
Г. В. Лейбниц. Размышление об учении о едином всеобщем духе. C. 237.
(обратно)1039
См. R. Eucken. Grundlinien einer neuen Lebensanschauung. S. 103.
(обратно)1040
J.-G. Fichte. Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. W. I. S. 234.
(обратно)1041
Вл. Соловьев. Критика отвлеченных начал. Соб. соч. II. C. 121.
(обратно)1042
Ср. М. М. Рубинштейн. Очерк педагогической психологии в связи с общей педагогикой. 4-е изд. 1927. Гл. I. § 10.
(обратно)1043
Ср. J.-G. Fichte. Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. W. I. S. 234.
(обратно)1044
См. М. М. Рубинштейн. Платон-учитель. Гл. XVI.
(обратно)1045
I. Kant. Kants populäre Schriften. S. 211. 5-е положение в статье «Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgеrlicher Absicht».
(обратно)1046
J.-G. Fichte. Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. W. I. S. 231 и 234.
(обратно)1047
Вл. Соловьев. Оправдание добра. Соб. соч. VII. С. 272.
(обратно)1048
См. Н. А. Бердяев. Два типа миросозерцания. С. 314.
(обратно)1049
См. F. Nietzsche. Der Wille zur Macht. W. X. S. 143.
(обратно)1050
Ср. R. Eucken. Die Lebensanschauungen der großen Denker. S. 57, где дается характеристика аналогичного взгляда Аристотеля.
(обратно)1051
H. Cohen. Ethik des reinen Willens. S. 280.
(обратно)1052
Мои педагогические выводы я изложил в моих книгах и статьях, посвященных вопросам педагогики: Очерк педагогической психологии в связи с общей педагогикой. 4-е изд. 1927; История педагогических идей в ее основных чертах. 2-е изд. 1922; Семейное или общественное воспитание. 2-е изд. 1918; Эстетическое воспитание детей. 3-е изд. 1918; Основы трудовой школы. 2-е изд. 1921; Проблема учителя. 1927; и т. д.
(обратно)1053
I. Kant. Träume eines Geistersehers.
(обратно)1054
См. 1-ю часть гл. VIII и IX, о религиозно-философском трансцендентизме Вл. Соловьева и его последователей.
(обратно)1055
A. Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung. II. S. 550.
(обратно)1056
E. C. Dühring. Der Wеrth des Lebens. S. 168.
(обратно)1057
Ibid. S. 177.
(обратно)1058
I. Kant. Das Ende aller Dinge. Populäre Schriften. S. 291.
(обратно)1059
J.-G. Fichte. Anweisung zum seligen Leben. W. V. S. 115.
(обратно)1060
В. Джемс. Прагматизм. С. 182.
(обратно)1061
G. Simmel. Philosophische Kultur. S. 319.
(обратно)1062
Вл. Соловьев. Духовные основы жизни. Соб. соч. III. С. 319.
(обратно)1063
J.-G. Fichte. Reden an die deutsche Nation. W. V. S. 532.
(обратно)1064
I. Kant. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. S. 26 – 27.
(обратно)1065
J.-G. Fichte. Die Bestimmung des Menschen. W. III. S. 345.
(обратно)1066
H. Lotze. Metaphysik, приложение «Prinzipien der Ethik». S. 615.
(обратно)1067
I. Kant. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. S. 69.
(обратно)1068
Беру перевод из Вл. Соловьева. Соб. соч. ii. Критика отвлеченных начал. C. 65: «Делать добро моим ближним привык я, но только, к несчастью, делаю это охотно, потому что сердечно люблю их. Как же тут быть? – Ненавидь их и с чувством враждебным и злобным делай добро, и тогда только будешь морально оправдан».
(обратно)1069
См. H. Rickert. System der Philosophie. I. S. 146.
(обратно)1070
Вл. Соловьев. Оправдание добра. Соб. соч. VII. C. 169.
(обратно)1071
Ср. H. Lotze. Prinzipien der Ethik. S. 614.
(обратно)1072
G. Simmel. Philosophische Kultur. S. 319.
(обратно)1073
J. S. Mill. Utilitarianism. S. 24 – 25.
(обратно)1074
J.-G. Fichte. Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. W . II. S. 544.
(обратно)1075
H. Cohen. Ethik des reinen Willens. S. 7.
(обратно)1076
Н. А. Бердяев. Смысл творчества. C. 262 – 263.
(обратно)1077
R. Eucken. Grundlinien einer neuen Lebensanschauung. S. 203.
(обратно)1078
Ср. Г. Спенсер. Статьи о воспитании. С. 157.
(обратно)1079
Н. А. Бердяев. Смысл творчества. С. 262.
(обратно)1080
H. Rickert. System der Philosophie. I. S. 330.
(обратно)1081
J.-G. Fichte. Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. W . ii. S. 567.
(обратно)1082
В. Джемс. Вселенная с плюралистической точки зрения. С. 114.
(обратно)1083
Там же. Гл. 3-я.
(обратно)1084
Ср. I. Kant. Kritik der praktischen Vernunft. P. 101, где он говорит, что при таком абсолюте «der Mensch wäre eine Marionette oder ein Vacansonisches Automat» (Человек был бы марионеткой или аппаратом Вокансона.) (Прим. ред.).
(обратно)1085
Ср. гл. о Г. В. Лейбнице и А. Шопенгауэре 1-й части.
(обратно)1086
Ср. ряд подтверждающих примеров в первой части этого труда.
(обратно)1087
В. Джемс. Вселенная с плюралистической точки зрения. С. 25.
(обратно)1088
Мысль О. Уайльда.
(обратно)1089
H. Rickert. Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften. S. 594.
(обратно)1090
Ср. Ф. Фребель. Воспитание человека. С. 39 и сл.; С. 54.
(обратно)1091
См. педагогические труды проф. М. М. Рубинштейна: Очерк педагогической психологии в связи с общей педагогикой. 4-е изд. М. 1927; Семейное или общественное воспитание. 2-е изд. М. 1918; Эстетическое воспитание детей. 3-е изд. М. 1924; Платон-учитель. 1920. Иркутск; Основы трудовой школы. 2-е изд. Чита. 1921; История педагогических идей. 2-е изд. 1922. Иркутск; Проблема учителя. М. – Л. 1927; Половое воспитание с точки зрения интересов культуры. М. – Л. 1926; Психология, педагогика и гигиена юности. М. 1926 и др.; Журнальные работы в «Вопросах философии и психологии» и «Вестнике воспитания»; См. также сборник: Трудовая школа в свете истории и современности. Под ред. М. М. Рубинштейна. Л. 1925.
(обратно)1092
В данном труде и в Очерке педагогической психологии в связи с общей педагогикой. 4-е изд. 1927. Гл. I. § 10.
(обратно)
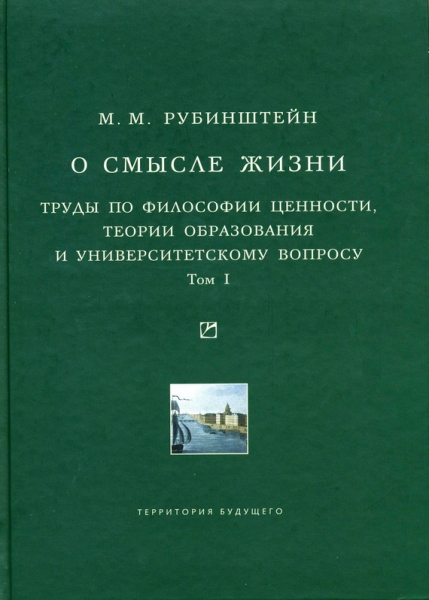


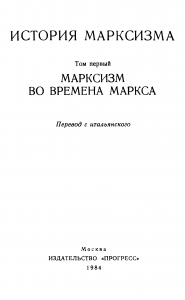
Комментарии к книге «О смысле жизни. Труды по философии ценности, теории образования и университетскому вопросу. Том 1», Моисей Матвеевич Рубинштейн
Всего 0 комментариев