У бодрствующих единый общий мир, во сне же каждый уходит в свой собственный.
Гераклит.
Платон изложил важнейшие части своей системы в целом ряде диалогов, из которых многие читаются теперь почти исключительно специалистами и только один из этих диалогов-"Пир"-сохранил всю художественную свежесть и силу воздействия в течение полутора тысяч лет. Причина этому лежит не только в мыслях, заключенных в "Пире", но и в том, что в нем даны живые, индивидуализированные образы Сократа, Алкивиада, Аристофана и других выдающихся людей. Читатель находит в этом диалоге не только мысли, но и" художественно-законченные характеры.
Чем обусловлена жизненность фигур в "Пире"?
Платон, великий художник, изобразил с истинно-греческой пластичностью внешность людей, окружающую их обстановку и т. д. Но, ведь, в некоторых других диалогах внешность людей и обстановка, в которой они действуют, обрисованы с не меньшим искусством, однако действующие лица все же не достигают такой жизненной полноты; у многочисленных же подражателей Платона, которые искали! жизненности именно в искусстве описания, вы не найдете и следа ее!
Мне кажется, что жизненность героев "Пира" надо искать в другом направлении). Правдивое изображение внешности и поведения людей, верность в описании предметной среды — необходимы; но все же это — вспомогательное, а не главное и решающее средство в создании образа.
Образность "Пира" основана на том, что Платон представляет различное мышление своих персонажей при разрешении одной общей проблемы (что такое любовь) и различное отношение к этому вопросу как различие характеров самих персонажей. Он делает из этого столкновения мыслей глубокую и живую характеристику участников спора. Мысли отдельных людей не являются в его сочинении абстрактным результатом; напротив, в самом процессе мышления, в постепенном выяснении проблемы концентрируется вся индивидуальность каждого действующего лица. Мышление предстает пред нами как процесс, и мы видим, с какой стороны человек подходит к проблеме, что он считает аксиомой, не нуждающейся в доказательствах, что и как он доказывает, до какой степени обобщения он способен подняться, какие он приводит примеры, чем он (пренебрегает и что упускает из виду. Все это и выясняет сущность его характера. Образы целого ряда людей в диалоге Платона выпуклы и незабываемы; при этом их отличие друг от друга, их индивидуальность, возвышающая отдельных людей до типических фигур, определяется исключительно интеллектуальным обликом героев.
Это, конечно, редкий, но далеко не единственный пример в мировой литературе. Напомним, хотя бы, "Племянника Рамо" Дидро и "Неведомый шедевр" Бальзака. Отношение людей к абстрактной проблемe, обусловленное всем их положением, индивидуальный подход к этой проблеме определяет их характеры; своеобразный умственный склад людей имеет здесь решающее значение в создании живых образов.
Эти примеры проливают свет на очень существенную, но мало изученную проблему.
В самом деле. Величайшие шедевры мировой литературы отличаются самой тщательной разработкой интеллектуального облика действующих лиц. И замечателен тот факт, что упадок литературы (это легче всего проследить на примере современных буржуазных писателей) неизбежно сказывается в неясности духовного облика героя, в неспособности писателей поставить и художественно разрешить задачу интеллектуального портрета человека и в принебрежении к этой стороне литературы.
Во всяком значительном произведении люди должны быть представлены в многообразной связи друг с другом, с обществом в целом, с крупнейшими чертами общественного бытия. Чем глубже постигаются эти связи, чем разветвленнее и шире разрабатываются взаимоотношения, тем значительнее становится художественное произведение, тем больше приближается оно к отражению богатства действительной жизни, к той "хитрости" процесса развития, о которой так часто говорил Ленин.
Всякий человек, не отягощенный буржуазно-декадентскими или вульгарно-социологическими предрассудками, легко поймет, что (способ мышления, мировоззрение литературных персонажей представляет собою непременный и чрезвычайно важный момент в художественном изображении действительности.
Всякая характеристика, в которой недостает мировоззрения изображаемого человека, неполноценна. Мировоззрение, это — высшая форма сознания.; следовательно, если писатель его проглядел, он тем са- […]
воззрение является глубоко личным переживанием отдельного человека, в высшей степени характерным выражением его внутренней сущности, и в то же время оно отражает в той или иной мере общие проблемы эпохи.
В связи с вопросом об интеллектуальном облике героя могут возникнуть некоторые недоразумения. Для хорошо разработанного интеллектуального портрета не всегда обязательно, чтобы взгляды героя были правильны, чтобы в его мировоззрении действительность отражалась вполне адекватно. Толстой — один из величайших художников и лучших мастеров характеристики. Но возьмем, например, его Константина Левина. В чем он прав? В сущности говоря — ни в чем. Толстой изображает неправоту своего любимца с безжалостной правдивостью. Напомню о спорах Левина с братом или с Облонcким. B них Толстой изображает с величайшим искусством умственные блуждании Левина, его скачкообразную манеру мыслить, его кризисы и переходы от одной крайности к другой. Но как раз в этих непрестанных и резких изменениях взглядов открывается единство интеллектуального облика Левина: его особенный подход к различным, иногда противоположным точкам зрения. Какой бы неожиданный оборот, ни принимали его мысли, характер мышления остается все тем же, лично ему, Константину Левину, присущим. Притом это индивидуальное единство не заставляет образ, созданный Толстым, застревать в области чисто личного: именно в своей индивидуальной форме, со всеми ее погрешностями, мировоззрение Левина становится, общезначительным.
Второе возможное недоразумение, это- представление о том, будто интерес к интеллектуальным особенностям человека делает образ его. в (литературном произведении абстрактным и рассудочным. Некоторые видят даже в подобной рассудочности особое преимущество. К такому взгляду приводит иногда вполне справедливая полемика против плоского натурализма.
Как-то, восставая против натуралистических банальностей, Андре Жид указал на "Митридата" Расина и в особенности на спор царя со своими сыновьями (о борьбе с Римом или капитуляции). Андре Жид говорит: "Конечно, ни один отец никогда не мог так разговаривать с сыновьями, и, несмотря на это (или именно поэтому), все отцы и все сыновья узнают себя в этой сцене". Если бы это рассужденье было правильным, то отвлеченность и рассудочность Расина или Шиллера были бы наилучшим творческим, принципом для выражения интеллектуального облика людей. По нашему мнению, это не соответствует действительному положению вещей. Достаточно сравнить персонажи Расина с героями шекспировских драм, например с Брутом и Кассием, мировоззрения которых противоположны. Достаточно сравнить столкновения шиллеровского Валленштенка, Октавия и Макса Пикколомины с противоречиями между Эгмонтом и принцем Оранским у Гете. Надо думать, никто не усомнится, в том, что у Шекспира и Гете не только жизненность образов ярче, но и контуры интеллектуальной физиономии героев много определеннее и яснее. Почему-это не трудно понять. Связь между мировоззрением и личной жизнью людей у Расина и Шиллера гораздо проще, прямолинейнее, неподвижнее, чем у Шекспира или Гете.
Андре Жид совершенно, прав, когда возражает против банальной и плоской "натуральности" и выступает в защиту литературы, стремящейся к более глубоким обобщениям. Однако у Расина и Шиллера "всеобщее" предстает слишком непосредственно; персонажи Шиллера-по выражению Маркса, — это просто "рупоры времени".
Возьмем сцену из "Митридата", где происходят раздоры между царем и его сыновьями, — сцену, так возвеличенную Жидом. На очень высоком риторическом уровне, в великолепно звучащих, утонченных и пересыпанных сентенциями трех больших речах взвешиваются доводы за и против того или иного отношения те Риму. Но к а к: возникли различные позиции из самой жизни каждого действующего лица, какие переживания, какие жизненные события наталкивают каждого на определенную аргументацию своего взгляда, — все это остается во тьме. Единственное личное столкновение, изображенное в этой пьесе, — любовь царя и обоих его сыновей к одной и той же женщине, — очень слабо, можно сказать, чисто внешне связано с тем спором, о котором говорит Жид. Вот почему, как ни тонко, в плане рассудочном, разработан этот конфликт, юн повисает в воздухе, не коренится в человеческих страстях и не может придать действующим лицам интеллектуальную характерность.
Для примера рассмотрим также одну ив многих контрастных, характеристик у Шекспира. Брут — стоик, Кассий — эпикуреец. Это сказано у Шекспира лишь в нескольких словах, почти намеком. Но как глубоко связан стоицизм Брута со всей его жизнью! Его жена Порция — дочь Катона; все ее отношение к жизни в высочайшей степени проникнуто римско-стоическим направлением мысли и чувств. Как характерны для своеобразного стоицизма Брута его чисто-идеалистические, наивно-доверчивые поступки и его речь, намеренно лишенная прикрас, избегающая всякого риторического блеска. То же относится и, к эпикуреизму Кассия. Но это человек другого типа. Когда уже можко было предвидеть трагический исход восстания, когда все говорило о том, что республиканцы потерпят поражение, эпикуреец Кассий отрекается от своего атеизма и начинает верить в приметы и предсказания, осмеянные Эпикуром.
Все это, конечно, лишь отдельные черты в характеристике Брута и; Кассия у Шекспира. И, все же, какое сложное сплетение личной жизни с большими общественными проблемами! В противоположность этому, индивидуальность и единичное явление вообще связаны у Расина с абстрактной всеобщностью без всякого опосредствования, прямо и негибко. Уже давно признано богатство и жизненность образов Шекспира и отвлеченность персонажей Расина; однако из этой противоположности не были извлечены выводы, которые, на наш взгляд, чрезвычайно […]
Дело — в художественном отражении богатства и глубины объективной действительности. В жизни люди не движутся просто один подле другого — они борются в союзе друг с другом против других людей или против слепых сил природы, и эта борьба является основой существования человека, основой, на которой развивается его индивидуальность.
Сюжет — как конкретное воплощение взаимодействия сил в человеческой практике; конфликт- как главная сторона этой противоречивой и напряженной борьбы; сопоставления, контрасты-как форма проявления того направления, в котором одна человеческая страсть усиливает другую или противодействует ей, — все эти формы литературной композиции отражают наиболее общие и необходимые формы человеческой жизни.
Но дело не только в общих формах. Общие, типические явления должны предстать как особые, индивидуализированные поступки, как индивидуальные страсти определенных людей.
Художник находит такие положения и средства, при помощи которых он может наглядно показать, как эти индивидуальные стремления перерастают рамки чисто-личного мира.
Именно в этом заключается секрет возвышения индивидуальности до типа, без сглаживания и даже, напротив, посредством усиления ее особенных черт. Конкретно очерченное сознание, — так же, как и последовательно развитая, до предела выросшая страсть, — дает индивидууму возможность выявить дремлющие в нем особенности. Художественная правда требует, чтобы литературное развитие определенных черт героя, — пусть даже развитие вплоть до гротеска, — опиралось только на то, что уже есть в человеке, как возможность. Иначе литература впадает в ходульность. Идейный мир изображаемого индивидуума нельзя отрывать от реально существующих в человеке возможностей. Идейный образ, в основе которого нет живой игры страстей, всегда будет бескровным и отвлеченным (как это часто бывает у Расина и Шиллера). Этот образ может быть значительным и типичным только в том случае, если художнику удалось проследить многообразную связь личных черт своего героя с объективными и общими проблемами эпохи, если персонаж переживает, зримо для нас, самые, казалось-бы, отвлеченные проблемы своего времени как самые индивидуальные, кровно его интересующие вопросы.
В этой связи совершенно ясно, что способность героя к обобщающему мышлению играет огромную роль для литературного произведения. Обобщение только тогда превращается в пустую абстракцию, когда из поля нашего зрения уходит связь отвлеченного мышления с теми личными переживаниями героя, которые читатель (невольно испытывает вместе с ним. Если же художнику удается изобразить эту связь с достаточной полнотой, то насыщенность литературного произведения столкновениями идей не только не препятствует художественной конкретности образов, а, наоборот, усиливает ее.
Напомним "Годы учения Вильгельма Мейстера" Гете. Важнейшая часть этого замечательного романа содержит рассказ о подготовке к представлению "Гамлета". При этом Гете, в противоположность тому, как поступил бы в этом случае Золя, уделяет очень мало внимания описанию технических частностей спектакля. Подготовка к представлению у него, прежде всего, чисто интеллектуальная; перед нами проходит целый ряд спорных, противопоставляемых друг другу толкований характеров отдельных фигур из "Гамлета", противоположных мнений о композиционном принципе пьесы Шекспира, споров о драматической поэзии и т. д. Анализ этих проблем здесь нисколько не абстрактен в художественном смысле слова. Каждое суждение, каждая реплика, каждое возражение не только дает нечто новое для понимания темы, но всякий раз открывает новую и более глубокую черту в характере персонажа и, притом, такую черту, которая не проявилась бы вне этого спора о "Гамлете". Индивидуальное своеобразие Вильгельма Мейстера, Зерло, Аврелия и других открывается именно в том, как они — каждый по-своему, — как теоретик, актер или режиссер, — пытаются осмыслить шекспировскую проблему. Их интеллектуальный облик вполне определяется в этих опорах. Он завершает изображение их индивидуальностей, объединяет в органическое 'Целое отдельные черты и свойства этих людей.
Но интеллектуальный облик персонажей имеет еще большее значение для композиции произведения. Андре Жид в своем анализе творчества Достоевского очень тонко и верно заметил, что каждый крупный художник создает известную иерархию действующих лиц. Эта. иерархия очень показательна для общественного содержания вещи и для мировоззрения автора, ко она интересна также как важное средство для группировки персонажей от центра произведения к его периферии. Другими словами, эта иерархия влияет на композицию произведения.
Мы коснемся здесь этой проблемы с формальной стороны. В каждом хорошо построенном произведении несомненно имеется (иерархия действующих лиц; художник определяет для каждого из своих персонажей тот или иной "ранг", который делает данное лицо главной или эпизодической фигурой. В плохо построенном произведении читатель сам инстинктивно ищет подобную иерархию и бывает разочарован, если центральная фигура романа не занимает по отношению к другим действующим лицам то место, которое ей принадлежит по праву.
Но "ранг" центрального героя в огромной мере зависит от степени осознания им своей судьбы, от его способности осмыслить превратности своего личного развития, подняться до конкретного понимания общих проблем. Шекспир во многих драмах (зрелого периода своего творчества) прибегает к параллельному изображению двух сходных жизненных путей; при этом "ранг" главного героя, его предназначение быть центром всего произведения определяется способностью героя к сознательному обобщению своих переживаний. Укажу хотя бы на общеизвестные параллели: Гамлет — Лаэрт и Лир — Глостер. В обоих случаях главное действующее лицо превосходит эпизодическое тем, что оно не воспринимает свою личную судьбу как простую цепь случайностей и не реагирует на происходящее только непосредственно. Глубочайшая, индивидуальная черта этих возвышенных образов состоит именно в том, что они стремятся всем своим существом выйти за пределы непосредственно данного и рассматривают свой жизненный, путь в целом в его связи с общественными судьбами человечества.
Таким образом, содержательный, многообразный, четкий и глубокий интеллектуальный облик дает возможность литературному персонажу по праву занять центральное место в композиции произведения.
Но если яркость интеллектуального облика является непременным условием для того, чтобы действующее лицо стало в центре внимания, то это не всегда влечет за собой требование, чтобы взгляды, выражаемые главным героем, были неизменно верны. Кассий смотрит на вещи правильней Брута, Кент-правильнее Лира, принц Оранский — правильнее Эгмонта. А, между тем, Брут, Лир и Эгмонт являются, главными фигурами, именно, вследствие более высокого развития их интеллектуального облика. Почему? Да потому, что иерархия, о которой мы говорили выше, не устанавливается на основе отвлеченных масштабов. Нет абстрактной противоположности между истиной к ложью. В истории бывают чрезвычайно сложные и противоречивые положения. А центральные герои трагедии, это — не какие-нибудь жалкие ренегаты, лживые фразеры и двурушники. Их ошибки, глубоко-трагичны. Брут для Шекспира, Эгмонт для Гете обладают именно теми типичными чертами, которые наиболее характерны, для трагического столкновения, для своеобразного общественного конфликта. Когда этот конфликт понят художникам глубоко и точно его дальнейшей задачей является выбрать для изображения таких людей, чьи личные качества и духовные особенности больше всего гадятся для выражения этого конфликта. Сила мысли, способность к отвлеченному мышлению, это только одно из многочисленных средств, посредством которых единичное жизненное явление, отдельный человек связывается с общей проблемой.
Во воякам случае, мы имеем здесь дело с очень важным моментом подлинного художественного творчества. Способность личности к самосознанию играет первостепенную роль в искусстве. Конечно, выход личной судьбы за рамки чего-то чисто индивидуального может принимать здесь самые различные формы. Какие именно — это зависит не только от одаренности художника, но также и от характера разрабатываемой проблемы и от интеллектуального облика персонажей. Шекспировский Тимон поднимает свою личную судьбу на такую ступень абстракции, что его жизнь превращается в обвинительный акт против денег, разлагающих и развращающих общество. Для Отелло поколебленная вера в Дездемону означает потрясение всех основ человеческого существования. Но между Отелло и Тимоном нет принципиального различия с точки зрения художественного изображения человеческого самосознания, интеллектуального облика человека. В обоих случаях судьба отдельного человека поднимается выше чисто личного и случайного.
Размещение действующих лиц соответственно их "рангам" является в искусстве отражением объективной действительности, а не каким-то формалистическим каноном. Этот способ изображения дает возможность выявить действительно-типичные и определенные черты общественного состояния исторически сложившихся типов людей. Роль этого композиционного момента яснее всего можно видеть в произведениях Бальзака. Бальзак создал почти необозримое множество образов людей из различных классов буржуазного общества. Он никогда не удовлетворялся тем, чтобы изобразить какой-либо общественный слой или группу в лице одного ее представителя; всякая типичная форма того или иного общественного явления представлена у него в целом ряде различных фигур, среди которых главное место всегда занимает лицо, одаренное наибольшим самосознанием и наибольшей определенностью интеллектуальной физиономии. (Таков Вотрен как преступник, Гобсек как ростовщик и т. д.)
Разработка интеллектуальной физиономии предполагает чрезвычайно глубокую и всестороннюю характеристику личности. Для того, чтобы мысль героя поднялась до высокого уровня сознательности, вовсе не требуется сглаживание его индивидуальных особенностей. Наоборот, для этого необходима возможно более глубокая характеристика индивидуальности. Мысль не предстает здесь просто как результат, но изображается самый процесс мышления. Связь между жизнью и представлениями действующего лица должна быть живой и наглядной. Но важнее всего, с этой точки зрения, такая концепция характера в целом, чтобы из самого характера вытекал тот или иной уровень духовных способностей.
Таким образом, работа над интеллектуальным обликом героя диктуется правильным пониманием типичности в литературе. Чем глубже понял художник эпоху и ее проблемы, тем дальше будет его произведение от обыденности. Ведь в повседневной, обыденной жизни существенное затушевывается бесчисленными случайностями, причинные связи которых не видны, и глубокие противоречия жизни выявляются в чистой и совершенно наглядной форме лишь тогда, когда каждое из них доведено до своих крайних последствий. Способность создания типических характеров и положений, присущая всякому большому художнику, отнюдь не сводится к умению наблюдать явления повседневной действительности. Глубокое звание жизни никогда не ограничивается такого рода наблюдением. Оно основано на познании существеннейших сторон действительности и создает такие характеры и положения, точные копии которых нельзя встретить в бытовой обстановке. В этих выдуманных ситуациях обнаруживаются с наибольшей наглядностью не затемненные массой безразличных случайностей объективные жизненные противоречия.
Дон-Кихот — один из типичнейших в этом смысле образов мировой литературы. Его борьба с ветряными мельницами — одно из самых замечательных по своей типичности положений, какие были когда-либо созданы художником. Однако, такой характер и такие положения невозможны в повседневной жизни. Можно сказать, что типичность характера всегда предполагает возвышение его над обыденным уровнем. Достаточно сравнить произведение Сервантеса с талантливой попыткой перенести всю проблематику дон-кихотства в обыденную жизнь с "Тристрамом Шенди" Стерна, чтобы убедиться в том, насколько менее типично и глубоко выражаются в повседневности существенные противоречия человеческого бытия. (Уже самый выбор материала показывает, насколько слабее и субъективнее, чем Сервантес, ставит проблему дон-кихотства Стерн).
Крайности типических положений необходимы для того, чтобы извлечь и развернуть во всей полноте скрытые черты человеческого характера. Правда, склонность к преувеличениям в характерах и положениях встречается не только у великих писателей-реалистов; она возникает также в романтической литературе, как протест против жизненной прозы капиталистического общества. Но для "чистых" романтиков преувеличения являются самоцелью и служат для выражения оппозиционно-лирических настроений личности или для придания литературному произведению живописной яркости; у классиков художественного реализма преувеличенные характеры и необычные положения (всегда имеют подчиненное значение и нужны для того, чтобы лучше определить типическое явление в его чистейшей форме.
Это различие возвращает нас к вопросам композиции. Типичность персонажей неотделима от правильно-выбранной композиции. В литературе, как и в самой жизни, не может быть типов, изолированных от всего остального мира. Умение создавать типичные образы из крайне заостренных положений и гипертрофированных характеров предполагает реалистическое искусство воспроизведения всей общественной обстановки. Нужно, чтобы из произведения в целом ясно было, как необычное и с поверхностной точки зрения странное поведение действующего лица определяется реальными общественными противоречиями и как в самом преувеличении оно остается на почве реальности. Литературный персонаж становится типом только в сравнении с другими образами людей, которые выражают собой другие стороны жизни, другие формы проявления тех же противоречий. На высоту подлинной типичности литературный образ поднимается только как часть этого сложного, изменчивого и внутренне-противоречивого целого.
Возьмем Гамлета — фигуру величайшей типичности. Без контраста с Лаэртом, Горацио, Фортинбрасом типичные черты Гамлета, вообще, не могли бы. проявиться. Типичность характера Гамлета выступает лишь благодаря тому, что в действии, изобилующем крайне напряженными ситуациями, всевозможные люди, его окружающие, по разному (развивают в своих мыслях и чувствах одни и те же, объективно данные проблемы.
Именно поэтому определенность интеллектуального облика играет такую важную роль для создания типического образа. Высоко развитый интеллект героя, проявляющийся в понимании им своей судьбы, необходим, прежде всего, для того, чтобы выразить общее содержание, лежащее в основании произведения, т. е. определенные жизненные проблемы в их высшей и наиболее чистой форме, а тем самым сделать оправданной необычность положений. Правда, реальные противоречия жизни уже содержатся в самих положениях, но они должны быть высказаны. Для того, чтобы действительные связи между людьми стали наглядны для каждого, необходимы и размышления действующих лиц о своих собственных поступках.
Обыденные повседневные рассуждения, разумеется, недостаточны. Здесь необходима та высота мысли, о которой мы говорили выше, как в смысле объективного понимания, так и в. смысле субъективной цельности, естественной связи мышления с положением, характером и переживаниями действующего лица.
Вот характерный пример. Вотрен предлагает Растиньяку жениться на дочери миллионера, которую не любит отец. Сам Вотрен берет на себя заботу о том, чтобы сын миллионера был убит на дуэли, а дочери досталось все наследство; он хочет получить за это половику наследства. Это могло быть сюжетом для обычного детективного романа. Но внутренние конфликты Растиньяка являются конфликтами всего молодого поколения буржуазной интеллигенции в эпоху, последовавшую за падением империи Наполеона. Это видно хотя бы из разговоров Бьяншона.
Общественные противоречия, породившие эти конфликты, обнаруживаются в анализе жизненного опыта таких социально-различных людей, как Вотрен и виконтесса де Босеан, в ярком контрасте между судьбой Горио и мыслями Растиньяка. Лишь вследствие всего этого описываемая у Бальзака ситуация возвышается над простой уголовщиной и становится большой общественной трагедией. Точно также лишь в бурном столкновении мысли и жизненных фактов художественно оправдана сцена суда над дочерью, который устраивает безумный король Лир во время бури в степи, под, открытым небом; сцена с актерами в "Гамлете", где принц произносит монолог о Гекубе, и т. п.
Итак, посредством обрисовки интеллектуальной физиономии своих героев писатель поднимает исключительное и личное в них до уровня художественной необходимости. Из множества необычных ситуаций, которые заключены в произведениях классиков реализма, возникает цельная, упорядоченная картина.
Различия в духовном облике героев, яркие контрасты между ними, споры и столкновения интеллектуального порядка, — все это служит у великих писателей мощным связующим средством. Разнообразие подобных приемов необычайно велико. Противоположность персонажей может быть выражена без рассуждений, специально ей посвященных. Таков, например, контраст между смелой мыслью Гамлета и ограниченностью душевных движений Лаэрта. Но о подобной противоположности иногда говорится и непосредственно, как, например, в размышлениях Гамлета после его первой встречи с Фортинбрасом. Иногда контраст подчеркивается сознательно проведенной параллелью; таково, например, удивление Растиньяка по поводу того, что каторжник Вотрен и аристократка де Босеан одинаково судят о социальных порядках в обществе. Наконец, подчеркиваемое художником различие духовного облика его героев может быть постоянным аккомпаниментом, атмосферой, в которой происходят все события (пример — "Избирательное сродство" Гете).
Общность всех этих различных форм опять-таки далеко нe только формальная. Параллели, контрасты и тому подобные приемы литературного творчества отражают действительные взаимоотношения между людьми. Только потому, что эти приемы являются слепками с объективной действительности, они могут быть средством художественного обобщения жизненных явлений, выражением типического в жизни.
Основа всякого истинно великого произведения, это-мир "бодрствующих" людей, тот самый мир, о котором так хорошо сказало у Гераклита. Это- мир борющихся между собой в обществе, действующих совместно или наперекор друг другу, но во всяком случае не изолированных в своей собственной внутренней пустоте людей. Без сознательного отношения к действительности у человека нет интеллектуального облика, он перестает быть "бодрствующим". Образ человека, блуждающего все время вокруг да около своих субъективных переживаний, вокруг своей пошлой "неповторимой" личности, не заслуживает художественного изображения. Это- вовсе не образ, а какое-то смутное и расплывчатое сновидение. Лишенный интеллектуального характера, герой остается бледной тенью и не может подняться до высшей ступени реалистического искусства, где живая индивидуальность тесно сплетается с глубокой исторической типичностью.
2
В своем большом романе "Отверженные" Виктор Гюго поясняет читателю общественное и психологическое состояние Жана Вальжана при помощи следующей картины. Гюго описывает с исключительной лирической силой корабль, с которого упал в море человек. Корабль идет дальше и постепенно исчезает на горизонте. Человек остается один, он борется с безжалостными волнами, постепенно теряет надежду и гибнет в отчаянии и полной беспомощности. Этот образ характеризует, по мнению Гюго, судьбу человека, совершившего какой-нибудь ложный шаг. Безжалостность моря является у Гюго символом бесчеловечности современного ему общественного строя.
Этот символ лирически правильно выражает общее жизнеощущение широких масс людей в капиталистическом обществе. Непосредственно воспринимаемые связи людей друг с другом, сохранившиеся еще в примитивных обществах, здесь все более и более исчезают. Человеку, обособленному от других людей даже в непосредственных проявлениях своей жизнедеятельности, бесчеловечное общество кажется жестокой и неумолимой второй природой. Поскольку Гюго только выражает возникающие из этого факта переживания, он является […] Но объективная действительность капиталистического мира не совладает с внешним его проявлением. Бесчеловечность общества не проистекает из законов природы, а является специфическим продуктом тех новых отношений между людьми, которые приносит с собой раз-витый капитализм.
Маркс с величайшей точностью описывает различие между периодом зарождения буржуазного строя и движущимся уже на собственной основе капиталистическим обществом. Он говорит о последнем в отличие от периода первоначального накопления: "Слепой гнет экономических отношений укрепляет господство капиталистов над рабочими… При обычном ходе дел рабочего можно предоставить власти "естественных законов производства"… Иное видим мы в ту историческую эпоху, когда капиталистическое производство только еще возникало". (К. Маркс. Капитал. Т. I, стр. 592. Партиздат, 1932).
Но эпоха первоначального накопления является не только историей бесчисленных преступлений и насилий над трудящейся массой. Это, одновременна, и период величайшей освободительной борьбы человечества против феодального ига, борьбы, которая начинается с эпохи Возрождения, и достигает своей вершины в событиях французской революции 1789 г. Это, одновременно, классический период буржуазной культуры, классический период философии, литературы, искусства.
Вступление общества в последующую, уже сложившуюся форму капиталистического развития создает новые отношения между людьми, а тем самым и новый материал и формы, новые проблемы художественного творчества. Но историческое признание необходимости и прогрессивности капиталистического развития не противоречит тому обстоятельству, что для искусства и его теории это развитие принесло с собой самые гибельные результаты. Классический период буржуазной идеологии сменяется периодом вульгарной апологетики. Отдельные исключения и неравномерности в этом процессе не могут изменить общей картины. Борьба с феодальным ярмом перерастает в классовую борьбу между пролетариатом и буржуазией. Поэтому период между французской буржуазной революцией 1789 г. и июльским выступлением парижского пролетариата является последней великой эпохой буржуазной литературы.
Распространение вульгарной апологетики капитализма не означает, конечно, что все буржуазные писатели становятся апологетами и, тем более, сознательными апологетами. Этого нельзя сказать даже о всех теоретиках искусства, хотя в теоретической области реакционная струя проявилась гораздо сильнее.
И, тем не менее, вступление в новую фазу общественного развития не могло пройти бесследно ни для одного из буржуазных писателей. Отречение от (традиций героического, революционного периода буржуазного общества проявляется иной раз даже в форме борьбы против господства апологетики. Реализм Флобера и Золя был (у каждого по своему) борьбой против старых идеалов буржуазии превратившихся […] большой постепенностью врастает в общее направление буржуазной идеологии после 1848 гада. Ибо, в чем истинная особенность всякой апологетики? В ее тенденции остаться на поверхности явлений, чтобы тем самым обойти более глубоко лежащие проблемы, существенные противоречия социального развития. Рикардо мог еще открыто и цинично говорить об эксплоатации рабочих капиталистами. Вульгарные экономисты бежали от этой проблемы в область поверхностных явлений рынка для того, чтобы мысленно отвлечься от противоречий самого производства, производства прибавочной стоимости. Подобным же образом исчезает диалектический метод из буржуазной философии и т. п.
По замыслу людей, подобных Флоберу и Золя, обращение к повседневной действительности должно было явиться протестом против напыщенного буржуазного лицемерия. Но что означает эта тенденция обращения к повседневности с точки зрения художественного раскрытия глубоких общественных противоречий капиталистической эпохи? В самом изображении, обыденной жизни не было как будто ничего нового. От Фильдинга до Бальзака все великие прозаики стремились завоевать обыденную жизнь для художественного изображения. Новое в буржуазной литературе после 1848 года состоит не в самом" использовании обыденной жизни как материала, как темы, а в ограничении художественных приемов писателя воспроизведением тех. явлений, которые встречаются только в буржуазной повседневности.
Но мы уже говорили о том, что коренные общественные противоречия лишь в исключительных случаях проявляются на поверхности в своей чистой и развитой форме. Превращение того, что возможно лишь на фоне обыденной жизни, в некую норму реализма означает, таким образом, отказ от изображения социальных противоречий в их развитом виде. Новая норма литературного реализма требовала даже сужения самого понятия повседневности. Она изгоняла из обыденной жизни те редкие случаи, в которых с исключительной яркостью выражается столкновение скрытых общественных сил и ограничивала кругозор литературы самой обыденной формой обыденности: арифметическим средним, посредственностью.
В идеале посредственности достигают своей вершины тенденции к уходу от больших и серьезных проблем социальной жизни. Посредственность, это — мертвый результат общественных процессов. Отсюда понятно, почему в литературе воцаряется описание отдельных, относительно неподвижных состояний. Действие все более заменяется подобным присоединением друг к другу статических описаний. Сюжет постепенно теряет сколько-нибудь значительную роль в литературном произведении. Прежняя роль сюжета, как основы драматического столкновения различных сторон действительности в лице их типических представителей, становится все 'более излишней. Те существенные стороны действительности, которые содержатся даже в различных проявлениях посредственности, лежат, конечно, на поверхности и могут быть сразу замечены и описаны без сколько-ни- […]
Нужно различать, таким образом, элемент обыденности в классической прозе, где она, выступает просто как материал, как внешняя, видимость, из которой вырастают перед читателем исторически-необходимые взаимоотношения между людьми — и, обыденностью, как руководящей нормой художественного творчества в буржуазном реализме второй половины XIX в. Русская литература по целому ряду причин представляет в эту эпоху одно из немногих исключений. Сравните, например, "Обломова" с каким-нибудь романом братьев Гонкур. У Гончарова изображенная жизнь кажется еще более повседневной и серой, чем у Гонкуров. Здесь еще меньше действия и движения. Но это ощущение неподвижности, получаемое при чтении "Обломова", само является преднамеренным результатом выдержанной в классическом духе композиции романа и характеристики его главного героя. В Обломове эта неподвижность является чем угодно, но отнюдь неслучайной, поверхностной и обыденной чертой. Обломов, несомненно, характер исключительный, последовательный, развитый в духе классической прозы вплоть до известкой гипертрофии одной, единственной черты. Обломов только и делает, что лежит в постели, а, между тем, его история глубоко драматична. Обломов — общественный тип не в смысле поверхностной, средней обыденности, а в гораздо более-важном общественном и эстетическом смысле. Только поэтому этот образ, созданный гением Гончарова, мог получить такое значение для: всей истории России и не только России…
Уже Лессинг смеялся над теми людьми, которые видят интересное действие только там, "где воздыхатель становится на колени, принцесса падает в обморок, герои дерутся" и т. д. Содержательность действия определяется значением характеров.
Гипертрофируя определенные типические черты русской интеллигенции, Гончаров создает в своем Обломове один ив таких значительных характеров. Именно в своей неподвижности и безжизненности Обломов необычайно живо воплощает некоторые существенные и общие черты целой эпохи. Наоборот, в очень бурном и внешне чрезвычайно развитом действии какой-нибудь "Мадам Жервез" бр. Гонкур мы находим лишь множество сменяющих друг друга красочных изображений отдельных состояний, над которыми (господствуют мистические общие силы и 'Где человек проходит мимо другого человека, лишь соприкасаясь с ним, а существенные связи людей друг с другом остаются в тумане.
Обломов имеет ярко выраженный интеллектуальный характер-Каждое его высказывание, обмен мнениями с другими людьми поясняет основную развивающуюся мысль романа, раскрывает объективные трагические черты в развитии русской интеллигенции, и не только интеллигенции. Духовные колебания мадам Жервез остаются, напротив, только сменой статических состояний, в них нет глубокого драматизма объективных общественных процессов, а поэтому нет и духовной индивидуальности, определенной интеллектуальной физио- […]
Реализм Флобера, Гонкуров, Золя вступает в жизнь под флагом революционного преобразования литературы, создания такого искусства, которое полностью соответствовало бы действительности. Новое направление в реализме приписывает себе гораздо большую объективность изображения. Известна (борьба Флобера против субъективизма я литературе, а критика Стендаля и Бальзака у Золя сводится именно к тому, что у этик представителей старой прозы еще слишком много субъективной предвзятости и любовного отношения к романтически-исключительным проявлением жизни. Золя оканчивает свою критику Стендаля следующими словами: "жизнь проще". Под "жизнью" здесь имеется ввиду именно буржуазная обыденщина, которая действительно проще, чем мир Стендаля или Бальзака.
Иллюзия натуралистической объективности тесно связана с тяготением к посредственности. Ибо посредственность, как тупой продукт обыденной жизни, может быть изображаема и без помощи фантазии, без художественного глубокого постижения своеобразных ситуаций и характеров. Посредственность можно выводить ив изолированном виде. Она с самого начала уже дана как готовый результат, ее нужно только описывать, причем это описание едва ли может открыть в ней какие-нибудь новые, неожиданные стороны. Она не нуждается в сложном развитии путем внутренних контрастов. Отсюда иллюзия будто посредственность — такой же объективный "элемент" общественной жизни, как элементы в химии.
С этой мнимой объективностью теории и практики позднейшей буржуазной литературы тесно связана ее столь же мнимая научность. Натурализм все дальше отходит от живого понимания общественных противоречий, заменяя его пустыми социологическими абстракциями. При этом подобная quasi-научность все более проникается агностицизмом. Кризис буржуазных идеалов изображается у Флобера как сумерки человеческих дерзаний и крах научного понимания мира. У Золя агностицизм выступает, в еще более ясной форме. Он говорит, что литература может изобразить, "как" происходят события, но не знает "почему" они происходят. Виднейший теоретик этого направления- Ипполит Тан, стремясь определить историческое содержание общественного бытия людей, приходит к понятию расы, как последнего, неразложимого основания.
Здесь "оно выступают мистические стороны этого ложного объективизма. Статические типы социологии литературы, основателем которой считается Тэн, в конце концов, также сводятся к различным состояниям души (etaits d'ame), как в художественной области — человеческие типы, и положения у бр. Гонкур. Не случайно, что при этом "объективизме" литературы и литературной теории психология играет роль науки наук. Тэн изображает среду как фактор, механически воздействующий на человеческое сознание. Но, говоря об "элементах" этой среды, он усматривает, например, сущность государства в "чувстве подчинения, которое собирает массу людей вокруг авторитета одного вождя". Бессознательная апологетика капитализма, свойственная всему социологическому направлению, прямо переходит здесь в сознательную реакционность.
Еще неясные у зачинателей нового реализма иррационалистические тенденция выступают на первый план в дальнейшем развитии литературы, по мере перехода буржуазии от демократии к реакции. При этом часто сохраняется и тенденция к "объективизму". Достаточно вспомнить, например, о столь характерной для послевоенного капитализма моде на всякого рода "монтаж". Противоречие между ложной объективностью и мистическим субъективизмом глубоко свойственно всему буржуазному миропониманию, особенно в период упадка, и повторяется в бесчисленных вариантах, выступает в бесконечных спорах "об искусстве, эстетических манифестах и доктринах. Kак всегда в таких случаях, это противоречие не является просто выдумкой отдельных литераторов, а представляет собой искаженное отображение объективной действительности. И здесь также противоречия не из книг перешли в действительность, а, наоборот, из действительности в книги. Отсюда такая живучесть плоских традиций буржуазной культуры эпохи распада.
Крайний субъективизм новейшей буржуазной литературы нисколько не противоречит ее общему идеалу посредственности. Давке возникшие в борьбе с натурализмом попытки! вывести в художественном произведении "необыкновенного" эксцентричного человека и "сверхчеловека" остаются в пределах того же натуралистического кругозора. Человек эксцентричный, "изолированный" от обыденной жизни, я человек просто посредственный взаимно дополняют друг друга как в жизни, так и в литературе.
Эксцентричный герой, скажем, какого-нибудь из романов Гюисманса имеет столь же малое отношение к подлинно-человеческим идеалам, как и любая посредственность. Его протест против прозы капиталистического общества состоит просто в том, что он механически выворачивает наизнанку все обывательские привычки и превращает сталь характерные для обывателя "общие места" в замысловатые парадоксы. Достигается же это очень легко, иногда просто при помощи перестановки слов. Духовно этот эксцентричный герой столь же беден, как и его противоположность-"человек толпы". Это жалкое основание, конечно, недостаточно для того, чтобы подобный персонаж имел сколько-нибудь определенную интеллектуальную, физиономию. Подобно тому, как парадоксы этого сверхчеловека являются только вывороченными наизнанку "общими местами", сам он представляет собою замаскированного филистера, обыкновеннейшую посредственность, которая из оригинальности постоянно стремится ходить на голове.
Оба типа — сверхчеловек и филистер — одинаково пусты, далеки от глубоких общественных конфликтов, от всякого исторического содержания вообще. Они бледны, абстрактны, узко-односторонни и, наконец, просто бесчеловечны. Для того, чтобы изображение их могло приобрести какой-нибудь смысл, эти типы должны быть подчинены […]
ется особенно часто в романах, где действующие лица — сверхчеловеки. Как в самом натурализме, так я в растущей на почве натуралистического бездушия мистической оппозиции к нему исходным пунктам является своеобразный общественный солипсизм, представление о безнадежно-оторванных друг от друга людях, поставленных лицом. к лицу с грозными силами бесчеловечного общества.
Лирика утопающего из романа Гюго является типичным состоянием в новейшем реализме буржуазной литературы. Изолированный индивид, человек как замкнутая в себе "психическая система", противостоит мнимо-объективному, фаталистически понятому миру. Этот общественный солипсизм человеческой психики, Kaк основная идея, дает себя знать во всей литературе эпохи империализма. Он образует в то же время сознательную или бессознательную остову для самых разнообразных типов буржуазной философий культуры и социологи и-"Расы" Тэна, отвлеченные и неподвижные "классы" и "труппы" вульгарной социологии, "культурные круги" Шпенглера имеют ту же солипсическую структуру, что и литературные герои Гауптмана, Д'Аннунцио или Метерлинка. Точно так же, как отдельные персонажи этих, писателей ведут совершено особую, изолированную и непонятную для других собственную жизнь, так "общественные группы" вульгарной, социологии или "культурные круги" Шпенглера способны понимать и выражать только самих себя. И нет такого моста, который из этого фантастически-изолированного бытия можно было-бы перебросить в мир действительный, объективный.
В царстве обособленных "психологических систем" действует абстрактная необходимость, почти предопределение. Отдельные индивидуальности являются, в сущности, только иллюстрациями, примерами, пустой случайностью. В одном случае подчеркивается холодная "научность", в другом на первый план выдвигается поэзия иррационального, индивидуальная неповторимость, свойственная, в сущности говоря, и всякому насекомомy. Оба эти подхода могут иногда совмещаться. Напомним, что Золя, полный самых высокомерных претензий на "научность", пользуется в настоящее время большим влиянием именно как символист и романтик (таков он в изображении Томаса Манна).
Какого рода последствия проистекают из всего этого для нашей проблемы, проблемы духовного облика литературного героя? Ясно, что в буржуазной литературе основа для формирования художественных типов, имеющих определенную интеллектуальную физиономию. исчезает. Уже Лафарг критикует Золя; за то, что высказывания его персонажей плоски и обыденны в отличие от остроумия и глубины диалогов Бальзака. Эта тенденция Золя получает позднее огромное развитие. Гергарт Гауптман на много превосходит Золя в смысле обыденности и пустоты своих диалогов. А что сказать о банальности позднейшего литературного монтажа отдельных фотографических снимков действительности!
Бездушие и безссодержательность натуралистической прозы не раз подвергались критике. От литературы требовали более высокого духовногo уровня персонажей, более умных разговоров. Однако, дело не в простом, увеличении глубокомыслия литературных героев. Самые остроумные диалоги не могут заменить отсутствующей интеллектуальной физиономии персонажей. Это было известно уже Дидро, который в "Les bijoux indiscrets" говорит устами одного из действующих лиц: "Господа, вместо того, чтобы при каждом отдельном случае наделять остроумием своих героев, поставьте-ка их лучше в такое положение, которое даст им то, что требуется".
Изобразительные средства современной буржуазной литературы все более усложняются. Но это усложнение натравлено исключительно на го, чтобы выразить нечто чисто единичное, мгновенное в поступках и настроениях людей. Философия и теория искусства последних десятилетий не раз подчеркивала, что эта тенденция не является случайной литературной модой. В своем юбилейном сочинении о Канте Зиммель следующим образом говорит о различии между эпохой классической немецкой философии и буржуазной современностью: "обе эпохи стремятся к индивидуализму, но индивидуализм Канта был направлен к свободе, а современный индивидуализм к единичности" (Einigkeil). По отношению к новейшей буржуазной культуре это правильно. В литературе последних десятилетий мы видим стремление к изображению самых неповторимых мгновений и черт в жизни единичных людей. Художественная фантазия направлена на то, чтобы схватить эти мгновения, преходящие черты того, что происходит "теперь" и "здесь", по терминологии Гегеля. Для современного буржуазного мироощущения действительность тождественна с этим "теперь" и "здесь". А все, что выходит за их пределы, является отвлеченностью и фальсификацией жизни. Таков бесплодный результат всего усложнения художественной техники, всего шарлатанского глубокомыслия эпигонов, буржуазной литературы.
Разумеется, и прежде писатели также исходили из пережитых или наблюденных фрагментов жизни. 'Но они разлагали И перестраивали непосредственную связь своих переживаний и таким образом достигали изображения действительно тончайших и всесторонних зависимостей. Такая переработка необходима, прежде всего, для выявления, разработки интеллектуального облика героя. Если бы Шекспир позаимствовал фабулу из новеллы Чинтио, не изменяя ее, а Стендаль непосредственно воспроизвел уголовное преступление в Безансоне, — они не могли бы наделить Отелло или Жюльена Сореля тем типизирующим самосознанием, которое сделало их замечательными фигурами мировой литературы.
Андре Жид-один из немногих западных писателей последнего времени, для которых интеллектуальный облик героев представляет серьезный вопрос. Как раз в этой области Андре Жид достиг заслуживающих внимания, интересных результатов. К сожалению, наследие разлагающегося буржуазного искусства преградило большому таланту Жида путь к полному развитию своих возможностей. Часто он перегружает свои произведения явлениями случайными, объективно неразвитыми, чисто единичными, а иногда даже возводит эту фрагментарность восприятия мира в принцип.
Но полнейшая, изолированная от всего прочего единичность момента, как это помял еще в свое время Гегель, есть самая абстрактная из абстракций.
И, действительно, погоня за моментом, эта ложная конкретность западной литературы XX века, зачастую переходит в открытую абстрактность. Напомним, хотя бы, о Метерлинке, у которого обычные изобразительные средства натуралистов непосредственно включены в общий, безусловно абстрактный стиль. Подобное явление в новейшей литературе лучше всего можно наблюдать у писателя, который поставил себе задачу точного изображения одних только единичностей, чистейшего "теперь" и "здесь". Мы говорим о Джемсе Джойсе. Джойс характеризует людей тем, что со всей возможной тщательностью, со всеми подробностями описывает самые обыденные мысли и чувства, мимолетные ассоциации, возникающие в уме у людей три соприкосновении с внешним миром. Но эта крайняя индивидуализация уничтожает всякую действительную индивидуальность. Когда, например, Джойс описывает на нескольких страницах, какие мысли лезли в голову его герою-обывателю Блуму во время сидения в уборной, то из этого описания нельзя вынести ничего, кроме самого общего представления о том, что свойственно Блуму как всякому человеку или даже как всякому животному.
Правда, Джойс-это явление исключительное. Но, благодаря своей законченности, он может быть хорошей иллюстрацией к тому, как связано изображение характеров с определенным художественным мировоззрением. Крайний субъективизм современной буржуазной философии жизни, все возрастающая утонченность литературного изображения чисто-единичных явлений, все большее акцентирование психологического момента, — ведет к разрушению характеров. Современные буржуазные мыслители механически дробят объективную действительность для того, чтобы превратить ее в комплекс "непосредственных восприятий". Вместе с тем они разбивают вдребезги и характер человека, делая человеческое "я" простым вместилищем таких восприятий. Гофмансталь остроумно выразил это чувство, называя в одном стихотворении человеческое ""я", человеческий характер — Taubensohlag. (Буквально: голубятня. В переносном смысле — дому где часто сменяются жильцы).
Ибсен еще раньше Гофмаисталя поэтически точно выразил подобное жизнеощущение. Он заставляет стареющего Пер Гинта задуматься над своей личностью и ее блужданиями. При этом Пер Гинт разламывает луковицу и каждый слой ее кожуры сравнивает с какой-либо фазой своей жизни. В конце концов, он приходит к печальному выводу, что вся его жизнь была шелухой без ядра, что он пережил ряд красочных эпизодов, но так и не имел характера.
Вследствие запоздалого развития капитализма в Норвегии, Ибсен был еще связан с традициями революционного периода буржуазии; поэтому сознание того, что характер разрушается, выразилось в его произведениях в форме отчаяния. Но для Ницше, например, распад литературного характера — это нечто, само собой разумеющееся. Самое творчество характеров в литературе он выводит из слабости человеческого познания характер, как целое, он считает простой абстракцией.
Стриндберг в своих литературных декларациях идет еще дальше в. том же направлении и при этом язвительно высмеивает то, что буржуазные драматурги средней руки выдают за выдержанность характера: стереотипные повторения определенных, "характерных" словесных оборотов, чрезмерное подчеркивание каких-либо отличительных черт наружности. Эта сторона критики Стритндберга не оригинальна (такого рода способы характеристики осмеял уже Бальзак), но она метко попадает в неистребимую тенденцию новейшей литературы к сохранению чисто абстрактного механического "единства" характеров, распавшихся на множество мельчайших состояний. В противоположность этой тенденции Стриндберг подчеркивает момент многообразия и изменчивости. Но, так же, как позднее Джойс, он, превращает при этом характер в какой-то махистский "комплекс ощущений". Его истинная позиция видна из того, что мольеровские типы он также зачисляет в рубрику ложных и абстрактных характеров. А Гофмансталь заставляет самого Бальзака признаться в том, что он не вериг в существование характеров. Сочиненный Гофмансталем Бальзак говорит:
"Мои люди--это только лакмусовые бумажки, которые реагируют, окрашиваясь в красный или синий цвет; все живое, великое, настоящее- это кислоты: власти и судьбы".
В высшей степени поучительно, что при этой теории окончательного уничтожения характера у Гофмансталя нет недостатка и в совершенно противоположной тенденции — в рецептах чисто-абстрактного сохранения цельности типа. В том же диалоге воображаемый Бальзак говорит: "В драме характеры-не что иное, как контрапунктическая необходимость". Живое единство литературного образа распадается здесь на сумятицу многообразных, мгновенно возникающих и исчезающих пятен, с одной стороны, и на абстрактное, навязанное явлениям единство, — с другой. Мы узнаем здесь обычные мотивы идеалистической теории познания.
Дело здесь не в большей или меньшей писательской одаренности, а, в принципах и направлениях. Богатство и глубина изображенных характеров зависит от глубины понимания общественных явлений в целом. На деле (а не в лирической иллюзии, отражающей внешнюю сторону буржуазной жизни) человек-не одинокое, внеобщественное существо, и всякое его жизненное проявление тысячью нитей связано со всем общественным процессом. Основная тенденция новейшего буржуазного искусства направлена именно к тому, чтобы всячески помешать художнику, даже если он талантлив, проникнуть в сущность нашей эпохи, эпохи великих исторических движений. В литературе идет усиленная разработка несущественного, индивидуализация мимолетных явлений, а параллельно с этим происходит низведение больших общественных проблем до уровня банальности.
Возьмем выдающегося современного писателя Джона Дос-Пассоса. Он описывает, например, спор о капитализме и социализме. Кабак, в котором спор происходит, описан хорошо и живо. Мы ясно видим полутемный итальянский ресторан, пятна от томатного соуса на скатерти, трехцветные подтеки мороженого, растаявшего на тарелке, и т. д. Индивидуальная манера речи каждого из говорящих тоже удалась писателю. Но то, что говорится — это полнейшая банальность, такого рода "за" и "против", какие можно услышать во всякое время в любом месте, где разговаривают между собою обыватели.
Наше утверждение, что современные западные литераторы проникшиеся духом распада, бессильны создавать интеллектуальные характеры, не означает, понятно, что они лишены литературного умения, изощренной литературной техники. Вовсе нет. Но каковы основы этой техники и какова ее цель? И что вообще можно выразить посредством такой техники, какой бы изощренной не была она?
Главный предмет, на который направлены усилия новейшей буржуазной литературы и вся ее виртуозность, это — темный и непознаваемый человек внутри нас. Вот почему и современные изобразительные средства столь мало общего имеют с литературными средствами прежних времен. Выбор ситуаций, описания, характеристики, диалог приобретают совершенно новую функцию. Теперь все это должно служить не для того, чтобы писатель мог наглядно передать общественную и человечески-субъективную сложность жизни. Нет, теперь их конечная щель-разрушение той уверенности в мире, которая, с точки зрения новейших писателей, является плоской иллюзией, уверенности в том, что мы знаем мир, способны постигнуть человека и окружающие его явления. Нет, мы на это не способны, говорит новейшая западная литературa. Все окутано зловещей тайной:
"… alle diese Dinge sind anders, und die Vorte, die wir brauchen, sind wieder anders"-o.
— говорит один из персонажей Гофмансталя. (Все вещи и Слова, которыми мы их называем, чужды друг другу).
Диалог должен теперь передать взаимное непонимание людей, их одиночество, невозможность для них войти друг с другом в более или менее тесное соприкосновение. Диалог не есть больше выражение борьбы и взаимодействия людей, а только знак их внешнего соприкосновения. В этом направлении стилизуется и язык. Если прежде литературная переработка обыденной речи состояла в выделении всего существенного в отдельных настроениях, явлениях и действиях людей и в доведении всего этого до высшей степени выразительности, то ныне заботливо сохраняется вое мимолетное в обыденной речи; более того: при помощи определенной стилизации и преувеличения подчеркивается ее совершенно случайный характер. Речь становится еще более незначительной и банальной, чем в обыденной жизни. Для буржуазной литературы эпохи распада дело отнюдь не в содержании диалога, — а в том, что за диалогом скрывается: в одинокой душе, в ее тщетных усилиях преодолеть свое одиночество. Среди драматургов этой эпохи Стриндберг- крупнейший виртуоз такого диалога. Ему больше всех других удается отвлечь слушателя от непосредственного содержания разговоров и перенести его внимание на сквозящее в диалоге настроение полного одиночества. В "Фрейлен Юлии" есть такая сцена: дочь графа, соблазненная лакеем, уговаривает кухарку (служащую у ее отца и бывшую до нее любовницей того же лакея) бежать вместе с ней из дому. Дочери графа это не удается. Стриндберг виртуозно решает поставленную себе задачу. Надежды, колебания, крушение надежд своей героини он передает исключительно меняющимися темпами ее речи; кухарка не произносит ни одной реплики, но самое ее молчание воздействует "а изменение речи героиня, — и вто прекрасно выражает намерения Стриндберга. Здесь мы видим сознательное стремление сделать содержание диалога чем-то маловажным; наиболее существенное для художника не может быть выражено в словах. Эту тенденцию чрезвычайно определенно высказал еще Верлен в "Art poetique", требуя, чтобы поэт презирал слова, которые он выбирает.
Очевиден смысл этой тенденции: стилизовать речь таким образом, чтобы она выражала понятия, лишенные всякого общего содержания.
Несмотря на постоянные призывы к "абстрактному искусству", эта основная линия не изменяется и в дальнейшем. Ведь абстрактно-всеобщее всегда дополняет грубо-эмпирическое, узко местное и случайное. С полным правом можно сказать о художественных школах новейшей буржуазной литературы, что все они различными имеющимися у них способами, иногда с немалым техническим мастерством, изображают только поверхностные явления обыденной жизни капиталистического общества и, притом, в еще более обыденном, слушанном и произвольном виде, чем они есть в действительности.
Этот решительный поворот к единичному высказывается очень рано и в рассуждениях по поводу практики искусства. Как особенно яркое высказывание, приведем программный строки Верлена из той же книги "Art poetique":
Car nous voulons la Nuance encore Pas la Couleur, rien que la Nuancel [1]
Такое изгнание из искусства всяких общих, выходящих за пределы мимолетных явлений черт действительности, такое сведение искусства к капризной игре оттенков в высшей степени характерно для новейшей литературы. В результате получается беспрерывная вибрация, беспокойное, ни на мгновение не останавливающееся мелькание смутных пятен, в котором, однако, нет подлинного движения, вдет развития, и которое "а самом деле представляет собой стоячее болото.
Подчеркивание одних только чувственно воспринимаемых элементов — приводит на деле к уничтожению чувственной конкретности образа. Чрезмерное приближение к поверхности жизни, принципиальное отождествление непосредственно воспринимаемой видимости явлений с самой действительностью устраняет из литературы все условия для подлинно-глубокого понимания жизни.
Когда мы слышим в жизни человеческую речь, то на вас воздействует прежде всего содержание слов. Это содержание тесно связывается с тем представлением о говорящем человеке, которое мы себе составили на основании ли знакомства, по наслышке и т. д. Оно находится в соответствии или в противоречии в этим представлением. В жизни очень многое может сказать интонация, жест, выражение лица. Они. могут подкрепить или разрушить впечатление правдивости, правильности того, что нам говорит собеседник.
"Новейшая" литература пользуется, однако, почти исключительно такими второстепенными впечатлениями. При этом упускается ив вида. очень важное обстоятельство: самое тщательное описание внешних. признаков дает только результат сложного процесса, но не самый процесс. В реальной жизни мы сами участвуем в разговоре и потому отдельные признаки тех иных чувств, явлений и т. д. могут быть для нас убедительными. Но как эти признаки могут быть убедительными в литературе, там, где они являются изолированным результатом неизвестного нам процесса? Разумеется, такие признаки, как бы правдиво они ни изображались, не заменяют собой весь породивший их процесс. "Старая" литература часто пренебрегала повседневной, поверхностной видимостью творящих людей для того, чтобы в конце концов изобразить действительный ход мышления и диалога; "новейшая" литература довольствуется тем, что дает серию описаний, пo видимости конкретных, а на самом деле мертвых, деревянных и не вызывающих живого отклика у читателя.
Ситуации и развитие действия в "новейшей" литературе соответствуют тем же тенденциям. Важнейшие ситуации в произведениях, "старой" литературы служили для выяснения неясного И запутанного положения вещей. Таковы, например, сцены опознавании согласно драматургии Аристотеля. Великие произведения прошлого всегда строились так, чтобы узловые, переломные моменты объясняли предшествующее и бросали свет на предстоящее; при этом, как мы уже видели, главной задачей было выяснение общего значения описываемых событий, значения, выходящего за пределы чисто-личного мира. "Новейшая" литература не способна приводить к таким драматическим моментам, где количество переходит в качество. Она принципиально отвергает всякие исключительные положения, выходящие из рамок обыденности.
В "новейшей" литературе нет настоящего развития противоречий, так как в обыденной жизни эти противоречия скрыты и притуплены. То, что современные писатели любят прибегать к грубым взрывам и катастрофам, только подкрепляет наше суждение. Все эти взрывы имеют, в сущности, иррациональный характер и после потрясений, превосходящих человеческое разумение, жизнь опять идет своим обычным шагом. У великих писателей прошлого подобный взрыв был эпизодом, не заменяющим собой драматического развертывания сюжета в целом. В этом пункте происходил решительный оборот дружеских или враждебных взаимоотношений людей. Но в произведениях, где человеку нет дела до другого человека, такие узловые пункты развития становятся невозможными, да и ненужными. Соединение непосредственной данной поверхности жизни с грандиозными общественными процессами осуществляется здесь чисто-абстрактным путем. Вот почему вторжение символов-аллегорий в натуралистическую литературу-вовсе не случайность, а глубокая стилистическая необходимость. Уже Золя мог изобразить судьбу Нана и одновременно судьбу Второй империи только посредством грубо-символического контраста. Нана в печальном одиночестве лежит пораженная болезнью, а на улице, под окнами, одураченная и опьяненная толпа рычит: "На Берлин!"
Символические контрасты, сопоставление ряда отдельных "кадров", все это заменяет постепенно старый метод композиционного развития. Все чаще и чаще композиции произведения бывает построена на простом блуждании впотьмах. Образцом невозможности ясно изобразить даже сравнительно простое положение, — вследствие того, что люди, изображенные в полном разъединении, не могут общаться друг с другом, — являются драмы Гауптмана, наиболее типичные для этого автора ("Извозчик Геншель", "Роза Бернд" и др.). Принцип, по которому идет здесь развертывание действия, прямо противоположен принципу старой драмы. Там неясное становилось ясным; напротив, современная драма основана на том, что все явления покрываются сгущающимся туманом, все, сколько-нибудь ясное, оказывается непроницаемо-темным, всякая простота объявляется только кажущейся я разоблачается как иллюзия. Лишь иррациональное созерцание темных человеческих судеб возводится в достоинство "подлинной человечности". Может быть, уже "Каспар Гаузер" Вассермана является примером такого урода композиции, смысл которой-увод в темноту; но эта же тенденция с достаточной ясностью видна, например, и в поздних романах Гамсуна.
Это мировоззрение в парадоксальной форме выражено некоторыми современными философами ("Бессилие духа" у Шеллера, ("Душа" против "Духа" у Клагеса и т. д.). В искусстве эта тенденция показывает, что неспособность к сознательному и членораздельному выражению ведет не только к простому (копированию пошлой обыденности, но получает еще и другую функцию — выразить "глубину" незнания причин и следствий человеческой деятельности, тупую резиньяцию перед вечным одиночеством человека.
В полном соответствии с открыто-иррационалистическим течением, которое в период империализма получает широкое распространение, все эти литературные тенденции ограничивают значение интеллекта, отупляют и деформируют интеллектуальную физиономию человека в литературе. По мере превращения объективной действительности в "комплекс ощущений", в хаос непосредственных восприятий, по мере разрушения идейных и художественно-композиционных основ изображения характеров, из литературы должен исчезнуть и принцип четко выраженного интеллектуального облика. Это естественно.
3
Ни в один из периодов человеческой истории мировоззрение людей не играло такой большой практической роли, как в настоящее время. Вокруг нас, в нас самих, при помощи наших практических усилий происходит величайшее преобразование общественного мира, причем это преобразование сопровождается ясным и правильным сознанием происходящего. Нет никакой надобности говорить о роли правильного предвидения событий в этом процессе изменения мира. Гениальные прозрения Маркса о диктатуре пролетариата, о ступенях развития коммунизма сделались, благодаря революционной практике пролетариата и дальнейшему теоретическому развитию марксизма у Ленина и Сталина, достоянием миллионных масс. Само собой разумеется, что и в художественной литературе социалистической эпохи, в литературе, отражающей развитие нового человеческого типа, роль мировоззрения должна быть чрезвычайно велика. И не только мировоззрения писателя, но и мировоззрения его героев, действующих лиц его произведений.
Духовный, облик литературного героя приобретает особое значение в художественном творчестве нашей великой эпохи.
Одной из центральных проблем советской литературы является создание подлинного образа большевика. Большевик должен быть руководителем массы в самых разнообразных положениях и в самых различных отраслях труда и борьбы. Для этого ему необходимо прежде всего владеть революционной теорией коммунизма. Но каждая ситуация требует особого, конкретного применения этой теории. Естественно, что сама личность большевика и при этом его общий духовный облик играет очень большую роль в процессе руководства массами. Характеризуя Ленина, Сталин особо останавливается на стиле его работы. Но стиль работы Ленина, конечно, нельзя отделить от его мышления и, в частности, от особого личного стиля мышления Ленина. Все, что Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин сделали в теоретической области, представляет собой единое и цельное учение. Но внутри этого единства — какие могучие и своеобразные характеры всемирно-исторического значения, какие определенные и четко выраженные особенности индивидуального мышления у каждого из великих учителей коммунизма! В известной мере это справедливо и по отношению к рядовому большевику. Стремясь овладеть единым стилем работы Ленина и Сталина, каждый подлинный большевик имеет в то же время свои неповторимые черты не только в чисто-психологическом смысле, но и в интеллектуальном, в смысле своей особой манеры суммировать опыт практической борьбы, делать конкретные выводы из общих положений марксистского мышления.
При этом следует, однако, заранее устранить один старый буржуазный предрассудок. Особый, личный "стиль" мышления у отдельных большевиков, если это, действительно, настоящие большевики, отнюдь не означает какого-нибудь отклонения от марксизма. Согласно весьма популярному буржуазному предрассудку все хорошее, правильное, короче — положительное однообразно до скуки и неспособно ни к каким видоизменениям в связи с личными особенностями людей. Только ошибки, только отклонения от правильного могут будто бы иметь разнообразный, дифференцированный, личный характер. Это представление очень глубоко укоренилось в буржуазном сознании. Оно проистекает из того обстоятельства, что в капиталистическом обществе самостоятельно думающий человек необходимо должен стать в оппозицию по отношению к установлениям этого общества и его официальным догмам. Отсюда 'целый ряд противоречий в художественной трактовке положительных образов у писателей буржуазного общества. Индивидуализация литературных персонажей осуществляется здесь, преимущественно, путем обрисовки их отрицательных свойств.
Эта черта старой литературы должна исчезнуть вместе с изменением общественного основания художественного творчества, вместе с победой рабочего класса. Изменяется взаимоотношение между индивидам и обществом. На заре человеческой истории, в эпоху неразвитого классового строя эпическая поэзия еще могла индивидуализировать действующих лиц путем развития присущих им своеобразных положительных качеств. Так, Ахилл и Гектор — оба безупречные герои и, тем не менее, какой различный, какой глубоко своеобразный характер носит героизм каждого из них!
Подобная задача стоит и перед нашими писателями. Они должны научиться индивидуализировать своих героев в своеобразии их положительных качеств. Это имеет ближайшее отношение к вопросу об интеллектуальном облике литературных героев.
Правильное, марксистско-ленинское мышление, именно в силу своей правильности, дает возможность каждому человеку проявить свои личные особенности в самом процессе усвоения и применения общей революционной теории. Партийных и непартийных большевиков, обладающих вполне сложившейся и значительной интеллектуальной физиономией, очень много в действительности. И только остатки старых предрассудков мешают нашей литературе выразить это богатство жизни в художественных образах.
Такие могучие массовые движения, как движение стахановцев, выдвигают множество людей с определенно выраженной духовной индивидуальностью, с определенной умственной физиономией. Изобразить эти типы нашей действительности, минуя индивидуальные черты их духовного облика, невозможно. На наших глазах происходит огромный подъем сознательности масс. И литература не может ограничиться изображением готового результата этого процесса, или простым противопоставлением его начальной и конечной стадии. Новый человек должен быть отражен в самом процессе возникновения и развития, а умственный рост является здесь важнейшим моментом.
В изображении борьбы с пережитками капитализма в экономике и сознании людей художественная трактовка интеллектуального облика героя также играет очень большую роль. Литература должна показать непосредственно как происходит на деле процесс преодоления этих пережитков. С другой стороны, она не может закрывать глаза на то обстоятельство, что сохраняющие свою силу буржуазные пережитки в сознании приводят отдельных людей или целые группы лиц к падению, к политической смерти. Товарищ Сталин говорил о людях, которые вылетают из нашей телеги на каждом крутом повороте. Он с величайшей наглядностью показал, что по мере наступления социализма остатки разбитого в открытом бою классового оврага переходят ко все более утонченным формам борьбы против нас. Но чем сложнее и утонченнее становятся методы их вредительской работы, тем важнее делается задача вскрытия и разоблачения интеллектуальной физиономии классового врага в литературе.
Задачи, стоящие перед советскими писателями, чрезвычайно велики и несомненно, что в главной своей части это задачи для художественной литературы новые. Чтобы разрешить эти проблемы наши писатели уже многое сделали. Но разрешила-ли наша литература или, по крайней мере, подошла-ли она уже вплотную к разрешению своей центральной задачи-задачи изображения нового человека? Послушаем, что говорят об этом лучшие друзья советской страны, среди наиболее выдающихся писателей Запада. В своей речи на съезде писателей Мальро сделал несколько критических замечаний по адресу нашей литературы. По мнению знаменитого французского писателя, она верно передает внешние факты социалистического строительства, но оставляет в стороне этику и психологию нового человека. Мальро говорит: "Фотография великой эпохи-это еще не великая литература… Мир ждет от вас образа не только действительности, но и того, что ее превосходит…". Андре Жид в своей речи на конгрессе защиты культуры "критикует уровень нашей литературы с точки зрения, очень напоминающей взгляды Мальро: "Литература-не зеркало или, во всяком случае, не только зеркало. Доныне современная литература СССР более или менее довольствовалась этой ролью… Она не должна на этом останавливаться… Я видел в новой советской литературе много превосходных произведений, но еще дает произведений, в которых был бы воплощен новый человек, тот, над кем эта литература работает и лицо которого мы жаждем увидать. Советская литература еще изображает борьбу, созревание, роды".
Мальро и Жид совершенно правы, когда отмечают тот факт, что при всех достижениях наша литература еще не дала полноценного изображения нового человека. Наша задача заключается в том, чтобы эту авторитетную и дружественную критику по-настоящему учесть в своей работе.
Что мешает нашей литературе дать подлинно-художественное изображение нового человека? — В первую очередь различные остатки буржуазного сознания в головах писателей. Наша, литература развивалась в окружении всемирного упадка буржуазной культуры я буржуазного искусства. Отрицательное влияние различных течений в литературе эпохи империализма можно заметить, у нас на определенных отрезках времени как в теории, так и в практике художественного творчества.
Возьмем несколько примеров из области ныне уже отошедших прошлое, хотя иногда дающих еще о себе знать, теорий. Такова, например, программа так называемой "агитки"-реакция на буржуазный сверхиндивидуализм, "искусство для искусства" т. п. Эта реакция находится, однако, лишь в кажущемся противоречии к буржуазной идеологии; она родилась на той же почве. Абстрактная "общественность", которая противопоставляется здесь буржуазному индивидуализму, стремление заменить разрыв между искусством и жизнью непосредственным практицизмом — все это столь же абстрактно и не выходит за пределы буржуазной ограниченности. Во всяком случае, можно было бы привести целый ряд примеров совершенно реакционного использования этик идей.
То же самое нужно сказать о вульгарно-социологических нелепостях, которые, с точки зрения теории познания, тесно примыкают к субъективизму и релятивизму новейшего, буржуазного мышления. Такова и теория, так называемого, "живого человека". Здесь также лишь Психологически-личное, узко-субъективное определяет различия между человеческими индивдуальностями и сохраняется в полной мере старое противопоставление личности и общества, столь характерное для буржуазной культуры.
Этим теориям соответствует, к сожалению, слишком многое в практике нашего искусства. Очень большая часть произведений советской литературы наполнена безжизненными схемами вместо людей. С другой стороны, в качестве мнимого преодоления этого схематизма на поверхность всплывает с живейшим вниманием описываемая частная "человеческая" жизнь. И так как эта частная жизнь берется в качестве какого-то оживляющего элемента в дополнение к отвлеченным картинам общественной борьбы, то изображение индивидуальности часто остается в пределах старого буржуазного горизонта.
Конечно, это не относится к лучшим представителям социалистического реализма. Но, в общем, наша художественная литература стоит ниже нашей действительности. Действительная жизнь носит гораздо более героический, сознательный, ясный, индивидуализированный, внутренне-богатый человечный характер, чем литература ваша даже в лучших своих произведениях.
Наши писатели — реалисты и тем не менее их произведения остаются много ниже действительности по своей значительности и по богатству содержания. Значит ли это, что такова ограниченность реалистического искусства вообще? Если советские писатели нe могут полностью овладеть величием изображаемой ими действительности, то причина этого явления лежит отнюдь не в природе реалистического искусства вообще, а в недостатках того реализма, которым пользуется наша литература. Выражаясь более точно, дело — в отрицательном наследии буржуазной культуры эпохи ее упадка, которое часто мешает нашим писателям стать подлинными реалистами.
Мы подробно останавливались на том, как произошел распад реализма большого стиля в XIX веке. Возникший на развалинах классической прозы, реализм нового типа не был простой литературной модой. Он явился результатом естественного приспособления литературы к уровню разлагающейся жизненной обстановки буржуазного общества. Буржуазные классы уже не способны в эту эпоху прямо смотреть в глаза объективной действительности. Поэтому- при каком угодно большом техническом мастерстве — характер peaлизма в искусстве и литературе должен был измениться в худшую сторону. Культура реализма, художественная культура в целом, должна была снизиться.
И в нашей стране влияние литературных традиций, умирающе" буржуазной культуры не является делом моды. Это влияние относятся к общему комплексу пережитков капитализма в создании людей. Борьба с влиянием буржуазного., разложения — очень сложное и серьезное дело. Здесь очень малого можно достигнуть при помощи вульгарно-социологических окриков, которые всегда уживаются с реверансами по адресу формального мастерства новейшего западного искусства. Задача состоит в том, чтобы поднимать культуру реализма, показывая конкретно-исторически, что эта культура сплошь и рядом находится в полном противоречии с так называемой "виртуозностью" новейшего типа, столь импонирующей многим нашим писателям.
В противовес этой поверхностной виртуозности, мы должны постоянно привлекать внимание писателей к настоящей культуре реализма, проявляющейся и в композиции, и в характеристике действующих лиц, — к той культуре, которой обладали классики старого романа.
Как бы ни были различны историческая обстановка, цели и методы борьбы, нас привлекает у классиков их понимание человеческого величия мировой истории, то понимание, которое было впоследствии отнято у литературы развитием капиталистического бездушия во всех областях действительности. В позднейшей буржуазной литературе воцаряется преимущественный интерес ко всякой посредственности. Эта черта основана на неверии в реальность исключительных проявлений человеческого величия. Капиталистическое общество уродует способности человека. Поэтому богато развитая личность, как Наполеон, вызывала такое воодушевление у значительнейших поэтов; "компендиум мира"-назвал его Гете. Но для изображения подобной личности необходимо поэтическое понимание исключительного, как типичного общественного явления, и соответствующая культура композиции, искусство нахождения необходимых ситуаций, при помощи которых исключительное в изображаемых людях может выражаться правдиво, в индивидуальных и типических формах. Если бы какой-нибудь Джойс изобразил Наполеона восседающим в отхожем месте, подобно своему герою-мелкому обывателю Блуму, то из этого можно было сделать только одно заключение: что самый выдающийся человек имеет некоторые общие функции с величайшей посредственностью.
Подобное тяготение к посредственности прикрывается часто стремлением разоблачить ложное величие и напыщенный героизм. Но в действительности дело сводится к торжеству пошлейшего обывательского тупоумия.
Такой же типичной чертой позднейшего буржуазного реализма является тенденция ограничить литературу изображением какого-нибудь "куска жизни". ("Coin de la naturе" Золя). Это также проистекает из неспособности и идейно и поэтически охватить действительность как подвижное целое. Но каждый из этих "кусков жизни" становится в изображении писателя гораздо более случайным, бедным, окостеневшим, грубо очерченным по сравнению с соответствующей ему действительностью. И чем 'более точно воспроизводится ограниченный кусок жизни в качестве модели, тем более грубым и фальшивым становится изображение.
Эти черты не может преодолеть никакое объективное вмешательство, "temperament " Золя. И если советский писатель добровольно налагает на себя подобные узы, то их не преодолеть и его большевистскому темпераменту, буде таковой у него имеется. Только писатель, отражающий живую жизнь как развивающееся целое, а не как мусорную кучу всевозможных кусочков, может и в изображении отдельного жизненного эпизода выразить все существенные черты своей общей темы. Но для этого ему нужно иметь перед своими глазами образ действительности как живого единства, для этого нужно отказаться от исключительного погружения в случайный, пусть чрезвычайно верно изображенный, кусок действительности.
Максим Горький является в наше время величайшим образцом подлинной художественной культуры. Революционное рабочее движение внушило ему веру в грядущее величие человека, наполнило его горячей и сознательной ненавистью к буржуазному обществу, унижающему и калечащему человека. Эта вера и эта ненависть придают его произведениям такую смелость композиции — умение показать типическое в исключительном.
Возьмем самый простой пример. Ниловна, героиня его повести "Мать", отличающейся почти пуританской простотой композиции, изображена несомненно ясак лицо исключительное. Горький устраняет внешние помехи, которые могли бы помешать развитию Ниловны; ее муж умирает сравнительно рано. Горький ставит развитие Ниловны в наиболее благоприятные условия: ее сын живет только революционным движением рабочих. Эти условия заставляют Ниловну подняться над прежним, полубессознательным состоянием забитой женщины и перейти от стихийной человеческой симпатии к отдельным революционерам, к сознательной революционности. Для старой, неграмотной рабочей женщины крестьянского происхождения, живущей в условиях старого общества, это, конечно, путь необыкновенный. И Горький подчеркивает эту исключительность. Он показывает, что на фабрике и в рабочей слободе знамя революционного мышления несет молодежь. Старики колеблются, хотя многое привлекает их к социалистам. Ниловна, по словам Рыбина, "может, первая, которая пошла за сыном его дорогой". Но именно это исключительное с точки зрения личной жизни делает развитие Ниловны столь глубоко типичным с точки зрения всего революционного развития России. Великий путь, по которому позднее пошли миллионные массы рабочих и крестьян, революционно-типичный путь освобождения трудящихся. Здесь в повести "Мать" этот общий путь предстает в образе полной жизненности, глубоко-индивидуальной судьбы.
Эта высокая культура реализма проявляется и во всем построении повести. Параллелизм И одновременно контраст между развитием Ниловны и Рыбина показаны с особенной тонкостью. Точно также и дружба Павла с Андреем, их общее влияние на Ниловну, различия их духовного облика при единстве служения революционному делу рабочих. Изображенные Горьким революционеры целиком поглощены своей партийной работой, но именно в этой работе отчетливо выступают их личности, цельность их характеров, начиная с непосредственной жигани чувств и кончат высокими проявлениями их интеллектуального облика. Рабочее движение заставляет Их занять определенную, личную позицию по отношению ко всем вопросам жизни, от вопроса о способе агитации до проблемы взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Эти люди различаются между собой по своему индивидуально-жизненному способу овладения большими общественными проблемами общественного мира.
Горький правдив в самом глубоком и серьезном смысле этого олова. Но именно поэтому он никогда не ограничивается в своем художественном мышлении мелкой, поверхностной правдой обыденного. Он — творит ситуации, в которых существенно-историческое содержание находит себе свободное художественное выражение; он создает людей, которые в личном и общественном отношении (характеризуются тем, что они сами существенны, а не поверхностны и вульгарны; он заставляет этнос людей говорить так, что в их речах различные стороны исторически существенного содержания высказываются наиболее полно и последовательно.
Поэтому обрисовка человека у Горького достигает своего высшего пункта в характеристике интеллектуального облика персонажей. Горький столь же велик в изображении медленного роста, бессознательной подготовки личности к большому духовному перелому, как и в раскрытии самого этого перелома, в изображении узловой линии развития человеческого характера. Эти узловые пункты приобретают у Горького значение моментов, мгновенно освещающих все прошедшее перед нами. Так, например, когда Ниловна после ареста сына живет у его товарищей и разговаривает с ними о жизни, у нее вырываются следующие слова: "Я вот теперь смогу сказать кое-как про себя, про людей, потому что — стала понимать, могу сравнить. Раньше жила-не с чем было сравнивать. В машем быту все живут одинаково. А теперь вижу как другие живут, вспоминаю, как сама жила, и-горько, тяжело".
Это положение насыщено глубокой художественной правдой. Высокое литературное значение произведений, подобных повести "Мать", связано теснейшим образом с тем, что они и по материалу, и по "обработке выходят за пределы буржуазного жизнеощущения. Только люди, глубоко связанные друг с другом, как личности, своим общим делом, люди, которые не просто проходят мимо друг друга в хаосе буржуазно-торгашеского мира, а говорят друг с другом как товарищи, только такие люди могут находить подобные слова, могут говорить так, как говорят герои Горького.
Именно этого типа культуры не хватает реализму многих наших писателей. Мы видим, что эта культура теснейшим образом связана с искусством обрисовки интеллектуальной физиономии героя. Овладению подобным искусством нашими писателями мешает традиция поверхностного понимании действительности, как чего-то обыденного и в своих типических выражениях — посредственного. Во-первых, сами герои наших романов часто столь посредственны по своему духовному облику, что ожидать от них какого-нибудь глубокомыслия в речах было бы странно. Во-вторых, положения в романах обычно выбираются таким образом, что индивидуализация типов в процессе взаимного обмена мыслями, в совместном обсуждении какого-нибудь большого и в то же время жизненно затрагивающего этих людей вопроса становится невозможной.
Более того, для нашей литературы типично, что решающие речи в решающих пунктах прерываются и писатель или его персонажи сознательно оставляют недоговоренными целый ряд важнейших вещей, ссылаясь на то, что эпоха боевая, нужно работать и на разговоры "времени кет". Но это только прикрытие для очень распространенной традиции, позаимствованной из новейшей западной литературы, у которой всегда лет времени для принципиального размежевания между людьми и для "интеллектуальности" в столкновениях людей вообще. С точки зрения современного буржуазного литератора вести подобные "умные" разговоры могли лишь наивные просветители, нигилисты или либералы прежних времен. А у новейшего героя, писателя и читателя для подробных разговоров "времени нет".
Но если в романе нет времени для самого существенного, то это, прежде всего, недостаток композиции, пусть даже люди, изображенные в романе, действительно очень заняты. Хорошая композиция, проникнутая подлинной литературной культурой, как у Горького, предоставляет героям художественного произведения достаточно времени для всего, что их характеризует, для всего, что служит разработке темы во всем ее внутреннем богатстве и многообразии. И так даже в тех случаях, когда писатель хочет изобразить события, разживающиеся бешеным темпом.
К сожалению, подобное уклонение от существеннейших интеллектуальных столкновений людей, от соприкосновения различных точек зрения в разговоре или в какой угодно другой форме, очень распространено в нашей литературе. Весьма наивно выступает это уклонение в имеющей широкий успех пьесе Погодина "Аристократы". Драматическим поворотным пунктом является здесь большой, продолжавшийся несколько часов разговор начальника ГПУ с воровкой Соней. После этого разговора Соня становится другим человеком. То, что подобная перемена возможна, является одной из наиболее величественных черт нашей эпохи. Но что из этого действительно показано в драме? — Сценически кое-что намечено, то не более. Говорится, что разговор с Саней продолжался несколько часов. Показано, что Соня до разговора является строптивой и закоренелой преступницей, а после разговора полностью изменилась. Но что произошло между ней и начальником ГПУ, какие доводы кашли дорогу ж ее сердцу, каков был этот драматический разговор, — обо всем этом можно только догадываться. Мы вовсе не осуждаем Погодина за то, что он решительный поворотный пункт видит в разговоре. В жизни такие разговоры имели место и действительно не раз оказывали на людей решающее воздействие. Но подобный результат никогда не является в виде какого-то подарка. В действительной жизни он должен быть выстрадан, добыт величайшим напряжением духовных сил человека. Это — могучее свидетельство интеллектуальной мощи большевизма, духовного величия его лучших представителей. И когда наш зритель с воодушевлением встречает таких людей в сценическом изображении, то это вполне понятно. Он аплодирует действительным героям Беломорского канала, которые вызывают в нем гордость и сочувствие, несмотря на плохую композицию пьесы Погодина.
Не всегда этот недостаток композиции выступает в таком наивно-обнаженном виде. И тем не менее он имеет очень большое распространение. Возьмем в качестве примера столь выдающееся произведение нашей литературы как "Бруски" Панферова. Вторая часть этой книги изображает в высшей степени интересное и глубоко-типичное противоречие двух ступеней в истории борьбы за коммунизм в деревне. В изображении обоих представителей этих ступеней — организатора коммуны Огнева и Кирилла Ждаркина- Панферов нашел правильные, типичные черты. Но когда дело подходит к размежеванию обоих принципов, к преодолению абстрактно-уравнительных идеалов Огнева, то Панферов так направляет действие романа, чтобы сделать спор между двумя деревенскими коммунистами невозможным. Огнев услышал несколько слов, сказанных о нем Кириллом Ждаркиным: "Эти люди сделали свое дело на франте. Там нужен был этот… как его… энтузиазм… а теперь нужно и другое". Огнев — в отчаянии и отсюда, из этого отчаяния вытекает его, напоминающее самоубийство, поведение при защите плотины от ледохода. После того, как Огнев превращается в калеку, Ждаркии принимает на себя руководство коммуной. Он чувствует необходимость разделаться с ошибками прежнего периода в живши коммуны, когда она находилась под руководством Огнева: "Будь Степан здоров, Кирилл прямо ему в лицо еще и еще раз оказал бы то, что он думал о Брусках. Но Степан болен. И, уважая его, Кирилл не может, не в силах созвать коммунаров и громко сказать: "Вы делали не то, что вам полагалось…".
Панферов сам чувствует, что он отказался в своей книге от очень существенной и благоприятной возможности. Конечно, в действительности бывают и такие случаи, когда размежевание в споре невозможно. Но такой материал просто не подходит для хорошего, литературного произведения, он должен быть соответствующим образом преобразован художникам, так же как Шекспир преобразовывал хроники и новеллы, как Бальзак и Стендаль видоизменяли прообразы, взятые ими из жизни. Именно благодаря подобной художественной перестройке, действительность выступает у них в своей наивысшей, наиболее существенной форме.
Болезнь Огнева принадлежит, таким образом, к случайностям, литературно не оправданным, случайностям дурного типа. Во всяком случае, ее мотивировка противоречит главной линии развития темы. Конечно, литература не может обойтись без изображения случайного. Но случайность в литературе и в обыденной жизни-это не одно и то же. Миллионы случайностей образуют в действительности необходимый ход вещей. В литературе бесконечность единичных явлений должна быть сконцентрирована, сжата в одном положении. И диалектическое взаимоотношение между необходимым и случайным должно получить наглядный характер. В литературе уместны только такие случаи, которые в сложной, но вполне определенной форме подчеркивают существенные черты сюжета, проблемы, действующих характеров. Если они выполняют эту функцию, то в остальном они могут быть случайностями самого исключительного типа. Напомним платок в "Отелло", где именно эта простая случайность, на которой основана грубая интрига Яго, служит для того, чтобы лучше оттенить благородные стороны характера Отелло и Дездемоны. Напомним также смелое использование случая у Толстого: Нехлюдов оказывается присяжным в тот день, когда перед судом должна предстать Катюша Маслова.
Случай в романе Панферова имеет противоположное композиционное значение. Вместо того, чтобы столкнуть людей и заставить каждого из ник в драматическом конфликте ясно развернуть вое выводы из своей позиции, болезнь Огнева служит у Панферова только поводом для того, чтобы избежать подобного сопоставления. Здесь случайность теряет свой осмысленно-художественный характер и опускается до уровня чего-то индивидуально-патологического. Болезнь есть болезнь и ничего больше.
Конечно, бывают такие положения, когда невозможность сознательного размежевания героев в споре; в речах и т. д. диктуется самим материалам. Таково, например, в "Последнем из Удэгэ" Фадеева развитие Лены в доме капиталиста Гиммера. Живя в этом буржуазном окружении, Лена по чувству все более приближается к революционному пролетариату. Из ее обособления от среды естественно вырастает особый прием изображения у автора романа. Этот прием построен на случайно брошенных словах, вообще на мимолетном соприкосновении с людьми, которые все более становятся внутренне-чуждыми ей. Там, где Лена постепенно приближается к рабочим, которые на первых порах чувствуют по отношению к ней естественное недоверие, эта манера изображения также по своему художественно оправдана и помогает автору создавать прекрасные сцены, как, например, в случае с участием Лены в выборах.
Но будучи возведена в принцип, подобная манера изложения становится помехой для автора. Он говорит: "Лена была бесстрашна, в мыслях и правдива с собой до конца и не умела найденную ею, хотя бы и горькую правду прикрывать никакими, хотя бы и самыми дорогими, фетишами". Однако, Фадеев только проворит об интеллектуальной цельности своей героини, но не показывает этого. В первой части своего романа он применяет тот же метод словесного соприкасания, рисуя взаимоотношения коммунистов Сени и Сергея. Человеческие черты характера этих людей, их личные отношения друг к другу обрисованы с большой тонкостью и живым вниманием. Но как коммунисты они не различаются менаду собой. Или, по крайней мере, мы ничего не знаем об их индивидуальных различиях как коммунистов, благодаря литературной манере, однажды принятой автором.
Если этот недостаток дает себя знать у таких выдающихся советских писателей как Фадеев, то нет ничего удивительного в том, что авторы произведений подражательных и мелких доводят бессловесность своих героев или, точнее говоря, их неспособность к интенсивному я содержательному развитию своих мыслей в разговоре, спорах. и т. д. до абсурда.
Все это неизбежно приводит к тому, что интеллектуальная физиономия действующих лиц теряет определенность своих черт. Отрицательные традиции позднего буржуазного реализма, недостаток художественной культуры, слабость композиции, — все это ослабляет силу характеров, выведенных в советской литературе, и мешает подлинно-художественному изображению человека социалистического общества.
Эти отрицательные традиции очень сильно сказываются и в изображении связи между жизнью личной и жизнью общественной. Мы уже говорили о том, насколько характерно для буржуазного общества противопоставление этих сторон человеческого бытия. Ясно, что в социалистическом обществе проблема стоит совсем иначе. И наши писатели это, в общем, понимают. Они во многих случаях исходят из правильного чутья нового в жизни. Но одного чутья недостаточно. Не хватает смелости литературной трактовки, глубины художественной культуры, чтобы из правильного ощущения вышел развитой художественный образ.
Так, в известном романе Панферова, о котором мы уже говорили, очень содержательно описывается личное развитие Ждаркина, причем много характерного и в его отношениях с женщинами. Но до подлинно-высокой трактовки любви между мужчиной и женщиной Панферов не поднимается. Почему любовные отношения в старой литературе носили характер такой глубокой содержательности и значения? — Потому, что в их перипетиях отражалось развитие цельных и выдающихся индивидуальностей. Любовь Вертера к Лотте не могла бы оказывать такого воздействия на ум и чувство читателя, если бы Гете не удалась вложить в эту любовь глубокое человеческое содержание. Но для того, чтобы понять Вертера не только как тип бунтарски-настроенного интеллигента эпохи, предшествующей французской революции, но и для того, чтобы понять, что характер и жизненная среда Лотты были именно тем, что молодой Вертер, с его психологией и бунтарским настроением, должен был ждать от жизни, — для того, чтобы понять все это, нужно знать и энтузиазм Вертера по отношению к древней Греции, и его позицию по отношению к Клопштоку, Оссиану и т. д. Все это глубоко продумано, доведено, до конца, развито во всех своих последствиях, и, поэтому, является, таким законченным и определенным. Любовь Вертера и Лотты, это — не только явление чувственного порядка в жизни двух молодых людей, это — интеллектуальная драма, где любовь освещает своим, сиянием величественные и туманные черты грядущих общественных конфликтов.
Вот этой-то "интеллектуальности", если можно так выразиться, и не хватает нашим писателям в обрисовке явлений личной жизни. Поэтому изображаемые ими отношения сплошь и рядом остаются чисто-случайными, индивидуально-ограниченкыми и попросту неинтересными.
Нам кажется, что все это коренится именно в традициях позднейшей буржуазной литературы. Тот, кто критически воспринимает эти традиции, не может мириться и с ограниченностью дурного реализма, которую мы сами на себя наложили и которая противоречит всему развитию социалистической культуры.
Дело, конечно, не просто в поднятии идейного уровня нашей литературы. Об этом уже говорилось много и говорилось правильно. Мы хотели подчеркнуть здесь значение идейной, интеллектуальной стороны в самой форме художественного произведения, в мастерстве композиции, в общем развитии характера. Подлинная художественная культура требует более глубокого и живого, менее схематичного восприятия связи между обществом и личностью, а также между отдельными людьми. Только эта культура может помочь нашему писателю смело порвать узкие рамки посредственности, смело взяться за изображение тех исключительных, из ряда вон выходящих, передовых явлений общественной жизни, которые в таком изобилии создает наша действительность.
Чрезвычайна отрадно, что наши писатели и еще более — читатели чувствуют эту необходимость, чувствуют недостатки нашей литературы. Но для писателя одного лишь чувства мало. Эренбург, например, сознает, что созданные им положительные образы не соответствуют вполне величию происходящего социалистического строительства. Что же делает писатель? — Уже в своем романе "День второй" он старается как бы заменить качество количеством, проводя перед умственным взором читателя множество значительных индивидуальностей с их своеобразной судьбой. Но и этот прием не может заменить главного в художественном произведении. Ибо если 10 или 12 человек, действующих в романе и освещенных приблизительно одинаковым светом, по необходимости только намечены автором, то из сложения 12-ти абстракций не может получиться конкретно-развивающегося целого. Впрочем, нужно заметить, что как раз у Эренбурга "интеллектуальный" момент в обрисовке характера героев играет большую роль. К сожалению, истинный драматизм развивающейся мысли заменяется у него часто простой кинематографической последовательностью кадров.
Эмерсон однажды заметил, что "движения цельного человека должны быть единым актом". В этих словах довольно удачно выражен секрет великих образов искусства и литературы. Характеры, созданные великими реалистами прошлого (как Шекспир, Гете и Бальзак), покоятся именно на том, что эти образы от своего физического бытия до самых тонких устремлений мысли представляют собой единое, хотя и противоречиво развивающееся, целое. Подобное единство художественного образа, невозможное без высокого развития его интеллектуального облика, придает творениям классических художников прошлого необозримое богатство. Эти образы стоят перед нами, такие же сильные и многогранные, как сама действительность. И все, что мы можем о них сказать, наши лучшие истолкования таких образов, как Гамлет и не достигают их высоты и богатства. Наоборот, пестрый и беспорядочный пуантеллизм позднейшей литературы представляет собой простое прикрытие для чрезвычайной бедности содержания. Созданные новейшей литературой образы исчерпываются очень быстро, мы можем их обозреть и определить с достаточной легкостью. Для подлинно-художественного отражения нашей социалистической действительности этот пуантеллизм не годится, ни в крупных, "и в уменьшенных дозах. Нам необходима именно классическая культура реализма, проведенная сквозь опыт пролетарской революции, обогащенная новой жизнью, новыми характерами и положениями.
B нашей революции миллионные массы впервые пробудились к сознательной жизни, к самосознанию. Победа социалистической действительности развеяла как кошмарный сон старое популярное представление о разрозненных, солипсических псевдо-индивидуальностях. Пора и нашей литературе с надлежащей энергией и смелостью обратиться к бодрствующим, обрисовать в художественных образах их общий мир, полностью освободиться от остатков упадочной буржуазной сонливости, от того состояния, в котором, по словам Гераклита, каждый уходит в свой собственный мир, в свою собственную ограниченность, в свою внутреннюю пустыню.
Примечания
1
Нам нужны отсевки, — не цвета, а только оттенки!>
(обратно)

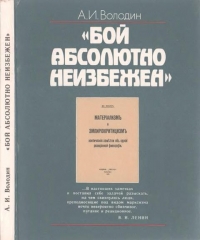
Комментарии к книге «Интеллектуальный облик литературного героя», Георг Лукач
Всего 0 комментариев