Л.В.Карасев. Онтологическая поэтика (краткий очерк)
Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда. Вып. 1. М.: ИФ РАН, 2005
- 91 -
Л.В.Карасев
Онтологическая поэтика (краткий очерк)
Цель настоящих заметок - дать общий и поневоле схематичный набросок той интеллектуальной стратегии («онтологическая поэтика» или иначе «иноформный анализ текста»), которой я придерживался последние полтора десятилетия, занимаясь теорией эстетики и исследуя русскую и западноевропейскую литературную классику[1].
Если попытаться наиболее кратко определить существо названного подхода, можно сказать, что это один из вариантов философского или так называемого «глубинного» анализа текста. Поскольку же мне всегда приходилось иметь дело с художественной и - шире - эстетической реальностью, постольку и сама онтологическая поэтика может быть помыслена как составная часть того обширного умственного движения, которая традиционно именуется общим словом «эстетика». У нас есть все основания называть Р.Ингардена феноменологом, Р.Барта структуралистом, а Ж.Деррида деконструктивистом, однако теперь по прошествии времени стало очевидно, что их концепции и добытые ими результаты в конечном счете сделались общим достоянием эстетики. Применительно к онтологической поэтике (я имею в виду терминологическую сторону дела) это означает, что и она, несмотря на свою специфичность, точно так же ищет ответа на вопрос о том, что такое эстетическая реальность, как она соотносится с воспринимающим субъектом, как она организована и пр. Что же касается названия («онтологическая поэтика»), то здесь потребность в особом поименовании была продиктована не прихотью, а необходимостью как-то определить собственную территорию, расставить акценты, указывающие на особенности метода как такового.
- 92 -
Слово «поэтика» в особых пояснениях не нуждается; стоит разве что обратить внимание на исходное значение этого термина - деланье по образцу, неким определенным образом. Иначе говоря, «поэтика» - это сумма приемов, принципов и оснований, согласно которым организуется и оформляется целое текста. И коль скоро это так, то справедливым будет назвать тем же самым словом метод или подход, который это целое исследует (историческая поэтика, структурная поэтика, психоаналитическая поэтика и пр.).
Что касается прилагательного «онтологическая», то в нем выразилась потребность указать на те глубинные, бытийные (т.е. онтологические или, как сказал бы М.Хайдеггер, «онтические») основания, из которых текст вырастает и определенным образом оформляется. В данном случае речь идет о силах или условиях, влияющих на то, что литературное повествование приобретает именно тот вид, который оно приобретает. Формулируя кратко, можно сказать, что онтологически настроенного исследователя прежде всего интересует не то, о чем идет речь в каком-либо конкретном тексте, и не то, как именно это выражается (классическая антитеза «содержания» и «формы»), а то, с помощью чего реализуют себя и содержание и форма, то, благодаря чему текст обретает жизненную силу и оформляется в единое органическое целое. Разумеется, ни от содержания, ни от формы не уйти (только они, собственно говоря, и присутствуют в тексте); задача в другом - понять тот механизм, ту силу, с помощью которой (в том числе) исподволь, чаще всего неприметно для самого автора, связываются друг с другом отдельные повествовательные элементы, организуется сюжет и оформляются внешние облики конкретных сцен, эпизодов, положений. Само собой, то, о чем идет речь, имеет не абсолютный, а относительный характер: онтологически ориентированный подход имеет достаточно ограничений для своего применения. Он нацелен на вполне определенный и весьма специфичный слой или уровень повествования, который скорее восстанавливается, реконструируется, нежели реально присутствует в материи текста. Условно говоря, это то, что присутствует, отсутствуя, то, что организует, не выдавая в себе воли организатора, то, что оставляет следы, скрывая облик того, кто эти следы оставил. Проявлением и осмыслением названной силы и занимается онтологически нацеленный исследователь, пытающийся понять те смыслы, которые стоят за видимыми действиями персонажей и несводимы напрямую ни к их психологии, ни к требованиям сюжета, стиля и жанра.
Термин «онтологическая поэтика» был введен в научный оборот в начале 90-х годов и с тех пор систематически использовался мной в статьях и книгах, посвященных как общим эстетическим вопросам,
- 93 -
так и анализу конкретных художественных текстов. Со временем термин как будто прижился, во всяком случае его стали использовать и другие авторы, наполняя его иногда близким, иногда далеким от исходного содержанием[2].
Теперь о тех теоретических и - шире - философских основаниях, на которых выстраивается онтологически ориентированная поэтика или эстетика. Здесь на первом месте оказывается удивление перед самим фактом явленности бытия, его наличествования в конкретном пространственно-вещественном оформлении. И хотя в данном случае речь идет о бытии текста, суть названного, идущего еще от Аристотеля философского удивления, остается прежней. Что касается философских и филологических концепций непосредственно предстоявших излагаемому мною варианту онтологически ориентированной поэтики, то среди них должны быть упомянуты феноменологическая теория М.Мерло-Понти, трансформационная мифология К.Леви-Стросса, а также эстетико-филологические исследования В.Проппа, О.Фрейденберг и Я.Голосовкера, в которых так или иначе проводилась мысль о силах, которые способны организовывать текст независимо или даже вопреки авторским усилиям и установкам[3].
Быть - значит наличествовать, присутствовать - «веществовать». Феномены веры, мечты или памяти, несмотря на свою «идеальность», обретают, осуществляют себя в живом вещественном человеке и, таким образом, также оказываются включенными в мир реального наличе-ствования. Из подобного предельно широкого взгляда вырастает фундаментальная антитеза онтологической поэтики: если бытие связано с наличествованием и пространственно-вещественной определенностью, то небытие - с отсутствием названных черт. Вещество жизни - против пустоты смерти. Образ мира - против без-образия небытия (небытие неоформлено, невидимо, бесплодно). Применительно к анализу текста это означает, что предметом преимущественного интереса онтологической поэтики становятся те места повествования, где пространственно-вещественные структуры представлены в наиболее выразительной форме. Это так называемые «сильные» или «отмеченные» участки повествования, его эмблемы, визитные карточки, которые в определенном смысле способны представлять весь текст целиком или, во всяком случае, указывать на нечто существенное в нем. Так человек, стоящий у разрытой могилы с черепом в руках, определенным образом укажет на «Гамлета», всадник, скачущий с копьем навстречу мельницам, напомнит о «Дон-Кихоте», а студент с топором - на «Преступление и наказание».
- 94 -
На фоне эстетической реальности текста, которая уже сама по себе вызывает удивление тем, что она существует, подобные участки повествования выглядят еще более привлекательно, рождая ряд вопросов, требующих своего непременного изъяснения. Что делает эмблемы тем, чем они являются? Что в них есть такого, что позволяет этим отмеченным участкам текста представлять и в определенном смысле даже замещать собой все целое художественного произведения? Ведь очевидно, что тексты (и, прежде всего, тексты «хрестоматийные», «классические», «прославленные») живут в культуре не только целиком, но и отдельными эмблемами - сценами, эпизодами, фразами, в которых так или иначе сказалась особая смысловая и пространственно-вещественная напряженность.
Если двигаться по этому пути, то в центре нашего внимания как раз и окажутся конкретные обстоятельства каждой такой сцены или эпизода. Как именно выглядел персонаж, какие предметы, вещества, цвета, запахи, конфигурации, фактуры его окружали. В каком направлении он двигался, в каком пространстве находился и т.д. Причем важно, что обращение ко всем названным подробностям, имеющим вполне определенный историко-культурный смысл, в данном случае имеет другую цель. Здесь на первое место выходит тот срез или уровень бытия (прежде всего художественного, эстетического), на котором его вещественно-пространственная оформленность сказывается с максимальной выразительностью и напряженностью. Человек и мир тут во многом совпадают, откликаются друг в друге, ибо на природную субстанцию мира, явленную в виде объемов, конфигураций, веществ, жидкостей и пр. отзывается ничто иное, как природное в самом человеке, в его теле (а значит, и в психике), то есть все те же объемы, конфигурации, вещества, жидкости. «Внешнее» и «внутреннее», таким образом, воссоединяются, рождая в человеке особый настрой, ощущение бытия наличествующего, актуального в своей конкретной особенности и неповторимости.
И все это накладывается, смешивается, соединяется с культурными смыслами эпохи, стиля, жанра, одно откликается в другом, рождая сложнейший комплекс человеческой чувственности, идеологии, в котором природное неотделимо от социального, телесное от духовного.
Бытию, вещественно-пространственной оформленности, противостоит, как уже говорилось выше, отсутствие бытия, без-образие в прямом смысле этого слова. Иначе говоря, веществу жизни (или как сказал бы А.Платонов, «веществу существования») противостоит пустота смерти, нежизнь. Названная антитеза лежит в самих основаниях
- 95 -
онтологически ориентированного взгляда; именно из нее проистекает логика дальнейшего анализа, его фундаментальная стратегия. Если повествование неоднородно, если в нем есть «сильные», «отмеченные» места (эмблемы), следовательно, именно в них в наибольшей степени присутствует интересующий нас импульс жизни, и, следовательно, именно в этих точках может содержаться нечто такое, что определенным образом поддерживает, организует текст, сообщая ему качество гармоничности и жизненности. Иначе говоря, внимательно всматриваясь в эмблему, в то, каким именно образом она оформлена, мы получаем возможность узнать о тексте, об его устройстве и смысле нечто такое, что имеет отношение к нему, как к органическому целому. Малое указывает на большое.
Сравнивая эмблемы какого-либо произведения между собой, мы стараемся отыскать в них нечто общее, то, что объединяет, роднит их друг с другом, несмотря на то, что внешне эти «сильные» (прославленные, хрестоматийные) участки текста могут иметь совершенно различные облики. Уловив это общее (а оно, как показывает анализ сочинений Шекспира, Гёте, Достоевского, Чехова, Толстого, Булгакова, Платонова и др., действительно обнаруживается), мы приближаемся к пониманию того, что можно назвать «исходным смыслом» данного текста и увидеть, как этот смысл разворачивается по ходу повествования в динамическую цепочку вариантов-иноформ, обеспечивающих общий настрой и целостность всего романа или пьесы. Например, в «Войне и мире» Л.Толстого в качестве подобного смысла или импульса выступает тема «напряженного бездействия», ожидания действия внешней непобедимой силы. Эта тема в том или ином виде присутствует почти во всех наиболее известных эпизодах романа, включая сюда и первый бал Наташи Ростовой (она напряженно ждет того, кто пригласит ее на танец), и ожидание битвы («Началось! Вот оно!»), и смертельное ранение кн. Андрея (полк неподвижно стоит под снарядами неприятеля), и саму смерть кн. Андрея (он ждет того мига, когда неодолимая внешняя сила навалится на него и заберет с собой). Я привожу лишь некоторые, наиболее знаменитые эпизоды, на самом же деле в «Войне и мире» - десятки подобных сцен, и во всех них, несмотря на их внешнее несходство - четко просматривается один и тот же исходный смысл.
Понятие «исходности», если смотреть на дело предельно широко, указывает на особый статус интересующего нас мотива или темы. «Исходность» в данном случае означает не пространственную или временную изначальность названного смысла по отношению к целому произведению (сначала исходный смысл, а затем весь текст), а степень
- 96 -
его укорененности в материи повествования, его базисный характер, органическую прирожденность данному сюжету и способу его изложения. На самом деле исходный смысл равен всему тексту, поскольку, так или иначе, организует отдельные, но крайне важные черты представленного в нем эстетического мира. Вместе с тем, принадлежа конкретному тексту, исходный смысл внеположен ему: он не совпадает ни с его идеей, ни с сюжетом, поскольку берет свое основание в том слое, который идеально предстоит каждому конкретному тексту. Речь идет о смысле-возможности, благодаря которой создаются условия для возникновения и оформления любого по-настоящему значительного художественного проекта. И поскольку мы говорим о качестве органичности или жизненности художественного произведения, постольку и самым общим определением, справедливым для любого исходного смысла, будет его соотнесенность с темой жизни как единственной универсальной и неотменимой ценности. В этом отношении неожиданно актуальной оказывается эстетическая концепция Н.Г.Чернышевского, и прежде всего ее центральный пункт, непосредственно связывающий эстетическое качество как таковое с фундаментальной ценностью человеческого существования: прекрасное есть жизнь.
Исходный смысл - это идея или импульс жизни, взятой в ее наиболее широком и принципиальном значении противостояния смерти и разрушению (вспомним об упоминавшейся ранее отправной антитезе онтологической поэтики). Образно говоря, исходный смысл может быть понят как приземленный, конкретно-оформленный вариант воли, исходящей из того онтологического горизонта, где жизнь уже утверждена и неотменима и где предощущается возможность ее победы над силами стирания и разрушения в других бытийных горизонтах.
Исходный смысл соединяется с усилиями автора, приобретает тот вид, который только и мог сложиться в каждом конкретном случае, то есть с учетом особенностей личности автора, жанра, стиля, культурной эпохи пр. Исходные смыслы различных произведений (тем более написанных разными авторами) могут сильно отличаться друг от друга. Вернее говоря, различными будут их внешние облики или те «формулировки», в сети которых мы пытаемся их поймать с тем, чтобы затем, примерить к целому текста, соотнести с сюжетом произведения и миром его художественных подробностей. Например, в качестве исходного смысла шекспировского «Гамлета» выступит тема диалога зрения и слуха, а в гётевском «Фаусте» ту же роль исполнит тема перемещения по пространственно-смысловой вертикали. Что общего у этих тем или смысловых линий? Внешне ничего, поскольку
- 97 -
речь идет о вещах исходно непохожих друг на друга, относящихся к разным плоскостям или срезам бытия (органы чувств и перемещение в пространстве). Однако если обратить внимание на внутреннюю форму этих смыслов, на то, ради чего они реализуют себя в идее и сюжете, то окажется, что обе названные темы так или иначе связаны с идеей жизни, стремлением к ее утверждению. Отказавшись от спасительной лжи слов и доверившись смертельной правде зрения, Гамлет теряет жизнь, но сохраняет достоинство, без которого жизнь не имеет смысла. Фауст, путь которого это сменяющие друг друга подъемы и спуски (от горных вершин до спуска к подземным Матерям), в итоге спасается для жизни вечной; избегнув последнего падения в пропасть ада, он устремляется наверх к Богу. А в чеховских пьесах та же тема распадается на ряд вариантов, в каждом из которых опять-таки будет присутствовать это общее, связанное с идеей жизни начало. В «Чайке» это тема жизни-мести (Треплев убивает чайку, чайка убивает Треплева), которая расправляется с людьми, ищущими в ней цели и смысла. В «Дяде Ване» - это тема красоты манящей и разрушающей, в «Трех сестрах» - метафора деревьев, вросших корнями в землю и неспособных уйти со своего места, в «Вишневом саде» - мысль о круге жизни, о невозможности начать все по-новому. Все эти варианты связаны с единой темой тоски по жизни несбывшейся и ожидания жизни будущей - настоящей и светлой.
Из приведенных примеров видно, насколько исходные смыслы трагедий и пьес Шекспира, Гёте и Чехова не похожи друг на друга. Видно и то, насколько непохожи они и на сюжеты или идеи соответствующих произведений. Однако именно об этом шла речь ранее, когда я пытался определить существо онтологического взгляда на художественный текст. Исходный смысл, который мы пытаемся выявить и сформулировать, действительно имеет мало чего общего и с сюжетом и с замыслом. Это и не «про что» и не «как», а это «с помощью чего» реализуют себя и «что» и «как».
Исходный смысл - это структура и импульс, помогающие тексту осуществиться именно в том виде, в каком он осуществился. Это сила, оказывающая мощное воздействие и на устройство сюжета, и на тот набор символических подробностей, который образует эстетическое целое повествования. Для того, чтобы текст состоялся как органическое целое, мало идеи и психологии характеров, необходима еще эта в некотором смысле внетекстовая основа, на которой смог бы состояться и утвердиться мир художественного произведения (феномен, имеющий отношение к тому, что принято называть «вдохновением», которое есть не слово, но сила или импульс).
- 98 -
Исходный смысл - это неуничтожимый, кочующий из одного текста в другой и каждый раз принимающий все новые и новые облики порыв или импульс. В пределах же каждого конкретного сочинения исходный смысл - это неразложимая на отдельные элементы или составляющие части целостность, своего рода минимальная единица текста. И если искать нечто, отвечающее требованиям, которые можно предъявить к тексту, как к осмысленному, органическому в себе завершенному целому, то им станет не слово, не предложение и даже не глава или часть повествования, а некоторая смысловая линия (или линии), проходящая сквозь весь текст и при этом повсюду сохраняющая свою качественную определенность. Исходный смысл может затухать, уходить в глубину, превращаться в пунктир, однако в глубине повествования, в его нечитаемой основе он неделим, неуничтожим и повсюду равен себе. Мы можем говорить как об отдельных исходных смыслах, связанных с каким-либо конкретным текстом, так и о смыслах, прослеживающихся в нескольких (в идеале во всех) сочинениях того или иного автора. Во втором случае речь должна идти о различных вариантах, огласовках единого исходного смысла, а также о различных сочетаниях этих вариантов, которые, собственно, и создают уникальность и поэтическую конкретность каждого отдельно взятого текста. У больших писателей так обычно и происходит; какая-либо тема или набор тем прослеживается во всех их наиболее значительных произведениях. Можно сказать, что каждый из них пишет не разные, а одну большую незаканчивающуюся и не могущую в принципе закончиться книгу. Напомню, что речь идет не об авторском замысле, наборе любимых тем или идей (они также отвечают названным качествам), а о нечитаемой основе текста, о его энергийно-смысловой подоплеке, помогающей сбыться и сюжету, и идеологии, и психологии характеров. Так у Гоголя это тема страха перед периферией и бегства в центр пустого пространства. У Достовского это тема трудного рождения и восстановления человека, увиденная и прочувстванная как подъем наверх по крутой лестнице церковной колокольни. У Чехова в числе ведущих исходных смыслов - тема леса, деревьев и связанный с ней (через тему дыхания) мотив футляра и вообще замкнутого пространства или объема. У А.Платонова - тема противопоставления пустоты, вещества и объединяющей и примиряющей их воды[4].
Теперь подробнее о технике анализа тех участков повествования, где исходный смысл (или смыслы) объявляет себя в наиболее отчетливом виде. Речь идет о сопоставлении эмблем, то есть наиболее
- 99 -
«сильных» мест текста, в которых мы имеем дело с тем, что можно назвать иноформами исходного смысла (отсюда, собственно, второе название онтологической поэтики - иноформный анализ текста).
По ходу движения повествования исходный смысл проявляет, обнаруживает себя в цепочке сцен или картин, представляющих собой (если смотреть на дело с избранной нами точки зрения) его последовательную динамическую развертку. Иноформы - это варианты исходного смысла текста, содержащие в себе, несмотря на все различия в их внешних обликах, нечто общее, роднящее их друг с другом. Вот почему эмблемы того или иного текста достаточно часто для того, чтобы это было простой случайностью, обладают внутренним сходством. У них - общая смысловая основа, именно в них исходный смысл текста осуществляет себя с наибольшей интенсивностью и выразительностью.
Вопрос о выборе и учете эмблем, как правило, решается сам собой. Здесь нет места для субъективного произвола, поскольку появляется возможность опереться на феномен интерсубъективного согласия, благодаря которому наиболее «отмеченные», эмблематические сцены или фразы в сочинениях Шекспира, Гёте или Достоевского давно уже выявлены усилиями миллионов читателей и зрителей. Разумеется, не все так просто, и в число эмблем текста могут попасть и те места, которые не имеют особого отношения ни к тайне исходного смысла, ни к сюжетной интриге, а, скажем, располагаются в начале или конце повествования и потому хорошо запоминаются («Гнев, о, богиня, воспой…» и пр.). Эмблематическая фраза может быть просто удачным афоризмом или перекликаться с какой-то жизненной ситуацией соответствующей эпохи, наконец, у кого-то могут быть и свои личные соображения по поводу того, что считать «сильным» местом, а что таковым не считать. Возможных вариантов достаточно много, однако нельзя не видеть того, что существует и некоторый общий, «хрестоматийный» набор литературных эмблем, с которым так или иначе согласится подавляющее число не только тех, кто читал соответствующие тексты, но даже и тех, кто о них только слышал (то есть речь опять-таки идет об эмблемах). Это как раз тот набор, тот материал, на который мы можем опереться и следовать ему в своих попытках понять, что составляет онтологическую подоснову текста и сказывается и на его сюжете, и на мире символических подробностей.
Например, в «Гамлете» В.Шекспира сравнение нескольких наиболее известных сцен и высказываний указывает на присутствие в них совершенно определенных повторяющихся черт. Гамлет и Призрак,
- 100 -
яд, влитый в ухо короля, Гамлет, рассматривающий Офелию, «Слова, слова, слова», Мышеловка, Гамлет с черепом в руках («Бедный Йорик!»), «Рассматривать так, значило бы рассматривать слишком пристально (Горацио), «Есть многое на свете…», «Что за сны нам в смертном сне приснятся», «Дальнейшее - молчание (тишина)» и др. Список неполон, но достаточно представителен и показателен: несмотря на все различия во внешних обликах сцен и в конфигурациях высказываний, во всех этих (и многих других) случаях в качестве ведущих оказываются темы зрения и слуха. И если это так, то есть если в наиболее сильных местах повествования упорно, регулярно появляются одни и те же темы, следовательно, мы можем предположить, что они представляют собой варианты, иноформы какого-то общего для них, стоящего за ними матричного смысла. Мне много раз приходилось писать по этому поводу, поэтому сейчас я процитирую соответствующее место из работы «Онтология и поэтика», где все это прописано достаточно сжато, но содержательно.
«Почти все, что слышит Гамлет, оказывается ложью. Ухо улавливает звуки, но сами звуки обманывают. Знаменитый гамлетовский рефрен «Слова, слова, слова» оказывается прочно вписанным в ряд, начинающийся с яда, влитого в ухо короля. Метафорическая поддержка здесь очень ощутима: лживые слова - тот же яд для уха (змей-искуситель), и тут же оказывается змея-убийца (по официальной версии король был укушен змеей, когда спал в саду). Причем лживы не только слова, но вообще все, что слышит ухо. Дело доходит до того, что Гамлет, положившись на слух, убивает одного человека вместо другого: на месте Клавдия оказывается Полоний.
На что же положиться: на зрение? Да, оно надежнее слуха: то, что Гамлет узнает с помощью глаз, его не обманывает. Две важные сцены, в одной из которых Гамлет узнает об убийстве отца, а в другой пытается передать эту правду остальным, также вписаны в ряд зрения. В первом случае это встреча с Призраком (видение, при-видение, «ужасный вид»; в «Макбете» призрак вообще молчит), во втором - театральная постановка, т.е. представление для глаз, зрелище. Все смотрят на сцену, туда, где должна раскрыться, показать-ся истина; зрители - в мышеловке зрения. К тому же Гамлет просит Горацио внимательно смотреть на лицо Клавдия, чтобы затем сравнить впечатления от увиденного.
Однако хотя зрение надежнее слуха, у него есть одна неприятная особенность: начав смотреть, ты можешь увидеть больше положенного. Глаза не обманывают, но, право, лучше бы они обманывали. Гамлет видит, как соотносятся следствия и причины, как одно превращается
- 101 -
в другое. Глаз, искавший жизни, упирается в смерть, в мертвую плоть, ставшую землей. Вот Гамлет разглядывает череп Йорика. Что привлекает его внимание прежде всего? Губы Йорика, вернее, то место, где эти губы когда-то находились. Ну а где упомянуты «губы», там недалеко и до «слов». Здесь ситуация примерно такая же, как и с упоминанием об ухе. Если ухо ловит слова, то рот их произносит. Не случайно сразу же после рассуждений о губах Йорика Гамлет вспоминает о шутках, которые из них вылетали.
Зрение снова встает против слуха. Слов, которые можно было бы услышать, давно уже нет; они исчезли в могильной яме. В этом - онтологическая ущербность слуха и соответственно слова. Глазами можно увидеть череп, но что пользы от увиденного? Гамлет прослеживает путь Александра от живого тела до затычки в пивной бочке. Цепочка логична и убедительна, но оттого и невыносима. Как говорит Горацио: «Рассматривать так - значило бы рассматривать слишком пристально». Апофеоз зрения оборачивается его крахом. Зрение-знание сковывает волю к жизни. Это знание, влекущее к смерти, знание-приговор. Гамлет поворачивает глаза матери внутрь нее самой, и открывшееся ей зрелище оказывается невыносимым и в итоге - смертельным. Гамлет говорит об «умственном» или «внутреннем» взоре (mind's eye), но и этот взор губителен: он способен уличить слова во лжи, но сил на то, чтобы поддержать в человеке желание «быть», у него уже не хватает.
Что же выбрать, чему довериться? Знаменитое гамлетовское «Быть или не быть» неожиданным образом воспринимается как выбор между двумя возможностями общения с миром. «Быть или не быть» прочитывается как «слушать или смотреть?» Слышать, но не понимать, слушать и обманываться. Смотреть и видеть правду, и вместе с тем изнемогать от увиденного, смотреть и хотеть быть обманутым. Слышать - значит жить (не случайно Гамлет говорит о «шуме» жизни). Смотреть - значит обрести «тишину» и «видеть сны». (…) Но если это так, тогда дело не в лживости слуха и не в истинности зрения, а в том, что является твоему взору: какова природа наших видений, что за сны нам в смертном сне приснятся?
Ответа нет. Выбор Гамлета - отрицание самого выбора: посмертное разглядывание истины равносильно прижизненному слушанью лжи. Разрешение спора, если оно вообще возможно, находит себя за пределами человеческих возможностей. Спор зрения и слуха разрешает музыка. Хот я музыка предназначена не для глаз, а для слуха, тем не менее она есть нечто иное, нежели «слова». Слова лгут, музыка нет. Музыку исполняют люди, при этом сама музыка предсуществует и
- 102 -
людям и исполнению; в ней незримо присутствует отблеск иного мира, напоминание о возможной всеобщей гармонии. Иначе говоря, слушая музыку, можно узретьистину. Не случайно Гамлет уподобляет себя флейте, а в финале Горацио говорит об ангельском пении, которое принц слышит в своем смертном сне»[5]. Когда в шекспировских пьесах сказаны «слова» и увидено то, что за ними скрывалось, герои погибают, уходят в небытие, в «тишину», и тогда в этой тишине звучит финальная музыка, примиряющая зрение и слух, присутствие и отсутствие, истину и ложь, жизнь и смерть.
Мне и в этом случае пришлось быть кратким: на деле в «Гамлете» куда больше подробностей, касающихся названной антитезы, однако общее представление о методе исследования текста, движения над текстом это дает. Опять-таки видно (и об этом шла речь ранее), что между сюжетом «Гамлета», его идейным миром (человеческое одиночество, трагедия выбора, пред-стояние смерти) и исходным смыслом трагедии мало общего. И это естественно, поскольку исходный смысл текста не сводим ни к содержанию, ни к той форме, в которой оно выразилось. Он - то, с помощью чего реализует себя и то, и другое, и это не игра словами, а констатация того, что текст принципиально многомерен, что он устроен сложнее, чем нам кажется. Так если продолжить шекспировскую тему, то исходными смыслами «Отелло» и «Ромео и Джульетты» окажутся, в первом случае, тема обманчивой, переворачивающейся жизни (взаимозамена черного и белого со всеми связанными с ними культурными коннотациями) и, во втором, тема любви-болезни, наиболее сжато выразившаяся в символической паре «роза-чума». Возможно, названные формулировки выглядят неожиданно, однако подробный анализ соответствующих шекспировских текстов указывает на возможность такого понимания с достаточной определенностью.
Еще один пример из классики - «Фауст» Гёте.
Описанный мной ход анализа - от выделения эмблем, к их сопоставлению и выявлению общего состава, а затем - к формулировке исходного смысла приводит нас к теме попеременного движения вверх и вниз по пространственной (и одновременно смысловой) вертикали. В самом деле, если присмотреться к сюжету «Фауста», точнее, к тем пространственно-динамических схемам, которые в нем реализованы, то мы увидим, что это регулярно повторяющиеся подъемы и спуски. Фауст и Мефистофель то поднимаются вверх, то движутся в обратном направлении. И все это наиболее знаменитые, эмблематические точки повествования. Из кабинета Фауста герои взмывают вверх с тем, чтобы затем вновь попасть на землю, и даже
- 103 -
под землю («Погребок Ауэрбаха»). Далее идет подъем на гору («Вальпургиева ночь»), затем спуск с нее, подъем на воздушном шаре и спуск на землю и так далее, вплоть до деталей, явленных в каждой конкретной сцене.
Теперь подробнее о дамбе, как об одной из наиболее важнейших эмблем всей гётевской трагедии. Отчего главным делом Фауста, его «сверх-замыслом» стало именно копание траншеи и насыпка дамбы, а не какое-то другое предприятие, например строительство моста или дороги? Оттого, что здесь идеально, в наиболее «чистом» виде сошлись полюса гётевской пространственной вертикали: насыпка дамбы оказывается действием, совершающимся на противоположном конце рассмотренной нами вертикальной оси. Теперь это не спуск под землю, а возвышение над ней. Символизм решения здесь сочетается с его фактической или даже практической особенностью: ведь для того, чтобы добыть землю для дамбы, надобно сначала выкопать траншею. Одно реально становится другим, низ - верхом. Итогом этой работы становится отвоеванное у моря плоское ровное пространство - равнина, срединный мир человека, где он сможет трудиться и собирать плоды своих трудов. Неслучайно именно с дамбой (с моментом, когда она, наконец-то, построена) связаны самые знаменитые слова Фауста («Остановись, мгновенье…») и его смерть. Фауст будет похоронен в «теле» дамбы, то есть станет ее составной частью, тем прахом, из которого она сделана. Исходный смысл попеременного движения по вертикали, таким образом, помимо всего прочего, проявляется и в этой символической детали.
Из воспоминаний Эккермана видно, что Гёте вполне отчетливо осознавал роль вертикали в «Фаусте». Однако многое в трагедии, похоже, написалось как бы «само собой»: заданный принцип смысло- и сюжетообразования действовал самостоятельно, сказываясь в самых различных вещах, начиная от перечислений местоположения персонажей («У верхнего Пенея», «У нижнего Пенея», «У верховьев Пенея, как прежде»), и кончая знаменитым пассажем о «сухой теории» и «зеленеющем древе»: ведь дерево - традиционный образ вертикали, связующей все три уровня мирового устройства). Примечательно то, что тема «срединного» мира человека и труда на ней (прежде всего труда землепашца и землекопа) опоясывает трагедию с двух сторон, подчеркивая ее смысловую симметричность. Равнина в финале, то есть пространственная середина, вполне очевидна; на нее падает явное смысловое ударение, но не забудем о том, что вся история Фауста начинается тоже на равнине, на пашне, в момент, когда он видит бегущего по ней черного пса-Мефистофеля. То же самое относится и к
- 104 -
теме землекопания: вначале трагедии Фауст говорит о том, что лопата его не привлекает. Финал же, как мы знаем, отмечен грандиозным копанием земли и возведением земляной дамбы. Ослепший Фауст наслаждается стуком лопат и под этот звук замертво падает на землю[6].
У Пушкина в число эмблем, то есть наиболее «сильных» участков текста, очень часто попадает тема прикосновения или - шире - телесно-вещественного контакта человека и мира. Хрестоматийный пример такого рода - знаменитое рукопожатие Командора в «Каменном госте» или не менее знаменитое прикосновение князя Олега к черепу коня. Решающий момент в «Гробовщике» также связан с непосредственным прикосновением: старый скелет обнимает героя и тот лишается чувств (ср. со сходной ситуацией в «Пиковой даме», где Германн, коснувшись лежащей в гробу графини, падает в обморок). То же и в «Капитанской дочке», где судьба Гринева фактически зависит от прикосновения: ему нужно поцеловать руку самозванца. Прикосновения как такового здесь нет, и тем значимей оказывается его отсутствие, подобно тому, как столь же важным было отсутствие прикосновения (то есть со-прикосновения, звона бокалов) в эмблематической сцене из «Моцарта и Сальери»: «Постой, постой!… Ты выпил… без меня?» Примеров такого рода у Пушкина более чем достаточно для того, чтобы судить об их неслучайном характере. Подробно об этом я писал в работе «Прикосновение у Пушкина»[7], теперь же можно сказать, что перед нами один из ведущих смыслов, исподволь организующий, устраивающий многие из пушкинских сюжетов. Не объясняя всего его мира, этот смысл указывает в нем на что-то очень существенное, имеет отношение к нему как к единому органическому целому.
В мире Го гол я, например, важнее видеть, нежели прикасаться, Герои Достоевского - заложники слуха, персонажи Чехова обращают особое внимание на запахи. У Пушкина - при равноправии всех человеческих чувств и ощущений - прикосновение, вещественный, тактильный контакт все же обладает особыми полномочиями. Прикосновение, как выдающийся онтологический акт; прикосновение, как волшебство, способное изменить ход событий. Прикосновение, как судьба: от него зависит будущее человека, его гибель (Евгений касается решетки Медного всадника) или рождение, возрождение («Моих зенниц коснулся он…»). Да и само творчество осмысливается у Пушкина как акт мистического прикосновения, дарующего жизнь поэтическим смыслам: «И пальцы тянутся к перу, / Перо к бумаге…» Параллели ради, замечу, что, скажем, в творчестве И.А.Гончарова в числе важнейшего не проговариваемого напрямую организующего
- 105 -
начала (читай, исходного смысла) оказывается тема объятия, а сами персонажи мыслятся как сообщающиеся сосуды, как объемы, которые могут быть заполнены или опустошены.
Еще один великий автор - Достоевский. Если говорить о тех неявных смыслах, которые лежат в подоплеке его сочинительства, то среди них окажутся, например, такие, как разрубание, отрубание и вообще порча головы, запечатленная красота, чистое белье (пеленки-саван), противопоставление меди и железа, и др. В конечном счете все эти и другие мотивы или смысловые линии складываются в одну общую тему, которая проходит через все творчество Достоевского и поддерживает его изнутри - незаметно, но не менее мощно, нежели явно проговариваемая христианская идея восстановления падшего, разрушенного человека. Она, собственно, и не отделима от нее, только выражена буквально, переведена на язык пространственно-вещественной динамики: это тема движения сквозь и через узкое, давящее со всех сторон пространство, движение наверх по крутой лестнице - к простору, к вершине дома-колокольни, где человек либо гибнет, либо восстанавливается. Мы говорим о метафоре «человек-дом» или «человек-храм», со всеми вытекающими из этого смыслами и телесно-символическими соответствиями (например, связка голова-колокол).
Раскольников - не только тот, кто расколот в своем самосознании, но и тот, кто собирается разрубить, расколоть голову своей жертвы. И он же - тот, кто настойчиво, по много раз звонит наверху дома в медный колокольчик у старухиной двери. В этом же символическом ряду оказывается и Свидригайлов, который кончает с собой, стоя возле высокой башни, со «спустившимся» с нее колоколом: он пускает себе пулю в голову, глядя на пожарника в медном шлеме (шлем-колокол). Вспомним также о медном пестике, которым Дмитрий Карамазов собирался убить отца (пестик и ступка, как перевернутый колокол), о звоне медного подсвечника в сцене самоубийства Кириллова («Бесы»), наконец, о настоящем колокольном звоне, который спасает от соблазна Алешу Карамазова в тот момент, когда он готов усомнится в святости старца. В колокольном звоне - похоронном, поминальном или в радостном благовесте - обозначены границы мира человека с его грехами, страданиями, радостями и надеждой. В этом смысле образ колокола, звенящего с высоты колокольни, и есть главный символ Достоевского. Колокол на высоте предполагает движение, устремление к высоте. Человек Достоевского пробирается сквозь узкие коридоры и комнаты, движется наверх по крутым лестничным маршам, чтобы добраться до колокола, ударить в него - гибельно или спасительно, восстановить себя, открыть миру или уйти в преступление, болезнь, смерть.
- 106 -
Наконец (поскольку жанр настоящей заметки не позволяет мне быть более основательным, отсюда и частые ссылки на собственные статьи и книги), несколько слов о Л.Толстом. То есть еще раз о том, как можно подойти к тексту, имея в виду означенные ранее концептуальные ориентиры. В «Войне и мире» есть ряд знаменитых сцен, картин, в которых, как я уже отмечал ранее, несмотря на все внешние различия, присутствует одна и та же тема, смысл которой, как и во всех предыдущих случаях, несводим ни к сюжету романа, ни к его идее. Иначе говоря, перед нами еще один пример того, как некий исходный, матричный смысл разворачивает себя в наиболее известных, сильных местах текста в цепочке своих вариантов-иноформ.
Ранение под Аустерлицем. Кн. Андрей лежит на земле и смотрит на нависшее над ним «высокое небо», которое действует на него как внешняя сила, меняющая его представление о жизни. Старый дуб, мимо которого едет кн. Андрей; все вокруг зеленеет и цветет, но дуб бездействует, он выжидательно застыл посреди бушующей весенней стихии. Первый бал Наташи Ростовой: она стоит и ждет того, кто подойдет к ней и пригласит на танец. Три эмблематические сцены - три варианта ситуации, которую можно назвать напряженным бездействием перед лицом внешней неодолимой силы. То же самое можно увидеть и в описании дуэли Пьера с Долоховым (Пьер даже не закрывается пистолетом), и в сцене родов Лизы, когда кн. Андрею, доктору, да и самой Лизе только остается ждать исхода, и в проигрыше Ростова в карты (когда «это совершилось и что такое совершилось?»), и в том, как Наташа, затаившись, подглядывала за свиданием Николая и Сони, и так далее, вплоть до бородинского эпизода, где описано долгое бездействие погибающего под снарядами полка (полк стоял в резерве), и самого смертельного ранения кн. Андрея: вместо того, чтобы пригнуться, он впадает в оцепенение, неподвижно стоит, глядя на струйку дыма, вьющуюся над гранатой. Как видим, во всех приведенных примерах (а в романе Толстого подобных случаев - десятки) мы сталкиваемся с одной и той же ситуацией: герой застывает, замирает в ожидании того, как его возьмет, захватит некая внешняя, несопоставимая с его возможностями сила. И этот мотив оказывается тем самым стержнем, на который в «Войне и мире» один за другим нанизываются самые различные картины и эпизоды. Это тот самый смысловой импульс, который, не являясь ни проговариваемым, отрефлексированным «содержанием» текста, ни собственно поэтическим инструментом изображения различных обстоятельств и характеров, то есть «формой», оказывается средством, с помощью которого реализует себя и то, и другое, создавая единое органическое целое повествования.
- 107 -
Я проговариваю все эти довольно сложные вещи «скороговоркой», поскольку, будучи принципиально стеснен в объеме, хочу тем не менее дать возможно большее представление об иноформном анализе текста (подробнее о пространственно-динамических схемах у Толстого и Достоевского я писал в уже упоминавшейся ранее книге «Вещество литературы»). Главное для меня в данном случае, - показать на самом разнообразном литературном материале, что представляет собой онтологически ориентированный подход в исследовании художественного текста, каковы его возможности и границы. От сопоставления сильных участков повествования, его эмблем, к выявлению иноформ исходного смысла (или смыслов) текста. От определения исходного смысла - к выяснению того, как он связан с эстетическим целым текста.
Если вернуться к проблеме нечитаемой, но присутствующей в тексте смысловой основы, то понятие иноформы окажется применимым не только к вариантам самораскрытия исходного смысла, но и к самой фигуре автора. Тот, кто создает текст - независимо от своих намерений или степени их осознания, - выступает в роли творца, креатора, то есть в роли того, кто дает жизнь сюжету и персонажам, повествованию в целом. Это означает, что автор вбрасывает в текст свой собственный витальный смысл, свою онтологическую проблему, превращая повествование в поле для ее решения. В одних случаях это очевидно, в других не вполне, однако означенный смысл присутствует всегда, если, разумеется, речь идет о произведении действительно художественном и талантливом. В этом отношении наиболее показательны тексты, в которых логика авторской витальной интервенции реализуется в два этапа. Герой получает свой витальный смысл от автора, становится его иноформой, двойником, через него автор (опять-таки независимо от того, знает он об этом или нет) решает в тексте, через текст собственную онтологическую проблему, то есть вопрос о жизни, пред-стоящей смерти, о жизни в ее сопротивлении силам стирания и разрушения.
А дальше происходит следующее: герой-двойник поступает с витальным смыслом так же, как с ним поступил автор, то есть передает его дальше, превращая в собственного двойника или заместителя какую-либо вещь, предмет, вообще нечто, отмеченное особым символическим образом. Теперь сюжет строится с оглядкой не только на главного героя, но и с учетом того, как «поведет» себя его двойник, его иноформа. Сюжет готовит испытания не только для персонажа, но и для замещающей его вещи, и от того, как это испытание будет пройдено (вещь может потеряться, сломаться, или, напротив, найтись,
- 108 -
спастись), будет зависеть судьба самого героя, а через него - опосредованно - и автора, создавшего всю эту конструкцию. Хрестоматийные примеры такого рода «Шагреневая кожа» О.Бальзака и «Портрет Дориана Грея» О.Уайльда: в обоих случаях витальная, телесная связь персонажа и его иноформы очевидна настолько, что не требует объяснений. Из русской классики. Грушницкий в «Герое нашего времени» ждет того момента, когда новый офицерский мундир сменит его солдатскую шинель. Мундир получен, и сразу вслед за этим Грушницкий погибает на дуэли. Гоголевский Башмачкин мечтает о новой шинели; обретая ее, он фактически передает ей свой жизненный смысл. Шинель пропадает, и чиновник гибнет. Сходная, хотя и более щадящая, ситуация в «Мертвых душах»: Чичиков наконец-то сшил себе новый фрак, надел его и сразу после этого попал в тюрьму. В «Преступлении и наказании» символическое и вместе с тем телесное слияние Раскольникова с топором (Раскольников - тот, кто раскалывает; человек-орудие или оружие). Топора могло и не найтись в нужную минуту, и тогда не случилось бы и преступления (Раскольников не смог взять его на кухне). Однако немного позже символически отмеченный предмет все же нашелся, и далее студент орудовал им уже не по собственной воле, а машинально. У Чехова в «Чайке» очевиден символический перенос: Нина-чайка. Однако внутренний смысл этого переноса в том, что акцент падает на Треплева: убив чайку, он становится ее заложником. Из чайки делают чучело, ставят в шкаф и забывают про него на два года. В первый же раз, когда ее оттуда вынимают, то есть ровно в ту же самую минуту, Треплев в соседней комнате кончает с собой.
Взаимоотношения героя и его иноформы не обязательно печальны или гибельны. Знаменитый заячий тулупчик спасает жизнь пушкинскому Гриневу. Удачное расположение подземного водохранилища подготавливает счастливый финал в платоновском «Ювенильном море». Или еще, возвращаясь к «Фаусту» Гёте. Здесь мы имеем дело с переносом витального смысла героя на такой фундаментальный предмет, как земляная дамба. Она становится его символическим заместителем, его иноформой. И хотя Фауст гибнет из-за нее, произнеся роковую фразу «Остановись, мгновенье», смерть эта носит особый спасительный, благой смысл. Фауст остановил мгновенье именно тогда, когда убедился в том, что дамба построена хорошо, что она надежна и способна выдержать натиск морской стихии. Само собой, по сравнению с общим объемом текста такого рода связки (как и эмблемы) занимают относительно мало места, однако их роль в устроении повествования, его сюжета и идеологии весьма значима. Особенно
- 109 -
ясно это видно в тех случаях, когда на взаимоотношениях персонажа и его символического заместителя строятся целые сюжеты, подобно тому, как это произошло в сказке о Золушке и потерянной, а затем найденной туфельке, или в истории о портрете, который стал стареть вместо своего хозяина. Взаимоотношения героя и его иноформы могут быть представлены по-разному и с разной степенью интенсивности, однако в любом случае следует признать, что мы имеем дело с весьма устойчивой конструкцией, которая встречается слишком часто для того, чтобы быть случайной.
Размышляя о проблеме исходного смысла текста, можно сказать, что в этой роли выступает и сам автор. В нем, в самой позиции начала, начинания того, чего не существовало раньше, присутствует то качество, которое и характеризует исходный смысл в самой его сути - утверждение жизни в ее противостоянии смерти. Создавая текст, автор, независимо от того, сознает он это или нет, утверждает жизнь, расширяет и углубляет горизонт присутствия, наличествования в противовес пустоте небытия, без-образию отсутствия. Но, создавая текст, автор действует совершенно определенным образом, он создает его по собственному образу, организует его так, как устроен он сам. Измышляемый автором мир изоморфен его личности, его психологии и даже отчасти физиологии. В этом смысле можно говорить об известной телесности текста. Речь не о модной в последние десятилетия теме телесности, взятой в ее агрессивно-эротическом и перверсивном срезе, а о телесности, которая передается, транслируется в текст естественным образом. Она входит в повествование, поскольку не может в него не входить: ведь автор сказывается в тексте целиком, то есть не только впитанной им культурой, но и своим психо-телесным складом, доставшимся ему от природы. Вот почему, осознавая всю проблематичность и условность сказанного, можно, например, говорить о «головном» сюжете Достоевского, о сюжете «поглощения» у Го гол я или о «пневматической» прозе Чехова. Не стоит преувеличивать этих вещей, но нельзя и отмахиваться от них. Нравится нам это или нет, однако нужно признать, что мир художественного текста (и, прежде всего, органического, талантливого) создают силы, не сводимые исключительно к категориям жанра, идеологии или стиля. В тексте есть нечто еще - персональная мифология (и онтология) автора, которая особым образом организует, оформляет мир повествования, сказываясь прежде всего в устойчивых пространственно-динамических схемах, то есть в типах пространств, объемов, конфигураций, веществ, запахов, направлений движения, а также в характеристиках персонажей, включая сюда их психо-телесный склад, символически
- 110 -
значимый возраст, болезни, отношение к еде и пр. Так, например, можно посмотреть, как соотносятся между собой миры Гоголя, Достоевского и Платонова - писателей, которые представляют «эсхатологическое» направление или линию в русской литературе. Или, конкретнее, можно посмотреть, как соотносятся между собой те элементы названных миров, которые не умещаются в рамках только лишь культурной составляющей, но которые тем не менее работают именно на нее и дают ей проявиться с наибольшей органичностью и выразительностью.
Персонажи Гоголя по большей части - люди среднего возраста (Гоголь практически не обращает внимания на старость и детство). Герои Достоевского - символические под-ростки, то есть чаще всего это молодые люди, мучительно и нередко гибельно тянущиеся к зовущей их идее. Что касается «самодельных» людей Платонова, то они - по своей психологии и поведению - подобны детям, которые тоскуют по своей «материнской родине», смутно предчувствуют наступление мистического времени коммунизма, представляющегося им в виде конца света. Обобщая ситуацию, можно сказать, что время гоголевских персонажей остановилось, они застыли посередине жизни, не хотят двигаться ни вперед, ни назад. Герои Достоевского стремятся к будущему, их прошлое - это то, от чего они хотят избавиться, уйти, забыть. Люди Платонова, напротив, скорее обращены в другую сторону, они растут «назад», поскольку настоящее их не интересует и не успокаивает.
Гоголевские персонажи движутся к центру пространства, боясь чреватой опасностями периферии. В этом смысле они двигаются не столько к чему-то, сколько убегают от чего-то, не подозревая, что чаемый центр для них так же опасен и губителен (эмблемой названного типа движения можно посчитать меловой круг Хомы Брута). Отсюда и тема потерянности в пространстве: герой (а вместе с ним и автор) - не в центре и не на периферии, а где-то между ними, в вечной дороге, в ускользании от определенности границ и точных координат. Подпольные люди Достоевского движутся сквозь, через узкие, давящие на них стены и потолки, стремясь наверх, к открытому простору высоты. Достоевский гораздо охотнее и подробнее фиксирует подъем по лестнице, нежели спуск с нее (это обстоятельство тем более важно, что большинство его героев живут наверху, в последних этажах дома). В противоположность этому люди-дети Платонова движутся вниз, сползают в низины, ручьи, овраги, котлованы, озера, где надеются утолить свое «любопытство смерти» или обрести покой счастья.
- 111 -
Подстать приведенной раскладке и рост персонажей. У Гоголя они по преимуществу имеют средний рост, что вполне соответствует их социальному положению (господа «средней руки»). Герои Достоевского (я говорю о «выделенных», смыслообразующих персонажах) - люди роста выше среднего, да и сама тема духовного усилия, роста над самим собой делает их выше, чем они, может быть, и есть на самом деле. Платоновские же люди-дети и по своему росту соответствуют вложенной в них идее «умаления», они, во всяком случае там, где об этом упоминается в тексте, чаще всего имеют малый рост и к тому же не курят и не пьют вина.
Персонажи Го гол я любят много и вкусно поесть. Они поглощают еду подобно тому, как гоголевский глаз «съедает» мир, переводит его из внешнего плана в план внутренний (ведущая для гоголевского мира тема зрения-поглощения). Герои Достоевского не озабочены едой. Им далеко до гоголевских гурманов «средней руки». Они едят для того, чтобы избежать обморока, для того, чтобы хватило сил для последнего решительного броска вверх по лестничному маршу, где можно наконец восстановить себя и «мысль разрешить». Платоновские люди и вовсе либо ничего не едят, либо едят все, что угодно для того, чтобы заполнить внутреннюю пустоту собственных тел.
Гоголевский глаз прежде всего нацелен на блеск и сияние. У Достоевского чаще других упоминается желтый цвет, у Платонова - черный и серый (ослабленный вариант черного). Гоголя привлекает рост, объем предметов, взятые в их витальной силе и зрелости, его интересует их поверхность, фактура. В романах Достоевского уже важны сами вещества, из которых сделаны предметы. Например, железо несет в себе отрицательный смысл, а медь, бронза - благой, спасительный. В мире Платонова критерий оценки иной: здесь важно то, насколько крепко, прочно вещество. Ведь чем оно прочнее, тем больше в нем жизни-возможности и тем менее пустоты с ее смыслами смерти и бесплодности. Та же картина и в отношении к воде. Для Гоголя вода интересна все тем же блеском или мерцанием («Чуден Днепр…» и пр.). Герои Достоевского воды не любят, она неприятна им даже изображенная на пейзаже. В идеологическом плане (хотя истоки подобного отношения, скоре всего, следует искать в личных авторских антипатиях) это соответствует теме подъема наверх, стремления к высоте и свету, то есть в тенденции прямо противоположной той, что «содержится» в веществе воды, указывающей на движение вниз, в глубину, во мрак. Платоновские люди, напротив, тянутся в воде, они живут в серых пространствах тумана и дождя, спускаются в реки, озера, ручьи, ищут темной глубины покоя и счастья. Последнее и единственное
- 112 -
желание умирающего ребенка в «Чевенгуре»: «Я хочу спать и плавать в воде». Помимо того, что эта тяга, как я уже говорил выше, объясняется идеей умаления платоновских персонажей их тоской по материнской утробе, ее причины также следует искать в особом статусе воды у Платонова. В мире, где друг против друга встали вещество жизни и пустота смерти, вода оказывается тем средством, которое хотя бы до некоторой степени способно разрешить это противостояние. По сути, сюжеты и смысловые конструкции главных платоновских сочинений оказались связанными с вопросом о том, сколько было воды, какого она была качества и где находилась. В «Котловане», где пустое пространство в земле шло как образ материнской утробы, воды не оказалось вовсе (родник на дне был наглухо забит рабочими). В «Чевенгуре» (город стоял во влажной низине) вода оказалась затхлой, нездоровой, а плотину для удержания чистой воды построить еще не успели. В «Ювенильном море», напротив, живой - «материнской - воды было много, и находилась она недалеко под поверхностью земли. Соответствующим образом сложились и сюжеты названных сочинений: из трех вариантов материнской утробы наиболее удачным оказался последний, оттого и «Ювенильное море» - на фоне «Котлована «и «Чевенгура» - едва ли не идиллия.
Примеры можно было бы продолжить, однако жанр и формат данного очерка не позволяет этого сделать. Насколько возможно, я пытался дать общее представление об одном из подходов в исследовании текста и стоящего за ним мира эстетических универсалий. Многое из сказанного выше имеет (хотя бы в силу сделанных обобщений) проблематичный характер, однако возникающие при этом возможности понимания глубинного устройства текста, как кажется, стоит принять во внимание. Не отменяя традиционных способов анализа повествовательных структур, предлагаемый подход расширяет и углубляет наше представление о взаимоотношениях сюжета, идеи и их поэтическом оформлении. К тому же, как я уже отмечал в начале этих заметок, речь идет о подходе, нацеленном на определенный уровень или срез текста, а именно на ту его составляющую, которая не исчерпывается компетенцией культуры, но выходит за ее пределы, поскольку имеет свой источник в универсальной потребности всего живого в утверждении жизни и противостоянии силам уничтожения и разрушения.
Не объясняя всего в тексте, онтологически ориентированный взгляд обращает преимущественное внимание на те повествовательные элементы, в которых (или за которыми) означенная тема присутствует в ее наиболее концентрированном и выразительном виде.
- 113 -
И хотя эти элементы по сравнению с общим объемом текста составляют его меньшую часть, их роль в деле организации повествования как чего-то целого и органичного чрезвычайно велика. В иноформах, то есть в точках, где исходный смысл наиболее явно обнаруживает, проявляет свою конфигурацию, сосредоточена энергия, которая - наряду с усилиями жанра и замысла - отзывается во всем тексте, оформляет и организует его как живое целое. Это та сила, которая, работая со словом и ориентируясь на слово, укоренена во внесловесном, но при этом имеющем смысл, горизонте бытия. Имеющим смысл - уже хотя бы в силу того, что речь идет об утверждении жизни, то есть об импульсе, имеющем универсальный, выходящий за рамки культуры характер. Рассмотрение всех этих обстоятельств - во многом дело будущего. Однако уже теперь становится ясно, что текст устроен сложнее, чем принято думать, что он несводим не только к сюжету, замыслу или форме своей фиксации, но и - как бы это парадоксально ни прозвучало - к слову, как таковому. Понять устройство сюжета, мотива или повествования в целом, оставаясь лишь в рамках сюжета, мотива или повествования, невозможно. Текст пишется, создается не ради самого текста. В нем действуют силы, непонятные для самого автора, заставляющие его, нередко против собственной воли, менять ходы, повороты или даже финалы, и говорить об акте творчества, как о внешнем, не подчиняющемся его воле и осознанию процессе. Приблизиться к пониманию этих и других организующих целое повествования закономерностей, прочитать, увидеть в тексте то, что в нем не читается, но вместе с тем реально присутствует, распознать ту силу, которая, не сводясь ни к «форме» повествования, ни к его «содержанию», помогает осуществиться и тому и другому, - в этом, в числе прочих, одна из важных задач современной эстетики и герменевтики, в разрешении которой онтологически ориентированный подход может оказаться небесполезным.
Примечания
[1] См.: Карасев Л.В. Онтологический взгляд на русскую литературу. М., 1995; Карасев Л.В. Философия смеха. М., 1996; Карасев Л.В. Онтология и поэтика// Вопр. философии. 1996. № 7; Карасев Л.В. Живой текст // Вопр. философии. 2001. № 9; Карасев Л.В. Вещество литературы. М., 2001; Карасев Л.В. Движение по склону. О сочинениях А.Платонова. М., 2002 и др.
[2] В одних случаях авторы указывают на источник, откуда заимствуется термин (см., например: Шогенцукова И.А. Опыт онтологической поэтики. М., 1995), в других - нет (см.: Вопросы онтологической поэтики. Потаенная литература. Сб. статей. Иваново, 1998).
[3] Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999; Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1985; Пропп В. Морфология сказки. М., 1969; Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997; Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987.
[4] См.: Карасев Л.В. Гоголь и онтологический вопрос // Вопр. философии. 1993. № 8; Карасев Л.В. О символах Достоевского // Вопр. философии. 1994. № 10; Карасев Л.В. Пьесы Чехова // Вопр. философии. 1998. № 9; Карасев Л.В. Движение по склону (пустота и вещество в мире А.Платонова) // Вопр. философии. 1995. № 8. См. также: Карасев Л.В. Вещество литературы. М., 2001.
[5] Карасев Л.В. Онтология и поэтика // Литературные архетипы и универсалии. М., 2001. С. 330-332.
[6] Подробнее см.: Карасев Л.В. Вертикаль «Фауста» // Человек. 2003. № 1. С. 144-151.
[7] См.: Карасев Л.В. Вещество литературы. С. 383-395.



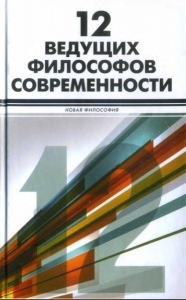
Комментарии к книге «Онтологическая поэтика (краткий очерк)», Леонид Владимирович Карасев
Всего 0 комментариев