Сила мысли
Штокхаузен назвал аккуратное взрезание умелыми самоубийцами 11 сентября 2001 двух высочайших в мире манхеттенских башен, человеческих муравейников, при помощи двух больших пассажирских самолетов, наполненных людьми, совершенным произведением искусства. С отвлеченной высоты он прав. А те башни, надежные самолеты и деловитые люди в них и в башнях? Небоскребы со всем что в них, боинги и столичные люди были давно уже созданием европейско-американской цивилизации, небывалой в истории человечества. Их драгоценность ощущается еще больше сейчас, когда мы с ними навсегда расстались. Достоинство нашей современной культуры станет со всей остротой ясно, когда обваливаться, как каменный Будда в Афганистане, начнет всё. Тот величайший в мире Будда был, кстати, тоже неповторимым произведением искусства.
Бесподобные боевые машины, умные ракеты, взрезающие теперь в отместку за разрушение планетарной столицы и ради восстановления справедливости каменный Афганистан, первоклассные операторы этих чудес техники, летчики и моряки – тоже совершенные создания искусства. Восхищает дружная работа слившихся с машинами, захваченных участием в слаженной операции команд. Фантастическая электроника, которой они пользуются, интереснее современного художества, как заметил четверть века назад Эжен Ионеско.
Леденит воображение и отчаянный восторг самоубийц, их отданность сумасшедшей мечте, холодная ярость далекого расчета.
Нечеловеческий размах этих жестов цивилизации, умной воли к изобретению, творчеству и разрушению, отнимает слова и велит думать, вспоминать. Мы растеряны, опоздали. Уверенно продолжать сейчас свои руководящие речи будут только те, кому не жалко тонких вещей. Почти все наши слова и действия заранее обречены на неуспех. Тех, кто своей смертью вырвал живой кусок из современного мира, уже нигде нет. Неудачей будет всякая объявленная удача военно-полицейской охоты за призраками. Нехорошо, если, иллюзорно утешенный, мир почувствует себя тогда вправе заснуть еще на годы. Продолжится слепой захват вещей, осязаемых и мнимых – в погоне за чем, в надежде на что?
Жизнь человечества разошлась с бытием, увлекшись погоней за сущим. Поэтому тайный судья в нас все меньше находит себе места в мире и миру места в себе. Он разлучается с собственным телом. Рядом с его голой самоубийственной правдой теряют заманчивость краски популярной публицистики и находчивого журнализма. Языки заплетаются, невольно ощущая, насколько мало стали нужны речи. Единственно важно сейчас только терпение тех, кто хочет и ищет согласия жизни со спасением. Их негромкие голоса слышны в инстинкте многих на Западе и на Востоке не мстить. Чего-то ждать можно теперь только от тех, кто не спешит судить и надеется на мудрость тайны. Только Бог еще может нас спасти, как сказал на подъеме германского экономического чуда Мартин Хайдеггер.
Мудрость неприступна. Осваиваем не мы ее, а она нас, если мы согласимся пойти в ее школу. Лежащая перед нами биография философа никак не претендует быть введением в его мысль. Не только изложение, даже чтение его текстов вовсе не обязательно приблизит его к нам. Сейчас десятки тысяч людей во всем мире, студентов и исследователей, изучают выдающегося мыслителя XX века. Литература о нем давно стала необозримой. Его тексты у нас есть, их много в приближающемся к ста томам Полном собрании сочинений. Среди вороха текстов мы рискуем промахнуться мимо, сделав шаг, настолько далекий от его мысли, насколько возможно. Акт принятия к сведению и оценки больше и непоправимее отдаляет от философа, чем если бы мы им не занимались, его высказываний не знали и не упоминали о них никогда. Сообщение о философии, все равно какое оно, обманывает уже подразумеваемым обещанием, будто философия относится к вещам, о которых можно сообщить. Смысл ее в передаче всегда почему-то оказывается дерзкий или плоский. Нас информируют о философах странно.
Чего главного обычно не хватает людям, которые, казалось бы, проявили хорошую любознательность, решив среди прочего ознакомиться с очередным авторитетом? Свободная мысль, которая сделала его великим, никогда не подчинялась расписанию, всегда верила только захватывающей глубине вещей. И мы тоже должны были бы увлечься самими вещами, их смыслом. Только тогда мы в меру своей правдивости неожиданно приблизились бы к философу – забыв о нем в увлечении делом. Когда мы, не отдав себя делу мира, которым он был занят, переводим взгляд с вещей, к которым он шел, и начинаем смотреть на его личность, то мы уже не с ним. Так попытка заняться Хайдеггером может закрыть его от нас.
Он предупреждал в позднем докладе «Время и бытие»[2] об иллюзии словесной понятности философского произведения. «Если бы нам сейчас показали в оригинале две картины Пауля Клее, созданные им в год его смерти, акварель Святая из окна и, темперой на дерюге, Смерть и огонь, мы могли бы долго простоять перед ними и – расстаться со всякой претензией на непосредственное понимание. Если бы сейчас, и именно самим поэтом Георгом Траклем, нам было прочитано его стихотворение Семипеснь смерти, нам захотелось бы слушать его часто, но мы расстались бы со всякой претензией на непосредственное понимание. Если бы Вернер Гейзенберг пожелал сейчас изложить нам фрагмент своей физико-теоретической мысли на пути к искомой им формуле мира, то в хорошем случае двое или трое из слушателей, пожалуй, смогли бы следовать за ним, но мы, остальные, беспрекословно расстались бы со всякой претензией на непосредственное понимание. Иначе подходят к мысли, которую называют философией. Она якобы преподносит понимание мира, а то и прямо руководство к блаженной жизни. А ведь такая мысль, может быть, оказалась сегодня в ситуации, требующей размышлений, которые далеко отстоят от всяких полезных жизненных ориентировок. Возможно, стала нужна мысль, призванная задуматься об основаниях в том числе и живописи, и поэзии, и физико-математической теории. Нам пришлось бы тогда расстаться с претензией на непосредственное понимание и этой мысли тоже. Мы обязаны были бы тем не менее все равно к ней прислушаться».
Мысль, вытащенная наружу из своей глубины, мертвеет. «Люди подходят к мысли с негодной для нее меркой. Мерить ею – все равно что пытаться понять природу и способности рыбы судя по тому, сколько времени она в состоянии прожить на суше. Давно уже, слишком давно мысль сидит на сухой отмели»[3]. Напрасно было бы ожидать встречи с ней, читая даже самого умелого беллетриста. Раскрытая нами биография хороша тем, что называет, упоминает почти все борозды, взрытые в науке, обществе, политике упрямым самодумом. Какие он там посеял семена, мы из жизнеописания не узнаем. Держа в уме первый эпиграф к нему, взятый из Ханны Арендт, читатель должен заблаговременно оставить место и для совсем других книг о том же человеке.
В своих курсах об Аристотеле, Канте, Ницше, Гёльдерлине философ, чья жизнь постепенно развертывается перед нами, никогда не брал на себя смелость с птичьего полета обозревать их, как привычно позволяет себе публицист. Раскрашивание событий, усиление акцентов, выход в общедоступную политику, скандал и суд необходимы популярному автору, чтобы окликнуть человека на улице, заставить его обернуться. Перевод, со своей стороны, всегда невольно акцентирует как раз наиболее броские места.
Биограф предлагает стандартные ключи к своему предмету, пригодные для привычной интеллектуальной беседы. Эти ключи отпирают всегда слишком много. Предлагаемые нам характеристики неповторимой мыслительной постройки неизбежно будут слишком обобщенными. Нет, Хайдеггер не первый и не единственный, для кого благочестие мысли измерялось способностью спрашивать; почти только тем, что задавал собеседникам вопросы, ограничил себя уже Сократ. Не один Хайдеггер назвал то, о чем спрашивал жизнь, бытием; так называл полноту существования Аристотель в античности и другие до и после него. Если верить биографу, то специфически Хайдеггер, но по сути дела все истинные мыслители открывали безбожному миру перспективу верующего опыта. И, конечно, не вернуть или подарить жизни тайну – никто ее у нас не отнимал и каждого она неотступно сопровождает, – а достойно вынести близость с тайной было мечтой мыслителя. Не ему лишь удалось проложить путь мысли, близкой самим вещам; вернуться к ним призвал его учитель Гуссерль.
Переходы от богатого жизнеописания, в далекой культурной и политической перспективе, к сомнительным предположениям о том, как основопонятия мыслителя происходили из непосредственного жизненного опыта, не относятся к удачным биографическим приемам. Разница между трудягами интернатовцами при монастырской школе, в среде которых рос прилежный и усидчивый Мартин, и умниками из обеспеченных семей – тут старательное усердие, там вольница и развлечения, – конечно запала в памяти мальчика, как впечатляет и нас. Но объяснять прямо этой схемой происхождение и тем более «карьеру» важных хайдеггеровских терминов подлинность (собственность) и неподлинность (несобственность) мы бы не рискнули.
Страсть, ужас, боль, жизненный порыв, восторг вошли с неподорванной полнотой в мысль Хайдеггера и создали ее жар. Но выверенная, размеренная хайдеггеровская речь была не простым выплескиванием этого огня. Редкому золоту было дано пройти его испытание. Что многолетняя работа мысли не разрушила, а наоборот, очистила и усилила непосредственное чувство открытого человеческого существа, обострила сумасшедшие экстазы и высветила бездну тоски, кажется невероятным. Но не в сохранении ли детства среди испытаний подвиг мыслителя. За силой философского слова слишком легко предположить не натуру, а искусство, если не хуже, словесную игру.
Повторяем, все эти провалы неизбежны. Литератор и публицист может рассчитывать на проникновение в суть философского дела не больше, чем в математический формализм, когда предметом биографа становится жизнь математика. То, что от повседневности к творчеству плавного перехода нет, замечено давно. Собственно фактических упреков к обстоятельной, интересной, с увлечением прочитываемой книге, если пройти мимо ее философских экскурсов, мало. Так, неверно, будто Хайдеггер все-таки посетил в 1935 году Париж в порядке подготовки к Международному философскому конгрессу: впервые он приехал во французскую столицу к ученикам Жана Бофре лишь после войны, удивляясь самому себе, как гласили его первые слова на вокзале. Свидетели говорят о поведении Хайдеггера в двенадцатилетие Третьего рейха не так однозначно, как прочтет читатель лежащей перед нами книги: есть воспоминания о его вызывающей независимости, об отказе от римского приветствия, о том, что в военные годы окружение Хайдеггера во Фрайбурге было единственной средой, где люди позволяли себе открытую критику режима[4]. Чтобы снять Хайдеггера с преподавания и отправить на окопные работы в 1944 году, в месяцы последних судорог режима, все-таки недостаточно было только медицинского свидетельства о годности профессора к физическому труду: сыграло роль и разделение всего преподавательского состава на три класса важности и отнесение лично Хайдеггера к наименее нужной для рейха группе.
К сожалению, когда биограф чувствует необходимость поднять интерес к книге, политика и скандал подвертываются ему под руку для поддержания желанной остроты. Автор признается, что читает все-таки между строк, когда приписывает довоенному Хайдеггеру рискованный проект подчинения Франции духовному водительству Германии для объединения усилий в борьбе против североамериканского и русского варварства. Аналогичным признанием, что свидетельств тому нет, логично было бы сопроводить и догадку биографа о будто бы продолжавшемся у Хайдеггера еще и в 1939 году согласии с политикой тогдашнего правительства. В стол себе как раз в том году одинокий философ писал другое – об обреченности «тотального мировоззрения», которое подменило творчество мероприятиями и полноту жизни – гигантизмом махинаций (К делу философии. О событии, § 14).
Догадки, которыми довольно часто вынужден пользоваться всякий биограф для проникновения в душу исследуемого персонажа, тем более мыслителя, – не лучший способ реконструкции, особенно когда остается еще масса не освоенных, впервые только публикуемых текстов философа, его корреспонденции и мемуарных материалов. Конъектура, согласно которой полученное от властей в последний момент разрешение ехать на философский конгресс 1937 года Хайдеггер не принял от обиды на то, что не он, а партийный идеолог был назначен руководителем делегации, плохо вяжется с беспримерной неприязнью мыслителя к любого рода конференциям, в которых он за всю свою жизнь участвовал меньше, чем иной современный аспирант. Еще хуже, когда на предположении о тщательно утаенной политической коричневости Хайдеггера выстраивается второе предположение, о подпольном тоталитаризме его мысли. Субъект, до такой степени скрывавший свое лицо, не заслуживал бы много внимания. Хайдеггер умел видеть за тем, что было названо национал-социалистической революцией 1933 года, переворот всего германского бытия. Подобно тому всероссийское революционное движение 1904–1918 годов было в своей всенародной основе сдвигом, обещавшим перемену России, а возможно, и всего мира. Как в России 1917, 1991 годов, так в Германии 1933, 1948 годов на политическую сцену поспешили выйти активисты, взявшие инициативу в свои руки. Они сорвали медленно назревавшее событие, не дав ему развернуться в его истине.
Рано, уже к концу того же 1933 года, почувствовав непоправимость срыва, Хайдеггер ушел в обдуманное молчание. В отличие от Ясперса, отвернувшегося не только от политики, но и от ее невидимой глубины, Хайдеггер связал себя долгом вынести в слово поворот исторического бытия. Благодаря в первую очередь ему и таким как он Германия в жуткое двенадцатилетие своего безумия осталась народом мыслителей и поэтов. Идеологическая чушь, которую несли тогда властные предатели своей страны, перепечатывается и переводится у нас теперь только как курьез, но ни одной буквы из написанного им в те годы Хайдеггеру не пришлось впоследствии зачеркнуть. Записи 1939 года были встречены при их первой публикации через полвека[5] как откровение. Перевод во Франции всех политических выступлений, сделанных Хайдеггером в месяцы его ректората[6], помог тем, кто защищал его от обвинений в жажде власти.
Кто понял, что невротические активисты привнесли от себя к подспудному народному движению только провокацию и скандал, что колебание исторической почвы создается не сотней авантюристов, тот поверит, что чуткий ум был больше захвачен вулканическими процессами в мире, чем клоунадой политиков. Да, он был заворожен мощью, только не партии национального единства, а исторической судьбы. Кто понял, что бурю в океане создают не корабли, тому естественно задуматься о вещах, которые сильнее человека. Хайдеггер действительно воспринял как великое событие германский порыв начала 1930-х годов. Да, его тоном тогда или еще раньше того, уже в «Бытии и времени» 1926 года, была та же или еще большая решимость, чем какой требовали политические образования. Он звал к собранности, дисциплине, служению. Шевельнулся титан, и вначале вовсе не было очевидно, что он слеп и глух. Выступление Хайдеггера в 1933 году не было случайным. Он чувствовал в мысли ту же власть, не меньшую мощь, чем в политических страстях. Он старался увидеть, как должно пойти национальное движение, чтобы не изменить духовному призванию страны.
Политическое прочтение философии теми, для кого все возвышенное не больше чем мечта, говорит больше об их собственном нетерпении, чем о властных амбициях мыслителя. Он звал, просил: оставьте расцветающее дерево в покое. Оставьте миру быть тайным согласием, не спешите перекрасить его своими воззрениями. По-новому звучащий голос влился непривычным потоком в болото академической философии. Заработала привычная машина ассимиляции, обеззараживания. Еще при жизни Хайдеггера способы избавиться от него назвал недовольный этим процессом Жак Деррида: «Заставить поверить, что в Хайдеггере нет ничего кроме германской идеологии периода между двумя войнами: редукция, симптоматичная для определенного рода чтения […] инсинуировать, будто Хайдеггер сдержан в отношении психоанализа лишь потому, что это еврейская поделка (что призвано навести на мысль, что через атмосферическое заражение – элемент анализа не хуже других – всякий, кто слишком внимательно вчитывается в Хайдеггера, попадает в этом аспекте под подозрение) […] Тут есть явное завихрение, само себя взвинчивающее, завороженная проекция, принимающая с каждый разом все более клеветнический оборот. Я прислушиваюсь к речам этого рода вот уже довольно долго, с более или менее пристальным вниманием. И соблюдая известное молчание. Не следует им злоупотреблять»[7]. Впрочем, не лучше ли для мыслителя, когда вокруг него не прекращается скандал. С подозрительной мыслью будут обращаться по крайней мере осторожнее.
Хайдеггер словно не заметил такого широкого движения XX века как психоанализ. Адорно назвал его за то провинциалом от философии. Вспомним однако, что основатель психоанализа, открыв однажды книгу Ницше, увидел там столько пересекающегося со своей мыслью, что тоже не стал его читать, желая остаться оригинальным. В том, что Фрейд назвал бессознательным, философия издавна дышала как рыба в воде. Разлив психоанализа в XX веке означал лишь, что в культурном мире стало меньше той глубины, где мысль могла бы вернуться в свою естественную среду. Ее природное движение стало казаться уходом от злобы дня.
Спрашивают, какое право имеет Хайдеггер говорить об отрешенности, когда вся планета была в огне. Весной 1945 года в горах над занятым французскими оккупационными войсками Фрайбургом Хайдеггер читает в близком кругу Канта, средневековую схоластику, Гёльдерлина и снова Гёльдерлина. Голодная тишина, нищие праздники с угощением от приглашенных крестьян. Всё сосредоточено на духовном. «Мы стали бедными, чтобы быть богатыми». В обдуманно мерной речи видят властный жест, в уходе от злобы дня измену. Распространяющаяся во всем мире слава отщепенца кажется недоразумением. Власти, академики, журналисты начинают свое долгое расследование. Если мыслитель не тайный враг, то возможно шарлатан. Не подняло ли здесь голову демоническое начало. Не следует ли разоблачить его, чтобы яд словесной ворожбы не заражал грядущие столетия.
Слава о Хайдеггере разошлась, сначала по всей университетской Германии, еще прежде того, как окончательно оформилась его мысль, и даже независимо от знакомства с ней. С самого начала, как впрочем и до сих пор, он умел задеть многих без того, чтобы люди поняли, каким образом он это делает. Так лицом ощущаешь солнечное тепло и при закрытых глазах. Первым, принявшим на себя очарование тогда еще тридцатилетнего Хайдеггера, был старший его шестью годами Карл Ясперс. Не осталось записи разговоров от их «жизни вместе»[8] в дни визитов Хайдеггера в Гейдельберг. Ясперс не прочел внимательно рецензию друга на свою «Психологию мировоззрений». В этой рецензии его позиция была рано оценена как наблюдательская. Философия и мировоззрение – какая скука берет от этой темы, говорит Хайдеггер. Казалось бы, возвышаясь над частным и случайным, философское мировоззрение обозревает все, держит перед глазами природу, космос, глобальные проблемы, историю человечества в ее общих чертах. Панорамное видение позволяет формулировать широкие проблемы человеческой истории, войны и мира, Бога. От прояснения фундаментальных проблем зависит казалось бы решение этических, социальных, даже политических вопросов, задач создания культуры. Отчего же так скучно, разве масштабная философия не позволяет нам выйти на широкий простор?
Нет, к строгой мысли распределение, чему быть чем, что чем считать и как понимать что, отношения не имеет. Манипуляции в просторном поле представлений несовместимы с той конкретностью, благодаря которой науки остаются науками, а мысль мыслью. Занявшись мировоззренческим упорядочением, философия перестает быть собой. Тема философии и мировоззрения сразу перестает быть скучной, когда Хайдеггер утверждает: философия к мировоззрению отношения не имеет. «Мы стоим на перекрестке пути, где принимается решение о жизни или смерти философии вообще, у края бездны: или в ничто, т.е. в пустоту отвлеченной предметности, или удастся скачок в другой мир, или точнее: вообще – впервые – в мир». Наблюдательское неучастие в бытии, предупреждал Хайдеггер, ведет Ясперса к уходу от философии.
Буря 1933 года, от которой Ясперс ушел в неприятие немецкой реальности, положила конец необыкновенной близости этих людей. Намечавшееся было понимание сменилось у Ясперса с годами недоумением и недоверием. Но по мере расхождения и после фактического прекращения связи Хайдеггер, странное дело, занимает все больше места в оставленных Ясперсом заметках о нем: с 1950 года по конец жизни им было отправлено уже всего лишь 5 коротких писем к Хайдеггеру, но за те же годы сложилась почти целая книга записей о нем[9], вплоть до драматической последней, цитируемой в конце 21 главы книги Сафранского. В непрерывном безмолвном споре с другом-врагом дело для Ясперса идет не меньше чем о правоте всего своего жизненного пути, а это более полувека упорного труда. Признай он успех другого – и сомнение в себе неизбежно. Высочайшая вершина мысли, понимает Ясперс, только одна. И он принимает роковое для себя, но давно предопределенное решение: очарование Хайдеггера не подлинно, его притягательность обманчива.
Слова о чарах Хайдеггера, которым невольно поддавалась Ханна Арендт задолго после того как отошла от него, не преувеличение. Встреча тридцатипятилетнего профессора с восемнадцатилетней студенткой стала вспышкой, из которой вышли и поэзия хайдеггеровского «Бытия и времени», и мысль о мире, пафос главной книги Арендт[10]. В этой ее книге, однако, ни разу не упомянут учитель. Близость обоих ни в малейшей мере не была взаимопониманием.
То же в случае с Сартром. Его вдохновенное «Бытие и ничто», в увлечении которым француз забыл и о немецкой оккупации, и о своей художественной литературе, было слепком с «Бытия и времени» вплоть до стиля и лексики, но служило самоутверждению того самого эмансипированного сознания, из лабиринтов которого на простор выбирался немец.
Наконец, Жан Бофре и школа французских учеников Хайдеггера. Занятая его переводом и толкованием, в своей верности ему она безупречна, но обаяние учителя кончается на ней. Она интереснее всего в той мере, в какой перестает быть его комментарием.
Если Хайдеггер провалился в передаче своего дела духовно близким, если он ожидал понимания разве что через триста лет, в Китае или России, если на родной земле, как заметил однажды Ганс Георг Гадамер, можно надеяться на возобновление его влияния теперь уже только через обратные переводы его книг с других языков, то далеко расходящиеся от него круги воздействия в еще большей мере движимы лишь непонятым теплом его присутствия. Импульсы идут от немногих запомнившихся страниц, как опыт ужаса в «Что такое метафизика», иногда от отдельных фраз, как наука не мыслит или язык дом бытия, но может быть всего чаще – от общего неясного впечатления праздника, исходящего от этого человека.
Оно сопутствовало ему всегда. Где объявлялось выступление Хайдеггера, там был вдвое, втрое переполненный зал, занятые подоконники, скамейки, теснота вплоть до рискованных ситуаций, как при возобновлении лекций во Фрайбургском университете в 1949 году, когда в толчее у одного из слушателей оказалась сломана рука; как летом 1950 в Мюнхене; как там же в 1953.
Хайдеггер уходил в семейный круг, еще до войны отказался преподавать в столице, почти не давал интервью, мало записывался на магнитофон и еще меньше на кинопленку. Тем подробнее запоминали и фиксировали каждый его шаг на людях. Жизнь была просвечена насквозь, каждый видевший этого человека мог, описав встречу, сразу рассчитывать на публикацию, как и любая фотография. Относящиеся к нему государственные, местные административные, секретные архивные записи все были подняты, переписки опубликованы или намечаются к публикации, каждое упоминание имени Хайдеггера учтено.
С годами он делался проще и спокойнее. Поздние фотографии показывают счастливого старика с безмятежной улыбкой[11]. Человек раскрылся весь и не унес с собой свою тайну.
Он завершал свою жизнь с чувством сделанного дела. Многие полны претензий к нему. Политически туп. Беспомощен. Не дает никаких конкретных ориентировок. Как вклад в социальные искания эпохи «Письмо о гуманизме» бесполезно. Ученые, художники, философы иногда, пусть редко, сходят на общедоступный газетно-журнальный уровень, этот – никогда. Есть основание для сомнений в его пригодности для социума. Только так ли уж важно умение выйти в газетную плоскость, на экран и распространиться по поверхности тем? не здравее ли крестьянская и мастеровая простота? У Хайдеггера, как ни трудно в то поверить, она сохранилась нетронутой рядом с мудростью и чарами поэтического слова.
Философия возвращает к правде. Ее подробный труд нужен не потому, что в добавление ко всему, что воздвигнуто человечеством, она выстраивает еще и свою систему, а потому, что мнения о мире заслонили его от нас. Они сложны и требуют тщательного разбора. С выходом из наших представлений к миру частные области знания, куда относятся политика и социология, мало чем могут помочь. Требуется мудрость непохожего рода. В претензиях к хайдеггеровской, другой мысли есть ленивое намерение ходить пока есть возможность по старой колее.
Ловя Хайдеггера на слове, винят его в солипсизме. Человеческое бытие, присутствие, выступает у него всегда в единственном числе. С кем оно тогда вступит в диалог? Не гуманнее ли плюрализм Левинаса или Ханны Арендт, культивирующей общение равноправных граждан? Но индивид, вступающий в диалог с другим индивидом, представляет собой уже продукт новоевропейского представления о субъекте. Хайдеггеровское присутствие в отличие от субъекта не конструкт.
Через тело, душу, род, воздух, воду, пищу, чувства, страсти мы с самого начала, раньше чем себя замечаем, уже были вместе со всеми, во всех и во всем, что мы видим и чего не видим. Отсюда, из этой коренной всеобщности, вторично искать выход к другим – значит забыть о нашей исходной органической связи со всеми. В другом мы встретим тогда не родное, а вымышленное существо. Чтобы вернуться к родным и ближним, надо вспомнить то, что раньше памяти спит в нас. Только так, вернувшись к себе из вторично выстроенных представлений, мы вернемся в мир.
Старый Хайдеггер приводит пример: когда я вспоминаю Рене Шара в Ле Бюскла, что мне при этом дано? Сам Рене Шар! а вовсе не Бог знает какой «образ», через который я опосредованно имею к нему отношение. Вы скажете, Рене Шар не присутствует при этом лично? Неважно! Все равно именно он сам, а не представление о нем, присутствует, как возможно присутствовать на отдалении. Надо разобраться, кто внушил, подсунул нам мысль, будто мы имеем дело не с вещами, а с представлениями о них. Кто загнал нас в тупик сознания и его представлений – безысходный потому, что стоит лишь уверовать, что в воспоминании мы имеем не самого человека и не саму вещь, а их представляемый образ, как при встрече с ними мы тоже станем иметь лишь сумму зрительных впечатлений, то есть опять же представление. До человека мы на таком пути никогда не доберемся. Кто иссушил нас, заставил вещи раздвоиться на сами вещи, до которых нам теперь уже никогда по-настоящему не добраться, и представления, идеи, образы их?
Упоминаемый в лежащей перед нами книге Франсуа Федье, философ, искусствовед, переводчик, у которого долголетнее общение с Хайдеггером оставило в душе чувство непреходящей радости, заметил как-то, что люди часто похожи в своем отношении к философии на механика, который получил в подарок самолет или планер, но не знает и не может догадаться, что это устройство способно летать. Умелец научился обращаться с ним и неким образом мастерски пользуется, но именно как сухопутной машиной.
Нам еще не все известно о философии. Мы спрашиваем, что мы с ней можем сделать. Конечно, ничего. Не может ли она что-то сделать с нами? вернуть нас нам самим и сути вещей? В неслышной работе мысли больше силы, чем в волевых решениях. Настающие цивилизации так же незаметно зарождаются в теле старых культур, как новый человек в тепле матери. Если захотеть проектировать мир, даже имея большие средства, не очень получится. Но если быть чутким к ходу вещей…
В. В. Бибихин
Хайдеггер: германский мастер и его время
Посвящается Гизеле Марии Никлаус
Я благодарю друзей,
помогавших мне своим участием,
жадным желанием больше узнать о Хайдеггере,
собственными изысканиями: Ульриха Бёма,
Ханса-Петера Хемпеля, Хельмута Летена,
Сэйса Нотебоома, Петера Слотердайка,
Ульриха Ваннера.
Ураганный ветер, сквозящий через все мышление Хайдеггера, – как и тот, другой, что еще и сейчас, по прошествии двух тысячелетий, веет нам навстречу со страниц платоновских сочинений, – родом не из нашего столетия. Он происходит из изначальной древности и оставляет после себя нечто совершенное, нечто такое, что, как и всякое совершенство, принадлежит изначальной древности.
Ханна Арендт
Каждая истина должна уметь благословить преходящее, как говорили раньше, иначе она не имеет никакой цены. Мир стал таким сухим и бесплодным, потому что по нему бродит слишком много произведенных поточным способом мыслей, бездомных и лишенных зримого образа.
Эрхарт Кёстнер
Без людей бытие оставалось бы немым; оно было бы здесь, но не было бы правдой.
Александр Кожев
ПРЕДИСЛОВИЕ
История жизни и философии Хайдеггера – это долгая история. Она вмещает в себя страсти и катастрофы целого столетия.
Истоки философии Хайдеггера отстоят от нас очень далеко. С Гераклитом, Платоном, Кантом он общался так, будто они были его современниками. И сумел настолько приблизиться к ним, что мог расслышать и облечь в слова даже то, о чем они умолчали. У Хайдеггера мы еще застаем всю удивительную метафизику прошлого, но застаем ее в тот момент, когда она вот-вот должна утратить дар речи (можно сказать и иначе: в момент, когда она открывается для восприятия чего-то другого, нового).
Страстью Хайдеггера было вопрошание, а не ответы. Сам он называл то, о чем спрашивал и что непрерывно искал, «бытием». На протяжении всей своей философской жизни он вновь и вновь задавал один-единственный вопрос – о сущности бытия. Смысл же вопроса сводился к тому, чтобы вернуть жизни ее тайну – тайну, которая в современную эпоху оказалась на грани исчезновения.
Хайдеггер начинал как католический философ. А потом принял вызов, брошенный ему современностью. И разработал философию Dasein – «присутствия» («вот-бытия»), которое существует под пустым небом и подчинено власти всепоглощающего времени; которое «брошено», но при этом наделено способностью отбросить собственную жизнь. Такая философия соответствует потребностям свободного и ответственного индивида, и она всерьез относится к смерти. Поставить вопрос о бытии в хайдеггеровском смысле – значит «высветить», «поднять к свету» вот-бытие, подобно тому, как «высветляют», поднимая из темных глубин, якорь, чтобы свободно выйти в открытое море. Но по печальной иронии судьбы хайдеггеровский вопрос о бытии – если говорить о его воздействии на дальнейшую историю философии – почти утратил эту освобождающую силу и не столько освободил, сколько, напротив, запугал философскую мысль, привел ее в состояние судорожного напряжения. Когда-нибудь напряжение спадет. И тогда, может быть, мы почувствуем себя достаточно свободными, чтобы ответить на насмешки невежд по поводу некоторых сверх меры глубокомысленных высказываний этого философского гения.
Нас смущает, сковывает и та политическая коллизия, в которой запутался Хайдеггер. Из философских соображений он одно время был национал-социалистским революционером, однако его философия помогла ему вновь вырваться из сети политических интриг. Совершенная им однажды ошибка стала для него уроком. С тех пор в орбиту его интеллектуальных поисков вошла и проблема особой предрасположенности духа к тому, чтобы поддаваться соблазну воли к власти. Философский путь Хайдеггера ведет от концепции «решимости» к метафизике «великого исторического мига» и далее к «отрешенности» и мысли о необходимости бережного, щадящего обращения с миром.
Мартин Хайдеггер – германский мастер…
Он и в самом деле был «мастером» из школы мистика Мастера Экхарта. Как никто другой умел он в наше нерелигиозное время никогда не захлопывать двери перед религиозным опытом. И нашел способ, как сделать, чтобы мысль неизменно оставалась близка вещному миру, но при этом не погрязала в банальностях.
В нем действительно было очень много «германского» – не меньше, чем в Адриане Леверкюне Томаса Манна. История жизни и мышления Хайдеггера – это еще одна история о Фаусте. В ней отразилось все то, достойное любви, околдовывающее и увлекающее в бездонную пропасть, что характерно для специфически германского пути в философии, которому суждено было стать событием общеевропейской значимости. И, наконец: думая о совершенных Хайдеггером политических ошибках, нельзя не признать, что ему, несомненно, были присущи черты и того «германского мастера», о котором идет речь в стихотворении Пауля Целана[12].
Поэтому имя Мартина Хайдеггера воспринимается как символ самой волнующей главы в истории германского духа двадцатого столетия. Значит, необходимо рассказать об этом человеке – каким он был и в добре, и в зле, и по ту сторону добра и зла.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
«Брошенность». Небо над Мескирхом. Раскол местного масштаба. «Ключевая роль». Мальчишки-звонари. «Единственному в своем роде брату». «Вот-вот-вот-бытие». Родители. Под опекой Церкви. Констанц. Миряне и прочие. Во фрайбургской семинарии. Почти иезуит.
В 1928 году Мартин Хайдеггер, в то время уже прославленный философ, писал бывшему префекту католической семинарии-интерната в Констанце, в которой он когда-то учился: «Быть может, убедительнее и настойчивее всего философия показывает, как неразрывно связана с человеческой природой склонность к начинаниям. Ведь, в конце концов, «философствовать» означает не что иное, как «быть начинателем»».
Хайдеггеровская хвала начинанию многозначна. Он хотел быть Мастером Начала. В начальных истоках греческой философии искал уже ставшее прошлым будущее, а в настоящем хотел обнаружить тот источник в самой сердцевине жизни, из которого не иссякая бьет струя философской мысли. Он считал, что все дело в настроении. И критиковал философию, претендующую на то, что она начинается с мысли. В действительности, говорил Хайдеггер, философия начинается с настроения – с удивления, страха, озабоченности, любопытства или радости.
По Хайдеггеру, именно настроение связывает жизнь с мышлением, но, как ни странно, он всегда был категорически против, когда эту связь между жизнью и мышлением пытались выявить на примере его собственного творчества. Однажды он начал лекцию об Аристотеле с лапидарной фразы: «Он родился, работал и умер». Хайдеггер хотел, чтобы и о нем самом говорили так же: его величайшая мечта состояла в том, чтобы жить ради философии и, возможно, даже полностью раствориться в своей философии. Это тоже имеет отношение к его настроениям, к тому, что он – может быть, слишком быстро – обнаруживал в том, что его непосредственно окружало, некую назойливость и потому стремился к сокровенному. Назойливой может быть сама жизнь. Настроение Хайдеггера диктует ему, например, такие слова: «Сущее, присутствие брошено, не от себя самого введено в свое вот» (Бытие и время, 284), и: «Бытие… приоткрывается как забота» (там же, 182), – ибо: «Решало ли присутствие само свободно о том, и будет ли оно когда способно решать о том, хочет оно или нет войти в «присутствие»?» (там же, 228).
Хайдеггер любил изъясняться в высоком стиле, поэтому мы никогда в точности не узнаем, говорит ли он здесь о западной цивилизации или о самом себе, идет ли речь о бытии вообще или о его собственном бытии. Но если верно, что философию рождает не мысль, а настроение, то было бы неправильно полагать, будто мысли всегда обретаются – и вступают в схватку с другими мыслями – лишь на высокогорном плато духовной традиции. Конечно, Хайдеггер следовал конкретным традициям – но основания для выбора той или иной традиции определялись его жизнью. И очевидно, что те же основания не позволяли ему рассматривать свой приход в мир как дар свыше или многообещающее начало. Он оценивал это событие как низвержение в пропасть – такая оценка диктовалась его настроением.
Однако мир, в котором он ощущал себя брошенным, – это не мир Мескирха конца прошлого столетия, того городка, где Мартин Хайдеггер родился 26 сентября 1889 года, где провел свое детство и куда всегда охотно возвращался. Брошенным он почувствовал себя лишь тогда, когда был выброшен из этого родного мира, защищавшего его от посягательств современности. Не стоит забывать, что с рождением человека его приход в мир еще не заканчивается. В любой человеческой жизни приходится несколько раз как бы заново рождаться, и может случиться, что родившийся человек по-настоящему, в полноценном смысле, так никогда и не придет в мир. Но мы пока говорим именно о «первом» рождении Мартина Хайдеггера.
Его отец, Фридрих Хайдеггер, был ремесленником-бочаром и, кроме того, причетником в мескирхской католической церкви Святого Мартина. Он умер в 1924 году. Ему довелось пережить разрыв сына с католицизмом, но не суждено было стать свидетелем прорыва к вершинам философии, который тот осуществил. Мать скончалась в 1927-м. На ее смертное ложе Мартин Хайдеггер положил рабочий экземпляр своей только что вышедшей книги «Бытие и время».
Мать была родом из соседнего селения Гёггинген. Когда налетает холодный ветер с высокогорных плато Швабской Юры, в Мескирхе говорят: «Потянуло из Гёггингена…» На протяжении нескольких поколений там жили предки матери, владевшие крепким хозяйством под названием «Лохбауэрнхоф». Основатель рода, Якоб Кемпф, в 1662 году получил эту крестьянскую усадьбу в ленное пользование от цистерцианского монастыря Вальд около Пфуллендорфа. Деду Хайдеггера удалось в 1838 году выкупить ее за 3800 гульденов, но в духовном смысле он и его семья так и остались под покровительством монастырской церкви.
Предки со стороны отца были мелкими землевладельцами и ремесленниками. В Мескирх они переселились в XVIII веке, из Австрии. Мескирхские краеведы выяснили, что Хайдеггеры имели тесные родственные связи с семьями Мегерле и Крейцеров. Из семьи Мегерле происходил самый знаменитый проповедник XVII века, Абрахам а Санкта-Клара[13], из другой семьи – композитор Конрадин Крейцер[14]. Хайдеггеры состояли в отдаленном родстве и с Конрадом Грёбером, духовным наставником Мартина в констанцской семинарии, который позднее стал архиепископом Фрайбургским.
Мескирх – небольшой городок, расположенный между Боденским озером, Швабской Юрой и верхним течением Дуная, в небогатой, а в прошлом и просто бедной местности на границе исторических областей расселения алеманнов и швабов. Алеманнам свойственны медлительность, практичность, рассудительность. Швабы по своей натуре более жизнерадостны, открыты, мечтательны. Первые склонны к сарказму, вторые – к пафосу. Мартин Хайдеггер воспринял кое-что и от тех, и от других, а своими «святыми заступниками» считал алеманна Иоганна Петера Хебеля[15] и шваба Фридриха Гёльдерлина[16]. По его мнению, оба они несли на себе отпечаток тех местностей, из которых происходили, и в то же время по своим устремлениям были людьми большого мира. Таким видел себя и Хайдеггер: он хотел «раскрываться навстречу широте небес, а вместе корениться в непроглядной темени земли» («Проселок»).
В лекциях 1942 года Хайдеггер интерпретировал гёльдерлиновский гимн Дунаю «Истр». В рукописном тексте лекций есть пометка, отсутствующая в печатном варианте: «Может быть, Гёльдерлину, поэту, суждено было стать определяющей судьбой… для некоего мыслителя, дед которого родился – в то самое время, когда создавался гимн «Истр»… – … в овчарне одной крестьянской усадьбы в долине Верхнего Дуная, недалеко от берега реки, под скалами».
Что это – попытка создать миф о самом себе? Во всяком случае, стремление представить свое происхождение таким образом, чтобы им можно было бы гордиться. Отблеск славы Гёльдерлина падает на стены Донаухауса у подножия замка Вильденштейн в окрестностях Мескирха… Здесь в XVIII веке жили Хайдеггеры. Дом все еще стоит, и его нынешние обитатели рассказывают, что «профессор в берете» время от времени заглядывал к ним.
Поблизости от Донаухауса и замка Вильденштейн находится Бойрон с его бенедиктинским монастырем, некогда принадлежавшим августинцам. Этот по-монашески тихий мир с его большой библиотекой, хлевами и амбарами притягивал Мартина Хайдеггера даже тогда, когда философ отдалился от Церкви. В двадцатые годы Хайдеггер несколько раз приезжал сюда на университетские каникулы и жил неделю-другую в монастырской келье. Между 1945 и 1949 годами, когда его отстранили от преподавания, монастырь Бойрон оставался единственным местом, где он мог выступать публично.
В конце XIX века Мескирх насчитывал 2000 жителей, большей частью крестьян и ремесленников. В городке были и кое-какие промышленные заведения: пивоварня, катушечная фабрика, молочный завод. В Мескирхе имелись также должностные присутственные места, ремесленные училища, телеграф, вокзал, почтамт второго класса, суд низшей инстанции, правления кооперативов, конторы управляющих поместьями и замком. Мескирх находится в Бадене, и этот факт в немалой степени обусловливал духовную атмосферу городка.
В Бадене с начала XIX века существовала сильная либеральная традиция. В 1815 году здесь была принята конституция, узаконившая парламентское правление, а в 1831-м отменена цензура печати. Баден стал оплотом революции 1848 года. В апреле упомянутого года в Констанце, находящемся недалеко от Мескирха, Геккер[17] и Струве[18] призвали народ к вооруженному восстанию. Отряды революционных войск собрались у Донауэшингена, но были разбиты. Год спустя революционеры ненадолго захватили власть, великий герцог бежал в Эльзас, и только с помощью прусских войск удалось восстановить старый порядок. Поэтому отношение к Пруссии было в Бадене далеко не дружественным, и после 1871 года понятие «имперский подданный» сохраняло для здешних жителей неприятный «прусский» привкус. Правда, в конце концов баденский либерализм все-таки примирился с империей: не в последнюю очередь потому, что нашел себе нового противника – Католическую Церковь.
С 1848 года Церковь стала искусно использовать в собственных интересах дух либерализма, против которого прежде ожесточенно боролась. Она требовала свободной Церкви в свободном государстве, ликвидации государственной опеки над школами и университетами, свободного замещения приходских должностей и свободного управления церковным имуществом. Как говорили священнослужители, следовало больше прислушиваться к Богу, чем к людям. Конфликт достиг своего апогея в 1854 году, когда власти арестовали фрайбургского архиепископа. Но в итоге правительству все же пришлось пойти на уступки, потому что Церковь оказывала очень большое влияние на сознание и образ жизни населения, особенно в сельской местности и в маленьких городках. Католический популизм юго-западной Германии характеризовался церковным благочестием, но одновременно разочарованием в государстве. Приверженность к иерархии соседствовала в нем с требованием автономности Церкви по отношению к государственной власти. Это движение имело антипрусскую направленность (скорее в регионалистском, нежели в националистическом смысле), было антикапиталистическим, аграрным, антисемитским, патриотическим – и опиралось главным образом на низшие социальные слои.
Конфликт между государством и Церковью вновь обострился после того, как в 1870 году Вселенский собор в Риме принял догмат о непогрешимости Папы. Поскольку в эпоху национализма всеобщее господство Церкви уже не могло быть восстановлено, католический мир решил, по крайней мере, действенным образом оградить себя от государства и секуляризованного общества.
В ответ сформировалась оппозиция – так называемое «старокатолическое» движение, социальные корни которого следует искать прежде всего в среде католической образованной буржуазии южной Германии, разделявшей национал-либеральные взгляды. Представители этих слоев не хотели становиться слишком уж «римско-католическими», для них была важна связь между католицизмом и национальной почвой. Кроме того, некоторые «старокатолики» стремились к модернизации Церкви в целом: к отмене безбрачия духовенства, к ограничению почитания святых, к самоопределению общин и выборности священников.
Движение создало собственную церковную организацию, избрало епископа, но численность его приверженцев оставалась небольшой. Оно никогда не объединяло больше ста тысяч человек, хотя и пользовалось правительственной поддержкой, особенно в Бадене. Здесь старокатолическое движение достигло большого размаха. В семидесятые – восьмидесятые годы Мескирх был одной из его цитаделей. Временами чуть ли не половина горожан причисляла себя к старокатоликам.
Конрад Грёбер, последовательный приверженец римского католицизма, нарисовал мрачную картину мескирхского «культуркампфа», на фоне которого проходило детство Мартина: «Мы знаем по собственному горькому опыту, сколько юношеского счастья было разрушено в те тяжелые времена, когда дети из богатых старокатолических семей отталкивали своих более бедных ровесников-католиков, награждали их самих и их пастырей обидными прозвищами, избивали их и окунали в поилки для скота у колодцев, чтобы окрестить заново. Мы знаем, к сожалению, и по своим личным воспоминаниям, как даже учителя, придерживавшиеся старокатолических взглядов, так сказать, отделяли агнцев от козлищ. Они называли школьников-католиков не иначе как «черная немочь» и ощутимо давали им почувствовать, что никто не сможет безнаказанно пойти по римскому пути. В результате эти дети все до одного отпали от Рима, и им пришлось присоединиться к старокатоликам, чтобы получить в Мескирхе хоть какую-то должность. Да и много позже добиться пусть даже самого незначительного местечка в Аблахштадте можно было только ценой изменения своих религиозных убеждений».
Отец Хайдеггера относился к числу самых стойких. Он оставался приверженцем римского католицизма, хотя поначалу это приносило ему одни неприятности.
Правительство предоставило мескирхским старокатоликам право на совместное с римскими католиками пользование городской церковью Святого Мартина. Для римских католиков это означало осквернение храма, и они перестали совершать в нем богослужения. В 1875 году, при действенной помощи бойронских монахов, они перестроили старое овощехранилище неподалеку от городской церкви, превратив его во «временную церковь». В том же здании размещалась бочарная мастерская причетника Фридриха Хайдеггера, и там же, в новой церкви, крестили Мартина.
Противостояние между римскими католиками и старокатоликами раскололо городскую церковную общину на два лагеря. Старокатолики считали себя «людьми из хорошего общества», «либералами», «модернистами». В их глазах приверженцы Римской Церкви были ретроградами, ограниченными и отсталыми обывателями, цеплявшимися за отжившие церковные обычаи. Когда римские католики весной или осенью выходили в поля, чтобы священник благословил землю, старокатолики оставались дома, а их дети забрасывали участников шествия камнями.
В ходе этих конфликтов маленький Мартин впервые испытал на собственном опыте, как проявляется противоречие между традицией и современностью. Он почувствовал оскорбительный аспект этой современности. Старокатолики относились к «верхушке» общества, а сторонники Римской Церкви, хотя и составляли большинство, не могли не ощущать своей приниженности. Но тем сплоченнее была их община.
Когда в конце столетия численность старокатоликов резко снизилась, в том числе и в Мескирхе, а климат взаимной нетерпимости, порожденный «культуркампфом», смягчился, «римским католикам» вернули городскую церковь вместе со всем ее имуществом и недвижимостью. Хайдеггеры смогли снова вселиться в дом причетника на Церковной площади. Торжественная служба, состоявшаяся 1 декабря 1895 года, увенчала победу над «вероотступниками». В тот день маленький Мартин неожиданно для себя сыграл «ключевую роль». Причетнику-старокатолику было неприятно передавать ключи от церкви своему преемнику, и он просто сунул их сынишке причетника, игравшему на церковной площади.
Мир детства Хайдеггера – это маленький покосившийся дом причетника на Церковной площади, напротив мощного здания церкви Святого Мартина. С площади открывался вид на построенный в XVI веке замок Фюрстенбергов. Дети могли проникать через большие парадные ворота во внутренний двор замка и дальше в парк. За воротами на противоположном конце парка начинались поля и проселок: «Он от ворот дворцового парка ведет в Энрид. Старые липы смотрят вослед ему через стены парка, будь то в пасхальные дни, когда дорога светлой нитью бежит мимо покрывающихся свежей зеленью нив и пробуждающихся лугов, будь то ближе к Рождеству, когда в метель она пропадает из виду за первым же холмом» (Проселок).
«Причетниковым детям» – Мартину и его младшему брату Фрицу[19] – приходилось помогать отцу в церкви. Они исполняли работу церковных служек, собирали цветы для украшения храма и должны были звонить в колокола. Как вспоминал Хайдеггер в очерке «О тайне башни со звоном», всего имелось семь колоколов – каждый со своим именем, с собственным звучанием. В каждый надо было бить в определенное время. В «Четырехчасовой» звонили в четыре часа пополудни, так называемым «страшным» звоном, который должен был заставить в страхе вскочить с постели всех, кто заспался. «Трехчасовик», помимо того, что отмечал третий час, оповещал о смерти. Колокол «Дитятя» созывал на уроки закона Божия и на чтение розария, «Двенадцатый» сигнализировал об окончании утренних занятий в школе. Был еще колокол, по которому ударял молот часового механизма. Но самым красивым голосом обладал «Большой»; в него звонили в канун великих праздников и ранним утром в дни их начала.
Перед Пасхой, с Чистого четверга до Страстной субботы, колокола молчали, а затем в дело вступали трещотки. Вращением рукоятки приводились в движение несколько молоточков, ударявших по твердому дереву. В каждом углу башни стояло по такой трещотке, и маленькие звонари должны были попеременно крутить их ручки, чтобы сухой треск разносился по всем четырем сторонам света. Но самым прекрасным праздником было Рождество. В полчетвертого утра соседские мальчики, которым предстояло звонить в колокола, приходили в дом причетника и садились за накрытый его женой стол: их уже ждало печенье и кофе с молоком. После этого завтрака юные звонари зажигали в прихожей фонари и шли в снежной зимней ночи к церкви, а потом поднимались по темной лестнице колокольни к колоколам с их холодными веревками и обледенелыми языками. «Таинственный лад, соединявший и сопрягавший в целое последовательность церковных праздников, вигилий, времен года, утренних, дневных и вечерних часов каждого дня, так что единый звон проникал и пронизывал юные сердца, сны и мечты, молитвы и игры, – он, этот лад, видимо, и скрывает в себе одну из самых чарующих, самых целительных и неисповедимых тайн башни со звоном…» (О тайне башни со звоном).
Такой была жизнь под сенью Церкви в маленьком провинциальном городке в начале нынешнего столетия. В «Проселке» Хайдеггер вспоминает, как играл в бассейне у школы с самодельными корабликами: «Грезы странствий еще скрывались в том едва ли замечавшемся сиянии, которое покрывало тогда все окружающее. Глаза и руки матери были всему границей и пределом… И путешествиям-забавам еще ничего не было ведомо о тех странствиях и блужданиях, когда человек оставляет в недосягаемой дали позади себя любые берега…»
Отблеск этого в свое время «едва ли замечавшегося сияния» падает на все воспоминания Хайдеггера о его мескирхском детстве, и речь идет не просто о его личных ощущениях во время игры – ведь и у брата философа, Фрица, остались сходные впечатления о тех же годах: «Большинство из нас, какие бы шалости мы ни совершали, наслаждалось благом вечной беззаботности, благом, которое с той поры нам уже никогда более не довелось испытать». Фриц всю жизнь оставался там, где провел свое детство, он работал в кредитном банке Мескирха и умер в том же городке.
Жители Мескирха считали Фрица Хайдеггера «оригиналом». Он пользовался здесь такой популярностью, что его брат Мартин, даже став всемирно известным философом, для местных жителей продолжал быть всего лишь «братом Фрица». Фриц Хайдеггер заикался, но, как рассказывают мескирхцы, только когда рассуждал о «сурьезных» вещах: тогда слова начинали «застревать у него в горле» и, например, хайдеггеровское «вот-бытие» превращалось в «вот-вот-вот-бытие». Фриц, однако, всегда говорил без запинки, когда представлялась возможность посмеяться над кем-то, – например, в тех знаменитых речах, с которыми он выступал в канун Великого поста. В подобных случаях его ничто не могло смутить, и в гитлеровские времена он затевал споры даже с местными нацистскими бонзами, справедливо полагая, что ему как всеобщему любимцу все сойдет с рук. В университете Фриц не учился. Этот странный банковский служащий иногда называл себя «осветителем». Для своего брата он лично перепечатал на машинке 30 тысяч страниц рукописного текста и во время войны хранил их в банковском сейфе. Он говорил, что их смогут по-настоящему понять только в XXI веке, когда «на Луне уже давно будет существовать построенный американцами гигантский супермаркет». Фриц, по его словам, помогал Мартину при сверке и редактировании этих текстов. Ему не нравилось, если в одном предложении были выражены сразу две мысли. «Ты должен их разделить, – говорил он брату. – Ибо через узкую дверь пройти можно только по очереди». Итак, в данном конкретном случае Фриц предпочитал, чтобы все связи были очевидными, «прозрачными», вообще же он полагал, что ничего «прозрачного» на свете не бывает. И часто повторял такую, например, фразу: «Люди могут меня не замечать, но они не вправе считать меня прозрачным!» Он ценил в философии ее «дурачества» и не любил, когда философы относились к себе с излишней серьезностью. Тот, кто сохранил вкус к дурачествам, говаривал Фриц, никогда не пропадет в этом «вот-вот-вот-бытии»; и добавлял: «В нас, в самых потаенных уголках сердца, живет нечто, способное выстоять в любых бедствиях. Это радость, последний остаток той изначально присущей нам дурашливости, о которой никто из нас даже уже и не помнит». Фриц Хайдеггер относился к себе с самоиронией, что не было свойственно его брату Мартину. Фриц, родившийся через пять лет после Мартина, так комментировал свое появление на свет: «Жизненная мука у одного начинается сегодня, у другого – завтра. У маленького червячка с Замковой улицы она началась в Пепельную среду: прорыв куда-то, ощущение, что тебя дубасят со всех сторон, пугающее отклонение от привычного… Чего еще ждать от Пепельной среды?»
Мартин Хайдеггер в знак благодарности посвятил Фрицу одну из книг. Посвящение – «Единственному в своем роде брату» – исполнено очаровательной двусмысленности.
Как рассказывал Фриц Хайдеггер, их родители были верующими, но не фанатиками и не сторонниками строгого конфессионализма. Католицизм настолько глубоко проник в их плоть и кровь, что они не испытывали потребности защищать свою веру или отстаивать ее, споря с другими. Тем сильнее они недоумевали, когда их сын Мартин сошел с «праведного пути», который казался им столь естественным.
Мать отличалась веселым нравом. По словам Фрица Хайдеггера, «она часто говорила: жизнь устроена так чудесно, что повод для радости можно найти всегда». Она была решительной, не скрывала, что гордится своим происхождением из крепкой крестьянской семьи. Слыла женщиной работящей, ее почти никогда не видели без передника и головного платка. Отец же был человеком, углубленным в себя (он мог молчать целыми днями), незаметным, старательным, честным. Человеком, о котором после его смерти сыновья мало что смогли вспомнить.
Хайдеггеры жили не богато, но и не бедствовали. Судя по тому, что их недвижимость оценивалась в 2000 марок и они платили подоходный налог в 960 марок (в 1903 году), они принадлежали к низам среднего сословия. На пропитание им хватало, но они не могли из собственных средств оплачивать учебу сыновей в дорогостоящих школах (а только такие школы открывали путь к высшему образованию). Здесь-то и пришла на выручку Церковь. Это была обычная практика помощи одаренным детям и одновременно – пополнения кадров священников, главным образом сельских.
Мескирхский пастор Камилло Брандхубер предложил родителям Мартина послать их способного к учебе старшего сына, после того как он окончит бюргерскую городскую школу[20] (гимназии в Мескирхе не было), в католическую семинарию в Констанце – интернат для будущих пастырей. Брандхубер бесплатно давал своему протеже уроки латыни, и тем самым сделал для него возможным поступление в семинарию. Префектом констанцской семинарии был Конрад Грёбер. Брандхубер и Грёбер выхлопотали для Мартина стипендию от местного благотворительного фонда. Родители гордились тем, что Церковь приняла их сына под свою опеку. Для Мартина же началось время финансовой зависимости от Церкви. Отныне он был обязан помнить о своем долге благодарности.
Эта финансовая зависимость продолжалась тринадцать лет, до 1916 года. После стипендии Вайсса, благодаря которой он учился в констанцской семинарии (в 1903–1906 годах), Мартин получал до 1911 года стипендию Элинера (для будущих священников), что дало ему возможность закончить два последних класса семинарии и проучиться четыре семестра на теологическом факультете Фрайбургского университета. Его учеба в университете с 1911 по 1916 год финансировалась за счет стипендии Шетцлера, учрежденной для того, чтобы ориентировать стипендиатов на сохранение философского и богословского наследия святого Фомы Аквинского. Хайдеггер оставался зависимым от католического мира и после того, как внутренне уже начал отходить от Церкви. Он вынужден был приспосабливаться к обстоятельствам, стыдился этого – и впоследствии не простил тогдашнего своего унижения «системе католицизма». Эта институциональная система с ее корыстной социальной политикой со временем стала вызывать у Хайдеггера такое отвращение, что позже он даже испытывал симпатии к нацистам – не в последнюю очередь из-за антиклерикальной направленности их движения.
Итак, в 1903 году Хайдеггер приехал в констанцскую семинарию-интернат и начал вместе с другими семинаристами посещать городскую гимназию.
Мескирх оставался замкнутым католическим мирком, хотя последствия былых конфликтов со старокатоликами еще сказывались. Но в Констанце, отстоявшем от него всего на пятьдесят километров, современность чувствовалась уже куда явственнее.
В Констанце, некогда имперском городе, население в конфессиональном плане было смешанным. Богатая история города продолжала жить в памятниках архитектуры. Еще существовали, например, тот старый купеческий дом, где в XV веке заседал церковный собор, и другой, где ожидал суда Ян Гус. Бывший доминиканский монастырь, в котором был заточен этот «еретик», перестроили в гостиницу «Островной отель», вскоре превратившуюся – благодаря своим просторным залам – в подлинный центр культурной жизни города. Здесь устраивались концерты и доклады, на которые охотно приходили гимназисты. Завсегдатаи подобных мероприятий боготворили «дух современности», рассуждали о Ницше и Ибсене, об атеизме, о «философии бессознательного» Гартмана[21], о «философии как если бы» Файхингера[22] и даже о психоанализе и толковании снов. В Констанце веял дух прогресса, город со времен Геккера, то есть с 1848 года, оставался цитаделью баденского либерализма. Гюнтер Ден, учившийся в Констанцской гимназии примерно в одно время с Хайдеггером, рассказывает в своих мемуарах о том благоговейном страхе, который почувствовали он и его одноклассники, когда узнали, что смотритель мужских купален участвовал в революции 1848 года и лично сражался на баррикадах. Самая большетиражная городская газета, «Абендцайтунг», была демократической, антиклерикальной и даже в какой-то мере антипрусской – несмотря на то (или именно потому), что в Констанце квартировался прусский пехотный полк и что офицеры со всей империи охотно проводили свой отпуск в этом городе на Боденском озере.
Семинария, которую также называли «Школой Святого Конрада» или попросту «Домом Конрада», была закрыта в годы культуркампфа и вновь открылась только в 1888 году. В прошлом она контролировалась иезуитами, но теперь перешла под государственный надзор. Семинаристы посещали и «светскую» гимназию, в которой царила атмосфера умеренно либерального антиконфессионального гуманизма. Преподавателем новых языков был Пациус – демократ, свободомыслящий человек и пацифист, которого ученики очень любили за его эффектные высказывания. Он, например, дразнил семинаристов, которые, как начинающие теологи, должны были высоко ценить Аристотеля, неожиданными репликами такого типа: «Аристотель – да что он вообще собой представляет в сравнении с Платоном, этим гигантом духа!» Но и протестантам тоже доставалось. «Астрология? – откликался на чей-нибудь вопрос Пациус. – Как показывают мои изыскания, этим суеверием мы обязаны Меланхтону». Учитель немецкого и древнегреческого языков Отто Киммиг признавал в качестве священного только один текст – пьесу Лессинга «Натан Мудрый». Влияние двух этих наставников, у которых учился и Мартин Хайдеггер, по всей видимости, было очень значительным. Вот что писал о них Гюнтер Ден: «Я лишь позднее осознал, что оба эти учителя незаметно для меня самого, так сказать, вывели меня из мира христианских идей, которого для них как бы и вовсе не существовало».
В «Доме Конрада» ученикам старались привить иммунитет против духа свободомыслия. Их воспитывали как будущих апологетов религии, которым предстоит вступать в дискуссии с «мирянами». Они по очереди делали доклады, в которых должны были продемонстрировать свою подготовленность к таким схваткам. В этих работах речь шла, например, о том, может ли человек собственными силами прийти к гуманности и как далеко должны простираться границы терпимости; а еще говорили о свободе и о первородном грехе или обсуждали проблему, следует ли рассматривать гётевскую Ифигению как языческо-христианский, христианско-немецкий либо чисто языческий образ. Отдохнуть от подобных споров можно было только переключившись на краеведческие темы: историю монастыря Рейхенау, нравы и обычаи в Хегау или жизнь древнейших поселенцев на берегах Боденского озера. Иногда, в солнечные дни, семинаристы, как и все молодые люди, совершали вылазки «на природу», чтобы попеть и поиграть на гитарах, – в Майнау, в графский сад в Бодмане или на виноградники на берегу Унтерзее. Во время таких прогулок они осваивали местный диалект, музицировали, и если их одноклассники по гимназии любили похвастаться своими визитами к актрисам, то интернатские могли зато рассказать о том, как они сами сыграли пьесу на библейскую тему. Ханжами, во всяком случае, эти юноши не были: даже избрали – а как же иначе, они ведь жили в Бадене! – свой представительный орган, имевший совещательный голос при решении всех вопросов, связанных с руководством семинарией; и издавали газету, регулярно напоминавшую, что Баден первым среди немецких земель отменил цензуру.
Семинаристы жили под бдительным, но не очень строгим присмотром. Как бы там ни было, Мартин Хайдеггер не поминал злом годы, проведенные в Констанце. В 1928-м он писал Маттеусу Лангу, который в пору его ученичества был духовным префектом младших классов: «Я с удовольствием и с благодарностью возвращаюсь мыслями к началу моей учебы в «Доме Конрада» и все яснее сознаю, как глубоко все мои устремления укоренены в родной почве. Я очень хорошо помню, как сразу почувствовал доверие к Вам, тогдашнему новому префекту; это доверие сохранилось и впоследствии, сделав для меня радостным пребывание в семинарии».
Менее отрадные впечатления оставляло у интернатских общение со «свободными» одноклассниками, особенно с теми, которые происходили из привилегированных кругов. Эти сыновья адвокатов, чиновников и коммерсантов ощущали свое превосходство над «каплунами», как они называли обитателей «Дома Конрада». Те были большей частью выходцами из деревни и, подобно Мартину Хайдеггеру, происходили из семей со скромным достатком, а то и совсем бедных. Гюнтер Ден, сын директора почты, вспоминает: «Мы всегда смотрели на «каплунов» немного свысока. Они плохо одевались и, как нам тогда казалось, мылись тоже кое-как. Мы считали себя лучше их. Правда, это не мешало нам основательно их эксплуатировать. От них требовалось самое тщательное выполнение домашних заданий, и на переменках они должны были нам помогать – что, впрочем, они всегда делали с охотой».
В своем кругу интернатским было легче самоутверждаться, посторонние же всегда немного подсмеивались над ними. Семинаристы не принимали участия в некоторых развлечениях своих «светских» соучеников, потому что, с одной стороны, не имели карманных денег, а с другой – должны были соблюдать определенные запреты. Они, например, оставались сторонними наблюдателями, когда на кривых улочках города и в его пивных три дня подряд шумел масленичный карнавал и ученики светской школы – гимназисты – образовывали собственный шутовской цех. Не для них были и украшенные пестрыми вымпелами прогулочные пароходы, увозившие в Меерсбург отпускников, которые приезжали летом в Констанц. Вечером толпу гуляк, нетвердо державшихся на ногах, те же пароходы доставляли назад, и эта толпа, распевая и горланя, заполняла переулки старого города. Гимназисты в своих пестрых шапочках всегда были среди веселившихся. На другой день на переменках они хвастались своими приключениями и победами, пока у пансионеров интерната от их болтовни не начинало звенеть в ушах. В пору сбора винограда повсюду в изобилии продавали слегка опьяняющее виноградное сусло. В некоторых кафе гимназистам разрешалось находиться до десяти вечера. Там они нередко сталкивались со своими учителями, заходившими выпить бокал вина, – такие встречи давали мальчикам-подросткам шанс сблизиться с ними, поговорить по душам, завоевать некоторую независимость; у семинаристов же подобных возможностей не было.
Семинаристы как бы принадлежали к другому миру, и им постоянно давали это почувствовать. Им приходилось бороться против ощущения собственной приниженности. Помогало упорство: они умели воспринимать свою исключенность из общества как избранничество.
В этом поле напряжения между семинарией и оживленной городской жизнью за ее стенами, между католической и буржуазно-либеральной средой у Мартина Хайдеггера еще в школьные годы могло сформироваться представление о двух мирах: по одну сторону – строгий, тяжелый, упорный и медлительный мир, по другую – мир скоротечный, поверхностный, падкий на сиюминутные удовольствия; в одном – усилия, в другом – просто хлопотливость; в одном – укорененность, в другом – отсутствие опоры; обитатели одного мира не боятся никаких трудностей, обитатели другого всегда ищут самый удобный путь; первые привыкли мыслить глубоко, вторые легкомысленны; первые остаются верны себе, вторые растрачивают себя впустую.
В философии Хайдеггера эта схема впоследствии найдет выражение в противопоставлении понятий подлинность (или «собственное» бытие) и неподлинность («несобственное» бытиe).
Осенью 1906 года Мартин Хайдеггер оставил констанцскую семинарию и поступил в архиепископскую семинарию-интернат Святого Георга во Фрайбурге. Стипендия от мескирхского благотворительного фонда уже не покрывала расходов на его содержание в интернате Констанца. Предприимчивые покровители сына причетника, Конрад Грёбер и Камилло Брандхубер, нашли другой источник финансирования – стипендию Элинера. Она была учреждена в XVI веке Кристофом Элинером, теологом из Мескирха, и предназначалась для оказания помощи молодым людям из этого города, интересующимся теологией. Условием ее предоставления была учеба в семинарии Фрайбурга и затем во Фрайбургском университете.
Перевод из Констанца во Фрайбург расценивался как поощрение. Мартин расстался с Констанцем, не питая к нему никаких неприязненных чувств, и навсегда сохранил о «Доме Конрада» самые теплые воспоминания. В последующие годы он будет приезжать сюда на встречи своих бывших соучеников. К семинарии же во Фрайбурге он никогда не испытывал подобной привязанности. Хайдеггер проведет в этом городе чуть ли не всю свою жизнь, и ему поневоле придется научиться сохранять между собой и своим окружением некоторую дистанцию. Именно здесь произойдет окончательный разрыв Хайдеггера с католицизмом, влияние которого во Фрайбурге особенно ощутимо: кафедральный собор, построенный в стиле зрелой готики, доминирует над городом, отбрасывая густые тени. Подобно мощному кораблю, застыл он у подножия шварцвальдских гор, но кажется, будто вот-вот стронется с места и двинется к выходу из бухты.
Вплоть до Второй мировой войны старый город с его домами, тесно сгрудившимися вокруг собора, сохранялся почти полностью. Многочисленные переулки разбегались, словно лучи звезды, от Соборной площади, и некоторые из них были обрамлены узкими каналами. Интернат для учеников семинарии находился поблизости от резиденции архиепископа.
Когда молодой Мартин Хайдеггер приехал во Фрайбург, город выглядел почти таким же, каким за сто лет до того его увидел – и описал в письме к Гёте – Сюльпис Буассере: «Я мог бы сочинить для тебя о Фрайбурге целую книгу: это лучший из городов, где все старое сохраняется с большой любовью. Он очень красиво расположен, в каждом его переулке имеются кристально чистый ручеек и старинный фонтан… вокруг разбиты виноградники, и все стены, когда-то бывшие военными укреплениями, ныне увиты виноградной лозой».
Во фрайбургской семинарии Мартин учился с усердием. Он был умен, честолюбив, и в то время еще мечтал о церковной карьере: намеревался после окончания учебы вступить в орден иезуитов. Его учителя поддерживали эти планы. Ректор семинарии писал в 1909 году в характеристике на выпускника Хайдеггера: «Его одаренность, прилежание и нравственные качества заслуживают хорошей оценки. Он уже достиг определенной зрелости характера, в учебе также проявил самостоятельность и даже, пожалуй, чересчур много – в ущерб другим предметам – занимался немецкой литературой, обнаруживая большую начитанность. Он уверен в своем выборе теологического поприща, питает склонность к орденской жизни и, вероятно, заявит о своем желании вступить в Общество Иисуса».
В отличие от некоторых своих одноклассников молодой Мартин Хайдеггер не увлекался «современными» духовными тенденциями. Молодые авторы – приверженцы натурализма, символизма или стиля модерн – тогда еще не входили в круг его чтения. Его духовные упражнения носили более строгий характер. О своих тогдашних интересах Хайдеггер пишет в краткой автобиографической справке, составленной им в 1915 году, в момент защиты докторской диссертации: «Когда в старших классах преподавание математики от обычного решения задач свернуло, скорее, в теоретическое русло, мое простое пристрастие к этой дисциплине превратилось в действительный глубокий интерес, который распространился и на физику. К этому прибавились и стимулы от уроков религии, побудившие меня расширить круг чтения по биологическому учению о развитии. В выпускном классе главным образом занятия по Платону… побудили меня более осознанно, хотя еще без необходимой теоретической строгости, обратиться к философским проблемам».
Интересно, что именно занятия по религии пробудили у Хайдеггера интерес к биологическому учению о развитии, в то время особенно враждебному по отношению к религии. Вероятно, это учение манило его в опасные сферы духа, где вера, сложившаяся в Мескирхе, должна была столкнуться с серьезными испытаниями. Но молодой человек не боялся подобных интеллектуальных приключений, ибо еще чувствовал под своими ногами твердую опору – фундамент веры. 30 сентября 1909 года Мартин Хайдеггер стал послушником ордена иезуитов в монастыре Тизис близ Фельдкирха (Форарльберг). Но уже через две недели, по истечении испытательного срока, покинул монастырь. Видимо, Хайдеггер – как предполагает Хуго Отт – стал жаловаться на сильные боли в сердце и потому был отослан домой по состоянию здоровья. Два года спустя те же боли возобновились и вынудили его прервать подготовку к священническому служению. Может быть, так случилось потому, что само сердце Хайдеггера восстало против планов его разума…
ГЛАВА ВТОРАЯ
В рядах антимодернистов. Абрахам а Санкта-Клара. «Потусторонняя ценность жизни». Небесная логика. Хайдеггер открывает для себя Брентано и Гуссерля. Философское наследие XIX века. «Осушение болота немецкого идеализма». Философия «как если бы». Сфера культурных ценностей как прибежище. «Значимость» и денежные знаки.
Поначалу Мартин Хайдеггер не хотел отступать от своих планов: после неудачи с иезуитским орденом он поступил на теологический факультет Фрайбургского университета. Такое решение могло объясняться, среди прочего, и финансовыми причинами. Родители были не в состоянии оплачивать его обучение, а стипендия Элинера, которую он получал со времени учебы во фрайбургской семинарии, предназначалась для тех, кто собирался получить теологическое образование.
В зимний семестр 1909 года Хайдеггер приступил к изучению теологии. В «Автобиографии» 1915 года он пишет: «Обязательные лекции меня мало удовлетворяли, поэтому я занялся самостоятельным штудированием пособий по схоластике. Они помогли мне в какой-то степени овладеть формальной логикой, но в плане философии не дали того, чего я искал».
Только одного фрайбургского теолога Хайдеггер особо выделял и впоследствии всегда называл своим учителем: Карла Брега. Уже в выпускном классе семинарии Хайдеггер внимательно прочитал работу Брега «О бытии. Набросок онтологии» (1896) и благодаря ей познакомился с некоторыми основополагающими понятиями онтологической традиции. Именно Брег впервые пробудил у него интерес к Гегелю и Шеллингу. Во время совместных с Брегом прогулок Хайдеггер испытал на себе воздействие свойственного его учителю «убедительного способа» («Мой путь в феноменологию», Z, 82) мышления. Брег, как рассказывал Хайдеггер пятьдесят лет спустя, умел сделать идеи живой актуальностью.
Карл Брег был теологом-антимодернистом.
Со времени появления в 1907 году энциклики «Pascendi dominici gregis»[23], объявлявшей войну «модернизму», – в разделе «De falsis doctrinis modernistarum»[24] – понятия «модернизм» и «антимодернизм» стали, так сказать, боевыми штандартами противоборствующих сторон в духовной битве, которая бушевала и в католическом мире, и за его пределами. Антимодернисты защищали вовсе не одни только церковные догматы (скажем, идею «непорочного зачатия») и принципы церковной иерархии (например, принцип непогрешимости Папы). Но их противники охотно заостряли внимание именно на этих аспектах и, соответственно, не желали видеть в антимодернизме ничего иного, кроме опасного или смехотворного заговора мракобесов против ориентированного на науку духа времени, против Просвещения, гуманизма и каких бы то ни было представлений о прогрессе.
Однако можно было быть антимодернистом и не становясь обскурантом, как показывает пример Карла Брега – человека острого ума, который обнаружил ускользающие от рефлексии предпосылки веры в различных разновидностях современного научного сознания. Он хотел пробудить от «догматического полусна» всех тех, кто считал себя неверующим и лишенным предпосылок к обретению веры. И у так называемых агностиков, говорил Брег, есть своя вера, пусть и очень примитивная, доморощенная: вера в прогресс, в науку, в биологическую эволюцию, которая якобы принесет нам благо, в экономические и исторические законы… Модернизм, по его словам, «в своем ослеплении не видит ничего, кроме собственного «я» и того, что служит этому «я»», а автономия субъекта превратилась в построенную самим этим субъектом тюрьму. Брег критиковал современную цивилизацию за то, что она утратила благоговейный трепет перед неисчерпаемой тайной реальности, частью которой мы являемся и которая нас объемлет. Если человек самонадеянно ставит себя в центр мироздания, то в конце концов он не сможет относиться к истине иначе как прагматически, то есть будет считать «истинным» лишь то, что идет нам на пользу и помогает достичь практического успеха. Брег же полагал: «Историческая истина, как и любая другая – здесь, у нас, победоноснее всех сияет математическая истина, самая строгая из форм вечной истины, – существует прежде субъективного «я» и помимо него… Такими, какими их видит «я» разума, полагая, что они в совокупности своей разумны, вещи в действительности не являются… и никакой Кант… не изменит закона, повелевающего человеку ориентироваться на вещи».
На самом деле Брег хотел вернуться к Канту – но только не отказываясь от идей Гегеля, который возражал своему слишком осторожному предшественнику, указывая на то, что страх впасть в заблуждение тоже есть заблуждение. Брег призывал пересекать трансцендентальные границы. Разве точно известно, спрашивал он, что именно мы открываем мир? Разве не может быть так, что это мир открывает себя нам? Не познаем ли мы только потому, что познают нас? Мы способны думать о Боге, а что если мы сами суть мысли Бога? Иногда Брег самым грубым образом пытался разбить комнату с зеркальными стенами, в которой, по его мнению, заточен современный человек. Он открыто выступал в защиту реализма пред-модернистского толка, реализма одновременно духовного и эмпирического. Обосновывая свою позицию, он утверждал, что, поскольку мы знаем о границах, мы уже их преодолели. Уже потому, что мы познаем познание и чувственно воспринимаем чувственное восприятие, мы вращаемся в пространстве абсолютной реальности. Мы должны, говорил Брег, освободиться от абсолютизма субъекта, чтобы свободно воспринимать реальности Абсолюта.
На этом поле боя, где шла борьба между сторонниками и противниками модернизма, и состоялось первое публицистическое выступление молодого Мартина Хайдеггера. К тому времени он уже был членом «Союза Грааля» – крайне-антимодернистской группы внутри католического молодежного движения, духовный лидер которой, уроженец Вены Рихард фон Кралик, ратовал за восстановление чистой католической веры и римско-католической мировой державы – Священной Римской империи германской нации. Правда, центром новой империи должна была стать держава Габсбургов, а не Пруссия. То есть речь шла, помимо всего прочего, и о новой концепции политического устройства Центральной Европы. В этих кругах грезили о романтическом Средневековье, воспетом Новалисом, и о штифтеровском «мягком законе»[25] бережно хранимых истоков. Но одновременно были готовы со всей жесткостью защищать эту традицию от посягательств со стороны современности и от свойственных новой эпохе соблазнов. Возможность выступить в роли такого защитника представилась молодому Мартину Хайдеггеру в связи с торжествами по поводу открытия памятника Абрахаму а Санкта-Клара, которые состоялись в августе 1910 года в Креенхайнштетгене, небольшой сельской общине в окрестностях Мескирха.
Местный патриотизм мескирхцев всегда зиждился, среди прочего, на почитании памяти знаменитого придворного проповедника Абрахама а Санкта-Клара, который родился в 1644 году в Креенхайнштетгене и умер в 1709-м в Вене. Статьи о нем периодически появлялись в местной печати, и по круглым юбилейным датам в его честь устраивались скромные торжества. Однако в начале нынешнего столетия к этой приятной патриотической традиции примешалась дисгармоничная полемико-идеологическая нота. Южно-германские «антимодернисты» возвели Абрахама а Санкта-Клара в ранг своего кумира и стали ссылаться на него в полемике против католиков-либералов. У этого прославленного монаха-августинца нетрудно было отыскать весьма резкие высказывания по поводу извращенной городской жизни с ее стремлением к пустым удовольствиям, осуждение духовного высокомерия, не желающего склониться перед явленным миру учением Церкви, наконец, выпады против расточительства богатых, с одной стороны, и против пресловутой алчности «евреев-ростовщиков» – с другой. Этот проповедник всегда принимал сторону «маленьких» и бедных людей, с гордостью говорил о своем низком происхождении. Одно из его часто цитируемых высказываний звучало так: «Не у каждого, кто родился под соломенной крышей, в голове солома». Абрахаму а Санкта-Клара были свойственны интерес к социальным проблемам, близость к простонародью, прямодушие, доходящее до резкости, благочестие, напрочь лишенное ханжества, преданность своей малой Родине и антисемитизм – смесь как нельзя более подходящая для того, чтобы ее использовали в своих пропагандистских целях антимодернисты.
Открытие памятника 16 августа 1910 года стало большим народным праздником. Мартин Хайдеггер приехал на него из Мескирха.
Деревню украсили цветами, транспаранты с изречениями проповедника были вывешены из окон и протянуты над единственной улицей. Праздничное шествие тронулось в путь. Впереди – герольды на конях, в исторических костюмах времен Абрахама а Санкта-Клара; за ними – монахи из Бойрона, духовенство и представители местной власти, школьники с пестрыми флажками, девушки с венками на головах, крестьяне в традиционных костюмах. Играл оркестр, произносились речи, ученики бюргерской городской школы Мескирха декламировали стихи и афоризмы Абрахама а Санкта-Клара.
Это событие подробно освещалось в статье, которую Мартин Хайдеггер написал для выходившего в Мюнхене консервативно-католического журнала «Альгемайне рунд-шау». Впоследствии Герман Хайдеггер[26] счел этот текст достойным того, чтобы включить его в полное собрание сочинений философа.
«Атмосфера естественности, здорового веселья, порой с оттенком некоторой грубоватости, придала этому событию отпечаток неповторимого своеобразия. Непритязательная деревня Креенхайнштеттен, с ее упорными, упрямыми, чудаковатыми жителями, раскинулась как бы в полусне на дне глубокой котловины. Даже здешняя колокольня – оригинал. В отличие от других колоколен, ее собратьев, она не смотрит свободно, свысока, на окружающий мир, но, стесняясь своей неуклюжести, прячется меж черно-красными крышами… Торжества по случаю открытия памятника были очень простыми, чистыми и искренними» (D, 1).
Нельзя забывать, что к тому времени, когда Мартин Хайдеггер писал эти строки, он уже успел надышаться воздухом большого города – сначала в Констанце, а потом, с 1906 года, во Фрайбурге. И знал, что отличает его, провинциала, от тех, кто самоуверенно и ловко вращается в городской среде, одевается по моде, умеет порассуждать о вопросах современной литературы, искусства и философии. И прекрасно видел разницу между собственным миром, миром Мескирха и Креенхайнштеттена, с одной стороны, и «внешним» миром – с другой (в осознании этой разницы уже угадывается его позднейшая идея о различии между «подлинностью» и «неподлинностью»). Поэтому строки об открытии памятника могут быть прочитаны и как своего рода автопортрет. Хайдеггер называет колокольню оригиналом, но это определение вполне подходит и к нему самому. Другие люди смотрят на окружающий мир свободно, свысока, тогда как его, уроженца маленького городка, ощущение собственной неуклюжести пригибает к земле, к родной почве, которая его взрастила – сделала таким же упорным, упрямым, чудаковатым, какими бывают все ее дети. Он хотел бы походить на тамошних крестьян – но одновременно и на Абрахама а Санкта-Клара. В личности Абрахама привлекает свойственное простому народу «телесное и душевное здоровье». Этот проповедник производил на людей глубокое впечатление благодаря таким своим качествам, как «сила духа, напоминающая о временах становления католицизма, преданность вере и любовь к Богу». Но он был знаком и с самыми утонченными явлениями духовной культуры своего времени, он овладел этой культурой, не позволив ей овладеть им. Именно потому, как полагал Хайдеггер, он и мог «безбоязненно нападать на любое представление о жизни, которое было слишком приземленным и переоценивало ее посюсторонний аспект». Абрахам а Санкта-Клара знал, о чем говорил. Он не принадлежал к числу тех, кто ругает виноградные грозди только по той причине, что не может до них дотянуться.
В той же статье молодой Хайдеггер выступил против декаданса, который считал отличительной чертой Нового времени. В чем смысл этих упреков? Он говорил об удушающей атмосфере современной эпохи – эпохи «внешней культуры, непомерно ускоренного темпа жизни, разрушающего основы стремления к новизне, мимолетных соблазнов», для которой характерно «безрассудное перепрыгивание через глубинное духовное содержание жизни и искусства» (D, 3).
Перед нами образец расхожих клише критики культуры с консервативных позиций. Так думали и говорили не только в «Союзе Грааля». Подобные высказывания против поверхностности, погони за внешними эффектами, ускоренного темпа жизни и необузданного стремления ко всему новому можно найти, например, в работах Лангбена и Лагарда[27]. Но обращает на себя внимание тот факт, что у молодого Мартина Хайдеггера совершенно отсутствует антисемитизм, очень распространенный в то время у сторонников такого рода взглядов. Это тем более примечательно, что финансирование памятника в Креенхайнштеттене обеспечил не кто иной, как венский бургомистр Карл Люгер, пользовавшийся популярностью именно из-за своих антисемитских взглядов. Удивляет и та уверенность, с которой Хайдеггер в своей статье говорит о «потусторонней ценности жизни», по отношению к коей все перечисленные им феномены современной эпохи являются, по его мнению, предательством. Как это следует понимать, он объяснил в других статьях (недавно вновь найденных и исследованных Виктором Фариасом[28]), которые были написаны в 1910–1912 годах для ежемесячного журнала «Академикер» – органа католического Союза выпускников высших учебных заведений.
В мартовском номере за 1910 год Хайдеггер опубликовал рецензию на автобиографическую книгу датского писателя и эссеиста Йоханнеса Йоргенсена[29], которая называлась «Ложь и правда жизни». В ней путь духовного развития от дарвинизма к католицизму изображался как путь от отчаяния к защищенности, от гордости к смирению, от распущенности к живой свободе. Для молодого Мартина Хайдеггера это был образцовый и потому поучительный путь, ибо автор книги, пройдя через все безумства и соблазны модерна, в конце концов обрел покой и спасение в церковной вере, то есть вернулся к осознанию «потусторонней ценности жизни». Человек избавился от великой иллюзии модерна, которая побуждает «я» к «непрерывному саморазвертыванию», и продемонстрировал на собственном теле и собственной жизни, что тот, кто делает ставку только на себя, ставит свое дело на ничто[30]. «В наши дни много говорят о «личности»… Личность художника выходит на первый план. Много приходится слышать об интересных людях. Денди О. Уайльд, гениальный пьяница П. Верлен, великий бродяга М. Горький, сверхчеловек Ницше – таковы интереснейшие люди. И если кто-то из них в снисшедший час благодати осознаёт великую ложь своей цыганской жизни, разбивает алтарь ложных богов и становится христианином, то его называют «пошлым», «отвратительным»»[31].
В 1930 году Мартин Хайдеггер скажет в своем знаменитом докладе «О сущности истины»: «Свобода сделает нас истинными». В юношеских же статьях он держится прямо противоположного: истина нас освободит. И эта истина не есть нечто, чего человек мог бы достичь, полагаясь на себя, добыть из себя самого. Ее обретают только в живом сообществе верующих с его традициями. Только в рамках такого сообщества возможно «высокое счастье обладания истиной», недостижимое для положившихся на себя. Молодой Хайдеггер следует здесь религиозному реализму своего учителя Карла Брега. Протестантско-пиетистское благочестие чувства пока еще представляется ему слишком субъективным. В рецензии на книгу Ф. В. Фёрстера «Власть и свобода. Размышления о культурной проблеме Церкви» Хайдеггер полемизирует с самовлюбленным погружением в переживания, с мировоззренческим импрессионизмом, выражающим только «личные настроения», а не объективное содержание. Стандартный аргумент в хайдеггеровской критике мировоззрений: они ориентируются на потребности жизни. Тот же, кто стремится к истине, поступает наоборот: он подчиняет жизнь своим прозрениям. Для молодого Хайдеггера решающим критерием истины явно было то, что с ней трудно иметь дело, что ее можно обрести, только владея «искусством самососредоточения и самоотречения (Selbsterraffung und Selbstentauperung)». Истину распознают по тому признаку, что она противится нашему желанию овладеть ею, бросает нам вызов и изменяет нас. Только тот, кто сможет отвлечься от самого себя, тот, кто «достигнет духовной свободы по отношению к миру влечений, найдет истину. Ибо истина есть вызов духу безудержного автономизма». Она проясняет, но она не сама собой ясна. Тьма индивидуального сознания должна склониться перед «религиозно-нравственным авторитетом. Уже один тот – гнетущий – факт, что большинство людей, полагаясь на себя, не находят истину и даже не хотят ее найти, а, напротив, пригвождают к кресту, лишает индивидуалистическую этику всяких перспектив».
Следовало бы обратить внимание на эти доводы, потому что Хайдеггер будет их держаться. Вызов и неудобство останутся для него критериями истины, но позже именно стремление обрести истину под сенью веры будет расцениваться им как «удобный» путь и, следовательно, как предательство по отношению к истине. А тем тяжелым и строгим, на что человек должен пойти, Хайдеггер будет считать свободу, ранее вызывавшую у него подозрения, которая стойко выносит свою метафизическую бесприютность и не дает прикрыть себя прочно сбитыми истинами религиозного реализма.
Инвективы Хайдеггера против «культа личности» отчасти окрашены затаенным чувством обиды: он не мог не знать, что сам был лишен того внешнего обаяния яркой индивидуальности, за которое охотно порицал других. Этот будущий теолог, находившийся на содержании у Церкви, выделялся в кругу гимназистов и студентов университета, которые в основном происходили из зажиточных буржуазных семей, только своей неуклюжестью. Во всех сферах, не связанных с философией, он всегда чувствовал себя неуверенно. К нему будто намертво пристал «запах маленького человека». Так будет и потом. Еще в двадцатые годы некоторые коллеги и студенты в Марбурге, не знавшие Хайдеггера в лицо, принимали его, человека, который к тому времени уже снискал славу «тайного короля философии»[32], за истопника или управляющего хозяйственной частью. Ничего интересного – в том плане, как он это описывал в своей статье, – в нем самом пока не было. Еще не найдя для себя роли, которая производила бы выгодное впечатление, он страшился тех общественных подмостков, где более всего ценились быстродействующие эффекты. Впечатляющие выходки молодых ницшеанцев, собиравшихся в городских кафе, Хайдеггер презрительно называл «энтузиазмом на манер Цезаря Борджиа». Все, что дается легко, все беззаботно-спонтанное он подозревал в поверхностности. Так обычно думает тот, кто еще не нашел подходящей среды для реализации собственных спонтанных побуждений и для которого поэтому «собственное «я»» других, посторонних ему людей становится тягостным бременем. Если Хайдеггер мыслит «истину» как нечто трудное, тяжелое, противящееся, то это есть отражение того сопротивления, которое он ощущает со стороны внешней среды, «мирян», и вопреки которому должен утверждать себя. Дома же эта истина веры перестает быть обременительной и трудной. Рецензия на книгу Йоргенсена заканчивается лирической хвалой чувству защищенности, даруемому католической родиной: «Он (Йоргенсен. – Р. С.) видит в старых городах затененные эркеры, знакомые изображения Мадонны на углах домов, слышит сонное бормотание фонтанов, внимает меланхолическим народным напевам… Над его любимыми книгами словно витает атмосфера немецкого июньского вечера, погруженного в мечтательное молчание. Богоискательская и нашедшая удовлетворение тоска этого человека, который только что обрел христианскую веру, по родине, вероятно, стала мощным ферментом его искусства».
В описанном здесь мире католическая истина – у себя дома. Это мир, неотличимо схожий с Мескирхом. Здесь вера еще является необходимой частью жизненного уклада, и чтобы воспринять ее, не требуется ни самососредоточения, ни самоотречения. Но когда человек со своей верой попадает в чуждую среду, помочь ему могут только дисциплина и логика. В таком случае перед любой верой разверзается пропасть. Как эту пропасть преодолеть? Молодой Хайдеггер делает ставку на традицию и дисциплину. Позднее он предпочтет решимость[33]. Еще позже – отрешенность[34].
Но в 1910 году Хайдеггер еще был уверен, что «сокровище истины», бережно хранимое Церковью, – это дар, а не скопленное нами имущество, которым мы могли бы свободно распоряжаться. Вера в это сокровище истины – не просто чувство. Религия, основанная только на внутреннем переживании, как ее толковал Шлейермахер[35], Брегу и его ученику Мартину Хайдеггеру казалась уступкой современному субъективизму. Они видели в вере не сентиментальное утешение, а обращенное к человеку жесткое требование. Неудивительно, что просвещенный мир воспринимает веру как вызов, – она и в самом деле есть вызов. Вера, например, требует, чтобы человек ради «истины» отказался от такой психологики, которая предполагает максимально полное раскрытие личности, предоставление полной свободы чувствам. Вот как говорит об этом молодой Хайдеггер: «И если ты хочешь жить духовной жизнью, обрести высшее блаженство, то умри, умертви в себе все низменное, пусть все твои поступки будут проникнуты сверхъестественным милосердием – и тогда воскреснешь» (Per mortem ad vitam, 73).
Такое благочестие лишено какого бы то ни было умиления по поводу родных мест. Оно готово по собственной воле сделать свое существование тяжелым, оно не хочет позволить себе никакой расслабленности в духе шлейермахеровского «чувства», не хочет и деградировать, превращаясь просто в прибежище внутренней сущности верующего. «Дух Божий на земле» Хайдеггер в то время намеревался искать совсем в иных сферах. Слова Брега – «здесь, у нас, победоноснее всех сияет математическая истина, самая строгая из форм вечной истины» – послужили ему ориентиром. В одной из своих статей, опубликованных в «Академикер», Хайдеггер писал: «Строгая, ледяная логика не совместима с чувствительной современной душой. Наше «мышление» уже не способно втискивать себя в неизменные и вечные рамки логических принципов. Мы от них устали. Для строго логического мышления, которое герметически отгораживает себя от любого аффективного воздействия со стороны человеческой натуры, для всякой по-настоящему беспристрастной научной работы потребен определенный запас этической силы, искусство самососредоточения и самоотречения».
Здесь подразумевается та же сила, которая потребна и для самопреодоления, саморазвития веры. Авторитаризм веры и объективность строгой логики для Хайдеггера едины. Это просто разные виды сопричастности вечному. Но и они тоже неразрывно связаны с чувствами, причем очень возвышенными. Только подчиняя веру и логику строгой дисциплине, можно удовлетворить стремление к обретению «завершенных и завершающих ответов на конечные вопросы бытия – вопросов, которые иногда внезапно вспыхивают, а потом, нерешенные, в течение многих дней лежат свинцовым грузом на истерзанной душе, не ведающей ни цели своей, ни своего пути».
Если Хайдеггер в «Автобиографии» 1915 года упоминает о том, что «овладел формальной логикой», вскользь, как если бы речь шла всего лишь о каком-то пропедевтическом курсе, то он явно преуменьшает действительную значимость для него этой дисциплины. Потому что на самом деле формальная и математическая логика были тогда в его представлении своего рода служением Богу: логика приобщала его к вечному, в ней он находил опору, помогающую прокладывать путь через зыбкие хляби жизни.
В 1907 году Конрад Грёбер подарил своему ученику диссертацию Франца Брентано «О множественности значений сущего у Аристотеля». В этой работе Хайдеггер нашел то, что называл «строгой, ледяной логикой», – интеллектуальную пищу для сильных духом, тех, кто не желает жить, ориентируясь лишь на собственные мнения и чувства.
Примечательно, что Конрад Грёбер, служитель Церкви и человек, неукоснительно подчинявшийся церковной дисциплине, выбрал в качестве подарка именно этот текст. Дело в том, что Франц Брентано (1838–1917)[36], племянник писателя-романтика Клеменса Брентано[37], был философом, который хотя и подчинял поначалу, как католический священник, философию вере, но после «Собора непогрешимости» 1870 года вступил в конфликт со своим начальством. В конце концов он вышел из лона Церкви, женился и из-за всего этого был вынужден оставить место профессора в Венском университете. До 1895 года он продолжал преподавательскую деятельность, уже в качестве приват-доцента, а затем, почти ослепнув, уехал в Венецию.
Брентано был учителем Гуссерля и одним из основоположников феноменологии. Ему не давал покоя вопрос о способе бытия Божия. Если Бог существует, то что, собственно, означает это «существует»? Бог – только представление, сформировавшееся в нашем уме? Или Он существует вне нашего сознания, в мире, как воплощение последнего, то есть как его высшее бытие? В ходе тончайшего анализа Брентано обнаружил, что имеется нечто третье между субъективными представлениями и вещами как «в себе покоящимся бытием» (An-sich der Dinge): а именно, «интенциональные объекты». По мнению Брентано, представления не являются чем-то исключительно внутренним (Inwendiges), a всегда суть представления «о чем-то». Они – результат осознания чего-то существующего, что «есть» или, точнее, что дается и представляется нам. Эти внутренние «интенциональные объекты» суть нечто, а это значит: их нельзя растворить в чисто субъективных актах, посредством которых мы вступаем в отношения с ними. Так Брентано выделяет целый самостоятельный мир сущего, который занимает промежуточное положение в обычной схеме «субъект – объект». В этом мире «интенциональных объектов» Брентано локализует и наше отношение к Богу. Здесь «пребывает» Бог. Наше представление о Боге не поддается проверке на реальных объектах нашего опыта, но оно и не опирается на абстрактные общие понятия, такие, как «высшее благо», «высшее сущее» и прочее. Брентано исследует понятия бытия в трудах Аристотеля, чтобы показать: Бог, в Которого верят, не является тем Богом, Которого мы хотим обрести на пути абстрагирования, вывести из полноты сущего. Вслед за Аристотелем Брентано демонстрирует, что такой полноты, «целого», строго говоря, не существует. Существуют лишь отдельные вещи. Не существует протяженности самой по себе – существуют лишь вещи, обладающие протяженностью. Существует не любовь, а лишь многочисленные отдельные «события любви». Брентано предостерегает от ошибочных попыток приписывать вещам-понятиям субстанциональность. Субстанция – не в общих понятиях, а в отдельных конкретных вещах. Вещам присуща «интенсивная бесконечность», поскольку они связаны друг с другом бесконечным множеством отношений, – и потому их можно рассматривать (давать им определения) с бесконечно многих точек зрения. Мир неисчерпаем, но он раскрывается только в деталях и в многообразных градациях видов бытия. Франц Брентано мыслит Бога пребывающим в деталях.
Вслед за Аристотелем Брентано измеряет пространство мыслимого, благодаря чему вера, которая для Брентано сохраняет свою силу, оказывается защищенной от попыток подвергнуть ее неприменимому в данной сфере логическому анализу. Вера покоится на ином фундаменте, нежели логические доводы, однако, как показывает диссертация Брентано, в принципе возможно точно описать, что, собственно, представляет собой акт веры – в отличие, например, от суждений, представлений или восприятия. В этой работе очерчены контуры феноменологической программы исследований на ближайшие годы.
Чтение диссертации Брентано оказалось для Мартина Хайдеггера тяжелым упражнением. Он рассказывает, как мучился с этой работой в Мескирхе, во время каникул: «Когда загадки теснили друг друга и не было выхода из тупика, тогда на подмогу приходил идущий полем проселок». Молодой человек садился с книжкой на скамью под дубом, и многие проблемы, которые прежде казались неразрешимыми, становились для него простыми. «… широта всего, что выросло и вызрело в своем пребывании возле дороги, подает мир. В немотствовании ее речей… Бог впервые становится Богом» (Проселок).
Через Франца Брентано Хайдеггер пришел к Эдмунду Гуссерлю[38], чьи «Логические исследования», вышедшие как раз на рубеже веков, стали для него постоянным чтением, предметом личного культа.
Два года хранил он у себя в комнате эту книгу, выданную в университетской библиотеке, где до поры до времени никто не спрашивал о том, чем именно сей труд мог пробудить в нем такую сильную и вместе с тем эксклюзивную страсть. Даже пятьдесят лет спустя он не мог без волнения думать об этой книге: «Труд Гуссерля так захватил меня, что я в последующие годы вновь и вновь возвращался к нему… Волшебство, которое исходило от этой книги, распространялось даже на внешний вид ее страниц и титульного листа…» (Z, 81).
У Гуссерля Хайдеггер нашел энергичную защиту логики (значимости принятых в ней постулатов) от попыток доказать с позиций психологии ее относительный характер. В статье 1912 года Хайдеггер так определил суть этой проблемы: «Для того чтобы осознать всю абсурдность и теоретическую бесплодность психологизма, главное – уметь проводить различие между психическим актом и логическим содержанием, между реальным мыслительным процессом, протекающим во времени, и идеальным вневременным тождественно единым смыслом, короче говоря, различие между тем, что «есть» и тем, что «имеет какое-то значение (gilt)»» (GA I, 22).
Проведя различие межу «психическим актом» и «логическим содержанием», Гуссерль в начале нашего века разрубил гордиев узел спора о психологизме. Правда, сделано это было настолько изящно, что лишь очень немногие – но молодой Хайдеггер был в их числе – поняли суть происшедшего. На поверхностный взгляд речь шла о сугубо философской проблеме, в действительности же спор касался противоречивых тенденций и конфликтов всей нашей эпохи.
К 1900 году философия находилась в бедственном положении. Естественные науки в союзе с позитивизмом, эмпиризмом и сенсуализмом, можно сказать, перекрыли ей дыхание.
Ощущение триумфа наук опиралось на точные знания о природе и ее техническое освоение человеком. Организованные опытные наблюдения, эксперименты, формирование гипотез, проверка результатов, индуктивные методы – такими стали компоненты логики научного исследования. Люди отвыкли задавать себе старый и почтенный философский вопрос «Что это?». Как известно, он уводит в необозримые дали, а поскольку человек уже перестал воспринимать себя как часть бесконечного, он был не прочь избавиться и от «необозримого». Тем современным ученым, которые уже считали себя «функционерами» исследовательского процесса, гораздо более многообещающим казался вопрос «Как это функционирует?». При таком подходе можно было получить некий осязаемый результат – чтобы потом заставить вещи (а может быть, и людей) функционировать в соответствии с концепцией исследователя.
Но ведь и рассудок, с помощью которого мы «запускаем» весь этот процесс, тоже является частью природы. Значит, его нужно, как полагали самые честолюбивые, исследовать посредством той же методики, которая применяется для изучения «внешней» природы. Поэтому в конце прошлого века возникла – в тесной связи с такими науками, как физиология и химия мозга, – новая, если можно так выразиться, «естественная наука» о психических феноменах – экспериментальная психология.
Главный принцип этого нового исследовательского подхода состоит в том, чтобы разыгрывать из себя идиотов и поступать так, будто мы вообще ничего не знаем о психических феноменах, будто их должно и можно наблюдать только извне, пользуясь позитивистскими и эмпирическими методами. Желательно объяснять, а не понимать эти феномены, выявлять в них закономерности, а не смысл. Ведь понимание делает нас «сообщниками» объекта нашего исследования. А это мешает нам четко отделить его от себя. Сторонникам опытно-научного подхода в психологии (как и в других областях знания) требуется «стерильно-чистый» объект, причем анализируют они не «смысл», а «механизмы» психических феноменов: законы превращения физиологических раздражителей в представления, регулярные ассоциативные структуры в комплексах представлений и, наконец, сами законы мышления, то есть «логику».
Рассматриваемая под таким углом зрения, «логика» предстает как естественный феномен психики. Именно в этом и заключается «проблема психологизма». Ведь естествоиспытатели, исследующие психические феномены, делают из «логики», этого свода правил мышления, естественный закон мышления, упуская из виду, что логика эмпирически описывает вовсе не то, как мы мыслим, а то, как мы должны мыслить, если хотим выработать суждения, претендующие на истину (к чему, собственно, и стремится любая наука). Анализируя же мышление как естественный психический феномен, наука попадает в щекотливое и противоречивое положение. Наука исследует мышление как закономерно протекающий процесс, но если бы она обратила внимание на саму себя, то сразу бы обнаружила, что ее собственное мышление вовсе не является закономерно протекающим процессом. Это мышление не определяется законами, а ориентируется на определенные правила.
Да и в широкой сфере «мыслимого» логика выступает не как естественный закон, но как нечто, что значимо лишь постольку, поскольку мы сами придаем ему значимость.
Как известно, понятие «закон» имеет двоякий смысл: с одной стороны, «законом» называется то, что регулярно и в силу необходимости происходит именно так, как происходит; с другой – регулирующий механизм, предписывающий некоему процессу определенный ход. В первом случае речь идет о законах бытия, во втором – о законах долженствования. В одном случае законы описывают то, что есть, во втором – предписывают нечто.
Гуссерль в своих исследованиях стремился к тому, чтобы освободить логику от натурализма и вновь привлечь внимание к ее нормативному, а значит, духовному характеру. Конечно, логическая работа совершается и в человеческой психике, но она есть одно из нормативных порождений психики, а вовсе не естественный закон психической деятельности.
Однако за этим разъяснением сразу же встает другая проблема: каково соотношение между психическим актом и его результатом, между генезисом мысли и значимостью ее содержания.
Когда мы считаем: «Два плюс два равно четырем», – это есть психический акт, но утверждение «два плюс два равно четырем» сохраняет свою значимость и в том случае, если никакого психического акта не совершается. Результат счета претендует на некую значимость, независимо от того, в какой голове «прокрутилась» упомянутая мысль. Тот, кто занимается подсчетом или производит еще какие-то логические операции, на время становится сопричастным – не побоимся того, что это звучит в духе Платона, – к транссубъективному царству духа. Имеющиеся в этом царстве сферы уже накопленных значений и смыслов при совершении мыслительных актов (которые могут быть описаны как психические процессы) актуализируются и используются.
Однако формулировка, согласно которой логика не является естественным законом мышления, а относится к идеальной сфере значимого, двусмысленна, ибо может быть понята так, что «значимости» суть результат некоей прагматической договоренности. Между тем мы, к примеру, не договаривались о логике силлогистических умозаключений и не объявляли ее «правильной» – она является правильной. «Все люди смертны. – Сократ человек. – Следовательно, Сократ смертен», – очевидно, что такой способ построения умозаключений правилен; он обладает значимостью. Однако сказанное отнюдь не означает, что построенные таким способом суждения эмпирически всегда оказываются правильными. Будут ли они правильными или нет, зависит от того, правильны ли посылки («Все люди смертны»…). Мы можем, строя правильные по форме умозаключения, плодить сколь угодно много ошибочных суждений (скажем, если бы в качестве посылки мы выбрали фразу «Все люди – чиновники», то пришли бы к выводу, что чиновником был и Сократ). Поэтому нельзя утверждать и того, что, если бы мы приучили себя к логическому способу построения умозаключений, это помогло бы нам добиться новых успехов в познании. Умение строить силлогизмы не поможет нам достичь успехов в плане эмпирического познания – наоборот, в этой сфере оно гораздо чаще вводило нас в заблуждение, нежели помогало. Следовательно, такого рода силлогизмы не поддаются проверке опытным путем; они, как и любая логическая операция, просто самоочевидны.
Чем больше углубляешься в эту самоочевидность логики, тем более загадочной она представляется. От простого анализа силлогизма ты внезапно переносишься в волшебное царство духа, торжествующего над всеми попытками редуцировать его, сведя к прагматической, биологической, натуралистической или социологической основе.
Но именно эпоха, начавшаяся в середине XIX века, находясь под сильным впечатлением от практических успехов эмпирических наук, развила в себе подлинную страсть к редуцированию, к изгнанию духа из сферы научного познания.
Ницше поставил диагноз этому столетию: оно добросовестное и честное, но в плебейском смысле. Оно покорно действительности любого рода. Однако освободилось от господства идеалов и повсюду инстинктивно ищет теории, пригодные для оправдания его добровольного подчинения диктату действительности. Ницше прекрасно видел отрицательные стороны такого реализма: его мещански-«бидермейеровский» аспект, свойственное ему малодушие. Но упустил из виду то, что восторжествовавший в середине XIX века реализм подчинялся действительности лишь затем, чтобы полнее овладеть ею и преобразовать ее по-своему. «Воля к власти», которую Ницше приписывал «свободному духу», торжествует как раз не на «вершинах», где нашел свое пристанище «сверхчеловек», а в совершающейся с муравьиным усердием повседневной работе той цивилизации, что ставит науку на службу своему практическому разуму. Сказанное относится не только к буржуазному миру, но и к рабочему движению, популярный лозунг которого гласил: «Знание – сила!». Считалось, что получение образования обеспечит продвижение вверх по социальной лестнице и что образованный человек не поддастся никакому обману: того, кто хоть что-то знает, уже не так легко ввести в заблуждение; самое впечатляющее в знании – то, что обладающий знаниями человек не позволит другому произвести на него нужное этому другому впечатление, не поддастся чужому влиянию. От научного прогресса ждали расширения свободы личности, он отвечал потребности «принизить» все вещи, низвести их до собственного, по возможности как можно более убогого уровня.
Поразительно, что с середины XIX века, после идеалистических взлетов и парений абсолютного духа, вдруг повсюду обнаружилось желание принизить человека, представив его «маленьким», ничтожным существом. Именно тогда начала свой победоносный путь пресловутая формула «человек есть не что иное, как…». В эпоху романтизма весь мир начинал петь, стоило кому-нибудь найти волшебное слово. Поэзия и философия первой половины XIX века были захватывающим проектом поисков или изобретения все новых волшебных слов. Та эпоха требовала новых, проникнутых душевным подъемом смыслов.
Матадорами на этой волшебной арене духа были титаны рефлексии – но, увы, они появились в тот самый миг, когда в проходах уже стояли реалисты с их инстинктом правдоподобия, вооруженные формулой «не что иное, как…». Реалисты, подобно наивным детям, сначала подняли неимоверный шум и перевернули все вверх дном, а потом пришло время уборки, началась «серьезная жизнь», об обустройстве которой они же – реалисты – и позаботились. Этот реализм второй половины XIX века произведет странный фокус: о человеке будут думать как о «маленьком человеке», но в то же время затевать с его помощью «великие дела» – если, конечно, понятие «великие дела» в принципе приложимо к современной «научной» цивилизации, из которой все мы научились извлекать ту или иную выгоду.
Итак, реализация проекта «модерна», или современной цивилизации, началась с мироощущения, которому все безудержное и фантастическое было совершенно чуждо. Но даже самая безудержная фантазия не могла тогда додуматься до того, какие чудовищные кошмары породит в скором будущем дух позитивистского отрезвления.
Приблизительно в середине прошлого столетия материализм самого грубого толка завершил работы по – если можно так выразиться – осушению болота немецкого идеализма. Сочинения распорядителей этих работ в одночасье стали бестселлерами. Всплыли на поверхность «Физиологические письма» Карла Фохта[39] (1845) и его же полемическая брошюра «Вера углежогов и наука» (1854), «Вращение жизни в природе» Якоба Молешотта[40] (1852), «Сила и материя» Людвига Бюхнера[41] (1855) и «Новое изложение сенсуализма» Генриха Чольбе (1855). Чольбе выводил этику такого материализма из игры физических сил и деятельности желез и характеризовал противоположное ей мировоззрение следующим образом: «Стремление улучшить познаваемый мир посредством придумывания мира сверхчувственного и превратить человека, приписывая ему наличие какой-то недоступной для чувственного восприятия части, в существо, возвышающееся над природой, свидетельствует о… самонадеянности и тщеславии. Несомненно, недовольство миром явлений, эта глубинная основа представлений о сверхчувственном, есть… нравственная слабость». Чольбе завершает свою работу призывом «Будь доволен данным тебе миром!». И действительно, представители этого направления не сомневались, что им «дано» все! Весь мир становления и бытия для них сводился к хаотическому кружению молекул и преобразованиям энергий. То есть к миру атомиста Демокрита. Им больше не нужны были ни «Nous» Анаксагора, ни «идеи» Платона, ни Бог христиан, ни «субстанция» Спинозы, ни «cogito» Декарта, ни «Я» Фихте, ни «Дух» Гегеля. Тот же «дух», что живет в конкретном человеке, они считали не более чем функцией головного мозга. По их мнению, мысли относятся к мозгу так же, как желчь – к печени, а моча – к почкам. Такие мысли должны быть «мутноватыми», подал, ироничную реплику Герман Лотце[42], один из последних представителей некогда славного племени метафизиков. Лотце пытался – впрочем, безуспешно – обратить внимание материалистов на то, что они совершают самоубийственный прыжок в бездну глупости. Он напоминал о Лейбнице, который уже разъяснил всю проблему материализма – особенно вопрос о соотношении тел и сознания – в полемике с Гоббсом: если нечто основывается на чем-то, то это как раз и означает, что одно не тождественно другому, – потому что, если бы они были тождественны, между ними не существовало бы различия. Жизнь людей, утверждал Лейбниц, основывается на дыхании и именно потому не может быть сведена к воздуху.
Однако победное шествие материализма уже невозможно было остановить умными возражениями – прежде всего потому, что к материализму примешивалась особая метафизика: вера в прогресс. Если все вещи и саму жизнь разложить на их элементарные составные части, говорили сторонники этого учения, то откроется тайна функционирования природы. А узнав, как устроены и как действуют природные механизмы, мы научимся их воспроизводить.
Так работает сознание, намеревающееся раскрыть все «мошенничества», в том числе и природы, которую оно собирается застигнуть – с помощью эксперимента – «на месте преступления», чтобы потом, уже зная, как она действует, инкриминировать ей злостное промедление.
Эта духовная позиция во второй половине XIX века дала толчок к формированию марксизма. В процессе кропотливой ювелирной работы Маркс препарировал тело общества и извлек из него душу – капитал. В итоге он так и не сумел до конца прояснить вопрос, имеет ли мессианская миссия пролетариата (идея такой миссии – вклад Маркса в немецкий идеализм, существовавший до 1850 года) хоть какой-то шанс на успех в борьбе против железных закономерностей капиталистического общества (исследование коих стало вкладом Маркса в детерминистскую философию, распустившуюся пышным цветом уже после 1850 года). Маркс тоже желает раскрывать «мошенничества», только на сей раз на ниве «идеологической критики». По его мнению, мысли не порождаются мозгом, как считало великое множество философствовавших физиологов и зоологов, а выделяются, подобно поту, из пор общества. Этот обществовед и идеолог тоже хотел лишить волшебного ореола странный феномен обособленности духа. Все крестовые походы материализма были направлены против смысловых ценностей.
В 1866 году появился классический труд Ф. А. Ланге[43] «История материализма», резко критиковавший обозначенную в его заглавии духовную традицию. Нельзя сказать, что эта книга осталась незамеченной. Она оказала сильное влияние на Ницше, и хотя позже философия последнего, известная как «философия жизни», произвела эффект разорвавшегося снаряда и уничтожила некоторые, самые нелепые, элементы материализма, все-таки именно Ланге был тем человеком, который поднес к пушке фитиль. Тот же Ланге наставил на путь истинный и неокантианцев, о которых у нас еще пойдет речь, ибо молодой Хайдеггер вращался в их среде.
Основная идея Ланге – необходимость восстановить четкое кантовское разграничение между явленным миром, законы коего поддаются анализу (тем миром, к которому частью своего существа принадлежим и мы – как вещи среди вещей), и другим миром (тоже проникающим в нас), который прежде называли «миром духа» и который Кант предложил называть «свободой», когда речь идет о внутренней жизни человека, и «вещью в себе», когда речь идет о внешнем мире. Ланге напоминает о кантовском определении природы: природа – это не та сфера, где действуют законы, которые мы называем природными, или естественными, а нечто противоположное. Когда мы рассматриваем нечто с точки зрения таких законов, мы конституируем это «нечто» как явленную «природу»; рассматривая то же «нечто» с точки зрения спонтанности и свободы, мы оказываемся в мире «духа». Обе точки зрения возможны и необходимы, но, главное, они не конвертабельны. Мы можем анализировать самих себя как вещь среди вещей, мы можем даже, подобно Гоббсу, рассматривать себя как некую машину, но мы должны выбрать одну из двух перспектив – мы, следовательно, достаточно свободны, чтобы превращать себя в машины. Мы – составная часть явленного мира, то есть природа, функционирующая по определенному закону, вещь среди вещей; но вместе с тем каждый из нас ощущает в себе спонтанность свободы. Свобода есть открывающая себя в нас тайна мира, оборотная сторона зеркала явлений. «Вещь в себе» – это мы сами в нашей свободе; сердцевина всех определений – это то измерение, в котором мы сами способны определять себя.
Эту кантовскую двойную перспективу – человек есть вещь среди вещей и вместе с тем свобода – Ф. А. Ланге вновь вводит в живой философский дискурс. Материализм как естественно-научный исследовательский метод, говорит он, вполне допустим. Естественно-научное познание должно осуществляться так, как если бы существовала только материальная реальность. Если же оно где-нибудь запнется в своих объяснениях, то не вправе использовать «дух» в качестве затычки для интеллектуальных дыр. Ибо «дух» – не отдельное звено в причинно-следственной цепи, а уж скорее обратная сторона всей этой цепочки. С помощью естественно-научных методов можно, конечно, изучать физиологию психических феноменов, но при этом нельзя забывать, что таким образом постигается не само духовное, а только его материальные эквиваленты. Ланге критикует не естественно-научные методы как таковые, а лишь абсолютизирующую их ложную философию, представление о том, что анализ res extensa[44] позволяет исчерпывающим образом познать человеческую природу. Дело в том, что тот, кто привык мыслить в категориях пространства, очень легко поддается ложному впечатлению, будто все существующее находится в каком-то конкретном месте пространства или, по крайней мере, в структуре, которая может быть изображена как пространственная.
Большая заслуга Ф. А. Ланге заключается в том, что он показал: подобно тому, как существует «точка кипения» идеализма, при достижении коей всякий дух «испаряется», становится неуловимым, существует и «точка замерзания» материализма, предел, на котором всякое движение замирает – если только сторонники материализма не протаскивают в свое учение тайком, в замаскированном виде представление о духе, который называют, скажем, «жизненной (или витальной) силой», хотя никто из них толком не знает, что это такое. Будучи противником как идеалистического «выпаривания» духа, так и материалистического «замораживания» мысли, Ланге ратует за позицию «как одно, так и другое», то есть признает существование и духа, и материи.
Ланге защищает метафизику, предлагая ее своим современникам «по сниженной цене». В его представлении метафизика есть не что иное, как выдумывание понятий, просветляющий сознание коктейль из поэзии и знания. Точно так же обстоит дело и с религией. Претендуя на обладание знанием о Боге, душе и бессмертии, она тем самым подставляет себя под удары научной критики, противостоять которым уже не в силах. Ей необходимо «выровнять линию фронта». Религия, этот аванпост идеализма, должна гордиться не тем, что знает истину, а тем, что создает ценности и с их помощью преобразует действительность. Истина пусть пребывает в сфере эмпирического знания, для духа же останутся ценности. Однако Ницше очень скоро покончит с предложенной Ланге идеей мирного сосуществования истины и ценностей: он просто сделает шаг вперед и подчинит истину ценностям. Ланге хотел спасти ценности от натиска истин, Ницше же, напротив, считал, что истины поглощаются витализмом ценностных предпочтений. То есть, по мнению Ницше, истина – всего лишь такая иллюзия, с которой мы чувствуем себя комфортно и которая нам полезна. Другие мыслители, в свою очередь, будут определять ценности просто как «положения вещей» (Sachverhalte), характерные для той или иной культуры; Риккерт[45] первым заговорит об «отнесении [тех или иных вещей] к ценностям» и введет термин Wertverhalte (буквально: «положения ценностей»). Ценности можно описывать в культурологической перспективе или говорить о них в историческом контексте. «Значимость» (Gelten) значит что-то лишь тогда, когда она воплотилась в нечто фактическое. Значить что-то может лишь то, что уже сделалось значимым. Эта мысль станет ключевым тезисом историцизма.
Ф. А. Ланге еще ищет компромисса. Материализм, по его мнению, должен разделить свою власть с миром духа: «Кто захочет оспаривать мессу Палестрины или уличать в заблуждении мадонну Рафаэля? Gloria in excelsis[46] останется всемирно-исторической силой и будет звучать еще столетия – пока человеческие нервы не утратят способности испытывать трепет перед возвышенным. Простая и фундаментальная мысль о том, что отдельный человек спасется, отринув своеволие и склонившись перед Волей, которая управляет всем миром; образы смерти и воскресения, выражающие самое волнующее и возвышенное из того, что потрясает человеческую душу… наконец, те учения, которые побуждают нас преломить хлеб с голодным и принести благую весть несчастному – все это не может исчезнуть навеки, чтобы уступить место обществу, которое сочтет свою цель полностью достигнутой, если, скажем, силою разума ему удастся создать лучшую полицию или посредством все новых изобретений удовлетворять растущие потребности своих граждан».
Присутствие такого рода идеализма должно привести в равновесие цивилизацию, развивающуюся за счет прогресса науки и техники. Речь идет об идеализме «как если бы». Дело в том, что упоминаемые Ланге традиционные ценности в наше время потеряли прежде присущие им достоинство и бытийную мощь, поскольку в них признали творения человека, а не высших сил. Идеал оказался только идолом, сверкающей мишурным блеском подделкой. Идеалисты хотя и упорствуют в своей приверженности добру и красоте, но даже в этом упорстве, независимо от их желания, угадывается отсутствие подлинной серьезности. Они высказывают свои «догматы веры» с улыбкой авгуров на устах, как будто скорее желают поддержать благочестие в других, нежели веруют сами. Философским бестселлером рубежа веков, красноречиво выразившим этот просветительски-бюргерский фривольный настрой, стало сочинение Ханса Файхингера «Философия как если бы». В этой работе ценности характеризуются как полезные фикции. Ценности выдумываем мы сами, но если они помогают в теоретическом и практическом решении наших жизненных задач, то обретают значение, которое принято называть «объективным».
Этим «как если бы» была проникнута вся эпоха Вильгельма II. Людям вдруг стало нравиться неподлинное. Наибольшее впечатление производили подражания. Любой использовавшийся в строительстве материал прикидывался чем-то более ценным, чем был на самом деле. То было время «обманок»: мрамор при ближайшем рассмотрении оказывался раскрашенным деревом, блестящий алебастр – гипсом. Новое должно было выглядеть на манер старого: греческие колонны украшали фасад биржи, фабричное здание напоминало средневековый замок, возводились даже искусственные «руины»… Увлечение историческими ассоциациями приводило к тому, что судебные помещения походили на Дворец дожей, в обычных буржуазных квартирах можно было увидеть стулья эпохи Реформации, оловянные чаши и оклады книг из типографии Гутенберга, служившие коробками для рукоделия. Да и сам император Вильгельм был «не вполне настоящим»: в его «воле к власти» главенствующую роль играла именно «воля», а не реальная власть. Философия «как если бы» требовала инсценировок, жила ими. Никто не понимал этого так ясно, как Рихард Вагнер, который привлекал все средства театрального волшебства, чтобы спасти свое время – но, разумеется, спасти лишь на краткий срок, понарошку, «как если бы»… Все это совмещалось с весьма и весьма реалистическим, деловым настроем. Именно потому, что настрой этот был столь очевидно приземленным, деловитым, его приходилось приукрашивать, подгримировывать, задрапировывать, подшлифовывать и т. п. – чтобы он производил впечатление чего-то более значимого. В конце концов даже заправилы официальной германской политики сделали ставку на значимость – значимость Германии как мировой державы. Ведь если твоя значимость уже признана, тебе больше не нужно прилагать усилий, потребных для того, чтобы обрести какое-то реальное значение.
Это смешение реалистических установок, с одной стороны, и настроений в духе «как если бы» – с другой, проторило путь для проникновения в Германию американского прагматизма – идей Уильяма Джемса[47] и Чарльза Пирса[48]. Прагматизм, как известно, отказывается от поисков абсолютной истины. Истина уже не рассматривается, как прежде, в ее неразрывной связи с миром идей, а низводится до положения одного из социальных принципов саморегулирования того или иного процесса развертывающейся во времени деятельности. Критерием истины становится практический успех; это относится и к так называемым «ценностям». Теперь свидетельством их подлинности считается уже не сомнительное и никогда в достаточной степени не доказуемое соответствие идеальному бытию, а способность производить какой-то практический результат. «Дух» – это то, что он производит. Прагматизм заменяет прежнюю, «корреляционную» теорию истины теорией эффективности. Теперь уже не приходится бояться заблуждений, потому что после исчезновения объективного критерия истины заблуждение впервые утратило свое онтологическое качество греховности: во-первых, саму «истину» можно определить как такое заблуждение, которое приносит пользу; во-вторых, заблуждения – просто звенья необходимого процесса экспериментирования. Если собака, держащая в зубах длинную палку, хочет пройти в дверь, она будет вертеть головой до тех пор, пока это не получится. То есть она прибегнет к методу проб и ошибок; как эта собака рано или поздно протиснется в дверь, так и человек в конце концов пройдет через врата истины – но только истина будет уже не той, что прежде: она утратит свою способность внушать благоговение. Ибо в описанном случае речь идет об удовлетворении практических интересов, а не о стремлении к точному и достоверному знанию (то есть не о духовной позиции фанатично преданного своему делу ученого, в которой, как известно, всегда присутствуют в скрытом виде остатки религиозного мировосприятия). Прагматизм заменяет examen rigorosum[49], которому подвергает человека метафизика, обыкновенным практическим занятием, одним из многих. Он ослабляет целеустремленную напряженность тевтонской мысли, всегда ориентирующейся на целое, и способствует самоуспокоению, предлагая новый нравственный постулат: мы все постоянно впадаем в заблуждения! «Наши заблуждения, – говорит Уильям Джемс, – в конечном счете не так уж и значимы. В мире, где мы, как бы ни были предусмотрительны, все равно не в силах их избежать, определенная доля беззаботного легкомыслия кажется куда более здоровым началом, нежели преувеличенный нервозный страх».
В ту эпоху заявила о себе и еще одна мощная тенденция, способствовавшая подобной беззаботности: эволюционистская биология, основанная на открытиях Дарвина. Согласно этому учению, не только мы, люди, но и сама природа действует методом проб и ошибок. Мутации возникают в результате ошибочной передачи наследственной информации. Происходят отклонения в цепочке видов, имеет место случайная изменчивость. Фактором селективного отбора становится успешное приспособление к наличным условиям существования. Сохраняется то, что выдерживает все испытания. Таким образом – посредством случайных мутаций и селективного отбора в ходе борьбы за выживание – природа, не целясь, «попадает в яблочко». Природа, как и человек, постоянно ошибается. С открытием законов мутации и селекции, казалось, была решена кантовская проблема телеологии природы – решена без необходимости прибегать к понятию «цели» (telos). Слепой случай управляет эволюцией природы, но результаты выглядят так, как если бы процесс этот был подчинен некоей цели. Пусть Бог и не бросает кости, чтобы посмотреть, выпадет ли чет или нечет, – но уж природу-то, как тогда казалось, наверняка можно застигнуть врасплох за этим занятием. Эволюционистская биология воспринималась в то время как убедительнейшее оправдание метода, предполагавшего движение через анархию к порядку, через заблуждения и ошибки – к успеху; и придавала почти неопровержимую очевидность принципу, согласно которому истина есть не что иное, как практический успех.
В конце прошлого века Вернер фон Сименс[50] устроил в цирке Ренца, самом вместительном берлинском зале для публичных выступлений, праздничное гала-представление для ученых-естествоиспытателей, которые хотели отметить приближение нового столетия. В своей вступительной речи известный предприниматель впечатляющим образом охарастеризовал дух этой новой, как он выразился, «естественно-научной эпохи»: «Итак, господа, мы никому не позволим поколебать нашу веру в то, что наша исследовательская и изобретательская деятельность поможет человечеству подняться на более высокие ступени культуры, облагородит его и сделает более склонным к идеальным устремлениям; что наступающая естественно-научная эпоха уменьшит нищету и смягчит воздействие болезней, даст человеку больше возможностей наслаждаться жизнью, сделает его более добрым, счастливым и довольным своей судьбой. И пусть мы не всегда ясно видим путь, ведущий к этому лучшему будущему, мы все же не хотим отступать от нашего твердого убеждения в том, что свет истины, которую мы исследуем, не приведет нас на ложные пути и что полнота власти, коей эта истина облекает человечество, не будет способствовать пробуждению в человеческой душе низменных качеств, а, напротив, поднимет всех нас на более высокую ступень бытия».
Успех на этом поприще зависит, среди прочего, и от умения разумно ограничивать свои духовные потребности, направляя стремление к познанию на близлежащее – пусть и незримое, но относящееся не к потустороннему, а к нашему миру: например, на микрологию клеток или макрологию электромагнитных волн. В обоих случаях исследовательский поиск проникает в сферу незримого, но приводит к вполне зримым результатам: скажем, к появлению новых средств борьбы с микробами – возбудителями болезней или к изобретению беспроволочного телеграфа, способного охватить информационной сетью весь земной шар. Некоторые мечты метафизиков – уменьшение зависимости человека от физиологического состояния его тела, преодоление времени и пространства – уже стали технической реальностью.
Когда физика всерьез обращается к изучению условий полета и созданию летательных аппаратов, для метафизики уже не остается места в заоблачных высях – она терпит крушение, падает вниз и впредь может развиваться только на плоской земной поверхности. При этом результаты ее деятельности, как показывает пример неокантианцев, оказываются весьма скромными. Один из представителей упомянутого направления, Пауль Наторп[51], в 1909 году так определил задачи философии: философия представляет собой не что иное, как методологические усилия науки, направленные на то, чтобы сделать саму себя «прозрачной». В философии наука осознает собственные принципы, методы и ценностные ориентации. Наторп называет это «указанием направления для науки… не извне, а посредством разъяснения внутреннего закона ее пути, пути, который наука описывала всегда и теперь тоже неустанно продолжает это делать». Такое представление о философии обязывает ее переориентироваться на цель, прямо противоположную той, которую она ставила перед собой изначально: «Первоначально философия скрывала в своем чреве зародыши всех наук; но после того, как она родила этих своих детей, по-матерински заботилась о них и они под ее защитой выросли и повзрослели, она не без удовольствия видит, как они уходят от нее в большой мир, чтобы его завоевать. Какое-то время она еще смотрит с искренней тревогой им вслед, порой с ее губ срывается им вдогонку едва слышное предостерегающее слово, но она не хочет, да и не может ограничить уже обретенную ее детьми независимость. Потом она тихо уйдет на покой, вернется на свой стариковский выдел, чтобы однажды исчезнуть из нашего мира, и, похоже, кончина ее останется незамеченной, а память о ней будет недолгой».
Виндельбанда[52], Риккерта и Когена[53] называли «неокантианцами» потому, что они рекомендовали современным естествоиспытателям взять на вооружение методологическую рефлексию Канта, да и в вопросе обоснования этических норм опирались на идеи этого философа. Приверженцы неокантианства пользовались большим влиянием до Первой мировой войны, при обсуждении отдельных проблем проявляли острый ум и полемический запал, но в целом, так сказать, держали оборону, сопротивляясь натиску превосходящей силы – научного духа. То была философия, которая надеялась, что, пережив собственную кончину, сможет продолжить существование в своих «детях», то есть в конкретных науках. Однако, как признал Наторп, добровольное растворение «философии в науках» – по крайней мере, на первых порах – не дало обнадеживающих результатов. И действительно, оставалось еще немало никогда не подвергавшегося рефлексии мировоззренческого балласта, протащенных контрабандой нелепых спекуляций, красиво упакованных представителями эмпирических и точных наук, которые хотели – и умели – придать некоторым своим детским, наивным убеждениям видимость научности. Такого рода ученым был, например, зоолог Эрнст Геккель[54]. Из дарвиновской биологии развития он «дистиллировал» монистическое учение о мире и космосе, которое претендовало на то, что может решить все «Мировые загадки» (так называлась книга Геккеля, опубликованная в 1899 году и сразу ставшая бестселлером).
Неокантианцы желали быть совестью науки, причем в двояком смысле: в методологическом и в этическом. Их второй специализацией – помимо методологии – была проблема ценностей. Они задавались вопросом: как можно осуществить научный анализ процесса, который – в отличие от процессов, изучаемых естественными науками, – заключается не в том, что нечто становится чем-то другим, а в том, что нечто обретает некую значимость? В понимании неокантианцев культура есть сфера ценностей. Например, материальную субстанцию какой-то статуи можно анализировать физическими, химическими и другими методами, но все это не позволит понять, чем же, собственно, эта статуя является – а является она тем смыслом, который в нее вкладывают. Этот смысл значим и осознается каждым, кто воспринимает данную статую не как каменную глыбу, а именно как произведение искусства. Во всяком культурном явлении, по словам Риккерта, «воплощена какая-нибудь признанная человеком ценность». Природа и культура – неразделенные сферы, но природа становится предметом культуры в той мере, в какой она оказывается связанной с ценностями. Например, сексуальность представляет собой нейтральное в ценностном отношении биологическое явление, однако, будучи освоенной культурой, становится событием с чрезвычайно высоким ценностным содержанием – любовью. Реальность, в которой живет человек, неотделима от процессов формирования ценностей. В этом нет ничего таинственного, мир ценностей не парит над нашими головами, просто все, с чем человек так или иначе имеет дело, именно в силу этого взаимодействия приобретает некий ценностный акцент. Из «отнесенности к вещам» немедленно возникает «отнесенность к ценностям». «Отнесенность к вещам» поддается объяснению, «отнесенность к ценностям» можно только понять. Человеческое общество в целом подобно царю Мидасу: все, чего оно касается, что вовлекает в сферу своего воздействия, хотя и не превращается в золото, но обретает ценность.
Стремление разработать философию ценностей было навязчивой идеей неокантианства. Однако, углубившись в тайны «значимости», эти академические философы каким-то образом проглядели то, что в нашей жизни имеет преимущественную значимость: деньги. И получилось так, что не они, а сторонний наблюдатель, Георг Зиммель[55], в начале нашего века предложил гениальный образец философии ценностей: «Философию денег».
Зиммель описывает переход от грабежа к обмену как решающее событие во всей истории цивилизации. Поэтому он называет цивилизованного человека «животным, совершающим обмен». Обмен «абсорбирует» насилие, а деньги универсализируют процесс обмена. Деньги, первоначально просто материальные предметы, становятся реальным символом всех благ, ибо любые блага могут быть получены в обмен на деньги. Как только появляются деньги, все, с чем они входят в соприкосновение, подпадает под власть особых чар: все начинает оцениваться по своей (денежной) стоимости, будь то жемчужное ожерелье, надгробная речь или сексуальный контакт. Деньги – реально существующая трансцендентальная категория обобществления. Отношения эквивалентности, порождаемые деньгами, образуют каркас современного общества. Деньги – волшебное средство, которое превращает весь мир в «товар», подлежащий оценке и реализуемый в соответствии со своей стоимостью.
Но каким образом та или иная вещь превращается в деньги, обретает денежное выражение? Ответ прост (хотя вытекающие из него следствия необозримы): потому что эта вещь становится чем-то, что имеет значимость. И это нечто, имеющее значимость, можно использовать для того, чтобы отдать кому-то другому – в обмен на то, что хочешь от него получить. Меру обмена всегда можно точно высчитать, но непонятно, как, собственно, устанавливается эта мера. Одни говорят, что она зависит от труда, вложенного в производство товара; другие – что она формируется на рынке; по мнению третьих, на нее влияет степень желания приобрести ту или иную вещь; по мнению четвертых, чем меньше каких-то вещей, тем выше они ценятся. Однако в любом случае значимость денег обусловливается не их материальной природой, а скорее царящим в обществе духом, который оборачивается материальной силой. Затем власть денег, циркулирующих повсюду, одерживает верх над духом, о котором некогда было сказано, что он веет, где хочет…
Что касается духа самого Зиммеля, то он, как и деньги, проникает во все, даже самые потаенные поры общественной жизни. Зиммель умеет выявлять связи буквально повсюду. Например, в том факте, что деньги становятся общим мерилом стоимости для столь различных вещей, как Библия и бутылка водки, этот философ усматривает связь с предложенным Николаем Кузанским[56] определением Бога как coincidentia oppositorum («совпадение противоположностей»). «Вследствие того, что деньги все в большей мере становятся абсолютно достаточным выражением и эквивалентом любых ценностей, они поднимаются на абстрактную высоту над всем обширным многообразием объектов, делаются центром, в котором самые противоположные, самые чуждые, самые далекие вещи обретают общность и соприкасаются друг с другом; поэтому и получается так, что деньги фактически позволяют возвыситься над единичным, заставляют поверить в их всемогущество как в высший принцип».
Как показывает пример Зиммеля, анализ власти «значимости» – даже если речь идет всего лишь о значимости денег – имеет непосредственное отношение к системе метафизических понятий.
Итак, в эпоху кануна Первой мировой войны, столь неблагоприятную для развития метафизики, прибежищем для последних приверженцев этой дисциплины стала сфера «значимостей» (в том числе и значимости денег). Возвращаясь к тому, о чем мы говорили чуть раньше, отметим, что и Гуссерль, по сути дела, защищал «значимость» – значимость свободной от психологизма логики, этого платоновского царства идей, – от не видевших ничего дальше своего носа поборников натуралистической психологии.
Молодой Мартин Хайдеггер оказался в сходном положении, тоже вынужден был занять оборонительную позицию.
Подобно Гуссерлю (и Эмилю Ласку[57]), он полагал, что метафизика еще может найти применение при исследовании тайны «значимости», в сфере чистой логичности, противостоящей всем попыткам релятивизировать логику, подчинив ее биологии или психологии. В этой сфере для него было особенно значимым такое понятие, как «потусторонняя ценность жизни», однако характер связи между логикой и душевной жизнью пока оставался неясным. В своей статье «Новые исследования по логике» (1912 год) Хайдеггер называет психическое «операционным базисом» для логического, но отмечает, что в этой сфере остаются нерешенными «своеобразные проблемы, которые, может быть, никогда не будут вполне прояснены».
Хайдеггер не сомневался, что с помощью логики ему удастся «ухватиться за край» чего-то, имеющего сверхиндивидуальную значимость, а это было для него очень важно, ибо он хотел верить в объективную реальность духа, не желал видеть в нем всего лишь порождение человеческого мозга. Но вместе с тем Хайдеггер признавал и самостоятельную реальность внешнего мира, отказывался видеть в нем только химеру субъективного духа – потому что такое представление было бы гносеологическим проявлением неприемлемого для него «безграничного автономизма «я»». Хайдеггер стремился избежать обеих крайностей – и низвержения в приземленный материализм, и обманчивой иллюзии парения в горних высях, характерной для субъективного идеализма. Делая первые самостоятельные шаги на поприще философии, он ориентировался на «критический реализм», что практически означало для него следующее: «лишь тот, кто верит, что реальная природа в принципе поддается определению, способен прилагать усилия ради ее познания» (GA I, 15). И еще Хайдеггер ориентировался на возможность существования объективного духа.
Объективный дух он находил в открытом для всех церковном «сокровище истины», но как философу ему этого было недостаточно, отсюда его интерес ко второму источнику истины – логике с ее объективной значимостью.
Итак, в первые годы своего ученичества Мартин Хайдеггер искал такую философию, которая помогала бы ему с уверенностью действовать на арене современности, но вместе с тем (каким-то непостижимым образом) всегда оставаться под небом родного Мескирха.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
«Бдения на Масличной горе». Планирование будущей карьеры. Докторская работа. Существует ли Ничто? «Уже грохочет». Просьбы к их преподобиям. По ту сторону «философии жизни». Вторжение жизни в философию. «Переживание» Дильтея и ницшеанское «изживание». Мощный поток Бергсона. Цветущий сад Макса Шелера.
По первым философским статьям Хайдеггера – «Проблема реальности в современной философии» и «Новые исследования по логике» – невозможно догадаться, что они были написаны в переломное, кризисное для него время. А между тем он писал эти работы, в которых защищал принцип познаваемости реальности и метафизическую состоятельность логики, в тот самый момент, когда его собственные жизненные планы оказались под угрозой провала. Это было в 1911 году.
После трех семестров во Фрайбургском университете, посвященных изучению теологии, у него снова начались сердечные приступы. Может быть, Хайдеггер просто перетрудился, как он напишет в своей «Автобиографии» 1915 года, а может, сам организм таким способом восставал против не приносившей удовлетворения работы. По рекомендации университетского врача Мартина в феврале 1911 года отпустили в Мескирх, чтобы он отдохнул несколько недель «в полном покое». У его наставников между тем сложилось впечатление, что нестабильность физического состояния этого одаренного студента-теолога может сделать его непригодным для священнического служения.
Хайдеггер провел все лето у своих родителей, в Мескирхе. Он не знал, что ему делать дальше. Настроение было мрачное, и он искал облегчения в поэтических опытах. Мучившие его сомнения в правильности выбора профессии, преобразившись под влиянием патетического чувства, превратились в «Бдения на Масличной горе» – так называлось стихотворение Хайдеггера, опубликованное в «Альгемайне рундшау» в апреле 1911 года:
И в моей жизни случались бдения на Масличной горе: нередко приход ночи заставал меня в сумеречном свете безысходных колебаний. Но никогда не лил я напрасных слез, взывая о помощи. Мое юное бытие не решалось поверять свои усталые жалобы никому, кроме ангела Благодати.Это стихотворение разыскал Хуго Отт[58] – и он же обнаружил письма Эрнста Ласловски, студента, который в интересующее нас время изучал историю католицизма на кафедре Генриха Финке во Фрайбургском университете. Ласловски, уроженец Верхней Силезии, уже отучившийся во Фрайбурге несколько семестров, стал преданным другом Мартина Хайдеггера и очень рано заметил его выдающиеся способности. Ласловски писал: «Если бы только отец поддержал тебя материально на протяжении 4–5 или 3–4 семестров, которые необходимы для подготовки докторской работы и получения доцентуры, то потом у тебя появились бы собственные средства к существованию». Но отец платить за образование Мартина не мог. Как все сыновья небогатых родителей, Хайдеггер был вынужден либо и дальше оставаться под опекой Церкви и получать от нее стипендию, либо как-то иначе – самостоятельно, тяжелым трудом – пробивать себе дорогу в жизни.
В переписке с Ласловски обсуждались разные варианты будущего. Должен ли Мартин продолжать изучать теологию и, значит, потом стать священником? Ласловски советовал ему именно это. В таком случае дальнейшее существование Мартина в стенах университета было бы обеспечено, и ему осталось бы только преодолеть сомнения своих наставников, которым состояние его здоровья внушало серьезные опасения. Он смог бы без помех защитить диссертацию, получить доцентуру. Вероятно, между двумя этими событиями ему пришлось бы какое-то время поработать священником где-нибудь в сельской местности, чтобы, так сказать, «дозреть» до преподавательской должности. Зато потом его, как теолога, наверняка ждала бы блестящая карьера.
Такая перспектива льстила самолюбию Хайдеггера, но к тому времени он уже успел понять, что в теологии его привлекала не столько сама теология, сколько присутствующий в ней философский компонент. Вторая возможность состояла в том, чтобы целиком сосредоточиться на философии, но при этом не порывать с католической средой. Он ведь не собирается посягать на церковное «сокровище истины». Более того, философию можно даже использовать для защиты этого сокровища. Правда, вера как таковая не нуждается в философском обосновании, но неплохо было бы дать философский отпор нападкам на метафизику с позиций ложно понятой научности. Ученые, как правило, даже не сознают, что прибегают к метафизике каждый раз, когда говорят об «истинности» тех или иных своих положений. Если удастся доказать, что «потусторонняя ценность жизни» находит выражение уже на уровне чистой логики, то позиция Церкви, как хранительницы «сокровища истины», станет гораздо менее проигрышной. Если Хайдеггер захочет заняться понимаемыми в таком ключе католической философией и апологетикой, то, возможно, даже сумеет обеспечить себе поддержку со стороны католических институтов и периодических изданий, например, «Союза Альберта Великого» или «Общества содействия науке имени Гёрреса»[59]. Ласловски советовал Мартину вступить в контакт с католическим философом Клеменсом Боймкером, который преподавал в Страсбургском университете. Боймкер был председателем Общества Гёрреса, издателем «Философского ежегодника» и старался продвигать молодых католических философов. Впрочем, католические философы в любом случае не имели сколько-нибудь обнадеживающих видов на будущее. Прочие представители философского мира относились к ним с недоверием, а кафедр, где они могли бы работать, было мало.
Наконец, оставалась третья, самая скромная возможность: глубже изучить какой-либо из школьных предметов, сдать государственный экзамен и стать учителем. Хайдеггер обдумывал такой путь со всей серьезностью, так как его привлекала перспектива иметь профессию и гарантированное жалованье. Он думал, что мог бы преподавать естественно-научные дисциплины.
К концу тяжелого лета в Мескирхе решение наконец было принято. Хайдеггер прервал изучение теологии. Перед зимним семестром 1911/12 года он записался на естественный факультет Фрайбургского университета, чтобы изучать математику, физику и химию, но одновременно с этими науками продолжал с неослабевающим рвением заниматься философией. Он связался с Клеменсом Боймкером, который опубликовал статью Хайдеггера «Проблема реальности в современной философии» в «Философском ежегоднике Общества Гёрреса» за 1912 год, и с Йозефом Зауэром[60], профессором истории искусства и христианской археологии во Фрайбургском университете, издателем католического «Литературного обозрения», где в том же году в нескольких выпусках вышла работа Хайдеггера «Новые исследования по логике».
В письме Зауэру от 17 марта 1912 года Хайдеггер изложил программу своих будущих исследований. Зауэр, убежденный приверженец клерикализма, явно был удивлен темой, которую выбрал этот студент, утверждавший, что он собирается внести свой посильный вклад в «религиозно-культурное развитие нашей Церкви»: «Если все это не выльется в бесплодное критиканство и начетническое выявление противоречий, то в результате проблема времени и пространства (с ориентацией на математическую физику) должна будет, по меньшей мере, приблизиться к своему предварительному решению».
Йозеф Зауэр, мало сведущий в философии, не вполне понимал, какую именно пользу может принести Церкви рассмотрение проблемы времени, да еще «с ориентацией» на современную физику. Тем не менее он был доволен Хайдеггером, чья работа по логике вызвала в католических кругах немалый интерес. Сам Хайдеггер узнал о своем успехе от Ласловски, который писал ему 20 января 1913 года: «Мой дорогой, у меня такое предчувствие, что очень скоро ты дорастешь до уровня великих ученых, и разные университеты будут бороться за право числить тебя среди своих профессоров. Иначе и быть не может». Правда, по словам все того же Ласловски, «католицизм никак не вписывается в современную философскую систему», и Хайдеггер не должен допускать, чтобы его однозначно причисляли к католикам. Ему следует публиковаться также и в неконфессиональных журналах.
Трудности этой щекотливой ситуации – когда Хайдеггеру нужно было сохранить хорошую репутацию в католической среде и в то же время не прослыть философом-конфессионалистом – друзья подробно обсуждали в переписке. Ласловски: «Ты ведь должен начать как католик. А это, черт возьми, действительно запутанный вопрос»[61]. Ласловски считал, что Мартину лучше всего какое-то время держаться в тени. Тем более что такая стратегия будет иметь дополнительный положительный эффект: «Оставайся подольше окутанным таинственной пеленой тьмы, и тем самым ты возбудишь любопытство «публики». После этого все у тебя пойдет легче».
Предприимчивый Ласловски, который, возможно, был немного влюблен в Мартина Хайдеггера, наводил справки о вакантных местах на католических кафедрах философии. При посещении Тевтонского пантеона в Мюнхене он познакомился с приват-доцентом Энгельбердтом Кребсом, священником и теологом из Фрайбурга, и наговорил ему много лестных слов о своем друге. Кребс, который был всего на восемь лет старше Хайдеггера, поначалу мало чем мог ему помочь, потому что сам пока делал лишь первые шаги в своей карьере. Хайдеггер познакомился с ним в 1914 году, как только Кребс вернулся во Фрайбург после поездки в Рим. Между ними завязались дружеские отношения, которые продолжались несколько лет и закончились, когда Хайдеггер порвал с «системой католицизма».
Ласловски помогал Мартину и в поисках денег. Через свою католическую студенческую корпорацию в Бреслау он нашел некоего пожилого господина и уговорил его дать денежную ссуду Хайдеггеру, охарактеризовав последнего как будущее философское светило, надежду немецких католиков. Этих денег, крошечной стипендии, которую выдавал ему Фрайбургский университет, и заработков от репетиторства Хайдеггеру хватило, чтобы проучиться еще год (после того, как он ушел с факультета теологии). Летом 1913-го он получил степень доктора философских наук, защитив работу по теме «Учение о суждении в психологизме».
В этой работе Хайдеггер проявил себя как прилежный и способный ученик Гуссерля, чьи «Логические исследования» оказали на него сильнейшее влияние. Идя по стопам Гуссерля, он полемизирует с поборниками психологизма, выступает против попыток вывести логические феномены из особенностей человеческой психики. Этот самонадеянный молодой человек критикует идеи таких пользующихся всеобщим уважением философов, как Теодор Липпс[62] и Вильгельм Вундт[63]. Стараясь отыскать новые доводы против психологизма, он впервые задумывается над проблемой, которая позже займет центральное место в главном труде его жизни: проблемой времени.
Мышление как психический акт происходит во времени, требует времени. Но, как утверждает Хайдеггер вслед за Гуссерлем, логическое содержание мышления сохраняет свое значение независимо от времени. Логическое есть ««статичный» феномен, пребывающий по ту сторону любого развития и изменения, который, следовательно, не происходит, не возникает, а просто имеет некую значимость; это есть нечто, что, пожалуй, может быть «постигнуто» выносящим суждения субъектом, но никогда не изменится в результате такого постижения» (FS, 120). Итак, для Хайдеггера время еще не стало, как это произойдет несколько лет спустя, той силой бытия, которая вовлекает в свое движение абсолютно все; философ пока допускает существование чего-то, пребывающего «по ту сторону» времени. Но Хайдеггер ставит вопрос о смысле логического и отвечает на него так: «Может быть, здесь мы оказываемся у некоего последнего, не поддающегося редукции предела, за которым всякое дальнейшее разъяснение исключено и постановка любого нового вопроса неизбежно заводит в тупик» (FS, 112).
Статичная логика должна вступить в некое напряженное отношение с динамически развивающейся во времени, изменчивой действительностью. Хайдеггер проанализировал это соотношение на примере проблемы, которая займет важное место в его позднейшей философии. Речь идет о Ничто. Хайдеггер рассматривает роль отрицания в акте вынесения суждения. Мы можем сказать: «Роза не желтая», или: «Учителя здесь нет». Это «не» или «нет» означает: чего-то определенного, того, что мы ожидали увидеть или на что просто ссылаемся, не имеется в наличии. Что-то отсутствует: в одном случае – желтый цвет розы, в другом – присутствие учителя. Из этого отсутствия, этого «не» или «нет», можно путем абстрагирования вывести «Ничто», но исключительно как предмет мысли. То есть такое «Ничто» имеется только в акте суждения, но не в действительности. И там, в акте суждения, оно означает: «Если что-то не существует, то я не могу сказать: это существует» (FS, 125).
В лекции «Что такое метафизика?» (1929 года) Хайдеггер выскажет прямо противоположную мысль, заявит, что вся метафизика, в том числе и его собственная, берет начало в опыте переживания Ничто: «Ничто первоначальнее, чем Нет и отрицание»; его приоткрывает «глубокая тоска, бродящая в безднах нашего бытия» (ВиБ, 19–20). И опишет это Ничто как нечто такое, что делает весь мир сущего сомнительным, ужасающим и исполненным тайны.
Молодой Хайдеггер, возможно, уже знал подобное умонастроение, но еще не включил его в свою философию; он был выпускником университета, начинающим ученым, которому еще только предстояло сделать академическую карьеру и который поэтому предпочитал оставаться в рамках академического мышления. Для него еще сохранял свою значимость принцип, согласно которому Ничто встречается только в суждениях, но не в действительности. Он использовал именно те аргументы, которые позднее логик-позитивист Рудольф Карнап[64] обратит против самого Хайдеггера и его философии Ничто.
Но поскольку молодой Хайдеггер, в отличие от Карнапа, был логиком-метафизиком, с его точки зрения признание того факта, что «Ничто» существует только в наших суждениях, то есть в нашем сознании, не было препятствием для исследования онтологического значения Ничто. Ведь то, что заключено в нашем духе, как раз поэтому и является одним из аспектов великого Бытия. Через нас отрицание, или Ничто, приходит в мир. Так из скромной семантики отрицания вырастает внушительная онтология Бытия и Ничто. Это новое Ничто – не холодное «Ничто» суждения, а «Ничто» страха. Правда, как уже отмечалось, все это не нашло словесного выражения в первых философских работах Хайдеггера, написанных в 1912 году. Он в то время еще довольно фамильярно обходился с пугающими аспектами действительности, например, когда рассматривал «безличные суждения», выраженные в форме лишенных субъекта предложений. Мы говорим: «Вечереет». Но кого мы имеем в виду? «Хочу ли я в таких случаях выразить свойство, моментальное состояние некоего таинственного «оно», или же высказанное мною суждение имеет совсем иной смысл?» (FS, 126). Что или кто есть это «вечереющее» Оно? Еще не умея проникнуть в глубинный смысл данного казуса – как он будет поступать в подобных случаях позже, – Хайдеггер просто выбирает в качестве пояснения пример с глаголом «грохотать» и пишет: «Если, например, я с другом во время маневров догоняю батарею, которая в спешном порядке передислоцируется на огневую позицию, и в тот момент, когда мы слышим грохот орудий, говорю «Давай скорее: слышишь, уже грохочет», то совершенно очевидно, что именно производит грохот; смысл же суждения заключается в самом грохотании, в определении происходящего сейчас (уже)» (FS, 127).
Хайдеггер анализирует «безличное суждение», чтобы показать: бывают такие обстоятельства, когда ни «психологические исследования», ни «однозначное определение и прояснение значения слов» не позволяют раскрыть содержание суждения, и для того, чтобы постичь это содержание, необходимо знать и понимать ситуативный контекст высказывания. Несколько лет спустя именно эту прагматику нашей повседневной жизни Хайдеггер изберет в качестве контекста, в котором будет рассматривать свой вопрос о бытии. Но еще раньше он просто «наткнулся» на повседневность – когда на ум ему пришел пример с «грохотанием». Вспомним, что случилось это в канун мировой войны.
Вместе с примером, касающимся маневров, в его строго герметичный анализ на краткий миг вторгся жизненный мир.
26 июля 1913 года Хайдеггер защитил на философском факультете свою докторскую работу и получил за нее высшую оценку (Summa cum laude). Его научным руководителем был Артур Шнайдер, возглавлявший кафедру католической философии, который тем же летом принял приглашение перейти на работу в Страсбургский имперский университет. К тому времени Хайдеггер обрел покровителя в лице тайного советника профессора Генриха Финке, авторитетного и пользовавшегося влиянием на факультете католического историка, который обнадежил двадцатичетырехлетнего докторанта, сказав, что тот имеет шансы занять освободившееся место Шнайдера. Пока обязанности главы кафедры временно исполнял приват-доцент Энгельбердт Кребс, читавший курс теологии, – он тоже имел основания причислять себя к претендентам на эту должность. Кребс и Хайдеггер, которых связывали дружеские отношения, неожиданно оказались конкурентами. 14 ноября 1913 года Кребс записал в своем дневнике: «Сегодня между 5 и 6 часами вечера он (Хайдеггер. – Р. С.) пришел ко мне и рассказал: Финке предложил ему защитить диссертацию по истории философии и ясно дал понять, что, поскольку сейчас имеется вакантная кафедра, он должен как можно скорее получить должность приват-доцента, дабы иметь право на что-то претендовать. Так что вполне может статься, что, временно заведуя кафедрой, я лишь готовлю теплое местечко для Хайдеггера».
Поначалу эта конкуренция не наносила ущерба их дружбе. После того как Хайдеггер в первый раз побывал у него в гостях, Кребс записал в дневнике: «У него острый ум, он скромен, но держится уверенно». Беседы с Хайдеггером произвели на Кребса настолько сильное впечатление, что он не испытывал зависти и был готов признать Хайдеггера наиболее достойным претендентом на роль преемника Шнайдера. «Жаль, – записал Кребс в дневнике в конце 1913 года, – что он не возглавил кафедру еще два года назад. Но и сейчас он был бы нам очень нужен».
Кребс и Хайдеггер помогали друг другу в научной работе. Кребсу приходилось читать лекции по логике, в которой он мало что понимал. Хайдеггер помогал ему готовиться к семинарам. «Он, вероятно, сам не сознает, как сильно я в нем нуждаюсь», – писал Кребс, который, в свою очередь, всегда был готов поделиться с Хайдеггером своими знаниями по истории схоластики.
Именно из этой сферы Хайдеггер и выбрал тему для своей диссертации. Сначала он хотел было продолжить свои логические исследования и написать работу о «сущности понятия числа», однако когда перед ним открылась перспектива получения католической кафедры, он передумал и обратился к схоластике. Кроме того, только выбрав подобную тему, он мог рассчитывать на получение стипендии, прошение о предоставлении которой подал в 1913 году и которая уже была ему обещана. Речь шла о щедрой стипендии из «Фонда святого Фомы Аквинского», учрежденного в 1901 году семьей аугсбургских промышленников Шецлеров.
Прошение о предоставлении этой стипендии Хайдеггер подал 2 августа 1913 года во фрайбургский соборный капитул: «Нижеподписавшийся покорнейше обращается к досточтимому капитулу… с нижайшей просьбой о предоставлении ему стипендии. Нижеподписавшийся хотел бы посвятить себя изучению христианской философии и избрать академическую карьеру. Так как он живет в крайне скромных условиях, то был бы сердечно благодарен досточтимому соборному капитулу…» И так далее. Такого рода унижающие человеческое достоинство письма оставляют занозы в душах тех, кто их пишет по своей воле или потому, что оказывается вынужденным пойти на такой шаг. Трудно простить тому, у кого тебе пришлось просить милостыню, пережитое тобой ощущение стыда. И хотя их преподобия помогли Хайдеггеру – а может, именно потому, что помогли, – он впоследствии будет отзываться о них не слишком хорошо. Церковь в Мескирхе, церковь «маленьких людей», означала для него нечто совсем иное. То был родной край, кровную связь с которым он чувствовал на протяжении всей жизни. Приезжая в Мескирх, Хайдеггер до глубокой старости посещал богослужения в церкви Святого Мартина и садился на то место на хорах, которое занимал еще будучи мальчишкой-звонарем.
Поскольку Хайдеггер к моменту защиты диссертации по-прежнему считался подающим надежды католическим философом, соборный капитул согласился предоставить ему стипендию в размере 1000 рейхсмарок на семестр – на эту сумму, по студенческим понятиям, вполне можно было жить. В письме, извещавшем Хайдеггера о том, что его просьба удовлетворена, викарный епископ Юстус Кнехт недвусмысленно напоминал об условиях предоставления стипендии: «Веря, что Вы останетесь верны духу томистской философии, мы одобряем…»
Хайдеггер получал стипендию три года – до лета 1916-го; и на протяжении трех лет это привязывало его к томизму и схоластике настолько крепкими узами, что граница между долгом и призванием не всегда была четко различима даже для него самого. Когда Хайдеггер в декабре 1915-го в третий раз подавал прошение о стипендии, он писал: «Нижеподписавшийся полагает, что сможет выразить свою благодарность досточтимому епископальному соборному капитулу за оказанное последним драгоценнейшее доверие по меньшей мере тем, что главным научным делом его жизни будет размораживание накопленных схоластикой интеллектуальных богатств, которые затем смогут быть использованы в будущей духовной борьбе за упрочение христианско-католического жизненного идеала».
Философские амбиции Хайдеггера в то время были еще на удивление скромными. В «Автобиографии» 1915 года он назвал «главным научным делом… [своей] жизни» интерпретацию идей средневековых мыслителей. Правда, обретенное в ходе такой работы интеллектуальное богатство он намеревался использовать для актуальной полемики, в «борьбе за упрочение христианско-католического жизненного идеала»… Однако по его философским работам никак не заметишь, что, когда они писались, уже шла мировая война, сотни тысяч людей были убиты на полях сражений, а в сфере духа начала свое победное шествие «философия жизни».
После материализма и механицизма конца XIX века, против которых была направлена философия Гуссерля и раннего Хайдеггера, утверждавшая примат логического, теперь, казалось бы, главным объектом интереса для Хайдеггера должна была стать «философия жизни» в ее различных вариантах. Но кроме однажды употребленного Хайдеггером термина размораживание (Flussigmachung) ничто не указывает на то, что он уже успел познакомиться с мотивами «философии жизни» (от которой как раз и исходило понятие Verflussigen – «обращение в жидкое состояние, размораживание, растапливание», – ставшее навязчивой идеей эпохи).
Еще несколько лет назад «философия жизни» была, в глазах молодого Мартина Хайдеггера, учением для «чувствительных современных душ», то есть для него никакого значения не имела. В статье, опубликованной в 1911 году в «Академикер», он писал: «Философия, которая в действительности есть зеркало вечного, сегодня лишь многообразно отражает субъективные мнения, личные настроения и желания. Антиинтеллектуализм даже философию превращает в «переживание»; все строят из себя импрессионистов… Сегодня мировоззрение кроится по мерке «жизни», а не наоборот…»
Предубеждение Хайдеггера против «философии жизни» определялось не только его приверженностью «потусторонней ценности жизни» (в католическом понимании); оно также восходило к школе неокантианца Генриха Риккерта, у которого Хайдеггер собирался защищать докторскую работу. Риккерт же, на которого Хайдеггер ориентировался в этом вопросе, позже резюмировал свое отношение к «философии жизни» так: «Как исследователи, мы должны властвовать над жизнью при помощи понятий и от пустого размахивания словом «жизнь» перейти к систематическому упорядочиванию мира»[65].
Между тем «философия жизни», от которой тогда оборонялась академическая философия (а с ней вместе и молодой Хайдеггер), за пределами университетов стала господствующим духовным течением. Понятие «жизнь» выдвинулось на передний план, потеснив такие понятия, как «бытие», «природа», «Бог» или «я»; оно стало боевым лозунгом, призывающим сражаться сразу на двух фронтах. Сражаться, во-первых, против нового идеализма «как если бы», сторонниками которого в немецких университетах были неокантианцы и который в быту оказывал влияние на нравственные нормы буржуазной среды («жизнь» противопоставлялась «вечным ценностям», которые с большим трудом дедуцировались философами и потом бездумно усваивались обывателями). И, во-вторых, против бездушного материализма, наследия уходящего XIX века. Правда, уже неокантианский идеализм был ответом такому материализму и позитивизму – но ответом беспомощным, как утверждали сторонники «философии жизни». По мнению последних, отделять дух от материальной жизни, дуалистически противопоставлять одно и другое – значит оказывать духу дурную услугу. Таким образом его невозможно защищать. Напротив, дух надо привнести в саму материальную жизнь.
У сторонников «философии жизни» понятие «жизнь» настолько всеобъемлюще и растяжимо, что в него вмещается все: душа, дух, природа, бытие, динамика, творчество. «Философия жизни» повторила на другом уровне то, что делали участники движения «Буря и натиск», протестовавшие против рационализма XVIII века. Тогда боевым лозунгом было слово «природа». Теперь ту же функцию выполняло понятие «жизнь». Под «жизнью» понимали многообразие образов, изобретательность, океан возможностей – океан настолько необозримый и зовущий к авантюрным приключениям, что исчезает сама потребность в «потустороннем». Потому что последнее в достаточной мере присутствует и в «посюсторонней» жизни. Жизнь – это отплытие к далеким берегам и одновременно нечто совсем близкое: жизненная энергия как таковая, стремящаяся вылиться в конкретные формы. Слово «жизнь» становится лозунгом молодежного движения, стиля модерн, неоромантизма и реформистского направления в педагогике.
До 1900 года молодые люди из буржуазных семей хотели выглядеть старше своих лет. «Излишняя» молодость, отсутствие солидности препятствовали продвижению по служебной лестнице. Газеты рекламировали средства, ускорявшие рост бороды, а очки считались символом достаточно высокого социального статуса. Подражая отцам, молодые люди носили жесткие стоячие воротнички; мальчиков-подростков, переживавших пору полового созревания, одевали в тесные сюртуки и приучали ходить «степенно». Прежде считалось, что «жизнь» отрезвляет неразумных юнцов, так сказать, обламывает им рога. Теперь ее стали воспринимать как бурный поток, как неистовый порыв, как воплощение самой молодости. А соответственно и молодость перестала расцениваться как недостаток, который необходимо скрывать. Наоборот, теперь приходилось оправдываться «старикам» – вдруг, не дай бог, кто-нибудь заподозрит, что они уже отжили свое, утратили способность воспринимать новое. Перед «судом жизни» (по выражению Дильтея[66]) предстала целая культура – кайзеровская Германия, – и был поставлен вопрос: жива ли еще эта жизнь?
Выражение «философия жизни» понимается сторонниками этого направления как Genetivus subiectivus[67]: то есть не в смысле философствования о жизни, а в том смысле, что сама жизнь «философствует» через посредство этой философии. «Философия жизни» хочет быть одним из органов жизни – органом, расширяющим ее возможности, раскрывающим для нее новые формы и образы. И философия эта настолько «нескромна», что желает не просто выяснять, какие ценности значимы, но и создавать новые ценности. «Философия жизни» есть виталистский вариант прагматизма: ее интересует не полезность того или иного воззрения, а его творческий потенциал. С точки зрения «философии жизни» жизнь неизмеримо богаче любой теории, поэтому для сторонников этого течения так ненавистен биологический редукционизм: редукционисты принижают дух, низводя его до уровня жизни, тогда как «философия жизни», наоборот, приближая дух к жизни, возвышает его.
Самыми яркими представителями «философии жизни» (до 1914 года) были Фридрих Ницше, Вильгельм Дильтей, Анри Бергсон и Макс Шелер.
Ницше отождествлял «жизнь» с творческим потенциалом и именно в этом смысле называл ее «волей к власти». Присущая жизни воля выражается в том, что жизнь желает быть собой, желает сама себя формировать. Роль сознания по отношению к этому принципу самоформирования всего живого амбивалентна. Сознание может действовать в процессе саморазвития как тормозящий или, наоборот, усиливающий фактор. Оно может порождать страхи, угрызения совести, разочарование – и бывает, что жизнетворный порыв разбивается, столкнувшись с сознанием. Но сознание может поставить себя и на службу жизни, конституируя такие ценности, которые побуждают ее к свободной игре, к совершенствованию, к сублимации. Однако в любом случае, как бы ни действовало сознание, оно остается органом жизни, и потому судьба, которую сознание приуготовляет жизни, одновременно является судьбой, которую приуготовляет себе сама жизнь. Случается, что жизнь сама возвышает себя – посредством сознания; случается, что она сама себя разрушает – тоже посредством сознания. Как именно – в том или в другом направлении – будет действовать сознание, зависит не от какого-то стихийного жизненного процесса, а от осознанной воли, которая есть свобода сознания по отношению к жизни. Ницшеанская «философия жизни» срывает с «жизни» смирительную рубашку, которую в конце XIX века напялили на нее детерминисты, и возвращает изначально присущую ей свободу. Речь идет о свободе художника по отношению к своему творению. «Я хочу быть поэтом – творцом собственной жизни», – говорил Ницше; как повлияло это высказывание на трактовку понятия истины, мы все знаем. Из учения Ницше следует, что истины в объективном смысле не существует. Истина – просто такая иллюзия, которая оказывается полезной для жизни. В этом и заключается прагматизм Ницше – прагматизм, который, в отличие от американского, связан с дионисийским пониманием жизни. У Ницше вызывала отвращение дарвиновская концепция «приспособления» и «отбора» как закона жизненного развития. Он видел в этих понятиях проекции утилитаристской морали. По его мнению, только по-мещански мыслящий обыватель мог полагать, будто и в природе приспособленчество вознаграждается успешной карьерой. Ницше видел в «природе» играющее дитя Гераклита. Природа лепит все новые образы и сама их ломает, это неиссякаемый творческий процесс, в котором торжествуют властный витализм, а не приспособляемость. В том, что удалось выжить, нет никакого торжества. Жизнь торжествует только в своей избыточности, когда она щедро расточает себя, когда раскрывает, «изживает» себя полностью.
Ницшеанская «философия жизни» деятельна и буквально одержима искусством. Это учение о «воли к власти» поначалу имело не столько политическое, сколько эстетическое значение. Оно вновь вернуло искусству достоинство и уверенность в себе, которые были утрачены в эпоху неумеренного возвеличивания науки, требовавшей, чтобы искусство подражало действительности. Теперь те, кто присоединился к Ницше, могли сказать: если искусство и действительность не совпадают друг с другом, тем хуже для действительности!
Все значительные художественные течения начала века – символизм, модерн, экспрессионизм – вдохновлялись идеями Ницше. Эстетическая разновидность «воли к власти» проявлялась по-разному. В Вене, городе Фрейда, где к бессознательному привыкли относиться с почтением, «нервность» считалась вернейшим признаком витальности. «Только когда эмоциональное полностью освободится от каких бы то ни было оков и человек, особенно художник, будет всецело полагаться на свои эмоции, без оглядки на разум и первичные чувственные ощущения[68], – только тогда в искусство вновь вернется утраченная радость…» (Герман Бар[69], 1891). Экспрессионисты стремились к «возрождению общества путем объединения всех художественных средств и сил» (Хуго Балль). В возможность «возрождения» государства и общества благодаря духу суверенного искусства верили также члены кружка Георге[70] и символисты. Франц Верфель[71] пророчествовал о грядущей в скором времени «коронации сердца». То был великий час грез о всемогуществе искусства и его творцов. Дух «философии жизни» вновь освободил все искусства от служения принципу реальности. И художники опять обратились к видениям как способу протеста против действительности, веря, что действительность эта непременно изменится. «Видения, протест, изменение» – таков был триединый идол, которому поклонялись экспрессионисты.
Если в ницшеанском варианте «философии жизни» центральное место занимала идея максимально интенсивного самовыражения, «изживания» (собственной сущности), то в философии Дильтея главенствующую роль играло понятие «переживания» (определенных жизненных состояний). Дильтея не заботила биология; он хотел через «историю духа» узнать, что такое «целостный человек», – но находил лишь отдельные произведения и формы, множество разных точек зрения, в своей совокупности как раз и составлявших духовную жизнь во всем ее богатстве. «Жизнь» в представлении Дильтея – универсум книг, собрание ярких высказываний, каждое из которых обладает определенным смыслом, но которые не могут быть подведены под какое-то единое всеохватывающее определение. Жизнь духа порождает изобилие образов, но может принять видимость усеянного черепами поля, если мы не научимся вновь пробуждать к жизни дух, застывший в твердых формах, в объективно существующих творениях культуры. Такое «пробуждение» происходит благодаря пониманию. Понимание есть способ, посредством которого дух «переживает» объективацию другого, постороннего по отношению к нему духа и вновь «растапливает» (verflussigt) этот другой дух. Понятие «растапливать» принадлежит Дильтею – именно у Дильтея его заимствовал Хайдеггер и употребил равнозначное по смыслу выражение, когда, как мы уже упоминали, писал о «размораживании» (Flussigmachung) накопленных в схоластике интеллектуальных богатств и о возможности их использования в борьбе за христианско-католический жизненный идеал. Понимание вновь возвращает нам уже прошедшую жизнь. Понимание есть воспроизведение. Сама возможность воспроизводящего переживания представляет собой торжество над скоротечностью времени. Однако произведения, которые всегда возникают в конкретном времени, не могут объективно, однозначным образом фиксировать влитое в них содержание. С другой стороны, каждый акт понимания тоже привязан к какому-то моменту времени; мы всегда охвачены потоком времени, который безудержно стремится вперед, постоянно вынося на свою поверхность что-то новое, уникальное: непрерывную череду сменяющих друг друга точек зрения, перспектив, видений, мировоззрений. «Где найти средства, чтобы спастись от грозящей нам идеологической анархии?» – спрашивал Дильтей. Этот чуткий ученый, живший в эпоху грюндерства[72], боялся наступления анархии. И именно потому ему хотелось верить, что жизнь духа в конце концов сама организует себя в соответствии с неким тайным порядком, – он не мог точно сказать, как именно это произойдет, но в любом случае хотел бы быть садовником в этом новом саду человечности. Слово «жизнь» в устах Дильтея внушает доверие и не заключает в себе ничего демонического, как было у Ницше. «Жизнь есть тот основополагающий факт, который должен служить исходным пунктом философии. Она – то, что мы постигаем изнутри; то, за пределы чего невозможно выйти. Жизнь нельзя поставить перед судом разума».
Ницше хотел сделать из своей жизни философию, Дильтей хочет вновь пробудить к жизни творения духа. Для первого «философия жизни» была экзистенциальным приключением, для второго – «переживанием» (оживляющим воспроизведением) всей истории культуры.
Ницше и Дильтей были людьми XIX века. В XX веке гениальным продолжателем их дела стал Анри Бергсон[73]. Он попытался преобразовать «философию жизни» в стройную систему. В 1912 году в немецком переводе вышел его главный труд «Творческая эволюция». Эта книга сразу же имела беспрецедентный успех, причем в самых широких кругах читающей публики. Макс Шелер[74] писал в своей работе «Опыт философии жизни», вышедшей в 1913 году: «Имя Бергсона сегодня так громко и навязчиво повторяется на все лады в мире культуры, что те, кто наделен более тонким слухом, могли бы, пожалуй, с сомнением спросить себя, а стоит ли вообще читать такого философа». Его не только стоит, но необходимо читать, продолжает Макс Шелер, ибо в философии Бергсона выражено совершенно новое «отношение человека к миру и душе»: «Эта философия протянула навстречу миру открытую ладонь с указующим перстом, она свободно смотрит на мир широко распахнутыми глазами. Это не те прищуренные глаза, не тот критический взгляд, который… бросал на вещи Декарт; это и не глаза Канта, из коих исходил луч духа, так отчужденно – будто он пришел из иного мира – и так повелительно падавший на вещи, пронзавший их насквозь… Впечатление скорее такое, что Бергсона омывает, проникая до самых корней его духа, поток бытия, воспринимаемый им как естественная и благотворная – хотя бы уже потому, что она является потоком бытия, – … стихия».
Бергсон открыл два источника познания жизни, отчасти повторив то, что до него сделал Шопенгауэр. Один из этих источников – разум (интеллект); другой – интуиция (у Шопенгауэра – внутренний опыт воли). Разум, как особую способность, в свое время детально проанализировал Кант. Бергсон опирается на Канта: пространство, время, причинность, протяженность – таковы категории, коими оперирует разум. Но Бергсон изменил перспективу: он рассматривает разум с точки зрения биологической эволюции. В результате разум предстает как продукт этого развития, как орган для ориентации в жизненном мире, регулирующий деятельность организма. Этот орган, что очевидно, доказал свою эффективность и является выражением «все более точного, сложного и гибкого приспособления живых существ к данным условиям их существования»[75].
Получается, что разум – это система, которая, подобно фильтру, стоит на пути напирающего на нее изобильного многообразия бытия и становления, «пропуская» то, что полезно с точки зрения практики выживания (аналогичным образом Шопенгауэр понимал разум как инструмент воли).
Все, о чем шла речь до сих пор, характеризует Бергсона как биолога-прагматика. Но он сделал следующий шаг – высказав простое соображение: поскольку мы способны анализировать разум в его пределах, мы не сводимы к нему, ибо в противном случае не могли бы открывать его в его ограниченности. Должно быть что-то еще, «вненаходимое» по отношению к разуму. Суть позиции Бергсона заключается в том, что это «вненаходимое» – нечто глубоко внутреннее, интуиция. В интуиции, или внутреннем опыте, бытие уже не предмет, от которого мы можем дистанцироваться, – напротив, мы осознаем нас самих как неотъемлемую часть этого бытия: «Материя и жизнь, наполняющие мир, точно так же присутствуют и в нас. Мы ощущаем в себе те же силы, которые действуют во всех вещах». Разум полезен для жизни в том смысле, что способствует выживанию, интуиция же приближает нас к тайне самой жизни. С точки зрения мира в целом жизнь предстает как нескончаемая волна, свободно пробегающая и сквозь наше интуитивное сознание: «Так давайте погрузимся в наш собственный внутренний мир: мы опустимся гораздо глубже, чем обычно, и тогда гораздо более мощная сила вытолкнет нас обратно к поверхности…» Чудо прустовских «Поисков утраченного времени» было бы невозможно без этого призыва погрузиться в свои внутренние глубины, где жизнь раскрывает себя, причем особенно таинственным и стимулирующим фантазию образом – во внутреннем переживании времени. Разум, направленный вовне, конструирует физическое время, измеряемое и равномерное («tempus quod aequaliter fluit», как сказал Ньютон). Внутренний опыт, или интуиция, знает другое время: «длительность» (duree). To, что жизнь «длится», означает: она представляет собой непрерывный поток, меняющий ритм своего движения, поток, в котором встречаются «уплотнения», заторы, водовороты. При этом ничто не теряется, но все постоянно «прирастает»; всякая отдельно взятая точка уникальна, ибо ни в одной точке предшествующее ей прошлое, которое и гонит нас вперед, не идентично прошлому в другой точке: ведь уходящее «сейчас» отходит к прошлому, тем самым изменяя его. Человек движется во времени как в среде, но он и «временит»[76], то есть регулирует время, поскольку сам «ведет» свою жизнь – в том смысле, что обладает инициативой и действует свободно, спонтанно. Человека можно определить как существо, которому свойственно начинать. В глубине нашего переживания времени скрывается, по убеждению Бергсона, переживание творческой свободы. Той самой свободы, которая, как творческая потенция, является движущей силой всего универсума. Иначе говоря, творческая свобода Космоса обретает свое самосознание в свойственном человеку внутреннем опыте переживания свободы. Наша интуиция переносит нас в самое сердце мира. «Мы пребываем, кружимся, живем в Абсолюте».
Такой возвышенной, одновременно околдовывающей и околдованной, окрыленной и полной обещаний была тема «жизни», впервые зазвучавшая в философии в начале нашего века, перед Первой мировой войной. Но молодой Хайдеггер не поддался влекущему зову этой новой мелодии. В 1913 году он закончил свою диссертацию сухой и жесткой фразой о том, что, как он надеется, с помощью «чистой логики» можно будет «вплотную подойти к проблемам теории познания» и «расчленить всю сферу «бытия» на различные способы проявления ее реальности» (FS, 128).
У Хайдеггера еще никак не прослеживается то ощущение интеллектуального прорыва, которое Макс Шелер выразил в написанной тогда же работе «Опыт философии жизни». На наших глазах, писал Шелер, происходит «перестройка мировоззрения»: «Оно будет подобно первому шагу человека, долгие годы проведшему в темной тюремной камере, по цветущему саду. Тюрьма – это ограниченная нашим разумом, который ориентируется исключительно на чисто механические или поддающиеся механизации феномены, человеческая среда с ее цивилизацией. А сад – многокрасочный мир Божий, который откроется нам, пусть и издалека, и будет ждать нашего появления. Узник же – европейский человек, сегодняшний и вчерашний, который со вздохами и стонами влачит груз им же изобретенных механизмов и который из-за того, что взгляд его всегда устремлен на землю, а во всех членах он ощущает непомерную тяжесть, забыл своего Бога и свой мир».
То обстоятельство, что Мартин Хайдеггер тогда еще не вполне почувствовал значение прорыва в неизведанное, осуществленного «философией жизни», тем более удивительно, что во внешнем мире, в вихре злободневных философских дискуссий, уже закружились, сталкиваясь друг с другом, многие идеи, которые позднее станут темами и мотивами его собственного творчества: иное (отличное от прежнего) восприятие времени, мысли о необходимости «размораживания» застывшего духа, отказа от представлений об абстрактном субъекте познания, признания искусства «местом истины».
Но миру, в котором Хайдеггер жил еще вчера, предстояло развалиться на части в ходе мировой войны, а самому философу – оказаться в метафизическом смысле бесприютным, прежде чем он, Хайдеггер, смог на свой лад открыть «жизнь», назвав ее именами «фактичность» и «экзистенция».
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Начало войны. Идеи, которые носились в воздухе в 1914 году. Хайдеггер философствует вопреки истории. «Размораживание» схоластики. Дунc Скот. Назначение доцентом. Служба в армии. Быстрая карьера не получилась. Мужская дружба. Женитьба.
Итак, Хайдеггер, только что получивший степень доктора философии, работал над диссертацией «Учение Дунса Скота о категориях и значении», защита которой должна была дать ему доцентуру. Шецлеровская стипендия, позволявшая какое-то время не думать о хлебе насущном, в то же время обязывала его – в философском плане – защищать «церковное сокровище истины», воплощенное в томизме. Он знал, что, если поспешит с написанием работы, у него будет серьезный шанс получить кафедру христианской философии, которая все еще оставалась свободной. Дела, в общем, складывались неплохо. Но тут разразилась война.
Воодушевление, которое распространилось в Германии после объявления войны, охватило, конечно, и Фрайбургский университет, где организовывались проводы молодых солдат – с праздничными песнопениями, цветочными гирляндами и торжественными речами. Хайдеггера призвали на воинскую службу 10 октября 1914 года, но из-за болезни сердца он был признан «условно годным» и отпущен домой. Что ж – он вернулся к своему письменному столу и вновь углубился в тонкости средневековой дискуссии о номинализме.
Хайдеггер, вероятно, относился к той любопытной разновидности студенческого типа, которую Людвиг Маркузе, в те годы тоже изучавший философию во Фрайбурге, описал в автобиографии так: «В конце июля я встретил на Гёте-штрассе одного из моих достойнейших товарищей по семинару, Хельмута Фалькенфельда. Он в полном отчаянии спросил меня: «Вы уже слышали, что произошло?» Я ответил с некоторым пренебрежением и готовностью положиться на Божью волю: «Да, знаю: Сараево». Он сказал: «Да не в том дело, Риккерт отменил завтрашний семинар». Я испугался: «Он что, заболел?»– «Нет, – ответил Хельмут, – это из-за угрозы войны». – «Но что общего между семинаром и войной?»– Он лишь беспомощно пожал плечами».
Этот студент сожалел о начале войны только потому, что война лишила его возможности выступить у Риккерта с хорошо подготовленным докладом. Фалькенфельда в первые же дни мобилизации призвали в армию и отправили на фронт. Оттуда он писал: «Дела мои идут не хуже, чем раньше, хотя 30 октября я участвовал в сражении и из-за грохота 24 артиллерийских батарей у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. Тем не менее… я и сейчас полагаю, что третья антиномия Канта важнее всей этой мировой войны и что война относится к философии так же, как чувственность к рассудку. Я просто не верю, что события в этом телесном мире могут хоть в малейшей степени затронуть трансцендентальную часть нашего существа, – и не поверю, даже если какой-нибудь осколок французской гранаты угодит в мое собственное эмпирическое тело. Да здравствует трансцендентальная философия!»
Для неокантианцев старого закала привычка смотреть на жизнь с трансцендентально-философских позиций, очевидно, была своего рода анестезирующим средством. Страсти, разбуженные войной, и судьбы, которые она готовила конкретным индивидам, – всё это философы относили к сфере грубой эмпирики. Принципы априорности познания, «нравственной личности» с упомянутой сферой никак не соприкасались. Это не значит, что осмысленность и оправданность войны ставились под сомнение; просто считалось, что философия (именно как особая дисциплина) не должна пытаться придать происходящему некий оправдывающий его смысл. Личные мнения и суждения могли быть исполнены бьющего через край энтузиазма, но философии как таковой надлежало сохранять благородную невозмутимость. Она должна была следовать по собственному пути, а не поступать на службу к духу времени, – даже если начало войны взбаламутило весь немецкий народ. И если философы, в том числе строгие неокантианцы, все-таки отдавались потоку текущих событий, то делали это не по каким-то философским соображениям, а просто потому, что с началом войны внезапно открывали для себя существование чего-то более значимого, нежели философия. Эмиль Ласк, юный гений неокантианства, – именно ему, погибшему на втором году войны, Хайдеггер посвятит свою диссертацию, – еще до войны говорил о том, что жернова разума мелят тем лучше, чем меньше в них попадает жизненной материи, и что, следовательно, философская мысль может блистать лишь в том случае, если не соприкасается с не поддающейся однозначному толкованию пестрой тканью жизни. Ласк воспринимал данное свойство философии как ее недостаток и потому через несколько месяцев после начала войны писал с фронта своей матери: «В самом деле это был последний срок, когда мы уже не могли не уйти. Нетерпение достигло предела, а у меня – еще и мучительное ощущение собственной бездеятельности, полной бесполезности всех моих сил в такое время, когда на карту поставлено буквально все и невыносимо сознавать, что ты не принимаешь хотя бы малого участия в происходящем».
Но Хайдеггер, похоже, не жалел о том, что поначалу оказался в стороне от военных событий. Ему не пришлось рисковать жизнью, он мог спокойно работать над своей диссертацией, которая должна была стать первым шагом его научной карьеры, а в остальном, вероятно, разделял всеобщее чувство патриотического воодушевления, распространившееся и в тех католических кругах, где он вращался и к которым принадлежали его ближайшие друзья. Покровитель Хайдеггера Генрих Финке основал (в 1915 году) Комитет по защите германских и католических интересов в мировой войне. Члены комитета устраивали различные мероприятия и издавали брошюры, в которых войне придавался некий религиозный смысл, а также участвовали в дискуссиях о войне, выступая с умеренных позиций. Друг Хайдеггера Энгельбердт Кребс опубликовал, в рамках деятельности комитета, множество таких брошюр, а в 1916 году издал их в виде книги под заглавием «Тайна нашей силы. Размышления о великой войне».
Вообще начало войны сопровождалось целым потоком публикаций. Из-под перьев немецких рифмоплетов вышло тогда около полутора миллиона стихотворений. В этой славной компании оказался и Рильке со своим гимном войне:
Впервые вижу я, как ты восстал, Невероятный и далекий бог войны, доселе ведомый лишь понаслышке… В кои-то веки хоть какой-то бог. И если мирный бог нам часто безразличен, Бог битвы в одночасье всех пленил… Какое благо – увидать неравнодушных!«Неравнодушными» были даже профессора. В «Заявлении преподавателей высших учебных заведений Германской империи» от 16 октября 1914 года, под которым стояло 3016 подписей, выражалось «возмущение тем, что враги Германии, и в первую очередь Англия, хотят – якобы ради нашего же блага – противопоставить дух немецкой науки тому, что они называют прусским милитаризмом».
Подписавшиеся не имели намерения открещиваться от «милитаризма», но и не хотели просто и однозначно признать себя его сторонниками: им важно было как-то обосновать свою позицию, сделать ее осмысленной. «Неравнодушные» оказались «плененными» беспрецедентным поветрием – стремлением давать свои толкования всему, что происходило вокруг: «В действительности именно самые глубинные силы нашей культуры, нашего духа и нашей истории ведут эту войну и одушевляют ее» (Маркс – Marcks, «На чем мы стоим?»). Томас Манн в «Размышлениях аполитичного» тоже говорил о войне как о событии, в ходе которого со всей мощью проявляются «индивидуальности отдельных народов, их неизменные характерные черты» и которое может быть постигнуто только с помощью «фреско-психологии». В моду вошли рассуждения (крайне вульгарного толка) о национальной идентичности. И далеко не один только Томас Манн использовал в полемических целях типологии, претендующие на то, что они имеют всеобщую значимость в сфере философии культуры. То и дело мелькали в публичных выступлениях убедительные на первый взгляд противопоставления: глубоко укорененной культуры – поверхностной цивилизации; органичного сообщества – построенному на принципе механических отношений обществу; героев – торгашам; подлинных чувств – сентиментальности; добродетели – эгоистичной расчетливости.
Философы реагировали на это по-разному. Некоторые как ни в чем не бывало продолжали заниматься своими будничными академическими делами. Примерно так, как это изобразил в своем карикатурном наброске Людвиг Маркузе. Другие – главным образом чрезвычайно популярные в то время приверженцы «философии жизни» – хотели внести в дело победы свою, специфически философскую лепту, придав войне смысл столкновения разных типов духовности. Для этой цели они мобилизовали все имевшиеся в их распоряжении резервы метафизических идей. Макс Шелер, например, с неиссякаемым красноречием восславлял «Гения войны» (так называлось его большое эссе, опубликованное в 1915 году). Шелер, можно сказать, разработал проект новой научной отрасли – антропологии sub specie belli[77]. Согласно этой концепции, война выявляет в человеке то, что обычно в нем скрыто. Шелер мыслит благородно: он не осуждает враждебные Германии державы, признавая за ними право на борьбу. Он видит в войне таинство самоутверждения культур, которые, так же как и индивиды, неизбежно вступают в столкновения друг с другом, если уже обрели собственные неповторимые характеры. Эти характеры должны пройти через огонь, чтобы получить закалку. Война есть конфронтация со смертью, и потому она принуждает и народ, и отдельного индивида осознать себя как некую целостность – по крайней мере, как целостность, которая может быть разрушена. Война – это великий мастер разграничительных линий: она отделяет подлинное от неподлинного и обнажает истинную субстанцию. Война – это examen rigorosum для государства, экзамен, в ходе которого должно выясниться, действительно ли государство выражает общую волю или только формально управляет обществом. Война – это «момент истины»: «Образ человека в его целостности, величии, объемности – а в мирное время мы видим лишь малую, серенькую, срединную его часть… теперь предстает перед нашими глазами как пластический образ. Только война позволяет измерить весь объем, всю протяженность человеческой натуры; и в результате человек осознает все свое величие и все свое ничтожество».
Какую же духовную субстанцию обнажает война? Одни говорили: война есть победа идеализма. Долгое время идеализм задыхался под гнетом материализма и прагматизма, но теперь он вырвался на волю, и люди опять готовы жертвовать собой во имя нематериальных ценностей – своего народа, отечества, чести. Поэтому Эрнст Трёльч[78] называл воодушевление, вызванное войной, возвращением «веры в дух» – дух, который торжествует над «обожествлением денег», «нерешительным скепсисом», «поисками наслаждения» и «тупым раболепствованием перед закономерностями природы».
Другие видели в войне высвобождение творческой силы, которая, по их мнению, к концу долгого периода мира была уже на грани «замерзания». Они прославляли свойственное войне «естественное насилие». И утверждали, что теперь, наконец, культура вновь соприкоснется с первобытными основами бытия. Отто фон Гирке[79] считал войну «самым ужасным из всех разрушителей культуры и в то же время самым могучим из всех ее творцов».
Война меняет все; она, как надеялся Макс Шелер, должна была изменить и философию. Шелер верил, что в послевоенной Европе люди не будут больше довольствоваться «чисто формальной казуистикой» – они почувствуют настоятельную потребность в «самостоятельном оригинальном мироввдении».
Однако в действительности философия за время войны не обрела никакого нового «оригинального мировидения». Она обходилась старыми метафизическими идеями, используя их для того, чтобы придать военной катастрофе видимость «глубины» и «значимости». Что касается настоящих политических мыслителей, начиная от Макса Вебера[80] и кончая Карлом Шмиттом[81], то их такая позиция отталкивала.
Макс Вебер язвительно отзывался о «словесах и писаниях литераторов», путавших свои умственные выверты с политическим мышлением. В представлении же Карла Шмитта попытки возвысить до уровня метафизики конкретные политические коллизии были чистой воды «окказионализмом», то есть использованием реальности в качестве предлога для мотивированного исключительно эгоистическими соображениями продуцирования идей.
Хайдеггер был далек от всего этого. Его философские интересы никак не соприкасались со сферой политики. Его мышление к тому времени приобрело своеобразный отпечаток, став философствованием вопреки истории.
Как мы уже упоминали, Хайдеггер, собственно, собирался после завершения докторской работы заняться темой «Сущность понятия числа». Его покровитель Генрих Финке посоветовал ему рассмотреть круг соответствующих проблем в связи со схоластической философией. Хайдеггер нашел подходящий текст, на примере которого мог проанализировать то, что более всего завораживало его в понятии числа: феномен реальности идеального. Текст, за исследование которого он взялся, носил название De modis significandi sive Grammatica speculative. («О способах обозначения, или Спекулятивная грамматика»). Во времена Хайдеггера это сочинение атрибутировалось Иоанну Дунсу Скоту (1266–1308). Позже установили, что на самом деле его написал Томас Эрфуртский, философ из школы Дунса Скота.
Дунc Скот был средневековым философом и к проблеме разума подходил с критических позиций. Обладая чрезвычайно острым умом – благодаря которому он и заслужил прозвище doctor subtilis, «тонкий доктор», – Скот пытался доказать ограниченность возможностей естественного разума в плане постижения метафизических вопросов. Он учил, что мы с нашим разумом не в состоянии познать истинную сущность Бога, а поскольку мир является Божьим творением и, следовательно, отчасти тоже обладает присущим Богу качеством непостижимости для разума, то и вещи вокруг нас, как бы прекрасно мы ни понимали их в отдельных частных аспектах, в целом сохраняют свою загадочность. Критика человеческого разума (с позиций разума) у Дунса Скота поставлена на службу вере. К этому шотландскому мастеру высокой схоластики вполне применима та оценка, которую Кант позже даст самому себе, сказав, что хотел посредством разумной критики разума освободить место для веры. Как у Канта, так и у Дунса Скота эта критика имеет двойную направленность: отвергаются и непомерные притязания разума, и неправильное применение веры. Истинная вера шире познания, но тем не менее «не может его заменить». Иными словами, и вере, и познанию следует воздавать то, что каждому из них причитается. Мы не вправе подменять одно другим. Дунc Скот придерживался умеренно номиналистских взглядов, то есть для него понятия были прежде всего «именами» (nomen), а не отражениями сущностей самих вещей. Под «самими вещами» средневековые философы, естественно, чаще всего подразумевали Бога и мир. «Номиналисты» исходили из дуалистической идеи раздельности мышления и бытия, но стремились перекинуть мостик между тем и другим. Это стремление особенно ярко проявилось в той работе (вышедшей из школы Дунса Скота), которой решил заняться Хайдеггер.
Базовая идея «Спекулятивной грамматики» заключается в том, что мышление движется в языке, который представляет собой знаковую систему. Язык указывает на вещь таким же образом, как обруч, красующийся над входом в трактир в качестве его вывески, указывает на вино, которое можно выпить, зайдя внутрь. Именно такой пример привел не чуждый радостям жизни Дунc Скот (или Томас Эрфуртский). Между мышлением и сущим разверзлась пропасть различности («гетерогенности»), но вместе с тем у того и другого имеется и некая общность («гомогенность»). Мостик, который их соединяет, – аналогия. Между нашим мышлением и сущим существует точно такое же отношение аналогии, как между Богом и миром. Это – «центр тяжести» всей цепочки рассуждений автора «Спекулятивной грамматики». В этой точке свод величественного храма средневековой метафизики снова обретает твердую опору. Все элементы бытия, вплоть до Высшего Существа, оказываются связанными между собой отношениями аналогии. Утверждение о наличии аналогии между Богом и миром означает следующее: Бог не может быть просто идентичен миру, потому что в таком случае Он был бы его пленником; но Бог не может быть и чем-то совершенно отличным от мира, ибо мир есть Его творение. Мир указывает на Бога точно так же, как трактирная вывеска – на вино; но ясно, что не вывеска, а только вино способно утолить жажду. Вывеска трактира вполне может быть чем-то реально существующим, но Бог или вино реальны в большей степени. Хайдеггер прокомментировал это место, отметив, что в средневековом мышлении признается наличие разных «степеней реальности» (FS, 202), или, иными словами, «ступеней» интенсивности. И далее в высшей степени спекулятивная мысль автора трактата переходит к еще более сложному вопросу: а к какой ступени реальности следует отнести само мышление? По мнению Дунса Скота, человек со своим мышлением не настолько приблизился к Богу, как полагают «реалисты», допускающие, что человек способен чуть ли не заново воспроизвести в своем уме те помыслы Божий, из которых возникло творение. Но человек и не настолько далек от Бога, как утверждают радикальные «номиналисты», полностью отвергающие возможность познания мира человеческим разумом (если на помощь последнему не приходит Бог).
Что же искал и что нашел Хайдеггер в готическом соборе средневековой мысли?
Он искал скрытую от поверхностного взгляда актуальность этой мысли, хотел ее – эту мысль – разморозить и поначалу нашел некоторые тонкости, предвосхитившие феноменологический метод Гуссерля. Достаточно сказать, что Дунc Скотт уже проводил феноменологическое разграничение между prima intentio[82] и secunda intentio[83]: prima intentio – это естественная для человеческого сознания установка: направленность на объекты восприятия и мышления; secunda intentio – тот особый ракурс, когда мысль направлена на саму себя и на собственное содержание. Речь, собственно, идет о введенном Гуссерлем разграничении между «ноэзисом» (предметной направленностью сознания, или интенцией) и «ноэмой» (предметным содержанием интенционального отношения) – понятиями, о которых у нас еще будет случай поговорить.
Хайдеггер размораживает средневекового философа, превращая его в предтечу Гуссерля. Он представляет нам схоласта, который, подобно Гуссерлю, исследовал поле чистого сознания, чтобы потом как по мановению волшебной палочки возвести на этом фундаменте целый мир. Мышление о мышлении – мышление, наблюдающее за тем, как оно само работает, – порождает особый космос, который невозможно упразднить, просто заявив, что космос этот «не от мира сего». Достаточно и того, что он что-то означает. По словам Хайдеггера, «Дунc Скот излагает учение об экзистенциальной свободе сферы значений» (FS, 243).
Мартин Хайдеггер хотел подвергнуть философскому анализу сущность числа. Он смог реализовать эту идею, следуя по стопам Дунса Скота. Ибо автор «Спекулятивной грамматики» (как мы теперь знаем, не сам Скот, а его последователь) выводит из Одного и Единицы всю онтологию.
Текст трактата, как и хайдеггеровский анализ, начинается с определения базовых категорий, в которых только и предстает перед нами реально существующее. Эти базовые категории – Дунс Скот, впрочем, относит их не к «базису», то есть «низу», а (что типично для средневековых мыслителей) к «верху» – называются «трансценденциями», и их всего четыре: ens («сущее» вообще), ипит («единица»), verum («истинное»), bопит («добро»). Очевидно, что в системе Дунса Скота предполагается наличие сущего (ens), с которого все и начинается. Несколько менее очевидно – но все-таки, немного подумав, в этом можно разобраться, – что сущее всегда проявляется только как одно сущее, как определенное Нечто, то есть как некое «одно». Но «одно» может быть «одним» только в отличие от чего-то «другого» (diversum). «Одно и другое – говорит Хайдеггер, – вот истинный исток мышления как овладения предметом» (FS, 160). Однако уже у этого истока начинается тончайшая трещинка, разделяющая мышление и сущее. Можно спросить: не заключается ли свойство самого одного в том, чтобы «не быть другим»? Но нет, каждое сущее есть то, что оно есть, и это «не быть другим» не входит в число его свойств. Это «не» присовокупляет к вещам наше мышление – когда сравнивает их с чем-то. Вещи как бы замкнуты в самих себе, они не способны соревноваться между собой, сравниваться друг с другом – а потому и не могут активно отличаться друг от друга. Они в самом деле не отличаются (не «отличают» сами себя), но тем не менее отличимы друг от друга (поддаются различению) – для нашего мышления. Приведенное рассуждение – открытие, на основании коего могут быть сделаны далекоидущие выводы. Оно означает (в формулировке Хайдеггера) следующее: «То, что реально существует, есть нечто индивидуальное» (FS, 194). Дунс Скот называл такое индивидуальное haecceitas, что в буквальном переводе значит «это-здесь-и-сейчас» (конкретных вещей). Смысл данного термина в том, что любая реальная вещь есть нечто уникальное и привязанное к определенной точке в пространстве и времени.
Это открытие важно еще и потому, что оно демонстрирует (на элементарном уровне) способность нашего разума разумным образом абстрагироваться от самого себя и отличать то, чем являются вещи сами по себе, от того, чем их наделяет наше мышление. Вещи сами по себе – это чистые «единственности», между которыми «снует» туда и сюда наш разум, сравнивая их между собой, связывая и упорядочивая. Хайдеггер, развивая мысль Дунса Скота, формулирует это положение так: мы проецируем сущее, которое сплошь состоит из различных «единственностей» (гетерогенностей), в гомогенную среду, где можем сравнивать, постигать и даже исчислять сущее. Что именно представляет собой эта гомогенность, легче всего объяснить на примере числового ряда. Предположим, я пересчитал пять яблок; у третьего яблока в этом ряду нет никакого особого свойства «быть третьим», потому что само яблоко нисколько не изменится, если я уберу его оттуда. Следовательно, с одной стороны, существует гетерогенное разнообразие, а с другой – гомогенная среда исчисляемости. В многообразном сущем как таковом нет никакого числа, однако – и это имеет решающее значение для понимания отношения аналогии – только наличие сущего в его многообразии делает исчисление вообще возможным. Получается, что обе сферы – сущего и мышления – связаны друг с другом. Между многообразием «единственного» и его порядком в числовом ряду существует отношение аналогии.
Тайна аналогии, с которой мы соприкасаемся уже при простом счете, прямой дорогой ведет к самой великой тайне – к Богу. Бог относится ко всему сущему примерно так же, как бесконечный числовой ряд – к исчислимым, но в буквальном смысле «бессчетным» единственностям сущего. Вещи таковы, каковы они есть, а кроме того, таковы, что «заполняют» идеальный содержательный объем наших понятий (в рассматриваемом здесь случае – чисел) только аналогическим образом. Но это означает: их бесконечно больше, чем мы привыкли думать, и они безмерно отличаются от того, чем представляются нам в гомогенной среде строгих понятий. Хайдеггер сделал отсюда вывод, имевший чрезвычайно важное значение для его последующей философской работы: базовой структуре реальной действительности, этой структуре, в которой «странным образом переплетаются гомогенность и гетерогенность» (FS, 199), не может в достаточной мере соответствовать наука, которая ориентируется на идеал понятия, всегда употребляемого в одном и том же (недвусмысленном) значении. Скорее, ей будет соответствовать «живая речь» с ее «странной подвижностью… смысла» (FS, 278). Эта идея останется для Хайдеггера определяющей и во всех последующих фазах развития его мышления. Даже когда – позже – он перестанет пользоваться заимствованным у схоластиков понятием аналогии, у него сохранится твердое убеждение, что наиболее подходящим для философии языком является не исключающая все двусмысленности логика, а разговорный язык, коему свойственны историчность и многозначность, – в том числе и в той его разновидности, которую принято называть поэтической речью.
Весной 1915 года Хайдеггер закончил свою диссертацию и передал ее Риккерту. Этот человек с львиной гривой, очень популярный, играл тогда во Фрайбурге роль блестящего ординарного профессора, окруженного свитой бесчисленных ассистентов. Риккерт читал лекции в библиотеке, поскольку вместительная аудитория университета, которая, стоило ему только захотеть, наверняка оказалась бы заполненной до отказа, вызывала у него приступы агорафобии. Семинары же он проводил на своей вилле, куда допускалась только избранная публика – профессора, всякого рода уважаемые люди, одержимые жаждой знаний, доктора и приват-доценты. Иногда в число приглашенных попадал и Хайдеггер. Риккерт к тому времени был признанным главой школы[84], и ему нравилось вести себя соответствующим образом. Он «по-генеральски» пытался влиять на распределение должностей на кафедрах философии в немецких университетах. «Поле битвы» было в то время еще вполне обозримым. Если какой-то ученый умудрялся испортить отношения с Риккертом, это могло неблагоприятно сказаться на карьере неосторожного несчастливца. Мэтр не принимал особого участия в судьбе молодого Хайдеггера, поскольку относил его к католикам, к которым не испытывал никаких симпатий. Он принял диссертационную работу, но поленился ее читать. И попросил Энгельбердта Кребса (вероятно, не зная о его дружбе с Хайдеггером) написать отзыв. Кребс рассказал в своем дневнике, как он выполнял это поручение: «Когда я читал, сам Хайдеггер по моей просьбе сидел рядом, чтобы я мог обсудить с ним все апории работы». Ознакомившись с написанным таким образом отзывом, Риккерт работу принял. 27 июля 1915 года процесс защиты завершился, как положено, тем, что диссертант прочитал пробную лекцию на тему «Понятие времени в исторической науке». В качестве эпиграфа Хайдеггер избрал сентенцию Мастера Экхарта: «Время есть то, что изменяется и становится многообразным, вечность же просто существует».
Теперь Хайдеггер был приват-доцентом, и ему предстояло исполнять эту должность в течение ряда лет. В письме своему другу Ласловски он предлагает использовать в качестве девиза «для приват-доцентов и тех, кто желает таковыми стать», высказывание Роде, друга Ницше: «Нет болота, которое больше подходило бы для того, чтобы даже самую отважную щуку превратить в надутую пышущую здоровьем лягушку, чем трясина почтенного академического чванства».
Хайдеггер ругал академическую среду отчасти и потому, что его собственные амбиции пока оставались неудовлетворенными. Он рассчитывал занять вакантную кафедру католической философии. Финке делал кому надо соответствующие намеки и в меру своих сил заботился о том, чтобы эта вакансия сохранилась до получения Хайдеггером звания доцента. Его поддерживал Риккерт, верный своей роли «генерала», который тоже интересовался судьбой кафедры.
Кребс с зимнего семестра 1913/14 года временно исполнял обязанности заведующего кафедрой и по прошествии полутора лет захотел наконец узнать, имеет ли он сам какие-то шансы на получение вакантной должности – с учетом предстоящей защиты его друга Хайдеггера. В марте 1915 года он обратился со своим запросом в ведавшее такого рода делами баденское министерство культуры в Карлсруэ. В письме он представил в качестве возможных кандидатур себя самого и некоторых других претендентов, но ни словом не упомянул о Мартине Хайдеггере. Все это вряд ли можно считать интригой, поскольку Кребс проинформировал коллег во Фрайбурге о своем демарше. Тем не менее Хайдеггер почувствовал себя оскорбленным, обманутым. Со временем привыкаешь смотреть на всякого рода людишек более жестким и холодным взглядом, писал он Ласловски. Кребс вскоре выбыл из числа потенциальных конкурентов, так как ему была обещана должность профессора догматики на теологическом факультете, которую он через некоторое время действительно получил. Но с начала 1916 года события приняли неблагоприятный для Хайдеггера оборот. Были объявлены условия конкурса – столь явно «подогнанные» под историка философии, занимающегося средневековой схоластикой, что Хайдеггер, который писал свою работу о Дунсе Скоте скорее с систематических, нежели с исторических позиций, почти потерял надежду на успех. В этой ситуации Ласловски советовал другу не перегибать палку с модернизацией схоластики. «Я бы не стал давать тебе, – писал Ласловски, – никаких «дядюшкиных советов», если бы ты в своем предпоследнем письме не обмолвился, что господа уже навострили уши. Да ты и сам знаешь, что именно в кругах теологов недоверчивость и «чувство ответственности» достигают прямо-таки гипертрофированных размеров, когда дело доходит до интриг против «ненадежного кандидата». Тебе пока явно не стоит дразнить твоей критикой представителей упомянутых кругов».
Очевидно, Хайдеггер в то время в письмах и частных разговорах уже критиковал католическую философию, но еще не отваживался высказывать свои замечания публично.
Весной 1916 года Хайдеггер, готовя свою работу о Дунсе Скоте к печати, написал для нее заключительную главу, где преобладает новая, по сравнению с другими частями исследования, тональность. Речь, однако, идет вовсе не о том, что Хайдеггер начинает рассматривать схоластику с некоей критической дистанции, – нет, скорее здесь просто проявились новые для автора качества: нетерпеливость, порывистость, особая выразительность и, главное, впервые обозначившееся именно в этой главе, прежде совершенно не свойственное ему акцентирование «жизни».
Вспомним: в конце основной части своей работы Хайдеггер впервые упомянул о «живой речи» с ее «странной подвижностью… смысла». На немногих страницах заключительной главы «жизнь», «живой дух», «живое дело» и другие подобные выражения встречаются двадцать три раза! Автор говорит, что, оглядываясь назад на проделанное им исследование, не может избавиться от ощущения «некоей смертельной пустоты» и хотел бы теперь наконец дать выход своему «духовному нетерпению, которое до сей поры сдерживал» (FS, 341).
Выплескивая в заключительной главе это нетерпение, Хайдеггер совершает несправедливость по отношению к самому себе. Он поступает так, будто не начал своего исследования именно с того, к чему теперь столь взволнованно призывает: с намерения дать истолкование логики, исходя из «транслогического контекста». Дух средневековой метафизики как раз и был таким транслогическим контекстом. Однако в новой заключительной главе просто «дух» уступает место тому мощному потоку, который открыли приверженцы «философии жизни». Для «живого духа» «теоретическая духовная позиция» – это еще не все; «контекста, охватывающего совокупность познаваемого», для него не достаточно, ибо он стремится к «прорыву в истинную реальность и реальную истинность» (FS, 348). Но тогда каково должно быть направление его поисков, где можно найти эту истинную жизнь? Ясно, во всяком случае, что решение следует искать не в «бедной содержанием» и «плоской жизненной позиции», а в увеличении интенсивности самой жизни, которое в средние века достигалось путем обращения к трансцендентному, а сегодня – каким образом можно добиться такой интенсификации сегодня?
В том, что Хайдеггер предлагает в этой связи обратиться к «оптике метафизики», ничего удивительного нет; поражает, что он совершенно по-новому обосновывает значимость метафизики. Авторитет последней, как он теперь считает, не просто базируется на «церковном сокровище истины», но вытекает из «осмысленного и смыслореализующего действия». А это значит, что метафизика спускается с небес на землю и становится внутренней логикой исторического действия. Хайдеггер в заключительной главе своей работы о Дунсе Скоте открывает для себя «исторический дух» жизни. Иными словами, он открывает для себя Гегеля – ведь именно Гегель, по словам Хайдеггера, разработал «мощную систему исторического мировоззрения», в рамках которой утратили свою значимость все «прежние фундаментальные философские проблемные мотивы» (FS, 353).
Этот пассаж о гегелевском историзме, помещенный в самом конце работы о Дунсе Скоте, как бы заслоняет собой, замаскировывает тот факт, что в ней нашла отражение и совсем иная тенденция, которая будет продолжена в дальнейших размышлениях Хайдеггера.
Дело в том, что Хайдеггер проследил, как Дунс Скот с помощью понятия «аналогия» преодолевает опасный дуализм между человеческим духом и внешней действительностью – «уменьшенную копию» несравненно более значимого различия между Богом и миром. В этом понятии дух и действительность мыслятся – одновременно – в их различности и их единстве, а кроме того, человеческому духу приписывается более высокая (чем ранее признавалась за ним) степень реальности, ибо в ряду реальностей, связанных с Богом отношением аналогии, ближе всего к Богу оказывается именно человеческий дух. Почему это так? Потому что человеческий дух, аналог Бога, сам владеет искусством понимания аналогий, а значит, хоть и немного, но все-таки посвящен в тайну функционирования сотворенного мира. Следовательно, человеческое сознание еще пребывает в Боге. В заключительной главе Хайдеггер бросает прощальный взгляд на это чудо – способность средневекового человека переживать свою непосредственную причастность к трансцендентному – как на ушедший под воду мир, от которого не осталось ничего, кроме исторических воспоминаний. Если бы мы, вслед за Гегелем, смогли поверить в Бога, присутствующего в истории, это уже было бы хоть что-то. Хайдеггер в заключительной главе как раз и пытается приблизиться к такой вере. Но, как уже говорилось, для него это не единственная возможная перспектива. Другая постепенно приоткрывается в ходе размышлений над странной категорией haecceitas. Хайдеггер уделяет довольно много времени рассмотрению этого понятия, которое «номиналисты» изобрели специально для того, чтобы запечатлеть чудо неповторимости всего реально существующего. Видно, что сам Хайдеггер этим понятием буквально околдован: «То, что реально существует, есть нечто индивидуальное. …Все, что реально существует, есть «это-здесь-и-сейчас». Форма индивидуальности (haecceitas) призвана соответствовать изначальной предопределенности реальной действительности».
Хайдеггер рассматривает эту номиналистскую идею как раннюю попытку искать нуминозное не только в божественно-потусторонней сфере, но и вблизи от человека, в непосредственно данной ему конкретной действительности. Любое сущее само по себе есть нечто неисчерпаемое. Мы не исчерпываем всего богатства его содержания, когда мыслим его как «предмет». Если бы мы сумели по-настоящему помыслить его как «это-здесь-и-сейчас», сие значило бы, что мы преодолели опредмечивающее мышление. Только после этого сущее сможет предстать перед нами во всей своей неповторимой полноте. Позже Хайдеггер скажет о сущем, которое раскрывает себя таким образом, что оно присутствует. Присутствие взрывает тесные для него рамки предметности.
Мышление, которое подобным образом подводит к осознанию уникальности реально существующего, представляет собой альтернативу гегелевскому мышлению. Ибо для Гегеля «единственное» – это, с философской точки зрения, ничто: то есть нечто, не дающее пищи для мышления, гетерогенное, обретающее значимость лишь тогда, когда его переносят в гомогенную среду понятий, включают в более общий и поддающийся обобщению контекст.
Хайдеггер хочет «свободной подвижности» мысли и упрекает схоластику в том, что она не сумела «посредством некоторого духовного рывка поднять себя над собственной работой» (FS, 141). Однако подняться над собственным движением можно не только путем укоренения этого движения в историческом духе, как поступает Гегель, но и другим способом – посредством преодоления любого универсализма, в том числе и исторического, и освобождения себя для восприятия уникальности всего реально существующего, то есть для haecceitas. Второй путь по-настоящему открылся перед Хайдеггером лишь после того, как Гуссерль в 1916 году получил должность профессора во Фрайбургском университете, как Хайдеггер стал искать возможности интенсивной совместной работы с основателем и главой феноменологической школы и как такие возможности наконец нашлись. А в 1915 году, когда Хайдеггер писал заключительную главу своей диссертации, для него еще стояла на первом плане гегелевская «система исторического мировоззрения» (FS, 353).
В конце 1918 года, в прощальном письме к своему другу Кребсу, священнику и теологу, Хайдеггер охарактеризует живой исторический дух, с которым он познакомился благодаря трудам Гегеля, а затем Дильтея, как силу, которая сделала для него «систему католицизма» «проблематичной и неприемлемой».
Однако идею историчности можно рассматривать и с точки зрения феноменологии[85]. В истории, увиденной в таком ракурсе, найдется достойное место для «потусторонней ценности жизни». И тогда метафизическая вертикаль начнет опрокидываться, превращаясь в историко-феноменологическую горизонталь.
После присвоения Хайдеггеру звания доцента он снова был призван на военную службу, и вновь обнаружились симптомы его сердечного заболевания. Осенью 1915 года он на четыре недели попал в лазарет в Мюльхайме (Баден), а потом его уже как ландштурмиста[86] перевели во Фрайбург, в ведомство почтовой цензуры. По долгу службы он был обязан просматривать корреспонденцию. И вскрывать подозрительные письма – особенно те, что посылались во враждебные Германии или нейтральные государства. Здесь работали женщины, отбывавшие трудовую повинность, и мужчины, не годные к строевой службе. Хайдеггер выбрал такую работу не по собственной воле – впрочем, в условиях военного времени он не мог усматривать в ней ничего постыдного. Это была спокойная должность, он занимал ее до начала 1918 года, и она оставляла достаточно времени для научной работы.
23 июня 1916 года было принято наконец решение о замещении должности заведующего кафедрой католической философии – должности, которая оставалась вакантной на протяжении двух лет. Молодого Хайдеггера, чье имя все это время упоминалось в числе возможных кандидатур, постигло разочарование. Комиссия единогласно высказалась в пользу ординарного профессора из Мюнстера Йозефа Гейзера, причем даже сама формулировка обоснования не могла не показаться Хайдеггеру обидной: «Нехватка… настоящих личностей из числа мирян (которые только и принимаются во внимание в данном случае) настолько ощутима, что факультет по зрелом размышлении счел возможным порекомендовать только одного кандидата». Хайдеггер вообще не фигурировал в рекомендательном списке, даже в качестве экстраординарного профессора, который мог бы возглавить кафедру, если бы Гейзер вдруг не принял приглашения. Ему хотели предложить только один вводный курс лекций.
Ласловски утешал друга из далекой Силезии: «Они боятся тебя. Ими движут чисто личные мотивы. Эти люди уже разучились судить объективно».
На самом деле на заседаниях комиссии Хайдеггера предлагали и обсуждали как «кандидата, подходящего с конфессиональной точки зрения», – но, вероятно, в представлении католической фракции, мнение которой в данном случае имело решающий вес, он уже был человеком ненадежным. Молодость Хайдеггера тоже говорила не в его пользу: ведь с того времени, как он защитил докторскую работу, прошло всего три года. Кроме того, нельзя было допустить, чтобы этот молодой человек так быстро сделал карьеру в тылу, тогда как его сверстники сражались на фронте, а некоторые уже погибли. Выбор пал на более опытного преподавателя, к тому же уже достигшего непризывного возраста – Гейзер был старше Хайдеггера на двадцать лет.
Итак, надежда Хайдеггера покорить кафедру с первой же попытки не оправдалась. Следующего благоприятного случая ему придется ждать семь лет.
Осенью 1915 года Хайдеггер познакомился со своей будущей женой Эльфридой Петри – в то время студенткой, учившейся на факультете экономики Фрайбургского университета. Прошло примерно полгода со времени расторжения его помолвки с дочерью мелкого таможенного чиновника из Страсбурга. Девушка страдала тяжелой болезнью легких. Послужило ли именно это обстоятельство причиной разрыва, мы не знаем. Как бы то ни было, Ласловски, который охотно находил в своем друге черты ницшеанского «сверхчеловека», истолковывал ссору обрученных в возвышенном смысле: «Я видел, как ты растешь день ото дня, как ты, подобно гигантскому древу, вздымаешься все выше и выше над той средой, в которой только и могут существовать «любовь» и «счастье»; я уже давно знал, что тебе придется – именно что придется, дабы хоть как-то приблизиться к твоей цели, – идти такими путями, на которых «любовь» должна просто замерзнуть».
И вот теперь к Хайдеггеру пришла новая любовь.
Эльфрида была дочерью саксонского офицера высокого ранга, северянкой-протестанткой, эмансипированной женщиной (в то время казалось очень странным и необычным, что студентка захотела изучать именно экономику). Она принадлежала к числу сторонников либералки Гертруды Боймер, связанной с молодежным движением и выступавшей за права женщин. Эльфрида и Мартин Хайдеггер познакомились в университете. В каникулы они вместе с друзьями отправились на остров Рейхенау, где провели несколько дней.
На память о том лете осталось стихотворение Хайдеггера «Вечерняя прогулка по Рейхенау»:
К морю, к дальним его берегам с неба свет серебристый стекает. А уставшим от лета росным садам ночь себя так неброско являет – будто слово любви роняет. Между крышами, белыми под луной, птичий крик заметался, с башни упав ненароком; день минувший, в сердце подарок твой – словно плод, сочащийся соком; он из вечности, этот вне-смысленный груз – но дошел до меня, в юдоль серости, в наше царство безрадостных уз (D, 7).Это стихотворение было опубликовано в конце 1916 года, к тому времени Хайдеггер и Эльфрида Петри уже обручились, а три месяца спустя, в марте 1917 года, стали мужем и женой.
Ласловски предпочел бы, чтобы его друг не принимал окончательного решения так быстро. Ему нравилось видеть Хайдеггера таким, каким он создал его в своем воображении: странником, покоряющим вершины философии и проникающим в такие сферы, где любовь и счастье, как это описал Заратустра, должны просто «замерзнуть». Хайдеггеру предстояло подняться вверх, в горы, покинув долины, где живут обыкновенные люди, которые женятся и создают семьи, и Ласловски, по скромности относивший себя именно к обитателям таких долин, претендовал, по крайней мере, на роль ближайшего свидетеля будущих штурмов высокогорных пиков. Гений и постоянно находящийся при нем наблюдатель – примерно так, наверное, представлял Ласловски свою дружбу с Хайдеггером. 28 января 1917 года он писал: «Дорогой Мартин, если бы я мог быть в эти дни рядом с тобой! Не знаю, прав ли я, но то, что написала мне фройлейн Петри, никак меня не обрадовало. Было бы хорошо, если бы я ошибался. Но будь осторожен, прошу тебя! Подожди, пока мы снова увидимся. Я действительно очень беспокоюсь за тебя, и как раз из-за этого чрезвычайно важного вопроса. Надеюсь, ты поймешь меня и мою просьбу не торопиться с принятием окончательного решения».
Мартина Хайдеггера, однако, не смутили сомнения друга. Он не посчитался и с чувствами своих ближайших родственников. Для благочестивых родителей Хайдеггера, живших в Мескирхе, было, вероятно, тяжелым ударом, что их сын, после вынужденного отказа от карьеры священника и теолога, теперь, сверх всех прочих неприятностей, собрался вступить в брак с протестанткой. В семье Петри, как кажется, никто не морщил нос оттого, что Эльфрида выбрала себе в мужья человека низкого происхождения, пусть и одаренного, но пока не нашедшего постоянной работы. Однако и они тоже беспокоились: сможет ли Мартин прокормить свою семью, сможет ли содержать ее на таком уровне, как это принято в высших кругах военного сословия?
Свадьба была очень скромной. Приват-доцент Мартин Хаидеггер и студентка экономического факультета Эльфрида Петри венчались в университетской часовне, в Мюнстере. Родители жениха и невесты не приехали. По желанию Хайдеггера церемонию совершил Энгельбердт Кребс, отметивший в протоколе: «Бракосочетание в соответствии с условиями военного времени – без органа, подвенечного платья, венка и фаты, без конной упряжки, праздничного обеда и гостей; правда, имелось письменное благословение тех и других родителей, но сами они не присутствовали».
Кребс из разговоров с Эльфридой вынес впечатление, что она собирается перейти в католичество. Но до этого дело не дошло. Когда полтора года спустя у Эльфриды и Мартина родился первый сын, они заявили, что не могут выполнить обязательство (взятое ими на себя в момент заключения брака), согласно которому должны были обеспечить ребенку католическое воспитание.
Именно в то время у Гуссерля сложилось впечатление, будто Хайдеггер принял протестантскую веру. В письме к Рудольфу Отто[87], датированном началом 1919 года, Гуссерль писал, что сам он не оказал «ни малейшего влияния на переход Хайдеггера… на почву протестантизма», хотя его лично может «только обрадовать» то обстоятельство, что Хайдеггер стал «свободным христианином» и «недогматическим протестантом».
Так Гуссерль охарактеризовал молодого Мартина Хайдеггера, которого уже тогда считал самым одаренным из своих учеников, а вскоре привлек как равноправного коллегу к работе над большим философским проектом создания новой науки – феноменологии.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Триумф феноменологии. Открытые чувства. Универсум в голове. Гуссерль и его община. «Свихнувшийся часовщик». Закладка фундаментов. Философия втайне тоскует по поэзии. Пруст как феноменолог. Гуссерль и Хайдеггер, отец и сын. Элизабет Блохман. Хайдеггер: удовольствие от жизни и «сумасбродные обстоятельства».
К тому времени, когда Эдмунд Гуссерль в 1916 году получил должность профессора во Фрайбургском университете, слава феноменологии еще не перешагнула границ сообщества философов-профессионалов. Но уже через несколько лет, в первые послевоенные годы, феноменология из специальной философской дисциплины превратилась чуть ли не в надежду всех культурных людей на обретение нового мировоззрения. Ганс Георг Гадамер[88] рассказывал, что в начале двадцатых годов, когда «слова о гибели Запада были у всех на устах», в ходе одной «дискуссии среди тех, кто желал улучшить наш мир», выдвигалось множество предложений о способах спасения Европы и наряду с именами Макса Вебеpa, Карла Маркса и Кьеркегора на одном из первых мест упоминалась феноменология. Итак, хватило всего нескольких лет, чтобы о феноменологии заговорили как о многообещающем духовном течении, и эти слухи были настолько упорными, что побудили Гадамера – как и многих других – приехать во Фрайбург, чтобы иметь возможность послушать лекции чудодейственного «мастера» феноменологии и его молодого помощника – «ученика чародея». Феноменология была окутана аурой нового начинания, и это способствовало ее популярности в последние годы мировой войны, когда самоощущения людей колебались между двумя крайностями – предчувствием неумолимо приближающегося конца и эйфорией от уже предвосхищаемого нового начала.
До 1916 года оплотами феноменологии были Гёттинген, где Гуссерль преподавал с 1901 по 1915 год, и Мюнхен, в котором, независимо от «гёттингенцев», вокруг Макса Шелера и Александра Пфендера сформировался второй центр феноменологических исследований. Приверженцы феноменологии хотели быть чем-то большим, нежели просто школой, и потому называли себя «движением». Они собирались не просто восстановить строгую научность в философии (как утверждали в своих публичных выступлениях), но и осуществить – под знаком интеллектуальной честности – реформу самой жизни: речь шла о преодолении ложного пафоса, идеологического самообмана, отсутствия дисциплины в мышлении и чувствах. Хедвиг Конрад-Марциус, которая с самого начала входила в гёттингенский феноменологический кружок, описала царившую в нем атмосферу так: «Это была этика функциональной чистоты и честности… Что, конечно, не могло не наложить особого отпечатка на мышление, характеры и образ жизни».
Феноменологическое движение выполняло в философской среде ту же роль – в смысле формирования определенного стиля жизни, характерного для группы его приверженцев, – которую в среде литераторов взял на себя кружок Стефана Георге. Оба объединения делали ставку на строгость, дисциплину и нравственную чистоту.
«Обратимся к вещам» – таков был девиз феноменологов. Но что есть «вещь»? Ясно было, во всяком случае, что она – нечто спрятавшееся от человеческого взгляда, затерявшееся в дебрях предубеждений, высоких слов и мировоззренческих конструкций. Это было то же самое ощущение, какое в начале нашего века выразил Гуго фон Гофмансталь[89] в своем знаменитом «Письме». «У меня, – говорит он устами своего персонажа, лорда Чандоса, – совершенно пропала способность связно думать или говорить о чем бы то ни было… абстрактные слова, которыми, естественно, вынужден пользоваться язык, чтобы выразить хоть какое-то суждение, расползаются у меня во рту, как гнилые грибы». То, что мешает ему говорить, – это бессловесная, неисчерпаемая, мучительная для человека, но одновременно и обольстительная очевидность вещей, которые каждый раз являют себя будто впервые. Открыться навстречу этой очевидности хотели и феноменологи, а потому в первую очередь стремились отрешиться от всего того, что думали и говорили о сознании и мире другие – до них. Они искали способ сделать так, чтобы вещи приближались к ним, не прячась за уже известным. Действительности всегда надо давать шанс «показать» себя. То, что в таких случаях показывает себя, и то, как именно оно себя показывает, в феноменологии называется «феноменом».
Феноменологи разделяли с Гофмансталем убеждение в том, что человек должен прежде всего заново выучить подлинную «азбуку» своего восприятия. Сначала нужно забыть все, что говорилось до сих пор, и отыскать язык, соответствующий реальности. Однако первые феноменологи понимали под этой «реальностью» главным образом реальность сознания и уже через нее хотели пробиться к внешней реальности, о новом овладении которой в конечном счете и шла речь.
Феноменологи были людьми на свой лад – в плане понимания границ собственных возможностей – скромными, но дерзко упрекали всех других философов в том, что те строят свои системы без фундамента. Ведь о сознании, говорили они, мы знаем пока очень мало, оно, по сути, представляет собой неисследованный континент. Современные же философы начинают обычно с исследования подсознания, не смущаясь тем, что не знают толком даже сознания.
Инициатором феноменологического движения был Гуссерль. Он призывал своих учеников к основательности. «Никто не вправе, – любил он повторять, – думать, будто работа по закладке фундамента ниже его достоинства». Его ученики должны были считать для себя честью, что им довелось быть работниками на «господнем винограднике», – правда, оставалось не совсем ясно, какой «господин» в данном случае имеется в виду. Если вспомнить о духе смирения и аскезы, честности и чистоты, который царил среди учеников Гуссерля и который они сами иногда называли «целомудрием», нам уже не будет казаться случайностью тот факт, что некоторые из них позднее стали глубоко верующими людьми. Самый известный пример такого рода – Эдит Штейн[90], посмертно причисленная к лику блаженных. Она, по ее собственному выражению, «служила» феноменологии в ранний, гёттингенский период (до 1914 года), в 1916–1918 годах была внештатной ассистенткой Гуссерля во Фрайбурге, в двадцатые годы приняла католичество и в конце концов ушла в монастырь, откуда ее, как еврейку, забрали нацисты, чтобы отправить на смерть в Освенцим.
По словам ученика Гуссерля Адольфа Райнаха, феноменология – это проект, «для осуществления которого потребуется не одно столетие». Когда Гуссерль умер (в 1938 году), осталось сорок тысяч страниц его рукописей. По сравнению с этим огромным архивом объем прижизненных публикаций основателя феноменологии кажется незначительным. После «Логических исследований» (1901) увидели свет лишь две книги, которые подтвердили славу Гуссерля и способствовали широкому распространению его философии: «Философия как строгая наука» (1910) и первый том (единственный, опубликованный при жизни автора) «Идей к чистой феноменологии и феноменологической философии» (1913).
В своих самых смелых мечтаниях, доверенных только дневнику, Гуссерль представлял себе, что будущее философии будет продолжением процесса «прядения», начатого лично им. Он постоянно говорил о себе как о «зачинателе». И соответствующим образом обращался с собственными трудами. Когда он хотел подготовить к печати какую-нибудь из своих рукописей, то начинал переписывать весь текст заново, доводя до отчаяния своих ассистентов, которые должны были ему в этом помогать. Гуссерль и мысли свои постоянно пересматривал, поэтому просто не мог оставить в неприкосновенности однажды написанное. Сознание – прежде всего его собственное – было для Гуссерля рекой, в которую, как известно, нельзя ступить дважды. В итоге у него развилась самая настоящая фобия – боязнь публикаций. Другие философы, не знавшие подобных трудностей, – например, Макс Шелер, для которого, очевидно, не составляло никакого труда подготовить к печати одновременно три книги, – вызывали у него подозрение. О Шелере Гуссерль иногда отзывался с пренебрежением, хотя и признавал его гениальность: «Конечно, внезапные озарения у человека должны быть, но он не вправе сразу публиковать их результаты». Макс Шелер, к которому лучшие идеи обычно приходили, когда он беседовал с друзьями, и который, если под рукой не оказывалось бумаги, спешил записать свои мысли на накрахмаленных манжетах, действительно не хотел и не мог ничего держать «про запас». Совсем иначе обстояло дело с Гуссерлем: он так долго «высиживал» свои труды, что под конец у него скопилось гигантское количество неопубликованных рукописей; в 1938 году один францисканский патер не без риска для жизни спас их от нацистов и контрабандой доставил в Лувен (Бельгия), где они и сегодня хранятся в специально созданном исследовательском центре.
Гуссерль родился в 1859 году в Моравии, в состоятельной еврейской семье; его детство и юность пришлись на тот период в истории Дунайской монархии, когда «чувство надежности было наиболее желанным достоянием миллионов, всеобщим жизненным идеалом» (Стефан Цвейг)[91]. Он и за изучение математики взялся потому, что эта наука показалась ему надежной и точной. Однако вскоре заметил, что математика нуждается в серьезном обосновании. Фундаментальное, несомненное, основополагающее – это стало его страстью. Так Гуссерль пришел к философии – но, как он напишет позже, оглядываясь на свою прошлую жизнь, не к той «унаследованной» от других философии, в которой «повсюду натыкаешься на неясности, незрелые смутные идеи, половинчатость, а то и просто на интеллектуальную нечестность» и где нет «ничего, что можно было бы принять хотя бы как часть, как начало серьезной науки»…
С чего надо начинать, если ты хочешь исследовать сознание? Ответ на этот вопрос, который Гуссерль сперва только предложил, а потом вновь и вновь старался внушить своим ученикам, состоял в следующем: все теории, касающиеся сознания, все прежде высказывавшиеся на этот счет мнения необходимо отбросить, чтобы как можно более беспристрастно и непосредственно наблюдать, что в действительности происходит в сознании – в моем сознании, здесь и сейчас.
Мы видим, как восходит солнце, и вся наука не смогла отучить нас употреблять это выражение: «Восходит солнце». Хуже того: мы в самом деле видим, как восходит солнце, но при этом знаем, что в реальности ничего подобного не происходит. Нам просто так кажется. Действительность иная. Воспользовавшись этой схемой «видимость-действительность», мы можем взорвать весь наш привычный жизненный мир: ничто не таково, каково оно «есть»; все лишь выглядит таковым. Что такое прекрасный августовский день – скажем, августовский день в Вене 1913 года? Роберт Музиль, тоже увлекавшийся феноменологией, умудрился описать его, не ссылаясь на чувственные ощущения: «Над Атлантикой была область низкого атмосферного давления; она перемещалась к востоку, к стоявшему над Россией антициклону… Изотермы и изотеры делали свое дело…»[92]
Августовский день никогда не предстанет перед нами таким, каким его изобразил Музиль, иронизируя над наукой. Глядя прямо перед собой, мы никогда не видели и никогда не сможем увидеть ничего похожего на изотермы. А что мы видим? Ну, например, летний день, каким его рисует наше лирическое настроение. Эта картинка, как сказал бы Гуссерль, – один из «феноменов» нашего жизненного мира. Она сохранится даже в том случае, если я точно буду знать, какие метеорологические явления ей соответствуют. Все, что дано сознанию, есть «феномен», и исследование сознания, по Гуссерлю, означает строго интроспективное наблюдение над внутренним порядком феноменов сознания. Такое исследование ничего не истолковывает и не объясняет, а просто пытается описать, что представляют собой эти феномены «сами по себе» и на что они указывают. Такое пристальное внимание к процессам, происходящим в сознании, сразу упраздняет дуализм «сущности» и «явления», или, если выразиться точнее: мы открываем для себя, что само разграничение того и другого есть просто одна из операций, осуществляемых этим же сознанием. Сознание каким-то особым образом сознает, что именно в реальности от него ускользает. А поскольку феноменом является все, что проникает в сознание, то и само это «незримое» есть один из феноменов сознания. Сущность есть не то, что скрывается «за» явлением, а само явление – в той мере, в какой я о нем думаю или в той мере, в какой я думаю, что оно от меня ускользает. Кантовская «вещь в себе», это неудачное понятие, которое обозначает то, что вообще никогда не являет себя (нашему восприятию), на самом деле тоже – поскольку мы ее можем помыслить – есть явление.
Гуссерль был далек от намерения оживлять не естественные для человека, выдуманные солипсистами сомнения в реальности внешнего мира. Напротив, он хотел показать, что весь внешний мир уже изначально присутствует в нас; что мы – не пустой сосуд, в который внешний мир просто вливается, нет, мы всегда «направлены» на что-то. Сознание – это всегда «сознание о» чем-то. Сознание находится не «внутри» того, сознанием о чем оно является, а, наоборот, «вовне» – но это можно заметить только тогда, когда сознание наконец начинают поднимать на подобающую ему высоту. Именно этим и занимается феноменология.
Для того чтобы сознание могло прояснять само себя, Гуссерль разработал определенную технику – «феноменологическую редукцию».
Феноменологическая редукция представляет собой определенный метод, позволяющий осуществлять восприятие или – в самом общем виде – процесс сознания и при этом сосредоточивать внимание не на воспринимаемом объекте, а на акте восприятия. По методическим соображениям человек как бы выходит из процесса восприятия – но не полностью, а лишь настолько, чтобы не выпускать из поля зрения сам этот процесс. Скажем, я вижу дерево. Переключаясь на восприятие «моего восприятия дерева», я замечаю, что уже как бы маркировал воспринимаемое мною дерево пометкой «настоящее». Хорошо, а если я теперь представлю себе какое-нибудь определенное дерево или вспомню о каком-нибудь дереве – что я тогда увижу? Увижу ли я воспоминания, представления? Нет, я увижу опять-таки деревья, но только такие, которые снабжены пометками «представление» или «воспоминание». Сколько деревьев, столько и видов бытия: деревья, увиденные здесь и сейчас; деревья, о которых я вспомнил; деревья, которые я себе представил… Даже одно и то же дерево – на которое я однажды посмотрел с радостью, потому что оно подарило мне тень, а в другой раз рассматривал, думая о том, выгодно ли мне его срубить, – в этих двух актах восприятия не является одним и тем же деревом. Его бытие изменилось; и когда я рассматривал его с так называемой «объективной» точки зрения, думая о нем в чисто практическом плане, – это тоже был лишь один из многих способов заставить дерево «быть». Итак, феноменологическая редукция «лишает значимости» вопрос, чем данное дерево является «в действительности», и сосредоточивает внимание на многочисленных вариантах того, «как» и «как что» это дерево являет себя сознанию; или, точнее: в каких позициях оказывается сознание по отношению к этому дереву.
Применяя метод феноменологической редукции, мы «заключаем в скобки» (то есть исключаем из рассмотрения) так называемое «естественное восприятие» и «лишаем значимости» «внешнюю» действительность – мы в результате теряем целый мир, но лишь для того, чтобы, как говорит Гуссерль в «Картезианских размышлениях», заново обрести «универсальное самоосмысление»[93].
Феноменологическая редукция – самый важный аспект феноменологии. Это особого рода внимание к процессам сознания – внимание, которое также называют «феноменологическим видением». Обладая таким видением, можно обнаружить, в какой мере жизнь сознания есть «игра» по отношению к так называемой внешней реальности. Но разве не будет пустой игрой то, что останется, когда мы заключим в скобки само «естественное восприятие» реальности? Гуссерль писал по этому поводу:
«Это универсальное лишение значимости («сдерживание», «вывод из игры») всех точек зрения в отношении предданного объективного мира… вовсе не оставляет нас, таким образом, ни с чем. Напротив, то, что мы приобретаем именно таким путем, или, точнее, что таким путем приобретаю я, размышляющий, есть моя чистая жизнь со всеми ее чистыми переживаниями и со всеми ее чистыми полаганиями, универсум феноменов в феноменологическом смысле. Можно также сказать, что εποχή (лишение значимости «естественной установки». – Р. С.) представляет собой радикальный и универсальный метод, посредством которого я в чистоте схватываю себя как Я вместе с чистой жизнью собственного сознания, в которой и благодаря которой весь объективный мир есть для меня, и так, как он есть именно для меня»[94].
Легче всего представить себе «чистое сознание» как пустое сознание: в том смысле, какой мы вкладываем в словосочетания «пустое зеркало» или «пустой желудок». Но как раз такое представление есть просто «предварительное мнение» о сознании, не позволяющее понять действительный опыт самопереживания сознания. Если же мы подойдем к этому опыту непредвзято, то сделаем открытие, что сознание ни на мгновение не оказывается оторванным от бытия. Не бывает никакого «пустого» сознания, противостоящего объектам, которыми оно заполняло бы свою пустоту. Сознание – всегда «сознание о» чем-то. И даже если, исходя из методических соображений, «очистить» сознание от внешней действительности, оно не перестанет воображать «внешнюю» действительность: внешний мир мира внутреннего. У сознания нет никакого «внутри»; оно – «вовне» себя самого. Погрузившись в сознание достаточно глубоко, ты неожиданно опять оказываешься снаружи, попадаешь к вещам – тебя к ним «вышвыривает», по выражению Жана-Поля Сартра[95], для которого чтение Гуссерля в начале тридцатых годов стало своего рода обращением в новую религию. Он тогда почувствовал себя освобожденным от парализующей традиции «философии пищеварения», которая, по сути, рассматривала сознание как «желудок» мирового универсума.
Итак, для Гуссерля сознание всегда есть «направленность на что-то». Эту основополагающую структуру сознания он называл «интенциональностью».
Различным видам процессов, происходящих в сознании, соответствуют разные виды интенций. Желание узнать что-то, обусловленное дистанцирующей (создающей дистанцию между сознанием и его объектом) познавательной интенцией, есть всего лишь одна из возможных форм интенционального сознания. Помимо этой интенции, с которой часто – ошибочно – идентифицируют феномен сознания в его целостности, существует и много других форм интенциональности, то есть форм направленности на что-то. Причем не бывает так, чтобы какой-то объект был сначала воспринят «нейтрально», а потом – посредством дополнительного акта сознания – стал «желанным», «пугающим», «любимым», «притягательным», «оцененным по достоинству» и т. д. Каждый из актов сознания – желание, любовь, оценочное суждение – имеет только ему свойственное отношение к «предмету», и сам этот «предмет» в разных актах сознания предстает по-разному. Один и тот же «предмет» для сознания всякий раз оказывается другим – в зависимости от того, воспринимается ли он с любопытством, надеждой или страхом, с практической или теоретической точки зрения. Любовь, например, говорит Гуссерль в пояснение этой мысли, «конструирует» свой «предмет» именно как «не-предмет».
Главная заслуга феноменологов заключается в том, что они показали, как тонко и многообразно работает – в действительности – наше сознание и как примитивны и грубы те концепции, с помощью которых оно пытается сделать для себя «осознанной» собственную работу. Как правило, такие концепции базируются на схеме, противопоставляющей субъективное внутреннее пространство и объективное внешнее пространство, а дальше задается (и по-разному решается) вопрос, как можно вновь соединить эти искусственно разъединенные части, как мир «входит» в познающего субъекта, а познающий субъект – в мир. Феноменология же показывает, что наши восприятие и мышление работают совсем не так, как мы это обычно себе представляем, что наше сознание – феномен «промежуточности», по выражению французского феноменолога Мориса Мерло-Понти[96], то есть оно не является ни субъектом, ни объектом (в общепринятом понимании этих терминов). Мышление и восприятие изначально представляют собой процессы в потоке сознания, состоящем из совершенно самозабвенных актов. Только элементарная рефлексия, то есть осознавание сознания, впервые вносит в этот поток разделение и открывает для себя: с одной стороны, «я», субъекта как «собственника» своего сознания; с другой стороны – объекты. Или, иными словами: изначально сознание есть именно то, сознанием о чем оно является; так, желание растворяется в желаемом, мышление – в мыслимом, восприятие – в воспринимаемом.
Гуссерль распахнул некую дверь, и перед ним открылось необозримое «поле»: мир сознания. Этот мир настолько многообразен и самопроизволен, что желание составить его точное феноменологическое описание не могло не вступить в противоречие с научными планами Гуссерля, ориентированными на систематизацию и познание закономерностей. Множество оставшихся после Гуссерля подготовительных материалов к колоссальному труду, который не был – и не мог быть – завершен, создает впечатление, что эта работа, вопреки лежащему в ее основе научно-систематизаторскому замыслу, сама стала выражением того потока сознания, который должен был быть в ней описан. Дрейфующие в этом потоке обломки систематики приводят на память один эпизод из философского научно-фантастического романа Станислава Лема «Солярис». В романе рассказывается, как ученые открыли планету, которая целиком состояла из мозга. Она вся была «океаном» – сплошной массой плазмы. Для всех очевидно, что этот одиноко движущийся в космическом пространстве мозг работает. На его поверхности возникают гигантские фигуры, волны, фонтаны, водовороты, уходящие вглубь провалы – невообразимое множество самых разных образов. Ученые воспринимают эти процессы как знаки и пытаются их расшифровать. Уже имеются огромные собрания книг по этой проблематике, идет неустанная работа по систематизации, изобретению новых названий и понятий, пока наконец перед исследователями не начинает брезжить – ужасная для обычного человеческого ума – смутная догадка о том, что события, происходящие в каждой точке океана-мозга, неповторимы и не сравнимы между собой, что их нельзя подвести ни под какое общее понятие и что бессмысленно даже давать им названия, ибо они никогда уже не повторятся точно в таком виде, в каком происходили, а потому больше не будет возможности идентифицировать их с однажды данными им именами. Все попытки хоть как-то упорядочить этот познаваемый мир оказываются рисунками на песке, их смывает первая же набежавшая волна.
Гуссерль был человеком XIX столетия. Он воплощал тип ученого-«тайного советника», профессора, по-отечески требовательно и доброжелательно относящегося к своим ученикам, в науке всегда стремился добраться до первооснов, иметь точные знания обо всем, даже о Боге. Как говорил сам Гуссерль в начале своей философской карьеры, он надеялся «с помощью строгого философского знания найти путь к Богу и к истинной жизни».
Впрочем, адепты эмпирических наук не проявляли особого интереса к фундаментальным феноменологическим работам «свихнувшегося часовщика» – так фрайбургские студенты прозвали Гуссерля за то, что он, произнося свои утомительные монологи, часто машинально двигал средним пальцем правой руки в неплотно сжатом левом кулаке. Гуссерль настолько погружался в собственный поток сознания, что даже не замечал подозрительного отсутствия вопросов, и когда однажды один из студентов (это был Ганс Георг Гадамер) что-то ему возразил, он после лекции сказал своему ассистенту Мартину Хайдеггеру: «Сегодня получилась и вправду интересная дискуссия». То, что человек любит, становится для него средоточием рая. Вот почему Гуссерль не мог понять, что его ученики жили еще и в каких-то других мирах, помимо его феноменологии, что у каждого из них имелись другие важные дела. Своей личной ассистентке Эдит Штейн он как-то на полном серьезе сказал, что она должна оставаться с ним, пока не выйдет замуж. Лучше всего, если она найдет себе мужа из числа его учеников, который тоже захотел бы стать ассистентом, и кто знает – может, тогда и их дети со временем выбрали бы себе профессию феноменолога…
По иронии судьбы, Гуссерль («специалист по фундаментам», как он сам себя называл), пытаясь найти прочное основание для всей конструкции человеческого познания, открыл философскими методами не что иное, как поток сознания, – и потом предпринимал комичные усилия, чтобы превратить эту живую и бесконечно подвижную стихию в фундамент, в абсолютно прочный и надежный цоколь. На зыбучих песках он намеревался воздвигнуть дом, которому – так он это себе представлял – суждено простоять века. Феноменологическое исследование сознания – проект, рассчитанный на столетия. В минуты эйфории Гуссерль мог сказать: «Понятно, почему по феноменологии втайне тосковала вся философия Нового времени»; но приходили и минуты отчаяния, когда он переставал верить в осуществимость и ценность собственного проекта: разве тот, кто исследует безграничное поле сознания, не будет всегда, неизбежно, только «начинающим» в худшем смысле этого слова? Разве он не окажется в положении человека, который хотел бы дойти до горизонта, с каждым его шагом отодвигающегося все дальше?
Гуссерль попытался выпутаться из головоломной ситуации, решив, что если сознание невозможно описать и проанализировать до конца, то надо просто «завязать мешок с другой стороны», то есть начать не с конца, а с начала. В результате этого происшедшего у него в голове короткого замыкания родилась идея «трансцендентального ego» – регулятивной структуры, которая отвечает за всю работу и все операции сознания; которая есть исток потока сознания.
Но если, согласно самому Гуссерлю, «я»-сознание формируется лишь во вторую очередь, в процессе восприятия восприятия, то как можно считать «трансцендентальное ego» началом всего процесса сознания? Гуссерль просто заявляет, что феноменологическая установка, позволяющая наблюдать процесс сознания, – это и есть «место» «трансцендентального ego». «Каждое cogito[97] со всеми своими составными частями возникает или прекращается в потоке переживаний. Но чистый субъект не возникает и не прекращает существовать, хотя на свой особый лад «появляется» и «исчезает». Он «вступает» в действие и опять «выступает» из действия. Что это значит и что вообще представляет собой и делает этот субъект, мы узнаём – точнее, он узнаёт – в процессе самовосприятия, которое тоже есть одно из его действий, причем такое, которое обосновывает абсолютную несомненность всей структуры бытия».
Итак, тот самый Гуссерль, который проделал неожиданный фокус, описав сознание до его расщепления на «я» и остальной мир – то есть открыв сознание, «еще лишенное «я»», – на трансцендентальном уровне вновь пришел к представлению, которое на уровне эмпирики как раз и хотел преодолеть: к представлению о «я» как «собственнике» содержания своего сознания. Только что разрушенное Гуссерлем «я» вновь, как в картезианской традиции, превращается в высшую удостоверяющую инстанцию. Этот (впервые обозначившийся в 1913 году) поворот к «трансцендентальному ego» позже вызовет критику со стороны Хайдеггера. Гуссерль понимал «трансцендентальное ego» как некую субстанцию, наполнители коей (содержания) могут меняться, тогда как сама она остается неизменной. Однако толкуемое таким образом «трансцендентальное ego» приобретает подозрительное сходство с Божественным Духом, который в классической философской традиции всегда мыслился как неизменная основа всех возникающих в мировом универсуме содержаний. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Гуссерль высказался об открытии «трансцендентального ego» так: «Если я делаю это для самого себя, то не являюсь человеческим «я»».
Гуссерль в конце концов вновь совершил поворот к традиционному «я» (из которого еще у Фихте вырастал целый мир); в результате сознание перестало для него быть просто волшебным «нечто», которое возникает в мире и перед которым тогда весь мир может явить себя именно как мир. Нечто онтическое, имеющее свойство быть онтологичным, – так определит Хайдеггер этот загадочный феномен и снова бросит его в мир, из которого Гуссерль его тайком выкрал. Гуссерлевское «трансцендентальное ego» держало в своей голове весь мир – но только сама эта голова не вполне принадлежала здешнему миру.
Очевидно одно: желая привязать богатую жизнь сознания к некоей неподвижной точке, но в то же время избежать как натуралистической, так и психологистической редукции, мышление очень легко может поддаться искушению обожествления самого себя.
Однако сознание, которое хочет прояснить для себя и «присвоить» богатую жизнь сознания, не разрушая ее, не обязательно должно претендовать на роль Божественного Духа трансцендентальной философии – оно может стать и поэтическим сознанием. Еще со времен Платона философы – кто втайне, кто открыто – мечтали о такой возможности. Гуссерлю тоже было не чуждо это ощущение. «Философия и поэзия, – сказал он как-то, беседуя с одним японцем, – связаны между собой в своих глубинных истоках и обладают тайным душевным родством».
Это «тайное родство» с поэзией ни в одном другом философском учении не проявилось так отчетливо, как в феноменологии. Описание жизни сознания (а следовательно, и человеческого опыта переживания мира), обостренное внимание к феноменам «внутреннего» и «внешнего» пространства, «внутреннего» и «внешнего» времени – такие вещи всегда интересовали поэтов, и особенно одного из них, того, кто прошел школу Бергсона и в своих звуконепроницаемых комнатах на бульваре Осман предавался феноменологическим экзерсисам: Марселя Пруста. Если по феноменологии, как однажды выразился Гуссерль, «втайне тосковала вся философия Нового времени», то мы будем недалеки от истины, предположив, что сама феноменология втайне тосковала по Прусту.
Перечитайте самое начало цикла «В поисках утраченного времени», где рассказчик описывает свое пробуждение: и вы найдете непревзойденный образец феноменологического анализа повторяющегося каждое утро возрождения «я» – «я», которому всякий раз приходится совершать возвратное путешествие через пространство и время, прежде чем оно вновь попадет в точку пересечения «здесь» и «сейчас».
«Но достаточно бывало, чтобы, в моей собственной постели, сон мой был глубоким и давал полный отдых моему уму; тогда этот последний терял план места, в котором я заснул, и когда я просыпался среди ночи, то, не соображая, где я, я не сознавал также в первое мгновение, кто я такой; у меня бывало только, в его первоначальной простоте, чувство существования, как оно может брезжить в глубине животного; я бывал более свободным от культурного достояния, чем пещерный человек; но тогда воспоминание – еще не воспоминание места, где я находился, но несколько мест, где я живал и где мог бы находиться, – приходило ко мне, как помощь свыше, чтобы извлечь меня из небытия, из которого я бы не мог выбраться собственными усилиями: в одну секунду я пробегал века культуры, и смутные представления керосиновых ламп, затем рубашек с отложными воротничками мало-помалу восстанавливали своеобразные черты моего «я»»[98].
Для того чтобы могла иметь место феноменологическая внимательность к миру процессов, происходящих в сознании, нужна установка, которая позволяла бы отрешиться от притязаний со стороны повседневной жизни и присущих ей сложностей, потому что там, в повседневной жизни, мы обращаем внимание на вещи, людей и на нас самих, а не на то, как все это «дается» нам в нашем сознании. Вот почему Гуссерль постоянно подчеркивал необходимость разрыва с «естественной установкой». Да и Пруст тоже смог развернуть феноменологический универсум своих воспоминаний только после того, как стал вести жизнь затворника в своей спальне, которая на протяжении последних двенадцати лет, до самой смерти, служила ему рабочим кабинетом. И Гуссерль, и в еще большей мере Пруст оправдали свой уход из внешнего мира тем, что открыли целую онтологию внутреннего мира – еще одно бесконечно многообразное и многоуровневое царство бытия. Предметы воспоминаний, страха, тоски, надежды, мышления – это все разные «реальности», сопротивляющиеся любым попыткам провести в них четкое разграничение между субъектом и объектом.
Что касается Мартина Хайдеггера, для которого посвящением в философию стала работа Брентано о «множественности значений сущего», то он воспринял феноменологию Гуссерля как философию, открывающую множественность самого сущего.
В знаменитом лекционном курсе «Пролегомены к истории понятия времени», прочитанной в Марбурге летом 1925 года, Хайдеггер говорит о тех аспектах гуссерлианской феноменологии, которые когда-то помогли ему найти собственный путь, и указывает на границы этого учения, через которые ему, Хайдеггеру, пришлось переступить, чтобы быть в состоянии двигаться дальше.
Решающую роль для него сыграла феноменологическая установка, побуждавшая еще раз, совершенно по-новому подойти в «вещам»: «отказ от предрассудков, т. е. простое видение и фиксация увиденного, без любопытствующего вопрошания о том, что теперь с этим делать». Этот свойственный феноменологии подход – непредвзятое внимание (Sachlichkeit) – «дается нам труднее всего, поскольку притворство и ложь суть стихия человеческого существования, уже всегда заговоренного другими» (Пролегомены, 33).
К тому «искусственному» внутри философии, против чего борется феноменология, Хайдеггер относит, среди прочего, и устойчивое догматическое представление о наличии двух сфер: сферы сущностей и сферы видимых явлений. Феноменология, по мнению Хайдеггера, реабилитировала феномены, то есть видимый мир; она вернула нам остроту восприятия того, что (про)являет себя. В феноменологическом понимании «явление» не есть низшая, может быть, даже обманчивая реальность, за которой следует искать реальность подлинную (в метафизическом или естественно-научном смысле). Это «подлинное» – будь то Бог, «предмет» логики или так называемые законы природы – тоже есть нечто, «являющее себя». Для Хайдеггера феноменология – не умозрительная конструкция, а «работа выявляющего позволения видеть в смысле методичного устранения того, чем нечто скрыто» («Пролегомены», 93). В результате такого акта высвобождается – что Хайдеггер считал важнейшим открытием феноменологии – интенциональная структура сознания. А это, по мнению Хайдеггера, означает, что преодолевается постулируемый в традиционной гносеологической теории дуализм субъекта и объекта, причем преодолевается сразу с обеих сторон: и со стороны «являющего себя» мира, и со стороны сознания, которое всегда направлено на мир.
В лекциях 1925 года Хайдеггер четко указал и на границы того, что было достигнуто Гуссерлем. Хотя Гуссерль реабилитировал феномены и вернул нам остроту восприятия различных видов контакта с сущим, он никогда не ставил вопрос, в каком смысле является «сущим» сам человек, или, точнее, интенциональное сознание. Гуссерль удовлетворился негативным определением, сказав, что человек – «ответ на вызов природы». О мыслях самого Хайдеггера относительно того, кто есть человек и что он из себя представляет, мы поговорим позже.
Как бы то ни было, уже в первые годы интенсивного сотрудничества с Гуссерлем Хайдеггер начал, так сказать, вырывать идеи Гуссерля из их изначального контекста, связанного исключительно с сознанием, и «забрасывать» эти идеи во внешний мир.
В этом ему помогало, во-первых, увлечение дильтеевской философией – философией исторической жизни. Хайдеггеру, разделявшему взгляды Дильтея, казалась подозрительной любая философия, которая запутывалась в собственных противоречиях, пытаясь обеспечить себе некое надежное укрытие по ту сторону истории. Гуссерлианская концепция «трансцендентального ego» как раз и была такой беспомощной попыткой сконструировать своего рода «потусторонний мир» внутри человеческого сознания. Во-вторых, отказаться от идеи имманентности сознания, которую отстаивал Гуссерль, Хайдеггеру помогло изучение работ Кьеркегора.
Кьеркегоровская критика иллюзорной уверенности во всемогуществе человеческого духа исходила не из концепции исторической «жизни», как у Дильтея, а из осознания неустранимого различия между мышлением и существованием. В будничных перипетиях жизни мы вновь и вновь попадаем в ситуации, когда нам приходится решать, кем, собственно, мы хотим быть. Мы покидаем пространство абстрактно мыслимого, потому что должны как-то определиться, взять на себя некую ответственность и, значит, не можем избежать превращения из «потенциального» человека, который мыслит о чем угодно, в человека реального, который из всех мыслимых вариантов выбирает что-то одно, и это «одно» потом будет ограничивать его как во внутренней, так и во внешней деятельности. С точки зрения экзистенциалистской концепции Кьеркегора, «философия сознания» есть просто один из способов бегства от опасностей реально проживаемой жизни.
О том, чтобы Хайдеггер не только разумом осознал всю силу исторической и экзистенциальной жизни, но и почувствовал ее на собственной шкуре, позаботилась сама история.
Со дня приезда Гуссерля во Фрайбург Хайдеггер пытался поближе познакомиться с мэтром, но тот поначалу казался совершенно неприступным. Гуссерль, видимо, считал Хайдеггера философом, связанным определенными конфессиональными обязательствами, и это уменьшало его интерес к молодому коллеге. Почти год Хайдеггер предпринимал свои безуспешные попытки, и наконец ему удалось договориться с Гуссерлем о личной беседе. 24 сентября 1917 года Гуссерль написал Хайдеггеру: «Я с удовольствием окажу Вам поддержку в Ваших исследованиях, насколько это в моих силах».
Так зимой 1917/18 года Гуссерль наконец «открыл» для себя Хайдеггера. Незадолго до того Эдит Штейн отказалась от должности личной ассистентки Гуссерля. Для нее стала невыносимой ситуация, когда приходилось готовить к печати рукописи учителя, а он, этот вечный «начинающий», постоянно подбрасывал все новые наброски и заметки, перечеркивавшие все сделанное ранее. Кроме того, Гуссерль чрезмерно загружал Эдит Штейн всякого рода приватными поручениями, практически не оставляя ей времени для работы над диссертацией.
Теперь Гуссерль подыскивал себе нового сотрудника – потому, вероятно, и был настроен более благожелательно, чем раньше, к Мартину Хайдеггеру, который не оставлял своих попыток завоевать расположение учителя.
В последние недели 1917 года Гуссерль и Хайдеггер, очевидно, много беседовали на серьезные философские темы; во всяком случае, когда в январе 1918 года Мартина Хайдеггера, как ландштурмиста, перевели на казарменное положение, а затем послали для прохождения военной подготовки на полигон Хойберг, недалеко от его родного Мескирха, Гуссерль написал ему письмо, выдержанное в очень личном тоне, в котором, в частности, жаловался, как ему сейчас не хватает их совместных философствований. Хайдеггер – вероятно, польщенный – ответил шутливым письмом; впрочем, мысли его тогда были заняты не столько философией, сколько тем обстоятельством, что он, как ни странно, так хорошо переносит тяготы военной муштры. Гуссерль, который всегда был патриотом, мог только порадоваться успехам своего молодого коллеги на этом внефилософском поприще. Может быть, даже хорошо, писал он 28 марта 1918 года, что Хайдеггеру придется на какое-то время отложить философию, ибо потом – «а война, как можно надеяться после блестящих побед на Западе, продлится не слишком долго» – он наверняка «с еще большим рвением» займется философскими проблемами.
Хайдеггер между тем продолжал нести воинскую службу. Его направили на полевую метеостанцию – как, кстати, и Жана Поля Сартра двадцать лет спустя, в начале Второй мировой войны, – а в июле послали на метеорологические курсы в Берлин. Оживленная переписка с Гуссерлем продолжалась, и ее тон становился все более сердечным и доверительным. В письме от 10 сентября 1918 года Гуссерль восторгался непорочной молодостью Хайдеггера, его «душевной зоркостью, чистым сердцем, четко ориентированной волей к жизни». Письмо заканчивалось проникновенным восклицанием: «Ах, эта Ваша молодость – как радует и бодрит меня то, что я могу причаститься к ней благодаря Вашим письмам!»
Такой отеческий и преувеличенно восторженный тон, возможно, отчасти объяснялся тем, что Гуссерль, чей младший сын погиб на войне весной 1916 года, теперь, осенью 1918-го, боялся потерять второго сына, лечившегося в лазарете после ранения в голову. Гуссерль стал относиться к Мартину Хайдеггеру так, как будто тот мог заменить ему умершего сына. В то время, когда Гуссерль вел переписку с Хайдеггером, в семье Гуссерлей жила Эдит Штейн, добровольно взявшая на себя роль сиделки и домработницы. Дело в том, что Эдмунд Гуссерль и его жена Мальвина заболели тяжелым гриппом, домработница внезапно заявила о своем уходе, дочь Гуссерлей была в отъезде, а из лазарета, вдобавок ко всему, приходили плохие новости. В письмах к Роману Ингардену[99] Эдит Штейн описывала всю эту тяжелую ситуацию, и можно понять, как много значила тогда для Эдмунда Гуссерля его переписка с Мартином Хайдеггером. Вера в победу, вдохновлявшая Гуссерля еще весной (и так красноречиво выраженная в его письме), теперь куда-то улетучилась. В доме начались разговоры о недостатках имперской «системы», а Мальвина Гуссерль, к вящему раздражению мужа, даже перешла, по выражению Эдит Штейн, «в лагерь «независимых»» (то есть вступила в НСДПГ – Независимую социал-демократическую партию Германии[100]). Дело дошло до ужасных скандалов между супругами.
Между тем Хайдеггера в конце августа перевели на Западный фронт, на армейскую метеостанцию в Арденнах, около Седана. Метеорологическая служба была создана там еще перед битвой на Марне[101]: знание прогнозов погоды позволяло более эффективно использовать отравляющие вещества.
Мы можем составить себе впечатление о том, как Мартин Хайдеггер воспринимал эту ситуацию, прочитав его первые письма к Элизабет Блохман.
Элизабет Блохман была подругой Эльфриды по университету. В военные годы она изучала в Страсбурге философию (у Зиммеля), германистику и педагогику; она также некоторое время работала в социальной службе, специализировавшейся на уходе за больными. На нее оказал сильное влияние дух молодежного движения, принципы которого были обобщены в известной формуле 1913 года: «Молодежь свободной Германии хочет сама определять свою жизнь – ответственно, по собственному выбору и так, чтобы каждый оставался честным перед самим собой».
Именно в кругах этой радикально настроенной молодежи впервые познакомились Мартин Хайдеггер, Элизабет Блохман и Эльфрида.
В первых письмах, которыми обменивались Мартин и Элизабет, еще явственно ощущается связывавший обоих дух молодежного движения. Там часто мелькают такие выражения, как «честность перед самим собой» и «ответственность»; о том же, что молодые люди были слегка влюблены друг в друга, можно только догадываться. Оба упражнялись в искусстве косвенных намеков, иносказаний. Элизабет Блохман, которая была на три года моложе Мартина Хайдеггера, откровенно им восхищалась, а ему это льстило, и он, обращаясь к ней, охотно присваивал себе тон философа-ментора и духовного наставника: «Нам надлежит считать своим долгом следующее: всем тем, что, оставаясь абсолютно честными перед собой, мы живо и серьезно переживаем в себе, мы должны делиться со своими единомышленниками» (2.10.1918, BwHB, 9); «Наша духовная жизнь должна снова стать воистину реальной – должна обрести мощь, порожденную личностным началом, мощь, которая «переворачивает» человека и заставляет его по-настоящему возвыситься над собой; и проявиться как подлинная сила эта мощь может только в простоте, а никак не в чем-то таком, что несет на себе печать тщеславия, декаданса или принуждения… Достаточно дать пример духовной жизни, то есть самому жить такой жизнью и ее формировать, чтобы все те, кто должен в ней участвовать, оказались бы самым непосредственным образом, в самом подлинном аспекте своего существования, втянутыми в ее орбиту… Там, где действительно живет вера в самоценность нашей способности определять собственную судьбу, там человек изнутри – и навсегда – преодолевает все малоценное в своем случайном окружении» (15.6.1918, BwHB, 7).
Мартин Хайдегтер станет свидетелем последней серьезной попытки германских армий дать отпор победоносному продвижению союзников на Западном фронте, и это событие с кричащей очевидностью покажет ему: того «духа», которым вдохновлялась немецкая культура в предвоенные годы, больше не существует. Война дотла выжгла все наносное – оставив лишь голое ядро человеческой личности, которое молодой Хайдеггер с расплывчатым пафосом называл «мощью личностного начала», «верой в самоценность» или «тем, что принадлежит к центральному «я»». Это насильственное сведение человеческой личности к ее «ядру» в глазах Хайдеггера было великим обнадеживающим шансом: именно теперь, казалось ему, человек сумеет преодолеть «все малоценное в своем случайном окружении» – но, конечно, только в том случае, если обладает внутренней силой, привык полагаться только на самого себя и готов отринуть фальшивый дух порождаемого цивилизацией комфорта. Такое преодоление, как думал Хайдеггер, повлечет за собой возрождение подлинного духа – сначала в узком кругу тех, «кто остался честным перед самим собой»; позже, может быть, это движение обновления начнет распространяться в народе (и в экстенсивном, и в интенсивном смысле). 7 ноября 1918 года, еще находясь на фронте, Хайдеггер пишет Элизабет Блохман: «Пока неясно, как вообще будет складываться жизнь после конца войны, который должен скоро наступить и в котором наше единственное спасение. Несомненным и непоколебимым остается требование к истинно духовным людям: именно теперь они должны не расслабляться, а, напротив, решительно взять на себя миссию руководителей, чтобы воспитывать в народе честность и умение по-настоящему ценить подлинные блага бытия. Жизнь для меня и вправду удовольствие, даже если придется столкнуться с некоторыми внешними лишениями и кое от чего отказаться. Потерпят крах и впадут в беспомощное отчаяние только внутренне бедные эстеты и люди, которые до сих пор, слывя «духовными», на самом деле только играли с духом – так, как другие играют с деньгами и удовольствиями. Но от таких людей в любом случае не стоит ждать ни помощи, ни ценных указаний» (BwHB, 12).
«Жизнь для меня и вправду удовольствие», – писал Хайдеггер. Его окрылял тот факт, что мир, «который только играл с духом», теперь, наконец, рушится. Политические представления молодого философа оставались весьма смутными. В письмах с фронта он почти не упоминает о том, что там пережил, – если не считать пассажей типа «поездка на фронт была изумительной» (2.10.1918, BwHB, 9), – зато часто говорит о своем радостном предчувствии скорого наступления некоего нового начала в развитии философской мысли. Он давал понять, что сперва надо отбросить все отжившее, неистинное, условное, искусственное. Чтобы потом вернуть человеку «изначальные переживания» (в том числе и религиозного характера), которые до сей поры были заслонены от него философией и теологией, потому что последним ошибочно приписывались качества равновеликой бытию протяженности и применимости к любым ситуациям.
Ополченец Мартин Хайдеггер открыл для себя новую интенсивность переживания. Речь идет не о переживании самой войны, а о том, что остается, когда катастрофа выжигает все вокруг. Не о победе, выковывающей и закаляющей «стальные» характеры, а о поражении, которое неминуемо влечет за собой очищение от всех шлаков. Речь идет об особого рода вере «в дух и его силу – тот, кто живет в нем и для него, никогда не станет защищать безнадежное дело» (6.11.1918, BwHB, 10). И далее: «Новая жизнь, которую мы хотим или которая хочет выразить себя через нас, отказалась быть универсальной, то есть неподлинной и плоской (поверхностной); ее владение – это первозданность: не то, что искусственно сконструировано, а очевидность тотальной интуиции» (1.5.1919, BwHB, 15).
То были значительные, многообещающие слова, а отнюдь не пустые фразы, ибо молодой приват-доцент, произведенный в ефрейторы в последние недели войны, вернувшись в ноябре 1918 года во Фрайбург, сразу же со всей энергией бросился по следам этой самой «тотальной интуиции», дабы ухватить то, что уже захватило его самого, и помочь ей, этой интуиции, этой очевидности сиюминутного, выразить себя философским языком, но главное – чтобы вмонтировать ее в непрерывность жизни. При этом он не упускал из виду и динамику времени: оно временит интуитивное схватывание очевидности мига, но не сохраняет его, не позволяет ему длиться долго. Такое интуитивное схватывание случается, оно есть событие, его нельзя специально подстроить, но дальше все будет зависеть от того, что мы сумеем с ним сделать. В подробном письме к Элизабет от 1 мая 1919 года (документе, который, может быть, с наибольшей проникновенностью свидетельствует не только о его собственных интимных философских исканиях, но и о настроениях многих молодых людей той эпохи) Мартин Хайдеггер писал: «Мы демонстрируем свойственное рационалистическому мышлению непонимание сущности персонального потока жизни, когда ждем от него и требуем, чтобы он всегда оставался таким же полноводным и мощным, каким бывает в свои благословенные мгновения. Подобные притязания проистекают из отсутствия внутреннего смирения перед таинственным и благодатным характером всякой жизни. Мы должны научиться терпеливо ждать наступления моментов сверхнапряженной интенсивности исполненной смысла жизни – и мы должны удерживать эти мгновения при себе во временной протяженности – не столько наслаждаться ими, сколько включать их в жизнь – брать их с собой в нашу дальнейшую жизнь и подчинять ритму всякой начинающейся жизни.
И в те моменты, когда мы непосредственно ощущаем себя самих и то направление, в котором мы, проживая нашу жизнь, движемся, мы должны не только констатировать это ясное ощущение как таковое, не только протоколировать его – как если бы оно просто стояло, подобно некоему предмету, напротив нас, – нет, постигающее овладение самим собой бывает подлинным только тогда, когда оно действительно переживается, то есть является не только постижением, но одновременно и бытием».
Итак, в 1919 году Мартин Хайдеггер был счастлив тем, что получил наконец возможность исследовать собственные интуитивные прозрения, а то, что происходило вокруг него, называл «сумасбродными обстоятельствами» (14.1.1919, BwHB, 12).
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Революционная эпоха. Макс Вебер против «кафедральных пророков». Инфляция святых. Хайдеггер рассуждает о кафедре. Из ранней истории вопроса о бытии. Переживание и обезжизневание. «Оно мирствует». «Философия сплошной вырубки». Дадаизм Хайдеггера. Прозрачность жизни. Тьма пережитого мига. Родственные души: Хайдеггер и молодой Эрнст Блох.
В начале 1919 года Макс Вебер выступил в Мюнхене с докладом на тему «Наука как призвание и профессия». Он читал эту лекцию в городе, охваченном, как и другие крупные центры Германии, революционным возбуждением. Несколько недель спустя в Мюнхене вспыхнет открытая гражданская война и будет провозглашена Советская республика, в которой на короткое время у власти окажутся такие благонамеренные писатели, как Толлер и Мюзам, собиравшиеся установить «царство света, красоты и разума»[102]. Макс Вебер считал все это безответственной и надуманной политикой авантюристов, которые не желали понять, что ожидать от политики конкретного воплощения идей счастья и разума – значит предъявлять к ней чрезмерно завышенные требования. Карл Лёвит[103], находившийся тогда в лекционном зале, позже описал, как Макс Вебер, до смерти которого оставался всего лишь год, «бледный и изможденный, быстро прошел через переполненный зал к кафедре». Его «лицо, обрамленное взъерошенной бородой», напомнило Левиту «угрюмо-пламенные лики бамбергских пророков». Впечатление было «потрясающим». Макс Вебер, как говорит Карл Лёвит, разорвал «все покровы иллюзий, и все же каждый почувствовал, что этим ясным разумом движет сердце, исполненное глубокого и серьезного гуманизма. После бесчисленных революционных речей литературных активистов слово Вебера воспринималось как спасение».
В этом докладе, который сразу же был опубликован и вызвал ожесточенные споры в самых широких кругах общества, содержался трезвый анализ современной эпохи. На первый взгляд, в докладе шла речь о научной этике, однако по сути Макс Вебер пытался ответить на вопрос, как вообще может удовлетворяться – внутри стальной скорлупы современной «рационализированной» цивилизации – свойственная человеку потребность в осмысленной жизни. Ответ Вебера сводился к тому, что наука, которая через посредство своих технических результатов коренным образом преображает нашу повседневную жизнь и которая во время войны показала, какие разрушительные силы в ней скрываются, – что эта наука стала нашей судьбой, но тем не менее она оставляет человека один на один с вопросами, касающимися смысла: «В чем же состоит смысл науки как профессии теперь, когда рассеялись все прежние иллюзии, благодаря которым наука выступала как «путь к истинному бытию», «путь к истинному искусству», «путь к истинной природе», «путь к истинному Богу», «путь к истинному счастью»? Самый простой ответ на этот вопрос дал Толстой: она лишена смысла, потому что не дает никакого ответа на единственно важные для нас вопросы «Что нам делать?», «Как нам жить?». А тот факт, что она не дает ответа на данные вопросы, совершенно неоспорим. Проблема лишь в том, в каком смысле она не дает «никакого» ответа. Может быть, вместо этого она в состоянии дать кое-что тому, кто правильно ставит вопрос?»[104]
Наука способна проверить соответствие применяющихся средств поставленным целям, которые сами обосновываются оценочными суждениями. Она также способна проанализировать эти оценочные суждения на предмет выявления их внутренней противоречивости и установить, насколько они совместимы с другими подобными суждениями. Следовательно, наука может помочь нам «дать себе отчет в конечном смысле собственной деятельности»[105], но никогда не освободит нас от необходимости самим решать, как нам следует жить. Эту свободу в вынесении личных оценочных суждений можно воспринимать как освобождение от какой бы то ни было опеки. Тогда тот факт, что науки не могут предложить никаких смыслополагающих и оценочных суждений, будет восприниматься не как проблема, а как благоприятный шанс. Однако на самом деле этого не происходит. Ибо наша цивилизация, как говорит Макс Вебер, настолько глубоко интеллектуализирована и рационализирована, что подрывает у индивида веру в его способность самостоятельно выносить компетентные суждения. Люди хотят и при вынесении оценочных суждений иметь объективные основания для уверенности и гарантии надежности, к которым привыкли в мире техники. Пассажиру, который едет в трамвае, нет надобности знать, как именно трамвай функционирует, – он вполне может положиться на то, что все хорошо «просчитано». Но когда человек окружен жизненным миром, который в бесконечном множестве своих аспектов «просчитываем» и привык к тому, что хотя сам не все точно понимает, зато знает, что понимают другие – иначе они не могли бы создать все эти чудеса техники, – он начинает требовать такой же надежности и гарантий там, где, собственно, их нельзя требовать: в сфере смыслополагающих и оценочных суждений. Вместо того, чтобы воспользоваться свободой, которая дана ему в этой сфере, человек и здесь стремится к научной объективности. И тогда в игру вступают конъюнктурные мировоззрения, которые добиваются доверия к себе, драпируясь в одежды научности. Приходит время «пророчеств с кафедры», как обозначил этот феномен Макс Вебер. Такие пророки реагируют на отсутствие тайны в расколдованном посредством рационализации мире, лишая мир последнего волшебства, которое в нем еще оставалось: а именно, подвергают личность и ее свободу фальшивой рационализации. Они не хотят терпеть напряжения между рациональностью и личностью – и колдовским манером создают из «переживания» мировоззрение (столь же надежное и комфортное, как поездка в трамвае). Вместо того, чтобы оставить тайну там, где она еще существует, – в душе отдельного человека, – «пророки с кафедр» погружают уже расколдованный мир в полумрак, вновь заколдовывая его по своему произволу. Макс Вебер, напротив, ратует за то, чтобы не смешивать разные вещи. С одной стороны, должен существовать рациональный подход к миру, с другой – уважение к тайне личности, даже если эта личность иногда охотно сбрасывает с себя бремя свободы. Макс Вебер требует честности. Нужно прямо смотреть в глаза фактам, пусть и неприятным: в мире, который мы способны полностью рационализировать и технически обустроить, Бог исчез; если же Он еще существует, то лишь в душе отдельного человека, который должен быть готов на свой страх и риск «принести в «жертву» интеллект… ради безусловной преданности религии»[106]. Живая вера, вера не от мира сего, завораживала Макса Вебера точно так же, как могут заворожить художники или виртуозы. «Принесение в жертву интеллекта» он считал «виртуозным актом», а способность к такому акту – «главнейшим признаком позитивно-религиозного человека»[107]. Веру же, которая смешивает себя с наукой или вступает с последней в идеологическую конкурентную борьбу, он называл «или надувательством, или самообманом»[108]. Только вера, которая не идет ни на какие обманчивые компромиссы с наукой, обладала в его глазах достоинством и истинностью, но ее место он видел «или в потустороннем царстве мистической жизни, или в братской близости непосредственных отношений отдельных индивидов друг к другу»[109]. Только в этих сферах может свободно веять «пророческий дух», но людям следует тщательно следить за тем, чтобы он не проникал на арену политической жизни.
Предостережения Макса Вебера не возымели действия. «Пророки с кафедр» реагировали на его доклад раздраженно. Учитель народной школы Эрнст Крик[110], один из тех, кому еще только предстояло получить кафедру (Мартину Хайдеггеру придется иметь с ним дело во время национал-социалистской революции), взял на себя роль выразителя идей противников Макса Вебера, выступавших с «правых» позиций. Крик обвинил Вебера в том, что тот принял «позу объективности» и защищает свободу оценочных суждений. По мнению Крика, это есть типичное проявление декаданса, выражение позиции «лишившихся корней интеллектуалов». Нация потеряла свою душу, что сказалось, помимо других сфер, и на науке. Поэтому Крик требует «революционного преобразования науки». Наука, по его мнению, должна участвовать в создании «всеобщей национальной религии», которая приведет народ к «моральному единству» и возвысит государство над уровнем чисто утилитарной машины. У Макса Вебера уже не было сил обороняться от критики, обвинений и клеветы. Он умер в 1920 году. Но он бы в любом случае не сумел разделаться со всеми появлявшимися тогда пророчествами, видениями, учениями о спасении и новыми мировоззренческими системами. Ибо в первые годы Веймарской республики «пророки с кафедр», которых разоблачал Макс Вебер, столкнулись с серьезной конкуренцией со стороны лиц, не связанных с университетской средой. То было время инфляции «святых»: повсюду – на улицах, в лесах, на рыночных площадях, в цирках и задымленных пивных – разглагольствовали новоявленные пророки, заявлявшие о своем намерении спасти Германию или весь мир. Труд Освальда Шпенглера «Закат Европы»[111], проданный в те годы в количестве шестисот тысяч экземпляров, был крупным теоретическим проектом – но проект этот, так сказать, разбился на тысячи мелких осколков, всевозможных толкований мира, проникнутых духом конца времен и радикального нового начала. Почти в каждом большом городе был свой «спаситель человечества», а то и несколько претендентов на эту роль. В Карлсруэ, например, объявился некий человек, который называл себя «первобытным вихрем» и обещал своим приверженцам, что приобщит их к космическим энергиям; в Штутгарте новый «сын человеческий» приглашал всех желающих на спасительную вегетарианскую вечерю; в Дюссельдорфе новый «Христос» возвещал близящийся конец мира и призывал своих последователей искать прибежище в горах Эйфель[112]. В Берлине «духовный монарх» Людвиг Хойссер собирал полные залы слушателей, требовал «последовательнейшего соблюдения этики Иисуса» (в духе первобытного коммунизма), пропагандировал анархию в любви и предлагал самого себя в качестве «фюрера» – как «единственный шанс к наивысшему развитию [немецкого] народа, германского рейха и всего человечества». Многочисленные пророки и харизматики тех лет почти все говорили о приближении Тысячелетнего царства и конца света – независимо от того, были ли они неудачниками, запутавшимися в послевоенных революционных событиях, фанатичными сторонниками решительного преобразования мира, одичавшими метафизиками или дельцами на ярмарке идеологий и эрзац-религий. Люди серьезные и заботившиеся о своей репутации старались держаться подальше от того действа, что разыгрывалось на этих грязных балаганных подмостках, но граница между ним и остальной жизнью была весьма и весьма неопределенной. Сказанное относится и к политической сцене в узком смысле: там тоже и «справа», и «слева» пышным цветом расцветали мессианизм и всевозможные учения о спасении. Так, в дни мюнхенской Советской республики в одном из указов, изданных Толлером и Мюзамом, говорилось о том, что мир теперь превратился в «луг, усеянный цветами», на котором каждый сможет «возделывать свою часть», и что с эксплуатацией, всеми видами иерархии и мышлением в юридических категориях навсегда покончено; газетам же рекомендовалось печатать на первых страницах, рядом с последними революционными декретами, стихотворения Гёльдерлина или Шиллера.
Лихорадочный дух тех лет выражался и в том, что представители всех политических лагерей стремились любой ценой придать смысл вещам, которые заведомо не должны были им обладать. Люди оказались неготовыми к тому, чтобы смириться с расколдовыванием современного мира – будь то в сфере политики или в научной сфере. Упор на реализм и реальную политику (свойственный «Веймарской коалиции») после 1920 года уже не пользовался популярностью, и призыв Макса Вебера к воздержанию от мировоззренческой позиции почти не нашел отклика в среде ученых-гуманитариев. Эдуард Шпрангер в 1921 году так обобщил всеобщее недовольство веберовскими требованиями функционального подхода к науке и ее отделения от метафизики: «Молодое поколение… с верой ожидает внутреннего возрождения… Молодой человек сегодня более чем когда-либо дышит и живет всей целостностью своих духовных органов…» Для нынешнего времени характерно «влечение к целостности» и «одновременно религиозное томление: стремление ощупью найти дорогу назад – из мира искусственных и механических отношений к неиссякаемому метафизическому источнику».
Первая послевоенная лекция Мартина Хайдеггера, прочитанная в начале 1919 года, называлась «Идея философии и проблема мировоззрения». Молодой приват-доцент посчитал нужным вмешаться в споры своего времени. Его размышления отталкивались от точки зрения Макса Вебера. Хайдеггер подчеркнул научный характер философии и то обстоятельство, что «личная позиция философа – как и в любой науке – должна оставаться за скобками» (GA 56/57, 10).
Однако Хайдеггер не собирался ограничиваться веберовской идеей о необходимости разделения научного познания и ценностных суждений; он хотел не просто разграничить то и другое, но проанализировать, почему и как именно мы выносим оценочные суждения и формируем мировоззренческие установки.
В отличие от большинства критиков Макса Вебера он не имел намерения в очередной раз примирить науку, оценочные суждения и мировоззрение, объединив их в рамках какой-то – в конечном счете метафизической – системы. Он поставил себе более заманчивую цель: открыть область, предшествующую такому разграничению. Он задался вопросом: как мы переживаем действительность еще до того, как начинаем истолковывать ее с научной, оценочной или мировоззренческой позиции? Такую науку о науке Хайдеггер назвал не «теорией науки», а иначе: «идея философии как пранаука». Это прозвучало так, будто он хочет продолжить гуссерлианский проект феноменологического обоснования науки, то есть описания тех структур сознания, из которых вырастают как наука, так и естественная установка по отношению к миру. Но уже эта первая лекция Хайдеггера ясно показала, что он собирается продвинуться гораздо дальше Гуссерля. Он процитировал принцип Гуссерля: «все, что в «интуиции» представляется… исконным (originar), следует просто принять… как то, что дано» (GA 56/57, 109); и тут же отметил, что Гуссерль описал только те виды данности, которые открываются сознанию, имеющему теоретическую установку. Однако в действительности мы в нашем «переживании окружающего мира» имеем теоретическую установку лишь в исключительных случаях. «Изначальная установка переживания» (die Urhaltung des Erlebens, GA 56/57, 110) есть нечто совсем иное, она вообще по-настоящему еще не попала под прицел философского анализа, самоуверенно продолжал развивать свою мысль молодой приват-доцент, которого в то время все еще считали самым многообещающим из учеников Гуссерля.
«Переживание», «изначальная установка переживания» – не скрывается ли за этими терминами некая тайна, черный мешок, из которого в конечном итоге лектор волшебным образом вновь извлечет на свет божий метафизические сокровища? Именно так казалось присутствовавшим на той лекции студентам, о чем свидетельствуют в своих воспоминаниях Карл Лёвит и Ганс Георг Гадамер. Однако тех, кто ожидал чего-то подобного, кто, изголодавшись по мировоззрению и метафизике, хотел найти в переживании какие-то новые или старые смыслы, Хайдеггер с его холодными и одновременно страстными, лаконичными и вместе с тем обстоятельными формулировками не мог не разочаровать. Ибо вместо того, чтобы выступить в роли «кафедрального пророка», он неожиданно потребовал от студентов, чтобы они четко осознали, что представляет собой переживание кафедры, на которой он в данный момент стоит и читает лекцию. Вся лекция будет вращаться вокруг единого стержня – «переживания кафедры», – поэтому имеет смысл сразу же процитировать довольно длинный пассаж из этого впечатляющего феноменологического описания конкретной ситуации: «Вы, как обычно, пришли в привычный час в эту аудиторию и заняли свои привычные места. Зафиксируйте это переживание «видения своего места», а если хотите, попробуйте мысленно воспроизвести и мою установку: я, входя в аудиторию, вижу кафедру… Что же «я» вижу? Коричневые поверхности, сходящиеся под прямым углом? Нет, я вижу что-то иное: ящик, причем довольно большой, поверх которого надстроен другой, поменьше. Нет, опять не то: я вижу кафедру, с которой должен говорить. Вы же видите кафедру, с которой к вам будут обращаться, с которой я уже обращался к вам. В чистом переживании нет никакой – как это принято называть – фундирующей связи, то есть нет такого, чтобы я сперва увидел коричневые поверхности, сходящиеся под прямым углом, потом они предстали бы передо мной как ящик, потом как пюпитр и, наконец, как академическая трибуна, то есть кафедра, – словно я взял и приклеил к ящику, наподобие этикетки, представление о том, что должно быть присуще кафедре. Все это плохая, неправильная интерпретация, уводящая в сторону от чистого всматривания в переживание. Я вижу кафедру как бы сразу в разных аспектах; я вижу ее не только как нечто изолированное, но вижу и пюпитр, установленный слишком высоко для моего роста. Я вижу, что на пюпитре лежит книга – лежит так, что мне это мешает… я вижу кафедру, определенным образом сориентированную в пространстве, определенным образом освещенную, выделяющуюся на определенном фоне… В переживании видения кафедры мне дается что-то и из непосредственно окружающего меня мира. Это «что-то», относящееся к окружающему миру… не есть вещи с определенными значимыми характеристиками, то есть предметы, к тому же воспринимаемые как обозначающие то-то и то-то; нет, значимое – это то первичное, что дается мне непосредственно, так, что моя мысль не должна блуждать окольными путями, постигая отдельные вещи. Мне, живущему в окружающем мире, всегда и всюду дается знать: это все отмирное, оно мирствует» (GA 56/57, 71/72).
«Мирствует» – это был первый из своевольных хайдеггеровских неологизмов, количество которых позже многократно умножится. Однако в данном случае можно проследить, как было найдено это выражение, нужное для обозначения процесса, который поначалу кажется самоочевидным, однако при ближайшем рассмотрении в нем обнаруживается такая сложность, что для нее и названия-то никакого не существует. Хайдеггеру пришлось придумать специальное название, чтобы определить то, чего мы обычно даже не замечаем, ибо оно находится слишком близко от нас. И потому получается как правило так: размышляя о «видении кафедры», мы незаметно для себя соскальзываем в другой порядок, который уже не является порядком непосредственных данностей. Мы тогда начинаем думать в соответствии со стереотипом: существует некое воспринимающее «я», и это «я» сталкивается с чем-то, с каким-то предметом, и постепенно замечает все новые присущие этому предмету свойства. Хайдеггер же хочет обратить наше внимание на то, что в реальности вещи вовсе не предстают перед нами таким образом. Как они в действительности предстают перед нами, можно показать только одним способом: здесь и сейчас заставить студентов, к примеру, зафиксировать свое переживание кафедры – как она переживается именно здесь, в аудитории № 2 Фрайбургского университета, в этот хмурый февральский день 1919 года. Присутствующие должны попытаться не говорить «об» актах восприятия, не прибегать, в поисках эрзаца подлинного понимания, к расхожим теориям, а совершить сам акт восприятия – и одновременно внимательно за ним проследить. То есть нужно направить внимание на внимание. И тогда станет очевидно, чего именно добивается Хайдеггер, вокруг чего он описывает всё новые круги, так что у слушателей может создаться впечатление, будто он и вовсе не трогается с места. Станет очевидно, что прежде всего мы воспринимаем расплывчатое, но значимое нечто – связность мира, – а к «нейтральному» предмету приходим только путем абстрагирования от естественного акта восприятия. Когда мы рассматриваем тот же процесс восприятия, имея обычную теоретическую установку, мы его как бы переворачиваем с ног на голову: нам кажется, что он начинается с по видимости «нейтральной» вещи, в которой мы затем распознаем определенные свойства и относим ее к соответствующей ячейке целостной мировой системы.
Теперь невнятное словосочетание «изначальное переживание» (Urerlebniss) обретает глубокий смысл: оказывается, этот термин обозначает восприятие, каким оно бывает в действительности – по ту сторону наших теоретических представлений о нем. Утверждение, что кафедра мирствует, означает следующее: я одновременно переживаю значимость кафедры, ее функцию, ее размещение в пространстве, то, как она освещена, и, наконец, связанные с ней маленькие истории (я знаю, что час назад здесь стоял кто-то другой; вспоминаю о пути, который проделал, чтобы прийти сюда; раздражаюсь из-за того, что вот сижу перед этой кафедрой и должен слушать всякую непонятную чепуху, и пр.). Кафедра мирствует, что означает: она концентрирует в себе целый мир – и в пространственном, и во временном смыслах. Проверить это очень легко. А именно: когда мы позже вспомним о чем-то типа сегодняшнего переживания кафедры, мы заметим – и, кстати, со времени Пруста мы подмечаем такие вещи особенно хорошо, – что одновременно вспомнили целую жизненную ситуацию: стоит нам вытащить из забвения одну эту кафедру, и вместе с ней на поверхность памяти всплывет целый мир. Пруст окунул в чай кусочек пирожного «мадлен», и перед ним развернулась вселенная Комбре. Пирожное «мадлен» мирствовало.
Не каждое «нечто», переживаемое нами, так сильно мирствует – но хоть сколько-то мирствует каждое «нечто». Хайдеггер продолжает: представьте себе, что в нашу аудиторию какими-то судьбами занесло «сенегальского негра» и что он видит перед собой эту странную деревянную штуковину – разве он не будет воспринимать ее как что-то непонятно-нейтральное, в известной степени как голую вещь? Разве к данному случаю подходит утверждение, что сперва всегда воспринимается просто значимость? Да, оно подходит и к данному случаю, ибо негр все равно будет воспринимать «эту штуковину» с точки зрения ее значимости – он подумает: «Я ни для чего не могу ее использовать».
Вначале всегда бывает значимость, вначале «оно мирствует» – тем или иным образом.
Но зачем нам нужно углубляться в переживание и в это мирствование? Во-первых, вот для чего: нам надлежит осознать, что, собственно, происходит, когда мы находимся в мире – к примеру, перед этой кафедрой. Такое «нахождение», которое всегда есть переживание, должно стать «прозрачным» для нас самих. Но Хайдеггер хотел большего: он хотел ярко высветить и то, что происходит, когда мы принимаем теоретическую (или, как ее принято называть, «научную») установку по отношению к миру. А происходит следующее: при так называемой «объективирующе-научной» установке мы как бы упраздняем, заставляем исчезнуть первичную значимость, то есть все то, «что относится к окружающему миру» (das Umweltliche), то, «что связано с непосредственным переживанием» (die Erlebnishaftigkeit); мы обнажаем «нечто» до его «голой» вещности – это удается сделать лишь потому, что мы «выдергиваем» переживающее «я» и на его место ставим новое, искусственное, вторичное «я», которое нарекается именем «субъект» и теперь противостоит, с соответствующей нейтральностью, столь же нейтральному «предмету», отныне именуемому «объектом». И в этот момент, наконец, студентам становится ясно, к чему клонит Хайдеггер. То, что философия Нового и Новейшего времени, а вслед за ней и современная наука считают исходной ситуацией, не имеющим никаких предпосылок началом всяких размышлений и не подлежащей сомнению истиной – а именно, противостояние «субъекта» и «объекта», – на самом деле вовсе не является безусловным, беспредпосылочным началом. С этого ничего не начинается. Начинается, скорее, с того, что мы описанным выше, мирствующим образом находимся в мире со всеми его кафедрами, пирожными «мадлен» и нефами из Сенегала – и переживаем этот мир.
Если мы уже успели привыкнуть к шепотку хайдеггеровской приставки «ur-» («изначальный, первичный, первобытный») и сумеем проследить ее точный смысл (который всегда бывает ситуативно обусловлен), мы поймем также, почему Хайдеггер говорит об «изначальном намерении прожитой жизни», которое следует вскрыть под искусственным и псевдоначальным противопоставлением субъекта и объекта. Он, по его словам, хочет заявить протест против «неоправданной абсолютизации теоретического начала» (в которой упрекает даже Гуссерля). «Глубоко въевшаяся в нас одержимость теоретическим началом является… большой помехой, мешающей обозревать… ту сферу, где господствует переживание окружающего мира» (GA 56/57, 88). Он говорит, не без некоторой агрессивности, о процессе «прогрессирующего губительного инфицирования окружающего мира теоретическим началом» (GA 56/57, 89) и находит для этого процесса новое название: «обезжизневание» (Entleben). Теоретическая установка, как бы полезна она ни была (и даже несмотря на то, что она тоже входит в репертуар наших естественных установок по отношению к миру), есть обезжизневающая установка; позже Хайдеггер будет употреблять применительно к ней понятие «овеществление», заимствованное у Георга Лукача[113]. В лекции Хайдеггер говорит: ««Вещное» охватывает совершенно особую сферу, выдистиллированную из окружающего мира. Все, что «мирствует», из нее уже удалено. Вещь просто еще присутствует как таковая, т. е. она реальна… Значимое обессмыслено, сокращено до остатка: бытия как реальности. Переживание окружающего мира обезжизнено, сокращено до остатка: распознавания реального в качестве такового. Историческое «я» обезисторичено, сокращено до остатка: особой «я-сущности» как коррелята вещности…» (GA 56/57, 91).
Имея подобную теоретическую установку, люди уже давно начали изменять жизнь, как свою собственную, так и жизнь природы, в таких масштабах, что это одновременно и полезно для человека, и вместе с тем опасно. И это стало возможным только потому, что люди обезжизневали жизнь, как говорит Хайдеггер, или «расколдовывали» ее, как предпочитал называть этот процесс Макс Вебер.
Макс Вебер видел «по ту сторону» этого расколдованного мира рациональности только одну сферу – приватизированную сферу личных и не поддающихся дальнейшей рационализации «оценочных суждений». Из этого приватного убежища и выплескиваются мировоззрения, против которых в принципе ничего нельзя возразить, если только они не претендуют на научную достоверность.
Хайдеггер выступил с еще более непримиримой критикой иррационального. По его мнению, за термином «иррациональное», как его употребляют ученые, в действительности скрывается не что иное, как остаток переживания, попавший в слепое пятно теоретического видения мира. «Теоретически я сам происхожу из переживания…, с которым не знают, что делать, и для которого теперь придумали удобное название – «иррациональное»» (GA 56/57, 117).
Это иррациональное затем превращают в «предмет», с которым именно потому, что он такой «темный», можно делать все, что угодно: нафантазировать себе, что это подвал, где мастера-надомники изготавливают мировоззрения; или скала для новых пророков; или темный объект метафизических вожделений; или прибежище для полуночников, которые из своих невыразимых переживаний выводят несказанные теории. Это иррационально-психическое можно представить, например, вообразив некую психогидравлическую машину, или добротный буржуазный дом, где имеются подвал (Оно), жилые этажи (Я) и мансарда (сверх-Я)[114], или приморский ландшафт с водной гладью, дамбами, периодическими затоплениями береговой полосы, процессами заболачивания, осушения болот и пр. С этим иррациональным можно обращаться и так, как со своим желанием прокатиться верхом на тигре.
А можно – к этому, очевидно, и пришел Макс Вебер – видеть в иррациональном источник оценочных суждений. Но так ли это в действительности (спрашивает в другой своей работе Хайдеггер), что мы видим перед собой «предметы» – людей, обстоятельства, вещи, – «которые сначала предстают в качестве голых реальностей… а потом, по мере того, как мы их узнаем, получают от нас некие облачения, придающие им ценностный характер, чтобы не оставаться такими нагими»? (GA 61, 91).
Хайдеггер смеется над риккертовской философией ценностей – под влиянием которой находился и Макс Вебер, – и над самоуверенностью науки, якобы свободной от оценочных суждений. Но совсем иначе, с холодной яростью он говорит о метафизике назидательного, мировоззренческого толка, которая, мирно сосуществуя с другими нашими познаниями, рисует над нами небо, где ценности висят как плоды на дереве; о той метафизике, которая пытается утешить нас, компенсировать страдания, причиняемые нам стальной скорлупой расколдованного рационального мира, и при этом ссылается на «более высокие» или «более глубокие» переживания. В лекциях, которые будут прочитаны два года спустя, Хайдеггер назовет это «апелляцией к неясности как к убежищу, туманными испарениями так называемых «вселенских чувств» – нечистых и при этом кичливых, обманывающих самих себя» (GA 61, 101).
Хайдеггер не упоминает ничьих имен, но, как известно, значительная часть мировоззренческой литературы тех лет отличалась метафизической направленностью. Да это и понятно. Ибо всего неприятного, что связано с физиологией жизни, легче всего избежать, обратившись к «мета»-сфере и занявшись чисто спекулятивным толкованием «великих» проблем. У Мартина Хайдеггера подобный подход вызывал отвращение, в первые годы своего преподавания он почти каждую лекцию начинал бранными словами по поводу такого рода околокультурной возни, да и потом никогда не уставал повторять, что философия должна наконец отучить себя от вредной привычки беспрестанно коситься на небо. Он требует от будущих философов «холодного взгляда», убеждает их, что все мировоззренческие вопросы можно спокойно «отставить в сторону» (GA 61, 45), а кто не готов к тому, чтобы «напороться на абсолютную сомнительность» (GA 61, 37), тем лучше вообще держаться от философии подальше.
Эти его заклятия производят двойственное впечатление. С одной стороны, он, как профессиональный философ, обороняет свои владения от доморощенных метафизиков и разглагольствующих на философские темы журналистов. В такой позиции есть нечто от того простодушия, которое сам же Хайдеггер и критикует. С другой – Хайдеггер берет на себя роль пугала: он провоцирует всех поборников прекрасного-доброго-истинного. И наносит жестокий удар по культуре мнимого благородства, фальшивой искренности, высоких слов, прикрывающих бездну надувательства. Короче говоря, то, что он делает, можно назвать проявлением дадаизма в философии.
Дадаисты[115] в Берлине, Цюрихе и других местах еще в 1916 году издевались над эстетством кружка Георге, пафосом экспрессионистов, то и дело восклицавших: «О человек!», традиционализмом филистеров, видевших панацею от всех бед в образовании, и теми картинами неба, которые рисовали метафизики, – ибо все такого рода идеи в очередной раз изрядно скомпрометировали себя в годы войны. Однако провокационность поведения дадаистов заключалась прежде всего в том, что на вопрос: «А что же вы хотите противопоставить всему этому?» – они отвечали: «Ничего! Мы хотим лишь того, что так или иначе уже существует». Дадаизм, говорилось в «Дадаистском манифесте», «разрывает в клочки все модные лозунги, упоминающие об этике, культуре и искренности». Это значит: трамвай есть просто трамвай и только, война – только война, профессор – только профессор, а отхожее место – только отхожее место. Всякий, кто говорит, тем самым доказывает лишь то, что он променял лаконичную тавтологию бытия на болтливую тавтологию сознания. «… с появлением дадаизма вступает в свои права новая реальность» («Дадаистский манифест»)[116]. Эта новая реальность отличается тем, что ее покинули все добрые духи и ее культурный комфорт разрушен. «Слово «Дада» символизирует простейшее отношение к окружающей действительности»[117]. Существует только это «вот», и это «вот», и это «вот»[118].
Если мы хотим уловить в первой лекции Хайдеггера (несмотря на всю проявленную в ней проницательность и на ее философский академизм) дадаистский импульс, нам следует еще раз вспомнить о том, что она началась с вопроса, как бы поставленного на высокие котурны, с вопроса об «изначальной науке», об «изначальном намерении жизни», о «начале всех начал», – а потом увела заинтригованных студентов в совершенно иную область, заставила их вникать в темную тайну их переживания какой-то кафедры. Это была провокация – провокация действительно в дадаистском вкусе. То же самое можно сказать и о последовавшем далее превращении обычного в необычное. Повседневное – из-за того, что на него направили столь пристальное внимание, – предстало как нечто таинственное и авантюрное. Дадаисты, по крайней мере, некоторые из них, как и Хайдеггер, продолжали – вопреки своим иконоборческим устремлениям, а может быть, именно благодаря им – искать Чудесное. Проведя вечер в цюрихском «Кабаре Вольтер», Хуго Балль записал в своем метафизическом дневнике, озаглавленном «Бегство из времени»: «Существуют, может быть, и другие пути, которые ведут к Чуду, и другие пути Противоречия». Эти люди, как и Хайдеггер, остались – на свой лад – тайными приверженцами метафизики, и потому от их высказываний и выходок порой становится не по себе.
«Маленький волшебник из Мескирха», как его вскоре станут называть, мог так философствовать о своем переживании кафедры, что у студентов перехватывало дыхание, хотя на войне они привыкли к куда более ярким событиям. Им казалось, будто сброшен ненужный балласт, будто лектор на их глазах резким жестом отодвинул в сторону старую рухлядь высоких слов, претенциозных систем, шатких академических премудростей – и, отказавшись от всего этого, вернулся к совершенно элементарному вопросу: что, собственно, происходит здесь и сейчас, когда я переживаю кафедру? Этот новый угол зрения можно сравнить с тем, который будет культивироваться в немецкой литературе после 1945 года, в «период сплошной вырубки»: «Сожгите стихи, / сокрушите все песни, / скажите нагими словами / то, что должны сказать» (Шнурре[119]); или: «Вот моя шапка, / вот мое пальто, / это моя бритва / в холщовом мешке» (Айх[120]).
Обращение Хайдеггера к «маргиналиям» имело полемическую и провокационную направленность: он наносил свой удар против распространившейся теперь и в философии готовности к обману кредита доверия, к выдаче векселей на будущее, над которым на самом деле никто не властен. За по видимости скудным содержанием хайдеггеровской лекции скрывался и такой смысл: больше нет того холма, с которого философия, подобно полководцу, могла бы обозревать окрестности; но у нас достаточно другой, более скромной работы, которая состоит в том, чтобы должным образом понять непосредственно происходящее. Много лет спустя Хайдеггер опишет этот поворот в несколько более мягком тоне, как возвращение «в то, что нам хотя и совсем близко, но что мы, однако, не пытаемся даже и знать, не говоря уже должным образом познать» («Путь к языку», ВиБ, 268).
Удивительно уже то, как Хайдеггер умеет приковать наше внимание к этой близости переживания окружающего мира. Но хотя тогдашние студенты чувствовали то же, что и мы сегодня, – что их чуть ли не против воли втягивают в этот способ мышления, – потом наступал момент, когда они недоуменно протирали глаза и спрашивали себя: да что же это было, какое мне дело до переживания кафедры? Карл Ясперс в своих заметках о Хайдеггере, которые он собирал с двадцатых годов и которые в момент его смерти все еще лежали на письменном столе, точно сформулировал впечатление от этого опыта встречи с философией Хайдеггера. Яс-перс охарактеризовал Хайдеггера так: «…среди современников самый волнующий мыслитель: властный, подчиняющий себе, таинственный – но потом отпускающий пустым».
И действительно, за переживанием окружающего мира, каким оно описано в этой хайдеггеровской лекции, скрывается «пустотелая» тайна. Хайдеггер показывает, что мы обычно не открываемся навстречу непосредственному переживанию во всем его богатстве. Но когда дело доходит до того, чтобы определить и описать это самое богатство, он почти ничего не может сказать – кроме, как кажется, нескольких банальностей.
Но ведь Хайдеггер и не собирался докапываться до сути кафедры, он просто хотел на этом примере продемонстрировать определенный вид внимания – так, чтобы его можно было воспроизвести, – потому что считал, что, во-первых, такое внимание должно лежать в основе всякого философствования, и, во-вторых, мы (и вся философская традиция) обычно его «из-за спешки проглядываем». Настоящее философствование требует умения принять такую установку, настроиться на такое внимание – какими бы «предметами» или ситуациями ты ни занимался. Речь идет о методе, но о методе парадоксальном. Он заключается в том, чтобы исключить все остальные методы, методы теоретического подхода, и воспринять ситуацию такой, какой она «дана», – еще прежде, чем «я» сделает ее темой исследования или рефлексии. Уже даже в выражении «дана» содержится слишком много теоретического. Ведь, попав в определенную ситуацию, я не говорю себе: эта ситуация мне «дана»; нет, я нахожусь в ситуации, и если я целиком и полностью нахожусь в ней, то уже не существует никакого «я», которое противопоставляло бы себя этой ситуации. Если присутствует сознание своего «я» – это уже преломление изначальной ситуации. Восприятие и переживание не начинаются с «я»; «я» появляется лишь тогда, когда переживание уже дало трещину. Я теряю непосредственный контакт с ситуацией; тогда-то и возникает трещина. Или, если прибегнуть к другому образу: я смотрю на предметы через оконное стекло; себя самого я увижу только в том случае, если стекло не совсем прозрачно и потому имеет свойство отражения. Хайдеггер требует внимания, которое непосредственно включает в себя вовлеченность в ситуацию. Речь идет о чем-то среднем между экспрессивным способом выражения пережитой ситуации, с одной стороны, и дистанцирующем, овеществляющем, абстрагирующем говорении о ней – с другой. Речь идет о том, что жизнь должна быть прозрачна для себя самой в каждое ее мгновение.
А почему она должна быть прозрачна?
Ну, во-первых, дабы мы осознали, что мы теряем, когда принимаем теоретическую установку. Тут с намерением Хайдеггера все ясно. Однако в навязчивой интенсивности его философских рассуждений угадывается некий излишек – из-за которого его мышление и кажется таким завораживающим, даже в этот ранний период. «Излишек» связан с вопросом, который Хайдеггер пока что не формулирует прямо, но который позже будет повторять чуть ли не с ритуальной серьезностью: с вопросом о бытии. Хайдеггер углублялся в переживание, чтобы напасть на след нашего «бытия в ситуации», и хотя он только еще начинал находить особый язык для описания этого бытия, он уже точно знал, что мы – и в нашем научном теоретизировании, и когда создаем монументальные мировоззренческие полотна – регулярно оставляем такое бытие «за скобками».
Итак, избыточное намерение направлено на «бытие». Но что же в этом намерении избыточного?
Оно избыточно потому, что нацелено не на адекватное – в смысле соответствия вещам – познание переживаемой ситуации, а на адекватность иного рода, на соответствие бытию, то есть ориентировано не столько на чистое познание, сколько на удавшуюся жизнь. Хайдеггер тратит столько усилий, чтобы добиться прозрачности пережитого мгновения, словно в достижении этой цели ему видится некое обещание, обетование. Это его отношение выражено не напрямую, а в холодноватых, даже академических выражениях, и все-таки оно довольно часто прорывается наружу, поддается обнаружению. Один раз, например, он называет восстановленную прозрачность жизненной ситуации просто «симпатией к жизни» (GA 56/57,110); в другой раз описывает пункт, где человек должен решить, предпочитает ли он теорию или прозрачность, таким образом: «Мы стоим на методическом перекрестке, где решается вопрос о жизни или смерти философии как таковой, на краю бездны: дальше мы или сорвемся в Ничто, т. е. в абсолютную вещественность, или нам удастся прыжок в другой мир, а точнее, мы вообще впервые попадем в мир» (GA 56/57, 63).
«Отпускающий пустым», – говорит Ясперс о Хайдеггере. Действительно, впечатление такое, будто в лекции остался нереализованным некий излишек намерения. Может быть, и удалось это упражнение по достижению непривычной интенсивности внимания, по сохранению более ясного, чем обычно, присутствия духа – но разве слушатели не ожидали, не обещали себе большего, разве Хайдеггер, пусть и неосознанно, не давал им повода надеяться на большее и разве не обещал он большего самому себе?
Я вспоминаю слова Хайдеггера, прозвучавшие в его письме к Элизабет Блохман, написанном примерно в то время, когда была прочитана лекция о кафедре: «Новая жизнь, которую мы хотим или которая хочет выразить себя через нас, отказалась быть универсальной, то есть неподлинной и плоской (поверхностной); ее владение – это первозданность: не то, что искусственно сконструировано, а очевидность тотальной интуиции» (1.5.1919). В этом письме также шла речь о «таинственном и благодатном характере всякой жизни» и о том, что мы должны «научиться терпеливо ждать наступления моментов сверхнапряженной интенсивности исполненной смысла жизни».
В том же году была опубликована работа, автор которой – в поразительном соответствии с намерением Хайдеггера – тоже пытался во «тьме прожитого мгновения» напасть на след столь много обещающего бытия. Речь идет о великой философской книге нашего столетия – «Духе утопии» Эрнста Блоха[121]. Эта книга, экспрессионистская по стилю и вдохновленная светлым гносисом, к тому же проникнутая стремлением к образности и влюбленностью в образы, начинается словами: «Слишком близкое… пока мы живем, мы не видим его, мы в него перетекаем. Поэтому то, что там случилось, чем, собственно, мы там были, никогда не совпадет с тем, что мы способны пережить. Это не то, чем является человек, и уж тем более не то, что он думает». Блох в избытке обладал одним качеством, которого не хватало Хайдеггеру: духовной мощью воображения, способной рассеять «тьму прожитого мгновения». Кроме того, Блоху, аутсайдеру в мире философии, была свойственна непредвзятость суждений, тогда как Хайдеггер, сколь бы нетрадиционным ни казалось его первое выступление, все еще сохранял выучку, полученную в определенной – феноменологической – школе. Блох же сказал без обиняков: чтобы осветить тьму прожитого мгновения, необходим «философский лиризм, доходящий до последнего предела».
Вот – на пробу – отрывок из этой работы. Блох описывает переживание, возникающее при созерцании кувшина, который стоит перед ним (а он, Блох, как бы ставит его перед нами):
«Трудно дознаться, как выглядит внутри темное, просторное чрево этого кувшина. А хотелось бы. Вновь возникает этот давнишний, подсказанный бескорыстным любопытством детский вопрос. Ведь кувшин находится в близком родстве с миром детства… Тот, кто смотрит на старый кувшин достаточно долго, унесет с собой его цвет и его форму. Я не буду сереть каждый раз, когда вижу очередную лужу, и не буду принимать изгиб рельсовых путей, чтобы вместе с ними завернуть за угол. Но я вполне могу быть сформованным наподобие кувшина, я смотрю на себя как на некое коричневое, странное образование, нордическое подобие амфоры – и не только в том смысле, что подражаю кувшину или просто пытаюсь вчувствоваться в него, а так, что я в результате какой-то своей частью обогащаюсь, становлюсь более настоящим, воспитываю себя с помощью этого причастного ко мне образа… Все, что когда-либо было сделано с такой любовью и стало таким необходимым, живет собственной жизнью, отваживается вторгаться в чуждую, новую среду и потом возвращается вместе с нами назад: таким совершенным по форме, какими мы сами при жизни никогда не могли бы стать, да еще украшенным неким пусть сколь угодно слабым, но все же различимым знаком – печатью нашего «я». И с этими вещами человек чувствует себя так, как если бы заглянул в длинный освещенный солнцем проход, который заканчивается дверью: то же самое бывает при созерцании произведения искусства».
Разве нельзя показать на примере переживания (нами) кувшина, как связано это переживание с нашим бытием? В одной из более поздних своих работ Хайдеггер тоже сделает предметом анализа кувшин. Переживанию кафедры, которому была посвящена его ранняя лекция, еще не хватало полноты бытия, хотя Хайдеггер не менее, чем молодой Блох, стремился к обретению такой полноты.
Но не только о полноте бытия говорилось в лекции Хайдеггера; еще больше его волновала другая тайна: он удивлялся «голой» чтойности. Удивлялся тому, что вообще что-то существует.
Отношение между непосредственным переживанием и его опредмечиванием Хайдеггер характеризовал как процесс обезжизневания: в результате этого процесса единство ситуации распадается, переживание превращается в самовосприятие субъекта – субъекта, которому противостоят объекты. Человек выпадает из непосредственного бытия и обнаруживает, что он есть тот, кто обладает «предметами» – среди прочих предметов и самим собой как предметом, который именуется «субъектом». Потом эти объекты и даже субъект можно исследовать на предмет выявления их дальнейших отличительных признаков, взаимосвязей, причинной обусловленности и т. д., давать им аналитические определения и в конечном итоге даже выносить по их поводу оценочные суждения. В ходе этого вторичного процесса (процесса оценки) уже нейтрализованные «объекты» снова встраиваются в общемировую систему взаимосвязей – или, как говорит Хайдеггер, «получают от нас некие облачения… чтобы не оставаться такими нагими».
Такого рода теоретическое конструирование мира предполагает наличие одной абстрактной точки схода. Эту мысль Хайдеггер опять-таки демонстрирует на примере своего переживания кафедры. Имея теоретическую установку, можно проанализировать эту кафедру следующим образом: «Она коричневая; «коричневый» – это цвет; цвет есть не что иное как совокупность определенных данных чувственного восприятия; данные чувственного восприятия являются результатом физических или физиологических процессов; физические процессы составляют первичную причину; эта первопричина, Объективное, представляет собой определенный набор колебаний эфира; эфир распадается на простые элементы, последние, как простые элементы, связаны простыми закономерностями; элементы – это конечное; элементы – это что-то вообще» (GA 56/57,113).
Двигаясь по этому пути, человек приходит к чему-то вообще как своего рода ядру или сущности вещей. Признавая наличие этого предполагаемого ядра – «чего-то», – мы должны рассматривать всю иерархию существующего как простую градацию явлений. Коричневая кафедра не есть то, чем она представляется. Правда, она не есть Ничто, но не есть и то Нечто, которым представляется. Этот взгляд на вещи и имел в виду Гейзенберг[122], когда говорил о том, что в современной естественно-научной картине мира вновь оживает античная натурфилософия, согласно которой атомы (или даже более мелкие частицы) как раз и являются «подлинно сущим».
Хайдеггер показывает, что при такого рода аналитической редукции загадка, заключающаяся в том, что вообще что-то существует, сдвигается на микрокосмический уровень взаимоотношений между элементарными частицами (впрочем, результат был бы тем же самым и если бы ее переместили на макрокосмический уровень, на уровень целостности мирового универсума), но при этом упускается из виду следующий факт: на самом деле загадка существования «чего-то» сохраняется на каждом уровне редукции, ибо цвет является «чем-то» в такой же мере, что и, например, данные чувственного восприятия, и колебания эфира, и ядра атомов и пр. В отличие от того Нечто, которое наука готова сохранить после проведенных ею редукций, Хайдеггер определяет другое «Нечто» – то, что открывает нам свое достойное удивления присутствие в каждый момент переживания, – как нечто «предмирное» (vorweJtlich) (GA 56/57, 102). Очевидно, Хайдеггер выбрал именно это слово потому, что его устраивала комплементарность данного понятия по отношению к ницшеанскому понятию «замирность» (Hinterwelt), применявшемуся для характеристики того любопытства, которое заставляет нас прорываться через «внешние видимости» явлений, якобы не имеющие существенного значения, к скрывающейся «за» ними (или «под» ними, или «над» ними) «сути». Это удивляющее нас Нечто, которое Хайдеггер называет предмирным, есть сбывшееся чудо, которое заключается в том, что вообще что-то существует. Удивление перед этим Нечто может основываться на любом, каком угодно переживании. Выражение предмирное, употреблявшееся Хайдеггером и для характеристики подобного удивления, удачно еще и потому, что намекает на состояние человека, который чувствует себя в этом мире так, как если бы оказался в нем впервые. Таким образом, в конце лекции содержится напоминание о ее начале. Вначале Хайдеггер охарактеризовал свою попытку сделать переживание феноменологически прозрачным как «прыжок в другой мир, а точнее… вообще… в мир» (GA 56/57, 63).
Этот изначальный опыт удивления, по мнению Хайдеггера, представляет собой полную противоположность теоретическому «обезжизневанию». Он «вовсе не свидетельствует об абсолютной дискретности наших отношений с жизнью, не является ни способом избавиться от напряжения, накопившегося за время уже прожитой жизни, ни теоретической фиксациеи, замораживанием жизни, проживаемой сейчас»; он – «показатель величайших потенциальных возможностей, присущих жизни». Этот опыт – «основополагающий феномен», который наблюдается именно в «моменты особенно интенсивного переживания» (GA 56/57, 115). Но когда такой опыт имеет место, пусть даже это происходит редко, мы всегда осознаем, что латентным образом он присутствовал всегда, только мы его не замечали, потому что, как правило, слишком зафиксированы в своих жизненных связях, не оставляем между собой и жизнью никакой дистанции – или, напротив, отделены от нее той «обезжизневающей» дистанцией, которая обусловлена теоретической установкой. Несомненно одно: Хайдеггер в этой лекции феноменологическим методом «просветляет» некий опыт, который, несмотря на всю свою простоту, одновременно является мистическим – если, конечно, понимать мистицизм в духе того глубокого определения, которое дает ему Вильгельм Вундт: «Мистике повсюду свойственно осуществлять обратное превращение понятия в зрительный образ». Созерцая кафедру, я могу пережить – как чудо – то обстоятельство, что существую я сам и существует целый мир, который дается мне.
В удивлении перед этим загадочным – перед тем, «Что вообще что-то существует», – живет некое вопрошание, которое нельзя удовлетворить никаким ответом, ибо любой ответ, объясняющий «что» с помощью «почему», отсылает к бесконечной регрессивной цепочке: за каждое «почему» будет цепляться новое «почему». А поскольку никакой ответ заведомо невозможен, то, о чем мы задаем вопрос, сталкиваясь с загадкой чтойности, собственно, даже не поддается формулированию. Поэтому Эрнст Блох, работавший над сходной проблемой, назвал такое удивление «фигурой (Gestalt) неконструируемого вопроса». И оказался достаточно умен, чтобы в решающий момент, когда ему понадобилось заставить своих читателей воспроизвести и пережить это самое удивление, передать слово поэту. В «Следах» Блох цитирует удивительный пассаж из «Пана» Кнута Гамсуна:
« – Вы только подумайте! Или, бывает, увидишь синюю муху. Да нет, разве словами такое выскажешь, я даже не знаю, понимаете ли вы меня? – Да, да, я понимаю. – Ну вот. А иной раз смотрю я на траву, и она прямо так и смотрит на меня, честное слово. Я смотрю на малую былинку, а она дрожит, и ведь неспроста же. И я тогда думаю: вот стоит былинка и дрожит! Или глянешь на сосну, и всегда выищется сучок, от которого глаз не отвести; и о нем еще подумается. А иной раз и человека встретишь в горах, бывает и такое. … – Я понимаю, – сказала она и распрямилась. Упали первые капли. – Дождь, – сказал я. – Ах, господи, дождь, – сказала она и тотчас пошла»[123].
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Разрыв с католицизмом. «Фактичная жизнь» и «поднимание руки против Бога». Работа по деструкции веры. Бог Карла Барта. Как, падая, можно изучать законы падения. Начало дружбы с Карлом Ясперсом. Лекции по онтологии 1923 года. Прелюдия к «Бытию и времени».
Примерно тогда же, когда Хайдеггер читал лекцию о «переживании кафедры», произошел его окончательный разрыв с католицизмом. 9 января 1919 года он писал Энгельбердту Кребсу, другу времен своей католической юности, уже ставшему профессором католической догматики во Фрайбурге:
«Два прошедших года, на протяжении коих я бился над принципиальным прояснением моей философской позиции… привели меня к таким результатам, что я, оставаясь связанным другими обязательствами, помимо философских, не мог бы гарантировать сохранение относительно них моей свободы убеждений и преподавания. Теоретико-познавательные исследования, относящиеся главным образом к теории исторического познания, сделали для меня проблематичной и неприемлемой систему католицизма, хотя и не христианство и метафизику, которые теперь имеют для меня совершенно новый смысл. Я полагаю, что слишком сильно… прочувствовал, какие ценности несет в себе католическое Средневековье… Мои религиозно-феноменологические исследования, в круг которых средневековье будет в значительной мере вовлечено… покажут, что я, хотя и перестроил свои принципиальные позиции, отнюдь не скатился до того, чтобы подменять объективные благородные суждения о католическом жизненном мире и глубокое уважение к нему озлобленной и путаной полемикой в стиле апостатов… Трудно жить, будучи философом, – внутренняя правдивость перед самим собой, которая переносится и на тех, для кого ты должен быть наставником, требует жертв, самоотречения и борьбы, всегда чуждых ремесленнику от науки. Я убежден, что имею внутреннее призвание к философии и, реализовывая его в исследовательской и преподавательской работе, сделаю все, что в моих силах, для исполнения вечного предназначения внутреннего человека[124] – но только для этого, – и таким образом оправдаю мое вот-бытие и мое дело даже перед Богом»[125].
Двумя годами ранее Энгельбердт Кребс совершил церковную церемонию венчания Мартина и Эльфриды, и новобрачные пообещали ему, что их дети будут крещены по католическому обряду. Поводом к письму послужило то, что Эльфрида теперь ждала ребенка и супруги пришли к мнению, что не будут крестить его как католика. Следовательно, разрыв с «системой католицизма» стал для Хайдеггера и разрывом с церковными институтами. Формально он не вышел из лона Церкви (что в соответствии с католическим церковным правом было просто невозможно), но в кружке Гуссерля его отныне считали «недогматическим протестантом», как выразился сам Гуссерль в уже цитировавшемся письме Рудольфу Отто от 5 марта 1919 года.
То обстоятельство, что Хайдеггер внутренне уже довольно далеко отошел от католического мира, подтверждается и его стремлением четко отмежеваться от путаного апостатства – как если бы он в принципе не исключал возможности подобной связи. От отступничества, как он сам пишет, его удерживает глубокое уважение к ценностям католического Средневековья. Кребса это вряд ли могло утешить, так как из слов Хайдеггера с очевидностью следовало, что современный католицизм такого уважения не заслуживает. Хайдеггер утверждает, что своим духовным развитием обязан свободе от каких-либо «других обязательств, помимо философских». Значит, оглядываясь назад, он считал удачей, что его карьера священника преждевременно оборвалась. Какие же религиозные убеждения остались у Хайдеггера? Он вроде бы сохранил приверженность «христианству и метафизике» – но и их теперь, по его собственным словам, понимает «в новом смысле».
Речь идет не о той метафизике, которая – в католическом средневековом мышлении – объединяла в единую целостность Бога и мир. Хайдеггер сначала обрел в этом учении свою духовную родину, а затем, обладая тонким чутьем, обнаружил в нем мельчайшие трещинки, явно указывавшие на то, что в будущем все здание развалится.
Метафизика, которой он верен, возникла уже после распада прежнего единства. Старые небеса обрушились, мир совершил рывок к мирскому, и именно из этого факта следует исходить. До сих пор философия еще не осмеливалась продвинуться достаточно далеко в это мирское, говорил Хайдеггер в лекционном курсе, который читал во время внеочередного (по условиям военного времени) семестра 1919 года.
На первый взгляд кажется, будто настоятельное требование Хайдеггера – воспринять наконец всерьез это мирствование мира – есть лишь повторение идей того движения, которое зародилось в конце XIX века и ратовало за открытие «реальной реальности». Именно тогда было обнаружено, что за духом скрывается экономика (Маркс), за умозрительными спекуляциями – смертная экзистенция (Кьеркегор), за разумом – воля (Шопенгауэр), за культурой – инстинкт (Ницше, Фрейд), а за историей – биология (Дарвин).
Хайдеггер и вправду был захвачен этим движением «открытия» реальной реальности – захвачен даже в большей мере, чем сам себе признавался. Но он, еще недавно мысливший под католическим небом, хотел превзойти эти «открытия» в радикальности. В его представлении эти критические атаки все еще были попытками усовершенствовать старые мировоззрения, обеспечивавшие сокрытость последних тайн, – и не добирались до «потенциальных возможностей, присущих жизни», то есть до подлинного источника всех интерпретаций и картин мира, более или менее научных. В своих лекциях, прочитанных в зимнем семестре 1921/22 года, Хайдеггер впервые употребил найденное им новое название для «реальной реальности» – «фактичная жизнь».
Эта «фактичная жизнь» более не поддерживается никакой метафизической инстанцией, она падает в пустоту и раскрывается в вот-бытии. Не только мир, но и индивидуальная фактичная жизнь представляет собой der Fall в обоих смыслах данного слова: она есть «падение» и «случай».
Скажем сразу: в этой «фактичной жизни», как ее называл Хайдеггер, мы не найдем ничего, что давало бы основания признать хоть какую-нибудь ценность истины за религиозной верой или метафизической конструкцией. Средневековый принцип «плавного перехода» между конечным человеком и истиной бесконечного, предполагавший возможность преодоления границы между тем и другим, в применении к «фактичной жизни» оказался иллюзорным. А значит, иллюзорным стал и тот Бог, которым Церковь, богатая традициями и крепкая в институциональном отношении, распоряжается как своим достоянием, как всегда, подвластным ей «сокровищем истины».
В начале двадцатых годов Хайдеггер читал лекции по феноменологии религии. В них шла речь об апостоле Павле, о блаженном Августине, о Лютере и даже о Кьеркегоре. Эти лекции отчасти еще не опубликованы, однако Отто Пёггелеру удалось бегло ознакомиться с рукописями, и он открыл в этих работах Хайдеггера-«протестанта».
Хайдеггер, например, интерпретирует одно место из Первого послания к Фессалоникийцам святого апостола Павла, где говорится: «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, / Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью» (5:1–2). Бог так же не может быть «подвластным» человеку, как и время. По словам Хайдеггера, у глубоких религиозных мыслителей слово «Бог» было наименованием тайны времени. Хайдеггер подробно разбирает одно место из Второго послания к Коринфянам, где апостол Павел напоминает тем, кто хвалится особой мистической связью с Богом, слова Христа: «…довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» (12:9). Нужно лишь вновь вернуться – как молодой Лютер, а потом Кьеркегор – к этой раннехристианской религиозной традиции, знавшей о том, что человек не властен приблизить миг Божьей милости, и тогда грандиозные храмовые здания метафизики и теологии, воздвигнутые для того, чтобы вера могла сопротивляться времени, сами собой рухнут.
Подобные попытки превратить недоступного «Бога времени» в такого Бога, которым можно «располагать по своему усмотрению», говорит Хайдеггер вслед за блаженным Августином, имеют свой исток в «беспокойстве» человеческого сердца, стремящегося обрести покой. Августин проводил строгое различие между тем покоем, который человек обеспечивает себе сам, и тем, который он получает – от Бога. Покой второго рода овладевает человеком, и о нем можно сказать то же, что Павел говорил о Господе: он приходит «как тать ночью» и снимает с человека всякое беспокойство. Мы не в силах никому дать мира, пока мир не будет дарован нам.
В лице всех мыслителей западнохристианской традиции, которые когда-либо напоминали о пропасти, разделяющей Бога и человека, и о невозможности приблизить миг Божьей милости – то есть о тайне времени, – Хайдеггер теперь хочет обрести помощников для своего дерзкого начинания: он намеревается показать, что «фактичная жизнь» оторвана от Бога и что все метафизические построения суть химеры.
Во введении (написанном в 1922 году) к работе «Феноменологические интерпретации Аристотеля», о которой мы еще будем говорить, Хайдеггер писал: «Всякая философия, которая, будучи тем, чем она является, понимает саму себя, должна – в качестве фактичного «Как» истолкования жизни и именно потому, что она, помимо всего прочего, еще и «предчувствует» Бога, – знать: то, что она совершила, когда рванула жизнь назад, к себе, есть, если говорить в религиозных терминах, не что иное, как поднимание руки против Бога. Однако только благодаря этому она может стоять перед Богом честно, т. е. соответственно той возможности, которой она, как таковая, располагает; на атеистическом языке это означает: воздерживаясь от уводящей на ложный путь, способной лишь опорочить религиозность заботы» (DJ, 246).
Хайдеггер говорит о Боге так же, как Гуссерль говорил о реальности, внеположной нашему сознанию. Гуссерль «лишал значимости» реальность, Хайдеггер «лишает значимости» Бога. Гуссерль, поступая таким образом, хотел сосредоточиться на поле чистого сознания и показать, что оно уже содержит в себе – и производит из себя – все многообразие реальности. Хайдеггер «лишает значимости» Бога, чтобы постичь чистую мирность мира, и у него нет ни малейшего намерения создавать себе на этом поле эрзац-богов. Гуссерль говорил: «Нужно сперва потерять… мир, чтобы вновь обрести его в универсальном самоосмыслении»[126]. Рассчитывал ли и Хайдеггер на подобную инверсию? Хотел ли он, добившись прозрачности фактичной жизни для нее самой, утратить Бога, чтобы затем вновь Его обрести, но уже в качестве не подвластного человеку события, которое вламывается в фактичную жизнь, «как тать ночью»?
Увидим.
Во всяком случае, Хайдеггер со своим философским атеизмом временно занял позицию, комплементарную по отношению к диалектической теологии[127], которая после выхода в свет второго издания «Послания апостола Павла к римлянам» Карла Барта[128] переживала мощный подъем.
«Поднимание руки против Бога» характерно и для Карла Барта, который определял свою теологию как теологию кризиса. В состоянии кризиса оказался Бог культуры – во время войны и из-за войны. С этим Богом культуры, по Барту, дело обстояло точно так же, как по Хайдеггеру, с «церковным сокровищем истины»: то, что на самом деле совершенно неподвластно человеку, лживо представляли как культурное достояние. И Барт, подобно Хайдеггеру, хотел «рвануть жизнь назад, к себе», чтобы лишить ее возможности бегства в утешительные метафизические конструкции. Барт считал, что не может быть никакого «плавного перехода» к Богу, ибо Бог есть отрицание мира. По мнению Барта, хотеть вывести понятие Бога из мирского – значит заниматься самообманом. Такой же, по сути, критике Хайдеггер подвергал метафизику и «окультуренное» благочестие. Хайдеггер сознавал близость своих взглядов ко взглядам этого великого протестантского теолога, потому, наверное, в начале двадцатых годов у него и проскользнула фраза о том, что в настоящее время духовной жизнью живет, собственно, только Карл Барт. Видимо, и Бог, которого Хайдеггер «лишил значимости», был похож на Бога Карла Барта: «Бог, чистая граница и чистое начало всего того, что мы есть, что мы имеем и что делаем; противостоящий в бесконечном качественном различии человеку и всему человеческому; никогда и никогда не идентичный тому, что мы называем Богом, переживаем и предчувствуем как Бога, к чему возносим наши молитвы; это безусловное «Стой!», обращенное ко всякому человеческому беспокойству, и безусловное «Вперед!», обращенное ко всякому человеческому покою; это «Да» в нашем «Нет» и «Нет» в нашем «Да»; этот Первый и Последний, и в качестве такового – Неизвестный, но никогда и никогда не являющийся просто одной из величин среди других, в известном нам ряду… вот это и есть живой Бог».
Отрицая возможность «присвоения» такого Бога культурой, Барт пишет: «Здесь не из-за чего переживать романтикам, не на чем возводить идеальные конструкции рапсодам, нечего анализировать психологам, не о чем рассказывать тем, кто рассказывает истории. Ничего, абсолютно ничего нет здесь от пресловутого божественного «ростка» или «источника», ничего от той бурлящей, бьющей ключом жизни, в которой могла бы иметь место непрерывная взаимосвязь между бытием Бога и нашим бытием».
Многое в этой теологии воспринимается как дополнение к эпохальному труду Шпенглера «Закат Европы». «Атмосфера землетрясения», Божьего Суда над нашей культурой, столь убедительно нагнетаемая Карлом Бартом, довольно точно соответствует ощущению краха культурного оптимизма, выраженному в работе Шпенглера. В теологии Барта еще слышится эхо военной катастрофы – например, когда он говорит, что вторжение Бога в нашу жизнь оставляет после себя «воронки».
«Рвануть жизнь назад» от фальшивой потусторонности – именно в этом и Хайдеггер, и Барт видели свою важнейшую задачу. Мартин Хайдеггер отрывает жизнь от Бога, Карл Барт отрывает Бога от жизни.
К этой «жизни», которую человек должен «рвануть к себе», Хайдеггер обращается в своих лекциях «Феноменологическая интерпретация Аристотеля», которые прочитал в зимнем семестре 1921/22 года. Студенты, ожидавшие услышать что-то вроде введения в философию Аристотеля, были ошеломлены. Хайдеггер действительно начал свое выступление с некоторых соображений касательно рецепции идей Аристотеля, то есть с истории философии, но лишь для того, чтобы показать: занятия историей философии, как правило, имеют мало общего с философией как таковой. «Подлинным фундаментом философии является радикальное экзистенциальное схватывание и овременение (Zeitigung) сомнительности; поставить под сомнение самого себя, и жизнь, и решающие самореализации (entscheidende Vollzuge) – вот основа любого, в том числе и самого радикального, озарения» (GA 61, 35).
В лекции, прочитанной во время внеочередного военного семестра, Хайдеггер на примере нашего переживания кафедры показал, как плохо мы понимаем даже простейшие переживания. Теперь он хотел сделать предметом своего анализа «решающие самореализации» человеческой жизни.
Для студентов было неожиданностью уже то, что преподаватель стал рассказывать им вовсе не об Аристотеле, а о «фактичной жизни»; но почти сразу же последовала и вторая неожиданность, ибо всем, кто ожидал, что после слов о «радикальном экзистенциальном схватывании» лектор перейдет к анализу личностно-экзистенциальных проблем, пришлось испытать разочарование. Правда, Хайдеггер решительно заявил, что следует философствовать не о фактичной жизни, а исходя из нее; он также несколько раз упомянул о риске и о том, что в ходе реализации такого рода мышления можно и погибнуть, что необходимо мужество, ибо до конца осознать сомнительность всего существующего значит «поставить на кон всю свою внутреннюю и внешнюю экзистенцию». Пролог, таким образом, звучал драматично, горячил и возбуждал присутствовавших – но затем возбуждение как-то странно охлаждалось посредством сложного аппарата понятий, которые, казалось, были заимствованы из арсенала идей, характерных для сторонников «новой вещественности»[129] с их стремлением дистанцироваться от окружающего. Замелькали такие термины, как «обрушивание», «преструкция», «деструкция», «личинность», «вторичная просветленность». Хайдеггер, который как раз в эти годы начал появляться на людях в своеобразной одежде – крестьянской куртке из грубого сукна, – пользовался языком, который отличался отнюдь не «близостью к истокам» и почвенностью, а вещной, чуть ли не технической конкретностью и полным отсутствием какой бы то ни было патетики, нарочитой «охлажденностью». Сам этот язык был воплощением сверкающей современности. Так, по крайней мере, его воспринимали тогда. Он не имел ничего общего с жаргоном поклонников подлинности чувств, задушевной доверительности.
В этих лекциях впервые появляется тот тон, который будет типичным для хайдеггеровских выступлений в ближайшие годы: тон, обусловленный специфическим напряжением между экзистенциальным жаром и дистанцированной нейтральностью, между абстрактностью понятийного аппарата и эмоциональной насыщенностью, между настойчивым стремлением всему давать имена и дистанцированной позицией по отношению к предмету описания.
Мы как-то живем, но при этом не знаем себя. Мы не видим себя, ибо находимся в слепом пятне своего собственного зрительного поля. Когда мы хотим стать прозрачными для самих себя, мы, по словам Хайдеггера, совершаем усилие, которое «отбивает атаку жизни». Хайдеггеровская философия жизни – это философия, направленная против спонтанного течения жизни. Потому-то она и может быть такой – проникнутой леденящим холодом и одновременно, в экзистенциальном плане, находящейся под высоким напряжением.
Хайдеггеровские лекции об Аристотеле начинаются с экспликации следующего хода рассуждений: тот, кто хочет понять Аристотеля, кто хочет вступить с ним в напряженное и плодотворное общение, должен прежде понять самого себя; или, по крайней мере, должен понять, что именно он хочет понять у Аристотеля и благодаря Аристотелю. Тот, кто хочет понять самого себя, должен прояснить для себя ситуацию, в которой находится. В данном случае речь идет о ситуации в сфере образования, как она конкретно проявляется на философском факультете данного университета, в 1921 году. Эта ситуация включает в себя целый мир, относительно нее возникает множество вопросов. Почему сейчас мы намереваемся изучать именно философию? Какую вообще роль может играть философия в наше время – во время учебы в университете, в качестве профессии или как подготовительная ступень к обретению другой профессии? Чего мы ждем от своей жизни, когда выбираем в качестве изучаемой дисциплины или будущей профессии философию? Хайдеггер засыпает аудиторию этими вопросами или, лучше сказать, инсценирует их. Он хочет поднять словесную вьюгу, запорошить своих слушателей неясностями и сомнительностями, чтобы им стало ясно, какой неясной, туманной оказывается ситуация всякий раз, когда человек пытается сделать ее прозрачной для самого себя. Всякий, кто слушал (или, впоследствии, читал) эти лекции, становился свидетелем того, как по мере постепенного оформления мысли Хайдеггера рождались ни на что не похожие продукты его словотворчества. Эту жизнь, в которой мы застаем себя, говорит Хайдеггер, мы не можем рассматривать извне, ибо мы все время пребываем внутри нее, в окружении ее единичных деталей. Там, где мы находимся, имеется лишь «это», и «это», и «это». Хайдеггер описывает эту жизнь, много раз повторяя словосочетание «вот это», и потом вдруг находит нужное выражение, точно передающее его мысль: характерная особенность жизни – ее «этошность» (GA 61, 88). Эту «этошность» человеку трудно переносить. Философия, как правило, отвечает на данное обстоятельство тем, что «сооружает» ценности, традиции, системы, умозрительные конструкции, в которых человек обретает приют, что позволяет ему не стоять таким нагим и незащищенным в его времени. Человек «окапывается» за благами образования, полагаясь на философию, как если бы она была договором о страховании от несчастных случаев или на выдачу ссуды для строительства. Человек «инвестирует» в нее свой труд и свои усилия, спрашивая себя, какие проценты это ему принесет, какую пользу он будет с этого иметь, что потом сможет с этим сделать. Но с помощью философии, говорит Хайдеггер, нельзя ничего «сделать»; философствуя, можно в лучшем случае понять, что, собственно, ты «делаешь». Философия имеет дело с «принципиальным», а «принципиальное», в буквальном смысле, означает: «изначальное». Речь идет не о том, как изначально возник мир, и не о «принципах» в смысле высших ценностей или аксиом. «Принципиальное» – это то, что постоянно подгоняет меня, побуждая вновь и вновь становиться «зачинателем» моей жизни.
Следуя трудными для восприятия, извилистыми ходами мысли, Хайдеггер пытается описать некое движение – и напряжение в аудитории возрастает. Присутствующим хочется наконец получить ответ на вопрос: что же, собственно, представляет собой этот движущий принцип? Прошла уже почти половина лекционного курса, а студенты все еще остаются во тьме неведения; мало что проясняет и очередная «подводящая» фраза: «Поскольку мы понимаем, что фактичная жизнь, собственно, всегда находится в состоянии бегства от Принципиального, нас не должно удивлять, что присваивающий поворот к нему дается «не без труда»» (GA 61, 72).
Орфею нельзя было оборачиваться, если он хотел вывести Эвридику из царства мертвых. Он обернулся, и Эвридика вновь исчезла в царстве теней. Хайдеггер хочет заставить обернуться пришедшую в движение жизнь; она должна «осознать себя в своих корнях», что значит: она должна обнаружить ту почву, из которой произрастает и от которой стремится убежать, потому что уже освоилась (festlebt) в новом, своем мире. Но не потому ли этот поворот дается так тяжело, что жизнь предчувствует: там, в своем средоточии, она не найдет ничего, кроме пустоты, horror vacui[130], который и гонит ее на поиски того, чем можно было бы заполнить этот вакуум? Не должны ли мы, ради сохранения своей жизнестойкости, скрывать от самих себя, что именно гонит нас в мир, в котором мы всегда имеем нечто, о чем нам нужно заботиться? Хайдеггер подстрекает нас бросить взгляд на то, что мы в своей повседневности воспринимаем всерьез, – после такого взгляда тот, кто прежде был всерьез озабочен, уже не сможет оставаться серьезным на старый манер. Волшебное слово, с помощью которого Хайдеггер заставляет нас внезапно увидеть Повседневное и Обычное в совершенно ином свете, звучит так: забота. «Жизнь есть озабоченность, причем именно такая, которая выражается в склонности к деланию легким для себя, к бегству» (GA 61,109).
Понятие «забота» будет стоять в центре «Бытия и времени», но уже в этих лекциях ему посвящен производящий сильное впечатление фрагмент. «Забота» – это обобщающее обозначение для таких установок, как: «для человека важно то-то», человек «беспокоится о чем-то», «озабочен чем-то», «намеревается что-то предпринять», «следит за порядком», «возится с чем-то», «желает получить какой-то результат». Понимаемые таким образом забота и озабоченность почти идентичны с действием вообще. Хайдеггер избрал данное понятие, чтобы подчеркнуть обусловленность этих форм жизнедеятельности временем. Когда я действую, движимый озабоченностью, я опережаю сам себя. Я имею что-то «перед собой» – во временном и пространственном смысле, – о чем забочусь, что хочу осуществить; или же я имею что-то «за собой» и хочу это сохранить, либо, наоборот, хочу от этого избавиться. Озабоченность заключена в пространственный и (что гораздо важнее) временной горизонт. Каждое действие подобно двуликому Янусу. Один его лик смотрит в будущее, другой – в прошлое. Человек заботится о своем будущем, чтобы ничто из его прошлого не оказалось пропавшим втуне.
Весь этот анализ можно было бы понять как приукрашенное экзотическими терминами описание банальности, а именно, того факта, что люди всегда так или иначе действуют. Но понять Хайдеггера таким образом – значит плохо его понять. Это значит упустить самую суть. Которая заключается в следующем: в своей озабоченности человек не только опережает самого себя, но, по Хайдеггеру, оказывается потерянным для самого себя. Мир того, о чем я забочусь, заслоняет меня. Получается, что я скрыт от самого себя, я осваиваюсь в тех взаимосвязях, о которых должен заботиться. «Находясь в состоянии озабоченности, жизнь отгораживается от самой себя, но и в этой отгороженности не избавляется от себя. Она постоянно ищет себя, вновь и вновь устремляя взор вдаль…» (GA 61,107).
Для обозначения этого процесса, заключающегося в том, что жизнь «живет из самой себя» и осваивается с тем, о чем она заботится, и при этом «отдаляется от самой себя», Хайдеггер и придумал термин «обрушивание» (Ruinanz). Он сознательно стремился вызвать ассоциации со словами «руины», «разрушение». В более узком смысле термин «обрушивание» означает падение.
До этого момента Хайдеггер истолковывал «заботу» и «озабоченность» как движение в будущее или в прошлое, но в любом случае как «горизонтальное» движение. Теперь он опрокидывает горизонталь, превращая ее в вертикаль, и тем самым, естественно, придает движению стремительное ускорение: движение превращается в падение, в низвержение. Однако «фактичная жизнь», живя из самой себя, даже не замечает, что она падает. Только философия впервые открывает ей глаза на ее положение, особенность которого как раз и состоит в том, что оно есть не (зафиксированное, устойчивое) положение, а падение. Жизнь, говорит Хайдеггер, необходимо рывком вернуть к ней самой: только тогда она заметит, что не может найти опоры в себе самой – как, впрочем, и нигде в другом месте. Хайдеггер затрачивает большие усилия, чтобы покончить с ложным представлением о том, что жизнь, если она станет прозрачной для себя самой, обретет наконец покой. В действительности дело обстоит прямо противоположным образом: философия есть еще более сильное беспокойство, чем обыкновенная жизнь. И вместе с тем она есть методично практикуемое беспокойство. Суть хайдеггеровской философии тех лет прекрасно выражает дадаистский девиз: «Я все-таки не настолько потеряю голову, чтобы, падая, не изучать законы падения» (Хуго Балль).
Куда же мы падаем? Хайдеггер, заканчивая свой лекционный курс, не мог обойти молчанием этот вопрос. Его ответ был сродни туманному оракулу и, вероятно, поверг многих студентов в пучину растерянности: ««Куда» падения не есть что-то чуждое падению, оно само причастно к характеру фактичной жизни, а именно, представляет собой «Ничто фактичной жизни»» (GA 61, 145).
Что значит «Ничто фактичной жизни»? Саму фактичную жизнь вряд ли корректно называть «ничем», ибо она, как-никак, «имеет место». Фактичная жизнь «имеется», или, если выразиться точнее: она есть падение. Следовательно, «Ничто фактичной жизни» должно быть чем-то, что является частью этой жизни, но при этом не растворяет ее всю в «Ничто». Может быть, под этим Ничто, составляющим часть фактичной жизни, подразумевается смерть? Но о смерти в этих лекциях речь вообще не идет. Этому «Ничто» Хайдеггер дает такое определение: «Фактичная жизнь» превращается в Ничто в той мере, в какой она теряет себя в «обрушивающемся вот-бытии». Или, иными словами: Ничто есть «неприсутствие (фактичной жизни. – Р. С.) в обрушивающемся вот-бытии» (GA 61,148).
Хотя Хайдеггер предчувствовал, что вскоре обозначит новый поворот в развитии философии, в своих рассуждениях о неприсутствии фактичной жизни в «обрушивающемся вот-бытии» он пока лишь варьировал идею отчуждения, которая в XIX веке – после того, как была сформулирована сначала Гегелем, а потом Марксом, – сыграла в высшей степени важную историческую роль. Идея заключается в следующем: человек создает свой мир таким образом, что не может узнать в нем себя. Его самореализация является искажением самого себя.
В лекциях об Аристотеле Хайдеггеру еще не удалось достаточно четко показать отличие своих собственных рассуждений от этой традиции мышления. Между тем это отличие имеет принципиальный характер. Ибо философия отчуждения предполагает, что существует некий образ «подлинного «я»», «идея» человека, каков он есть, каким мог бы быть и каким должен стать. Но как раз эта идея кажется Хайдеггеру весьма и весьма сомнительной. В самом деле, откуда бы мы могли почерпнуть это якобы имеющееся у нас знание о подлинном предназначении человека? Хайдеггер предположил, что за этим «знанием» скрываются протащенные контрабандой теологические идеи. Вполне допустимо, говорил он, придерживаться таких идей, но тогда надо корректно о них заявить, объяснив, что их следует принимать просто на веру, – а не выдавать их за такие сущности, существование коих доказуемо философским путем.
Мы застали Хайдеггера в тот момент, когда он отвергает идею «собственного «я»», но вместе с тем все еще находится под ее обаянием. Решения этого противоречия он пока не может найти. Оно будет проанализировано – четко и самым серьезным образом – в работе «Бытие и время», на тех ее страницах, где идет речь о «собственной» (в смысле: подлинной) жизни.
В начале двадцатых годов, когда Хайдеггер еще только искал путь к своей «философии прозрачности жизни» – искал на ощупь, экспериментируя и отмежевываясь от других, – зародилась его дружба с Карлом Ясперсом, тоже искавшим «новое начало» в философии. Непростая дружба двух людей, которые оба по своей натуре были «зачинателями».
Они познакомились весной 1920 года, на вечеринке в доме Гуссерля. Но только летом 1922-го, после того, как года полтора осторожно присматривались друг к другу, почувствовали наконец, что связаны «сознанием редкого и самобытного боевого содружества» (Хайдеггер – Ясперсу, 27.6.1922, Переписка, 75). Уже первая их встреча прошла под знаком совместного противостояния академическим ритуалам. Много позже, в своей «Философской автобиографии», Ясперс так описал тот вечер в доме Гуссерля: «Весной 1920-го мы с женой заезжали на несколько дней во Фрайбург… Праздновали день рождения Гуссерля. Сидели довольно большой компанией за столом, пили кофе. Г-жа Гуссерль назвала Хайдеггера «феноменологическим дитятей». Я рассказал, что моя ученица Афра Гайгер[131], очень яркая индивидуальность, приехала во Фрайбург учиться у Гуссерля. По формальным условиям участия в его семинаре он ее к нему не допустил. Так академический схематизм лишил и его, и ее благоприятной возможности, поскольку Гуссерль не пожелал увидеть самого человека. Хайдеггер оживленно включился в разговор и поддержал меня. Это походило на солидарное выступление людей более молодого поколения против авторитета абстрактных предписаний… Атмосфера этого застолья мне не нравилась. В ней чувствовалось что-то мелкобуржуазное, какая-то узость, которая мешала свободному влечению человека к человеку, не давала вспыхнуть духовной искре… Особенным показался мне один только Хайдеггер. Я был у него в гостях, мы сидели вдвоем в его келье, и я видел, как он занимается Лютером, видел интенсивность его работы, симпатизировал его убедительной и лаконичной манере говорить»[132].
Карл Ясперс, который был на шесть лет старше Хайдеггера, в то время еще считался в цехе философов аутсайдером. Он пришел в философию из сферы медицинской психиатрии, где сделал себе имя, издав в 1913 году «Всеобщую психопатологию» – книгу, которая очень скоро стала классической в своей области. Но Ясперс тогда уже начал отходить от медицины. Не в последнюю очередь именно наблюдения за пограничными случаями, за больными людьми сделали для него очевидным, что душевные состояния невозможно в достаточной степени понять, оставаясь в рамках психологии, ориентированной на естественные науки. Еще не порвав с этой психологией, Ясперс испытал влияние дильтеевского метода, который требовал понимания и феноменологической осторожности при описании феноменов сознания. Однако решающую роль в обращении Ясперса к философии сыграли импульсы, полученные им при чтении работ Макса Вебера и Кьеркегора.
На него произвела сильное впечатление веберовская мысль о необходимости строгого разграничения между исследованием фактов, с одной стороны, и оценочными суждениями – с другой. Макс Вебер убедил его в том, что ложные претензии науки должны быть отброшены, однако Ясперс – и в этом он пошел дальше Вебера – сформулировал для себя следующую идею: область оценочных суждений, то есть жизнь личности, проникнутая чувством ответственности, тоже нуждается в самопрояснении и способна к нему; правда, такое самопрояснение не может быть «научным», но, с другой стороны, было бы неправильно и ограничивать его исключительно сферой приватной рефлексии или религиозности. Ясперс хотел сделать прозрачными те «жизненные силы», о которых говорил Макс Вебер и которые лежат в основе человеческих решений. Для такого способа философствования (позже Ясперс назовет его «прояснением экзистенции»[133]) он нашел великий праобраз в лице Кьеркегора. Макс Вебер выделил философию из корпуса строгих наук и тем самым освободил ее для выполнения ее собственных задач, Кьеркегор же вернул ей экзистенциальный пафос. Так, по крайней мере, все это виделось Карлу Ясперсу.
Работой, которая обозначила переход Ясперса от психологии к философии, понимаемой как «прояснение экзистенции», стала опубликованная в 1919 году «Психология мировоззрений» – книга, нашедшая широкий отклик и за пределами круга специалистов. Используя веберовскую методику идеально-типических конструкций, Ясперс исследовал «установки и картины мира», которые вырастают из опыта человеческой жизни (прежде всего из осмысления таких основополагающих проблем, как свобода, вина и смерть) и придают неповторимые черты каждому философскому проекту. Описывая такие картины мира и установки – то есть в определенном смысле подходя к ним «извне», – Ясперс одновременно набрасывает их типологию, но не с целью решения исторических или социологических задач. Не собирался он и исследовать «сознание вообще», которое, видимо, должно лежать в основе всех подобных проектов, – в то время, когда писалась книга, к такой постановке вопроса охотно обращались неокантианцы. Эту работу Ясперса иногда пытались интерпретировать с точки зрения истории, социологии или неокантианства, но сам автор имел иные намерения. Ясперса волновал вопрос, в каких формах реализуется «бытие самости» (Selbstsein), как оно может изменить себе и из-за чего – потерпеть крах. Ясперс исследует движение свободы, а также страх перед свободой и проистекающую из этого страха готовность замкнуться в «скорлупе» из якобы надежных принципов и толкований. Его интересовали прежде всего способы поведения и мышления в «пограничных ситуациях» (смерти, страдания, случайности, вины, борьбы), в которых проявляется рискованный характер жизни, принятой человеком по свободному и ответственному выбору. «Все это, – пишет Ясперс в своей «Философской автобиографии», – было как бы схвачено одним быстрым движением… Настрой целого превосходил по охвату то, что удалось сказать».
С момента появления этой работы в философии зазвучал новый тон. Вызванный книгой общественный резонанс был настолько велик, что Ясперс, хотя и не имел философской ученой степени, в 1921 году получил в Гейдельбергском университете должность профессора философии. Тем не менее его положение оставалось двусмысленным. Среди ученых-естественников старой закалки он приобрел репутацию ренегата, человека, связавшегося с такой неточной дисциплиной, как философия; философы же считали его психологом с сильно выраженной склонностью к проповедничеству.
Самого Ясперса это не тревожило. Он ощущал себя «на пути к свободному простору».
Такова была ситуация в тот момент, когда произошло знакомство Ясперса и Хайдеггера. И Ясперс прекрасно понимал, что имел в виду Хайдеггер, когда писал ему 5 августа 1921 года, характеризуя собственную философскую работу: «Окажусь ли и я на просторе, не знаю; мне бы заставить себя удержаться на ногах и вообще идти»[134].
С 1919 года Хайдеггер работал над рецензией на книгу Ясперса. В июне 1921-го он послал Ясперсу эту рецензию – она разрослась во внушительного объема работу и именно из-за объема не была, как планировалось, опубликована в «Гёттингишен гелертен анцайген», а вышла в свет лишь в 1973 году.
Хайдеггер начинает с того, что говорит о книге много хвалебных слов, а потом переходит к критическим замечаниям, которые формулирует осторожно. Ясперс, по его мнению, пошел недостаточно далеко. Он написал о реализации экзистенции (человеческого существования), но не включил свои собственные размышления в эту реализацию экзистенции. Он пытается сохранить свободу по отношению к мировоззренческой скорлупе и указать на ядро персональной экзистенции, однако подобные указания сами станут мировоззрением, если креативная свобода, лежащая в основе «бытия самости», будет описываться как нечто наличествующее, то есть, в конечном счете, опять-таки как поддающийся научной констатации факт. «Подлинное самосознание, – утверждает Хайдеггер в конце рецензии, – можно сделать свободным и осмысленным только в том случае, если оно вообще присутствует, а присутствует оно только в строгом бодрствовании, по-настоящему же бодрствовать оно может лишь при условии, что и другой – в определенном смысле беспощадно – тоже будет ввергнут в состояние рефлексии… Ввергнуть же [другого] в состояние рефлексии, сделать [его] внимательным можно только одним способом: самому пройдя впереди [него] часть пути, указывая дорогу» (W, 42). Но чтобы идти впереди, указывая дорогу, нужно прежде самому понять, в чем состоит предмет философии. А предмет философии – это «сам философствующий и (его) очевидная ничтожность» (W, 42).
Автор книги мог не принимать фразу о ничтожности на свой счет, ибо по контексту было ясно, что подразумевалась «ничтожность» в антропологическом смысле, и потому Ясперс на рецензию не обиделся, но она его смутила. Что имел в виду Хайдеггер, когда говорил, что нужно философствовать не о реализации экзистенции, а изнутри этого процесса? Хайдеггер либо не понял, что Ясперс уже идет тем путем, ступить на который он, Хайдеггер, его призывает, – путем философии как «заботы о себе самой» (Хайдеггер); либо Хайдеггер представляет себе этот путь как-то иначе – но тогда, значит, он не сумел должным образом объяснить свою мысль. Ясперс, во всяком случае, не представлял, как Хайдеггер собирается двигаться дальше по выбранному им пути. Тем не менее смутное ощущение содружества, ощущение того, что они идут вместе, одним путем, осталось. 1 августа 1921 года Ясперс писал Хайдеггеру: «Думаю, что из всех рецензий на мою книгу, какие я читал, Ваша наиболее близко подходит к истокам моей мысли. Поэтому она по-настоящему затронула меня внутренне. Однако… я все еще не вижу позитивного метода. Читая, я постоянно ощущал потенцию продвижения вперед, но затем с разочарованием обнаружил, что настолько я и сам уже продвинулся» (Переписка, 68–69).
В ответе Хайдеггер охарактеризовал свою рецензию как «смешной и убогий опус начинающего»; он, по его словам, ни в коем случае не воображал, «будто продвинулся дальше (Ясперса. – Прим. пер.)… тем более что я забрал себе в голову пойти окольными путями» (Переписка, 70–71). Переписка прекратилась на год. Затем в сентябре 1922 года Ясперс пригласил Хайдеггера провести пару дней у него дома, в Гейдельберге: «… как было бы замечательно, если б нам удалось денек-другой пофилософствовать в удобные для этого часы, испытать и укрепить наше «боевое содружество». Я представляю себе, как мы живем вместе: каждый в своей комнате (моя жена в отъезде), каждый делает, что хочет, а еще мы – кроме трапез – встречаемся, когда хотим, и говорим друг с другом, в особенности вечерами или в иное время, без всякого принуждения» (6.9.1922, Переписка, 79).
Хайдеггер принял приглашение. Оба они никогда не забудут те сентябрьские дни. И будут жить воспоминаниями о тогдашней встрече – тем более что очень скоро их дружба сможет подпитываться только такими надеждами на будущее, которые остались в прошлом. Насыщенность философских диалогов, дружеская, спокойная обстановка, внезапное ощущение совместного прорыва в неизвестность, нового начала – все это, как позднее отметит Ясперс, «было потрясающе», Хайдеггер незабвенным образом оказался «близок» ему. А Хайдеггер сразу после тех благословенных бесед написал Ясперсу: «Восемь дней, проведенных у Вас, постоянно со мной. Внезапность, полное отсутствие внешних событий в эти дни… лишенная сантиментов, суровая поступь, которой к нам подошла дружба, растущая уверенность обеих сторон в боевом содружестве – все это для меня непривычно и странно в том смысле, в каком мир и жизнь непривычны и странны для философа» (19.11.1922, Переписка, 80).
В своей начальной фазе их дружба была настолько окрыляющей, что Ясперс даже предложил основать журнал, статьи для которого писали бы только они двое, – своего рода философский «факел». Он утверждал, что в «философской пустыне нынешнего времени» необходимо наконец возвысить голос против профессорской философии: «Мы не станем ругать, однако разбор будет нелицеприятным» (24.11.1922, Переписка, 82–83). Правда, профессору Яспер-су сразу же пришло в голову, что Хайдеггер еще не получил кафедру, так что с осуществлением их проекта придется подождать до тех пор, пока Хайдеггер не сделает себе имя. Профессорские заботы…
Еще одно обстоятельство препятствовало тому, чтобы они немедленно взялись за реализацию проекта журнала. Оба пока были не настолько уверены в собственных позициях, чтобы начинать «крестовый поход». Ясперс: «… мы оба сами не знаем, чего хотим, т. е. нас обоих несет знание, пока не существующее эксплицитно» (24.11.1922, Переписка, 82–83). Хайдеггер ответил: он, Хайдеггер, кое-чего достиг уже тем, что «сам стал увереннее в подлинной конкретной неуверенности» (14.7.1923, Переписка, 89).
И действительно, Хайдеггеру удалось (между летом 1922-го и летом 1923 года) сделать важные шаги к «самопрояснению». Он уже приступил к разработке замысла «Бытия и времени». Документальные свидетельства этих усилий – работа «Феноменологические интерпретации Аристотеля. Отличия герменевтической ситуации», которую Хайдеггер послал в конце 1922 года в Марбург в качестве реферата, требуемого от соискателей должности профессора (она была опубликована только в 1989 году), и лекционный курс «Онтология (герменевтика фактичности)», прочитанная в 1923 году, в последний – перед получением профессорской должности в Марбурге – фрайбургский семестр Хайдеггера.
«Феноменологическая интерпретация» произвела в Марбурге сильное впечатление. Пауль Наторп увидел в этой работе «гениальный эскиз», а для Гадамера, который в ту пору писал диссертацию у Наторпа и, видимо, позволил себе заглянуть в хайдеггеровскую рукопись, последняя стала «подлинным источником вдохновения». От этого текста исходил настолько редкостный «мощный импульс», что это побудило Гадамера в ближайшем же семестре отправиться во Фрайбург, чтобы послушать лекции Хайдеггера (и потом, уже вместе с Хайдеггером, вернуться в Марбург).
Вероятно, столь же сильное впечатление оставила и лекция об онтологии, прочитанная летом 1923 года. Тогда перед кафедрой приват-доцента Хайдеггера, которого многие уже считали «тайным королем философии», королем в швабской суконной куртке, сидело немало тех, кому суждено было впоследствии стать известными философами. Там были Гадамер, Хоркхаймер[135], Оскар Беккер[136], Фриц Кауфман, Герберт Маркузе[137], Ханс Ионас[138].
В рукописном тексте об Аристотеле Хайдеггер дает лапидарное определение своего философского замысла: «Предметом философского вопрошания является человеческое вот-бытие, вопрошающее о характере своего бытия» (DJ, 238).
Это определение несложно только на первый взгляд. Хочется спросить: чем же еще могло бы заниматься философское исследование и чем оно занималось до сих пор, если не проникновением в суть человеческого вот-бытия?
Впрочем, философия на протяжении своей истории занималась и кое-чем другим помимо человеческого бытия. Только поэтому и возникла необходимость в протесте Сократа, хотевшего вновь вернуть философию к заботе человека о себе самом. И это напряженное отношение между философией, желающей исследовать Бога и мир, и философией, которая концентрирует свои усилия на человеческом вот-бытии, проходит сквозь всю историю философии. Фалес Милетский, который засмотрелся на небо и потому свалился в источник, был, может быть, самым первым живым воплощением этого конфликта. В философии же Хайдеггера вот-бытие постоянно пребывает в состоянии падения.
Термин «характер (своего) бытия» тоже на первый взгляд не вызывает трудностей. В самом деле, что еще можно хотеть узнать, исследуя какой-то «предмет», если не характер (способ) его бытия?
Разве «характер бытия» молекулы – это не элементы, из которых она состоит, не свойственный ей способ вступать в химические реакции, не ее функция в организме и т. п.? И разве не раскрывается «характер бытия» любого животного в его анатомическом строении, в его поведении, в его месте на лестнице эволюции и т. д.?
Однако термин «характер бытия», если его понимать таким образом, окажется тусклым, бесцветным. Ибо попросту будет охватывать всё, что мы можем узнать о том или ином «предмете». Такое знание неизбежно будет одновременно и знанием о различиях: о том, например, чем одна молекула отличается от другой, а животное – от других животных, или от растений, или даже от человека. Обобщающее понятие «характер бытия» превратится в простую совокупность многих «характеров бытия».
Такая точка зрения предполагает, что, с одной стороны, имеется установка на обретение знания, остающаяся сама в себе неизменной, а с другой – существуют всевозможные предметы, о которых мы хотим что-то узнать, то есть хотим исследовать их «характер бытия» (с какой именно целью – не имеет существенного значения).
Конечно, для ученых – самое позднее со времен Канта – очевидно, что разные «предметы» исследования требуют разных методических подходов. В особенности это касается различия двух «миров» – мира природы и мира человека, – поскольку человек есть нечто большее, чем природа, а именно, существо, которое создает культуру и, создавая ее, творит самого себя. Именно неокантианцы уделяли особое внимание проблеме методологических различий между науками о культуре и о природе. Естественные науки нацелены на познание общих законов, науки о культуре – на понимание индивидуального, учил Виндельбанд[139]. Или, как говорил Риккерт: науки о природе исследуют вещные обстоятельства, а науки о культуре – ценностные обстоятельства. Однако Хайдеггеру идеи неокантианцев о различных «характерах бытия» давно уже не казались достаточно радикальными. Свои собственные намерения он сформулировал в рукописи об Аристотеле, в одном очень сжатом и потому трудном для понимания предложении, которое я сначала процитирую, а потом вкратце прокомментирую, привлекая для его прояснения другой источник – лекции об онтологии. Хайдеггер писал: «Это основное направление (Grundrichtung) философского вопрошания не «насаживается», не «навинчивается» на опрашиваемый предмет, то есть на фактичную жизнь, извне, но должно быть понято как эксплицитное схватывание основополагающей подвижности (Grundbewegtheit) фактичной жизни, выражающейся в том, что жизнь в конкретном временении своего бытия озабочена своим бытием, причем даже там, где она убегает от самой себя» (DJ, 238).
«Не «насаживается»… извне»: Хайдеггер хочет применить феноменологический принцип, требующий, чтобы исследуемому феномену была предоставлена возможность «показать себя», к исследованию вот-бытия в его целостности.
Поэтому лекции об онтологии начинаются с подробнейших предварительных рассуждений о том, как вообще уместно и возможно говорить о человеке, – и в конце концов слушатели замечают, что благодаря этим предварительным рассуждениям уже оказались «внутри» проблемы.
Если мы, говорит Хайдеггер, хотим приблизиться к какому-нибудь «предмету», чтобы постичь «смысл (его) бытия», то мы должны проникнуть в «смысл (его) самореализации/функционирования» (Vollzugssinn), из которого только и можно вывести «смысл (его) бытия». Для выходца из чужого культурного круга, который окажется в гуще нашей экономической жизни, еще не умея постичь «смысл ее функционирования», останется неведомым и «смысл бытия» денег, сколько бы он ни ощупывал и ни взвешивал на ладони отдельные монетки. Так же обстоит дело и с музыкой: она останется для меня просто невнятным шумом, пока я не пойму «смысл ее функционирования». Это наблюдение применимо к самым разным сферам бытия: искусству, литературе, религии, счету с использованием мнимых чисел, футболу. Кстати, те же соображения позволяют продемонстрировать – ex contrario[140] – ограниченность редукционистского метода. Если я говорю: «Мышление есть производное от физиологии мозга», или: «Любовь есть производное от секреции желез», – то я высказываюсь о бытии мышления или любви, не поставив себя в такую ситуацию, в которой они реализуются. Но смысл их бытия раскрывается только в их реализации. Для того, кто смотрит на игру, музыку, живопись, религию и т. п., абстрагируясь от функционирования этих феноменов, они просто не существуют.
Эти размышления носят феноменологический характер. Они должны внести полную ясность насчет того, какую установку необходимо принять, чтобы феномены могли показать себя такими, каковы они «сами по себе». Игра не может открыться тому, кто чужд игре, не участвует в ней. Любовь покажет себя только влюбленному, Бог – только верующему. Но какую установку, спрашивает Хайдеггер, должен я принять, дабы мне открылось, что «есть» человек?
Ответ может быть только один: мышление о вот-бытии, если оно хочет постичь это вот-бытие, должно поставить себя в ситуацию, в которой проявляется смысл самореализации вот-бытия. Именно это имеет в виду Хайдеггер, когда в тексте об Аристотеле использует уже цитировавшуюся выше сложную формулировку: «эксплицитное схватывание основополагающей подвижности фактичной жизни».
В этой работе Хайдеггер впервые настойчиво подчеркивает, что «основополагающая подвижность» и есть «существование/экзистенция» (Existenz).
Что-то «существует» – используя это выражение, мы, как правило, подразумеваем следующее: мы предполагаем наличие чего-то, и если затем наше предположение подтверждается, мы говорим, что «оно действительно существует». Так Галилей на основании математических вычислений предположил, что должен существовать спутник Юпитера, а затем с помощью телескопа установил, что такой спутник Юпитера и вправду «существует». Однако именно такое понимание «существования» как «действительного наличествования» Хайдеггер хочет вынести за скобки. И использует этот термин так, как если бы он обладал транзитивным значением: по его мнению, выражение «я существую» значит не просто то, что я «имеюсь в наличии», но и то, что я должен «себя существовать»; я не только живу, но и должен «вести» свою жизнь. Экзистенция есть особый род бытия, а именно, «бытие, подвластное самому себе» (DJ, 241). Экзистенция – это такое сущее, которое, в отличие от камней, растений и животных, как-то относится к самому себе. Оно не просто «есть», «присутствует», но обнаруживает себя «вот здесь». И только потому, что оно обладает этой способностью самообнаружения, перед ним открывается весь горизонт заботы и времени. Следовательно, экзистенция – не просто наличествование, но самореализация, движение. О том, в какой мере эта точка зрения стала движущей силой для самого Хайдеггера, свидетельствует его письмо Карлу Левиту 1921 года. Там, в частности, говорится: «Я делаю лишь то, что должен и считаю необходимым делать, и делаю это так, как могу – не приспосабливая мою философскую работу к культурным задачам всеобщего «сегодня»… Я работаю, исходя из моего «я есмь» и из моего духовного – и вообще фактичного – происхождения. С этой фактичностью существование буйствует».
Смысл самореализации вот-бытия – это описанное выше существование в транзитивном смысле, или, иными словами, фактичная жизнь как заботящаяся, тревожащаяся, проектирующая себя жизнь во времени. Человеческое вот-бытие можно понять, только исходя из смысла его самореализации, – а не, так сказать, поставив его перед собой наподобие наличествующего предмета. Философия вот-бытия, какой она смутно представлялась Хайдеггеру и какой он ее бегло обрисовал еще за несколько лет до появления «Бытия и времени», не стоит в позе созерцателя «над» вот-бытием, но представляет собой органическое выражение этого вот-бытия. Философия есть озабоченная жизнь, проявляющая себя в одухотворенном действии. Предельная возможность философии, как сказал Хайдеггер в лекциях об онтологии, заключается в «бодрствовании вот-бытия ради себя самого» (GA, 63, 15), что прежде всего означает: вот-бытие должно застигнуть себя там, где оно «убегает от самого себя» (DJ, 238). Иными словами: нужно сделать прозрачной свойственную жизни «склонность к падению, к упадку»; нужно отрезать все пути к бегству в мнимую стабильность; нужно набраться мужества, чтобы смириться с неспокойностью жизни и осознать – все, что кажется надежным, прочным, обязательным, на самом деле есть не что иное, как попытка наскоро что-то исправить, маска, которую надевает на себя вот-бытие или которую оно получает от «общественной идеологии», то есть от господствующих мнений, моральных представлений и смыслополаганий.
«Бодрствование вот-бытия ради себя самого» является, по определению Хайдеггера, высшей задачей философии. Однако эта истина не позволяет нам раскрыть истинное «я», а просто отбрасывает назад, в эпицентр того беспокойства, от которого мы хотим убежать, – и именно поэтому возникает «страх перед философией» (GA, 63, 19). В те годы философия была для Хайдеггера возбудительницей беспокойства. Страх перед философией – это страх перед свободой. Но поначалу Хайдеггер еще не употреблял термина «свобода», а говорил о «бытии-возможным» (Moglichsein) фактичной жизни[141].
Итак, философия в хайдеггеровском смысле есть соучастие в заботящемся и озабоченном вот-бытии, но она также есть свободная подвижность и осознание того факта, что к реальности человеческого бытия относится, среди прочего, наличие возможностей. При всем том, однако, философия есть не что иное, как бодрствующее вот-бытие, и потому она точно так же озабочена, так же проблематична и так же смертна, как само это вот-бытие.
Лучшее, что можно сказать о философии вообще и, в частности, о хайдеггеровской философии: она есть событие, которое, как и всякое вот-бытие, имеет свое время.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Приглашение в Марбург. «Боевое содружество» с Ясперсом. Марбургские интеллектуалы. Среди теологов. Ханна Арендт. «Единственная страсть». Борьба Ханны за «явность». Победа Хайдеггера в сфере сокрытого. «Жизнь распростерта перед душою чистая, простая и величавая…» Возникновение «Бытия и времени». Приношение к смертному одру матери.
Еще в 1920 году Хайдеггер пытался получить должность профессора в Марбурге. Тогда он добился лишь того, что ему оказали уважение, включив третьим номером в список соискателей. В Марбурге считали, что хотя этот молодой приват-доцент подает большие надежды, у него пока слишком мало публикаций. Когда летом 1922 года вопрос о возможном приглашении в Марбург вновь стал актуальным – там освободилось место экстраординарного профессора, – у Хайдеггера все еще не было новых опубликованных работ. Однако к тому времени его слава (основанная исключительно на преподавательской деятельности) возросла; Пауль Наторп, глава марбургской школы неокантианцев, в письме Гуссерлю от 22 сентября 1922 года писал: в Марбурге «с недавних пор проявляют пристальное внимание к Хайдеггеру» – не только потому, что Гуссерль, несомненно, придерживается очень высокого мнения о своем ассистенте, «но и на основании того, что мне сообщают… о его новых успехах». Наторп спрашивает, не готовит ли Хайдеггер какую-либо публикацию, с которой можно было бы ознакомиться. Гуссерль переадресовал вопрос Хайдеггеру, и тот, как он написал Ясперсу, «на три недели засел за компиляции из себя самого» (19.11.1922, Переписка, 81), сделал выписки из своих разработок по Аристотелю и, снабдив этот материал предисловием, отослал шестидесятистраничную рукопись в Марбург. Речь идет о тексте «Феноменологические интерпретации Аристотеля. Отличия герменевтической ситуации», который был прокомментирован в предыдущей главе.
19 ноября 1922 года Хайдеггер писал Ясперсу: «В Марбурге работа… произвела впечатление» (Переписка, 81). И действительно, Наторп сообщил Гуссерлю, что он и Николай Гартман[142] «прочитали конспект Хайдеггера с величайшим интересом», обнаружив в нем «незаурядную оригинальность, глубину и строгость». Наторп положительно оценивал шансы Хайдеггера на получение места в Марбурге.
В то же самое время Хайдеггером заинтересовались и в Гёттингене. Работавший там Георг Миш[143] написал восторженное заключение о профессиональных качествах Хайдеггера. Хайдеггер, по его словам, привносит в философию «идущее из самой глубины, порожденное его собственным развитием сознание значимости того обстоятельства, что человеческая жизнь исторична».
В Гёттингене ничего не получалось – несмотря на хвалебные отзывы Миша, зятя Дильтея, и на помощь Гуссерля, который ходатайствовал за Хайдеггера не только в Марбурге, но и в Гёттингене, где когда-то преподавал[144]. В Марбурге перспективы казались более благоприятными. Тем не менее Хайдеггер, который на свое скудное ассистентское жалованье не мог прокормить семью, состоявшую уже из четырех человек[145], – из-за чего Эльфриде приходилось работать в школе, – был настроен скептически. Он жаловался Ясперсу. «Эта дерготня, половинчатые надежды, лесть и тому подобное приводят в отвратное состояние, даже если даешь себе зарок с ними не связываться» (19.11.1922, Переписка, 81).
Но Хайдеггера ожидал успех. 18 июня 1923 года он получил приглашение в Марбург на место экстраординарного профессора, «с положением и правами ординарного», как он с гордостью сообщил на другой день Ясперсу (Переписка, 85).
За год до того Ясперс и Хайдеггер объединились в «боевое содружество». У них возник план создания философского журнала, который будет «нелицеприятно» выступать против философского духа времени. Реализацию плана пришлось временно отложить, поскольку тогда Хайдеггер, выражаясь метафорически, еще не достаточно крепко держался в седле. Теперь ситуация в этом смысле изменилась, но к плану создания журнала они уже не вернулись. Зато еще более «нелицеприятным» стал тон высказываний Хайдеггера. Этого невозможно не заметить, читая его письмо к Ясперсу от 14 июля 1923 года. Новоиспеченный профессор, пребывая в прекрасном расположении духа, яростно нападает на коллег по философскому цеху. Например, о своем недавнем конкуренте Рихарде Кронере[146], занимавшем всего лишь третье место в списке соискателей, Хайдеггер пишет: «Такая ничтожность человеческой натуры мне еще ни разу не встречалась – теперь он, как старая баба, ждет от всех сочувствия, а единственное доброе дело, которое для него можно было бы сделать, – прямо сейчас лишить его venia legendi[147]» (Переписка, 89). Кронер, рассказывается далее в письме, даже обещал задающему тон в Марбурге Николаю Гартману, что если его, Кронера, пригласят в Марбург, он будет как обычный студент ходить на гартмановские лекции. «Я, – продолжает глумиться Хайдеггер, – этого не сделаю, но уже одним «Как» моего присутствия задам ему жару; вместе со мной прибудет ударная группа из 16 человек» (там же).
Столь же воинственно Хайдеггер заявляет и о том, что их с Ясперсом «боевое содружество» теперь должно «конкретизироваться»: «Предстоит искоренить идолопоклонство, т. е. раскрыть ужасное и жалкое ремесло различных шаманов от философии, притом при их жизни, чтобы они не думали, будто с ними нам сегодня явилось царствие Божие» (Переписка, 89–90).
Продолжая на людях называть Гуссерля своим учителем и пользуясь тем, что Гуссерль ему покровительствует, Хайдеггер внутренне уже настолько от него отдалился, что в том же письме к Ясперсу чуть ли не ставит его на одну доску с пресловутыми «шаманами от философии»: «Вы, наверное, знаете, что Гуссерль получил приглашение в Берлин; он ведет себя хуже приват-доцента, путающего должность ординарного профессора с вечным блаженством… Гуссерль совершенно расклеился, – если когда-либо вообще был «целым», что мне в последнее время представляется все более сомнительным, – мечется туда-сюда, говорит такие тривиальности, что просто жалость берет. Он живет миссией «основоположника феноменологии», хоть никто не знает, что это такое; кто провел здесь один семестр, видит, что происходит, – Гуссерль начинает догадываться, что люди уже не следуют за ним… и вот это намерено сегодня спасти в Берлине весь мир» (Переписка, 91).
Гуссерль, кстати, отказался от лестного приглашения на берлинскую кафедру, полученного от Эрнста Трёльча. Очевидно, его стремление утвердиться в Берлине и стать «спасителем человечества» было не столь велико, как предполагал Хайдеггер. Кое-какие соображения говорят за то, что Хайдеггер проецировал на своего бывшего учителя собственные амбиции. Письмо к Ясперсу, проникнутое боевым задором, прежде всего показывает, насколько по нраву пришлась Хайдеггеру роль Геракла, которому предстоит расчистить авгиевы конюшни философии. А разве это не есть та самая поза «спасителя человечества», которую Хайдеггер пытается приписать Гуссерлю? Во всяком случае, в этом письме Хайдеггер предается безудержным мечтаниям об «основательной перестройке философствования» и «перевороте» (Переписка, 90). В то лето 1923 года Хайдеггер открыл, что он – Хайдеггер.
Прочитанные тем же летом лекции об онтологии, последние во Фрайбурге, показали, насколько он уверен в правильности избранного пути. Окрыленный Хайдеггер рассказывал Ясперсу: «… оставляю миру его книги и литературную возню и беру себе молодых людей – «беру» в оборот, крепко, – так, что они целую неделю находятся «под давлением»; один не выдерживает – простейший способ отбора, – другому нужно два-три семестра, пока он поймет, отчего я ничего ему не спускаю – ни лень, ни поверхностность, ни вранье, ни фразерство, в первую очередь «феноменологическое»… Более всего меня радует, что я могу добиться здесь перемен личным примером и что теперь я свободен» (14.7.1923, Переписка, 90).
В финансовом отношении он чувствовал себя далеко не так уверенно. Какое жалованье мог он попросить? Имел ли право претендовать на квартиру, на получение субсидии на дорожные расходы? Ясперс охладил энтузиазм друга: «Касательно жалованья Вы вряд ли сможете выдвигать какие-либо требования» (20.6.1923, Переписка, 87).
Незадолго до переезда в Марбург Хайдеггер приобрел в Тодтнауберге небольшой участок земли, на котором построил очень скромную «хижину»[148]. Впрочем, сам он непосредственного участия в строительстве не принимал. Все организовывала и за всем наблюдала Эльфрида. С этих пор Тодтнауберг становится для Хайдеггера родным домом, где он всегда может на какое-то время укрыться от мира, и одновременно надежным убежищем, лучше всего приспособленным для его философских занятий. Отсюда все пути ведут только вниз.
Осенью 1923 года Хайдеггер приезжает в Марбург; в конце лета 1928-го он вновь покинет этот город, чтобы стать преемником Гуссерля на кафедре во Фрайбурге. Эти четыре года Хайдеггер в разные периоды своей жизни оценивал по-разному. В самом конце своего пребывания в Марбурге он писал Ясперсу: «В пользу Марбурга я не могу привести Вам ничего. Сам я ни часу не чувствовал себя здесь хорошо» (13.5.1928, Переписка, 152).
Однако по прошествии времени, оглядываясь назад, Хайдеггер в частной беседе охарактеризовал эти годы как «самый волнующий, наиболее насыщенный и богатый событиями» период своей жизни – и как «самый счастливый».
Отрицательная оценка марбургского периода в письме к Ясперсу имела, помимо прочего, тактическое значение. Ясперс тогда подумывал о том, чтобы распроститься с Гейдельбергом, и хотел получить от Хайдеггера совет, стоит ли ему перебраться в Марбург. Однако Хайдеггер не мог ответить на этот вопрос утвердительно, так как знал, что для него самого эти годы оказались столь плодотворными не только из-за ситуации в университете, но, главным образом, потому, что он делил свою жизнь между Марбургом и Тодтнаубергом. Впрочем, было и еще кое-что, о чем он не хотел рассказывать Ясперсу. Об этом мы поговорим чуть позже.
Марбург – небольшой протестантский городок, имеющий университет с богатыми традициями. В 1927 году Марбургский университет праздновал свое 400-летие. По этому случаю, как рассказывает Герман Мёрхен, Хайдеггер с мрачным лицом и в необычной для него визитке направился в католическую церковь, которую никогда не посещал, тогда как юбилейное богослужение проходило в евангелической церкви. Городок, в котором вся жизнь сосредоточивалась вокруг университета, каждый раз с наступлением каникул пустел и погружался в сон, но Хайдеггер неизменно проводил это время в своей тодтнаубергской «хижине». Все, что творилось в городе, было легко обозримо. Здесь все друг друга знали. Самое подходящее место для интриг, обывательских сплетен, мелочных склок между кликами, раздувания ничтожнейших разногласий… Маленький мирок, который считал себя большим миром только потому, что в нем доминировали «интеллектуалы». Хайдеггер писал Ясперсу: «Университет скучен. Студенты – ограничены, без особой инициативы. А так как я много занимаюсь проблемой негативности, у меня есть тут прекрасная возможность изучить, как выглядит «ничто»» (2.12.1926, Переписка, 121).
В Марбурге не было никакой «общественной жизни» – впрочем, Хайдеггер нисколько об этом не сожалел. Все же он иногда показывался в доме жены тайного советника г-жи Хитциг, где происходил церемониал «введения» всех новых преподавателей в местный «бомонд». По слухам, хозяйка дома состояла в кровном родстве с девяносто одним из здравствовавших в то время немецких ординарных профессоров. Был еще кружок почитателей Стефана Георге, которым руководил историк-экономист Фридрих Вольтере. Поклонники «модерна», «новой вещественности» и вообще левых направлений в искусстве встречались в доме у искусствоведа Рихарда Хамана[149]. Рудольф Бультман[150] собрал вокруг себя кружок, члены которого раз в неделю, с восьми до одиннадцати вечера, занимались чтением греческих текстов; после одиннадцати начиналась «неофициальная» часть, тоже подчинявшаяся строгому временному распорядку: час ученой болтовни на возвышенные темы, потом все рассказывали друг другу анекдоты, наслаждаясь вином и сигарами. Лучшие анекдоты Бультман педантично записывал в особую тетрадь, чтобы при случае самому блеснуть остроумием. Эрнст Роберт Курциус[151], привыкший к образу жизни богатого буржуа, страдал в такой обстановке и иногда отправлялся на поезде в соседний Гиссен, чтобы там в привокзальном ресторане отвести душу за хорошим обедом. В Марбурге, говаривал он, такого тебе не подадут.
В этом тесном университетском мирке на Хайдеггера очень скоро стали смотреть как на таинственную знаменитость. Он назначал свои лекции на раннее утро, что, очевидно, не сильно отпугивало студентов, ибо уже после первых двух семестров на его занятия собиралось до 150 человек. Гадамер, который до приезда Хайдеггера учился у Николая Гартмана, позже вспоминал, как «гартманианцы» толпами перебегали к Хайдеггеру.
Гартман, прибалтийский барон, был типичной «совой». Он просыпался около полудня и только к полуночи становился по-настояшему бодрым. Он тоже собрал вокруг себя веселую компанию. У него дома дискуссии длились до рассвета. Вот как вспоминал об этом Гадамер: «Когда Хайдеггер появился в Марбурге и назначил свои лекции на семь утра, конфликт сделался неизбежным уже из-за одного этого – после полуночи, в гартмановском кружке, мы уже ни на что не годились».
Гартман, который до приезда Хайдеггера был признанным лидером марбургских философов, а теперь понял, что его оттеснили на второй план, через два года с чувством облегчения и освобождения принял предложение занять кафедру в Кёльнском университете. Но прежде, чем это произошло, только что защитившемуся у Гартмана Гадамеру однажды удалось свести вместе своих учителей, старого и нового: «В 1924 году, в пору нашей величайшей бедности, наступившей после окончания инфляции, мне нужно было осуществить – на скромные студенческие средства – переезд на другую квартиру. Я достал телегу и к ней благороднейшую упряжку: Гартману и Хайдеггеру предстояло тянуть этот экипаж вперед, держась вместе за единственную оглоблю. И они потянули его в одном направлении! В подобных случаях Хайдеггер всегда проявлял обезоруживающий мальчишеский юмор. На обратном пути, когда телега была пуста, он вдруг бросил Гартмана, продолжавшего тянуть за оглоблю… а сам прыгнул в телегу и раскрыл над головой зонт».
В Марбурге Хайдеггер обращал на себя внимание даже своим внешним видом. В зимние дни его нередко видели возвращающимся в город с лыжами на плече. Иногда он и на лекции приходил в лыжном костюме.
Летом Хайдеггер носил свою знаменитую суконную куртку и бриджи до колен – облагороженный вариант костюма участников движения «перелетных птиц»[152]. Студенты прозвали этот наряд «экзистенциальным одеянием». Он был сшит по эскизу художника Отто Уббелоде. Гадамеру в такой манере одеваться виделось что-то «от неброского щегольства крестьянина, наряженного по-воскресному».
Хайдеггер сразу же по прибытии в город установил связь с «Марбургским студенческим объединением» – группировкой, связанной с молодежным движением, которая выступала против системы студенческих корпораций и «мещанской психологии старых господ», защищала принципы «самовоспитания» и ответственности молодежи, а также пыталась осуществлять на практике идеал высшего образования, выходящего за рамки отдельных дисциплин. В объединении царила атмосфера, в которой смешивались строгость, присущая участникам кружка Стефана Георге, и романтика движения «перелетных птиц». В социально-политическом смысле члены объединения имели скорее левую ориентацию – во всяком случае, были настроены антибуржуазно. Они противопоставляли «подлинность» пустому фразерству образованной буржуазии. Когда какой-то студент однажды заявил, что хочет получить образование, чтобы «сформировать себя как личность», Хайдеггер саркастически отсоветовал ему тратить на это дело свои усилия. Духовный климат здесь был примерно такой же, как тот, что описан в «Докторе Фаустусе» Томаса Манна, в эпизоде, посвященном молодежному движению. Там рассказывается, как Адриан Ле-веркюн и его друзья во время загородных прогулок и ночевок на сеновалах вели серьезные дискуссии о Боге и мире, используя выражения, заимствованные «из академического жаргона, о напыщенности которого юные ораторы ни в малой степени не подозревали… Они охотно вопрошали друг друга о «сути вещей», рассуждали о «сакральном пространстве», о «политическом пространстве» и даже «академическом», о «структурном принципе», о «растяженных диалектических взаимосвязях», об «онтических соответствиях» и так далее»[153]. К тому времени, когда молодые люди устраивались спать в амбаре, разговоры доходили до «конечных понятий»[154].
Хайдеггер выступил с несколькими лекциями перед членами «Марбургского студенческого объединения». И придал строгости, которая всегда там культивировалась, некий особый акцент, объяснив, что именно экзистенциальные проблемы должны рассматриваться «с ледяной холодностью». Хайдеггер приглашал этих студентов к себе домой, однажды даже на праздник святого Николая. В тот раз все пели песни, Эльфрида испекла домашний пирог, среди гостей как раз выискался один, которого звали Николаем. Герман Мёрхен, позднее рассказавший об этом эпизоде, тогда получил в подарок гегелевскую «Феноменологию духа». Устраивались и совместные походы с привалами и пением под гитару. Студентам из этого кружка дозволялось навещать Хайдеггера в его «хижине» в Тодтнауберге. Там «тайный король философии» имел свой маленький королевский двор. На праздник солнцестояния в долину скатывали огненные колеса, и Хайдеггер любил напутствовать их крепким словцом. Иногда на лугу выше хижины разжигали огромный костер, профессор держал речь. «Бодрствовать у ночного костра…» – начал он однажды и уже в следующем предложении перевел разговор на своих любимых греков. Парменид в Тодтнауберге…
Арнольд фон Буггенхаген, который в студенческие годы не смог одолеть курс Хайдеггера, так описывает его выступления на семинаре: «Хайдеггер говорил голосом средней громкости, конспектом не пользовался, и в поток его речи вливался необыкновенный ум, но еще более – сила воли, которая и определяла направление речи, особенно когда тематика становилась опасной. Когда же он рассуждал об онтологических предметах, то походил не столько на профессора, сколько на капитана-коммодора[155], стоящего на мостике океанического корабля-гиганта, – капитана из той эпохи, когда плавучие айсберги еще могли потопить даже самое титаническое судно».
Буггенхаген рассказывает, как тогда воспринимался слушателями этот новый тон философствования (который только после появления в 1932 году главного философского труда Ясперса[156] стали называть «философией экзистенциализма»). Он воспринимался как освобождение от универсалистских притязаний разума, пошлость которых давно стала для всех очевидной, и как призыв «как-нибудь» включить в игру самого себя. Более всего стимулировала мысль и воображение студентов именно неопределенность этого «как-нибудь». Потому что очень скоро все поняли, что новизна философствования Хайдеггера заключается отнюдь не в личных душевных излияниях, не в экспрессионизме и не в стремлении предложить какие-то рецепты помощи на все случаи жизни. Хайдеггер сам достаточно энергично разрушал ожидания тех, кто так думал. В своих лекциях он часто цитировал Шеллинга: «Страх перед жизнью выталкивает человека из центра». «Центром» для Хайдеггера была та встреча с самим собой, которой он дал определение в краткой фразе: «Я замечаю, что я есть». Буггенхаген вспоминает, как мастерски Хайдеггер инсценировал беспокойство, которое исходит или должно исходить от этого «нагого «что»». Человеку, который научился у Канта тому, что правовая основа (Rechtsgrund) познания заключена в разуме, было более или менее понятно, что Хайдеггер видит эту основу в уникальной и незаменимой экзистенции отдельного индивида, то есть не в том, что поддается обобщению, а в индивидуальном. Об этом – как о чем-то фундаментальном – и шла всегда речь у Хайдеггера, но суть этой хайдеггеровской мысли не выражалась в словесной, эксплицитной форме, и ее контуры продолжали оставаться расплывчатыми. По словам Буггенхагена, он сам и некоторые его сокурсники с ощущением стыда задавали себе вопрос: а обладают ли они вообще «достаточной экзистенциальной массой», чтобы обойтись без той правовой основы, что заключена в поддающемся обобщению разуме?
Все, кто слушал Хайдеггера, быстро убеждались в том, что эту философию невозможно просто «вызубрить», как какую-нибудь традиционную университетскую дисциплину. Хотя лекции Хайдеггера и пугали избытком эрудиции, можно было заметить, что преподаватель вовсе не стремится «блеснуть»: он чуть ли не с пренебрежением разбрасывал эти блестки знания, черпая их из своих неиссякаемых запасов. Для студентов, которые наблюдали Хайдеггера «в действии», это было удивительное зрелище. Одним он напоминал «величественно взмывающего ввысь орла», другим – «человека, буйствующего внутри себя». Буггенхагена в ту пору внезапно посетила странная мысль: «А что если этот философ – обезумевший Аристотель, который привлекает всеобщее внимание тем, что обращает мощь своей мысли против своей же мысли и, думая, утверждает, будто он вообще не думает, а является экзистенцией?»
Однако хайдеггеровская «экзистенция» оставалась загадочной для многих студентов, и лучшее, что они могли сделать, – оглянуться на самих себя, попытаться понять, в чем состоит их собственная загадочность. Буггенхаген честно признается, что ему это не удалось. Другие на этом пути добились больших успехов.
Герман Мёрхен рассказывает, какое сильное впечатление могло производить даже «молчание» Хайдеггера. Для Мёрхена, который наряду с философией и германистикой изучал также теологию, рассуждения об экзистенции имели религиозный смысл. Он спрашивал Хайдеггера, что тот думает по этому поводу, но Хайдеггер молчал – и Мёрхен решил, «что ничто не может говорить безусловнее и громче, чем существенное молчание. Одновременно этот пример показывает, к какого рода свободе Хайдеггер приучал тех, кто проходил через его школу». Хайдеггер однажды сказал на семинарском занятии: «Мы оказываем теологии уважение, умалчивая о ней».
Но молчать о теологии в Марбурге Хайдеггеру было еще труднее, чем во Фрайбурге, ибо Марбург – оплот протестантской теологии. Здесь наибольшей популярностью пользовались именно самые «современные» из ее течений: те, которые пытались отыскать – в борьбе с духом научности и светской культуры – пути возвращения к христианской вере.
Вскоре после своего переезда в Марбург Хайдеггер пришел на доклад Эдуарда Турнейзена, одного из приверженцев «диалектической теологии», которые группировались вокруг Карла Барта. На Гадамера незабываемое впечатление произвело выступление Хайдеггера в прениях после доклада; как ни странно, это выступление противоречило вовсе не духу города, а упорно распространявшимся в Марбурге слухам, будто Хайдеггер отрекся от Церкви и веры. Хайдеггер сказал следующее: «Подлинная задача теологии, к которой теология должна вновь вернуться, заключается в поисках слова, способного призвать к вере и удержать в вере».
Эта формулировка достаточно точно выражает то, к чему стремился великий марбургский теолог Рудольф Бультман. Бультман приехал в Марбург за два года до Хайдеггера. Именно здесь (или, лучше сказать, отсюда) он начнет обновлять протестантскую теологию – во второй раз после Карла Барта. Хотя широкое признание его теология, которую назовут теологией «демифологизации», получит только после 1945 года, разрабатывал ее Бультман именно в те годы, когда Хайдеггер жил в Марбурге. И вдохновлялась эта теология духом хайдеггеровской философии. Сам Бультман позаботился о том, чтобы на сей счет не оставалось никаких сомнений. Из хайдеггеровского анализа вот-бытия Бультман позаимствовал определение характерных черт человеческой ситуации: «брошенность», забота, временность, смерть и бегство в «несобственность» (неподлинность). Для Бультмана также была важна хайдеггеровская критика метафизики как сферы, в которой мышление, обманывая себя, создает совершенно нереальные картины отрешенности от времени и возможности распоряжаться жизнью. То, что для Хайдеггера было критикой метафизики, для Бультмана стало «демифологизацией». Бультман-философ, как и Хайдеггер, хочет обнажить «экзистенциальную структуру» человеческого бытия; теолог Бультман хочет столкнуть эту «голую» экзистенцию с христианским «возвещением», тоже освобожденным от исторических догм и сведенным к его базовому экзистенциальному смыслу. Тот факт, что Хайдеггер, как его понимал Бультман, описывал не экзистенциальный идеал, а только экзистенциальные структуры, как раз и позволял согласовать хайдеггеровскую концепцию с теологией Бультмана. Сам Бультман по этому поводу высказался так: «Поскольку философия экзистенциализма не отвечает на вопрос о моей собственной экзистенции, она оставляет мою экзистенцию на мою личную ответственность и тем самым побуждает меня раскрыться навстречу слову Библии».
Между Хайдеггером и Бультманом вскоре завязалась дружба, и оба оставались верны ей на протяжении всей дальнейшей жизни. Однако их духовные отношения всегда были асимметричными. Хайдеггер не в такой мере испытывал на себе влияние Бультмана, в какой сам на него влиял. Он признавал правомерность теологии Бультмана при условии наличия необходимой для нее предпосылки, веры, однако считал, что вера не может быть Предметом философии. А поскольку сам он был философом, то последователем бультмановской теологии стать не мог. Бультман же прошел вместе с Хайдеггером часть его философского пути, чтобы найти то место, где может произойти встреча с христианским «возвещением».
По приглашению Бультмана Хайдеггер летом 1924 года выступил перед марбургскими теологами с докладом «Понятие времени» – образцовым примером искусства красноречивого философского умолчания о теологических проблемах.
Хайдеггер начал с того, что заверил своих слушателей: о теологических и божественных предметах он ничего говорить не хочет, ограничится сферой человеческого; но зато о ней будет рассуждать таким образом, что в конечном итоге теология типа бультмановской подойдет к этим рассуждениям как ключ к замку.
К моменту, когда был прочитан этот доклад, Хайдеггер уже некоторое время работал над тематикой «Бытия и времени». В докладе он в сжатой форме представил очерк «базовых структур вот-бытия», которые все задаются характером времени.
Хайдеггер определяет временность – впервые заостряя внимание именно на этом ее аспекте – как смертность: «Bom-бытие… знает о своей смерти… Это [знание] есть пред-приближение вот-бытия к своему «вперёд-себя» (или: «мимо», Vorbei)[157]» (BZ, 12). Уже здесь и сейчас – при любом действии и переживании – мы замечаем это «вперёд-себя». Течение жизни всегда есть истечение (Vergehen), сокращение жизни. Мы ощущаем время на нас самих – как это истечение. Поэтому «вперёд-себя», о котором идет речь, – это не событие смерти в конце нашей жизни, а сам способ реализации жизни, ««Как» моего вот-бытия как такового» (BZ, 18).
Чем же выделяются эти размышления Хайдеггера из великой традиции раздумий о смерти; чем они отличаются, например, от сократовских мыслей о смерти, от христианского напоминания Memento mori[158], от слов Монтеня «Философствовать – значит учиться умирать»?
А выделяются они вот чем: Хайдеггер думает о смерти не затем, чтобы восторжествовать над ней хотя бы в своих мыслях, но для того, чтобы показать, что только мысль о смерти, о всегда присутствующем в нашей жизни «вперёд-себя» открывает доступ к пониманию временности и, значит, «неналичности» вот-бытия.
В докладе Хайдеггер довольствуется намеками (позднее, в книге «Бытие и время», в знаменитой главе о смерти, они будут впечатляющим образом развернуты). Но и этих намеков ему хватает, чтобы ясно объяснить причины своего принципиального несогласия с мощной теолого-метафизической традицией. Эта традиция конституирует Бога или Высшее Бытие как сферу, неподвластную времени, к которой мы можем быть причастны в своей вере или в своем мышлении. Хайдеггер же истолковывает такое конституирование как бегство от собственной временности. Якобы существующая связь с вечным не помогает человеку вырваться за пределы времени, а лишь заставляет в испуге отшатнуться от него; она не расширяет наши возможности, а отстает от них.
Традиция, от которой отмежевывается Хайдеггер, – та же самая, против которой Бультман обращает свою теологию демифологизации: это теологическая традиция, делающая средоточием христианского «возвещения» крест и, следовательно, смерть Бога. Предпосылкой бультмановской теологии является опыт временности, каким его описал Хайдеггер. По Бультману, человек должен пережить в своем опыте бытие-к-смерти, а также связанные с ним ужас и страхи, прежде чем он вообще сможет стать восприимчивым к христианскому «возвещению». По мнению Бультмана, слова «крест» и «воскресение» обозначают преображение, свершающееся в жизни верующего: возрождение человека – не воображаемое событие, которое случится в некоей будущей вечности; нет, это событие происходит здесь и сейчас как «поворот» «внутреннего человека» – его возрождение из радикально пережитой временности (то есть смертности) жизни. В жизни ты окружен смертью, а в смерти – жизнью. В этом и состоит парадоксальное и скупое «возвещение» Нового Завета – в интерпретации Бультмана.
Какое вдохновляющее воздействие оказывало философствование Хайдеггера на тогдашнюю религиозную мысль, показывает и пример Ханса Йонаса. Йонас учился у Хайдеггера и Бультмана, и в своем большом исследовании на тему «Гнозис и позднеантичный дух» он трактует иную, нехристианскую духовную традицию (гностицизм был мощнейшим духовным движением в эпоху поздней античности и раннего христианства) с тех же позиций, с каких Бультман трактовал христианство. Как и Бультман, Ханс Йонас рассматривает хайдеггеровский анализ вот-бытия как своего рода «замочную скважину», к которой анализируемое им, Йонасом, духовное «возвещение» «подходит» наподобие ключа. Причем в его случае «ключ» подходит особенно хорошо. Ибо гностицизм – по крайней мере, в интерпретации Ионаса – черпает свои жизненные силы именно из опыта «брошенности». В гностической мистике и теологии речь идет о «падении» духа (пневмы) в земной мир, где он всегда должен оставаться чужим и бездомным. Дух может «освоиться» в земной жизни лишь в том случае, если предаст свое истинное происхождение и забудет о нем, если рассеется и потеряется в мире. Согласно учению гностиков, возможность спасения целиком зависит от того, сумеет ли блуждающий в мире дух преодолеть свое забвение самого себя, сумеет ли собрать себя из рассеяния и вновь помыслить о своем забытом первоистоке. Короче говоря, Ханс Йонас описывает гностицизм как поддающееся исторической фиксации религиозное движение, суть которого состояла в поисках собственного бытия (собственного в том смысле, в каком понимал это слово Хайдеггер).
Хайдеггеру в марбургский период его жизни выпал поразительный шанс – тамошние теологи назвали бы этот шанс «кайросом»[159], то есть великой возможностью, – познать «собственное» бытие совершенно особого рода. Речь идет о встрече, которая, как он позже признается своей жене Эльфриде, стала началом «единственной страсти его жизни».
В начале 1924 года в Марбург приехала восемнадцатилетняя студентка, еврейка, хотевшая учиться у Бультмана и Хайдеггера. Ее звали Ханна Арендт.
Она происходила из буржуазной ассимилированной еврейской семьи и была родом из Кенигсберга, где прошли ее детство и юность. Уже в четырнадцать лет у нее проснулся жадный интерес к философии. Она читала кантовскую «Критику чистого разума», владела древнегреческим и латынью так хорошо, что в шестнадцать лет организовала кружок, члены которого изучали и читали в подлинниках античную литературу. Еще до того, как Ханна получила в Кенигсберге школьный аттестат зрелости (сдав экзамены экстерном), она слушала в Берлине лекции Романо Гвардини[160] и читала Кьеркегора. Философия стала для нее авантюрным приключением. В Берлине она впервые услышала о Хайдеггере. И позже написала об этом так: «Слухи были очень простыми: мышление снова стало живым; накопленные в прошлом сокровища знаний, которые давно считались мертвыми, вновь обрели голос, причем оказалось, что говорят они совсем об иных вещах, чем полагали мы, недоверчивые. Есть некий учитель; у него, может быть, можно научиться мыслить… Это мышление, которое развивается как страсть, возникнув из простого факта рожденности в мире… так же не может иметь конечной цели… как и сама жизнь».
В годы учебы в Марбурге Ханна Арендт была молодой женщиной, чьи по-мальчишески коротко остриженные волосы и модные наряды привлекали всеобщее внимание. «Но самым удивительным в ней, – пишет в своих воспоминаниях Бенно фон Визе, которого в двадцатые годы в течение короткого периода связывали с Ханной Арендт близкие отношения, – была гипнотическая сила ее глаз: каждый, кто заглядывал в них, как бы погружался в пучину, шел ко дну – и испытывал страх, что больше уже никогда не выберется на поверхность». Из-за элегантного зеленого костюма, который Ханна часто носила, студенты прозвали ее «Зеленкой». Герман Мёрхен рассказывает, что когда в студенческой столовой Ханна Арендт начинала о чем-то говорить, все другие разговоры мгновенно обрывались – даже за соседними столиками. Ее просто невозможно было не слушать. В ее манере вести себя самоуверенность сочеталась с застенчивостью. На предварительном собеседовании, которое было обязательным условием зачисления в семинарскую группу Бультмана, она неожиданно «повернула копье другим концом» и сама стала перечислять условия, на которых согласилась бы заниматься в группе. Так, она без обиняков заявила Бульт-ману, что не потерпит «никаких антисемитских высказываний». На это Бультман спокойно и дружелюбно ответил, что, если подобная ситуация возникнет, он и Ханна – «мы вдвоем» – как-нибудь с ней справятся. Ханс Йонас, который познакомился с Ханной Арендт в семинаре Бультмана и вскоре подружился с ней, вспоминает, что сокурсники воспринимали эту студентку как исключительное явление. В ней находили «интенсивность душевной жизни, целеустремленность, чутье на настоящую качественность, стремление во всем доходить до сути, глубину мысли – свойства, которые придавали ее личности нечто волшебное».
Она жила в мансарде, недалеко от университета. Сюда, домой к Ханне, приходили ее друзья (некоторые из них приехали в Марбург вслед за ней – из Кенигсберга и Берлина), спорили на философские темы, и иногда она устраивала для них забавное представление: вызывала из норки свою «соседку по комнате», маленькую мышку, и кормила ее.
В той же мансарде она с февраля 1924 года, на протяжении двух семестров, принимала своего преподавателя Мартина Хайдеггера – эти встречи были окружены тайной, даже ее лучшие друзья ничего не знали.
Эльжбета Эттингер[161] на основе документов из личного архива Ханны Арендт реконструировала историю этих взаимоотношений. В своей работе она цитирует письма Ханны Арендт и пересказывает письма Хайдеггера (поскольку их не разрешено публиковать). По мнению Эльжбеты Эттингер, чье исследование послужит основой для моего дальнейшего рассказа, эта история началась в феврале 1924 года. Хайдеггер, который уже два месяца присматривался к новой студентке, в начале февраля пригласил ее побеседовать в свой кабинет. Он навсегда запомнил, как она тогда выглядела: «На ней был плащ, шляпка низко надвинута на лоб; она молчала и лишь время от времени выдыхала едва слышное «да» или «нет»» (Эттингер).
Ханна Арендт, вероятно, почувствовала мгновенное и неодолимое влечение к этому человеку, которым она и раньше восхищалась. 10 февраля Хайдеггер написал ей первое письмо, начав его с формального обращения: «Дорогая фройлейн Арендт…» «Сохраняя уважительную дистанцию, – рассказывает Эттингер, – он заверил ее в своей преданности, похвалил ее духовные и душевные качества и просто пообещал всячески содействовать тому, чтобы она оставалась верна самой себе». Это письмо отличается суховатым, деловым стилем и вместе с тем дышит искренним чувством, похоже на «лирическую песнь», комментирует Эльжбета Эттингер.
Примерно таким же было и первое письмо Хайдеггера к Элизабет Блохман: оно соединяло в себе выраженное в утонченной форме восхищение перед адресатом и притязания автора на роль духовного наставника. Тогда, 15 июня 1918 года, Хайдеггер писал: «… и если бы я не пришел к убеждению, что Вы в Вашем предназначении столь высоко цените охваченность этим духом, я не осмелился бы сегодня писать к Вам и поддерживать с Вами духовное общение в будущем. Оставайтесь же сильной и радостной…» (BwHB, 7). Может быть, свое первое письмо к Ханне Хайдеггер написал менее деревянным языком, но и на сей раз он явно видел себя в образе психагога – она же, со своей стороны, была покорена и смущена. Сам великий учитель обратил на нее внимание! Четыре дня спустя Хайдеггер уже писал ей: «Дорогая Ханна…» А еще через две недели в его письме проскользнула пара строчек, которые дают основание предполагать, что между ними «начались интимные отношения» (Эттингер).
В том же феврале, как вспоминает Герман Мёрхен, Хайдеггер выступил в бультмановском семинаре с докладом, посвященным интерпретации комментария Лютера к третьей главе Книги Бытия, то есть к истории грехопадения.
Хайдеггер устанавливал правила этих взаимоотношений, и Ханне приходилось их выполнять. Самым важным для него было строжайшее сохранение тайны. Не только его жена, но и вообще ни один человек в университете и во всем маленьком городке не должен был ничего знать об их связи. Хайдеггер посылал Ханне зашифрованные послания, в которых «указывал время – с точностью до минуты – и место их ближайшего свидания, договаривался о хитроумной подаче сигналов (посредством включения и выключения лампы) и просил соблюдать меры предосторожности; он приглашал ее к себе, когда знал, что будет дома один» (Эттингер). Ханна подчинялась навязанному ей распорядку, который, как писал ее возлюбленный, был нужен для того, «чтобы из-за моей любви к тебе не затруднять твое положение больше, чем это необходимо» (Эттингер). Она не осмеливалась просить, чтобы Хайдеггер ради нее развелся со своей женой.
В летние каникулы 1924 года, когда Хайдеггер жил в Тодтнауберге, Ханна поехала к своим родным в Кенигсберг и там написала текст – лишь слегка завуалированный литературный автопортрет, – который послала Хайдеггеру. Дело в том, что ее мучило ощущение, будто в этих отношениях она по-настоящему не присутствует. Раньше она не могла ему открыться, но в «Тенях» (так она назвала свой текст) хотела наконец это сделать. Здесь она попыталась найти язык, дабы выразить то «необычайное и чудесное», что случилось совсем недавно и резко разделило ее жизнь на ««здесь и сейчас» и «там и тогда»». Она называет свою любовь «упрямой приверженностью Единственному». Ханна Арендт рисует едва различимый в тенистом полумраке, проникнутый переменчивыми настроениями ландшафт своей душевной жизни, втянутой в водоворот оторванных от внешнего мира внутренних переживаний. В ее повествовании, которое то и дело прерывается отступлениями и ведется с отстраненной позиции, в третьем лице, речь идет о едва зародившейся, еще не до конца сформировавшейся любви. В этом чувстве отсутствует нечто совершенно элементарное, то, что позже, в «Vita activa», Ханна Арендт назовет «срединным пространством мира»: «В страсти, с какой любовь схватывает лишь кто другого человека, то срединное пространство мира, через которое мы и связаны с другими и одновременно от них отделены, словно расплавляется в огне. Любящих отделяет от человеческого мира их безмирность, мир между любящими сгорел»[162].
Это «срединное пространство мира» исчезает не только из-за самой любовной страсти, но и из-за внешнего давления, принуждающего любящих окружать свои отношения покровом тайны. Там, где любовь не смеет открыто проявить себя, где она не оставляет о себе никаких свидетельств, очень быстро утрачивается критерий, позволяющий отличать действительное от воображаемого. Это угнетает Ханну, и в «Тенях» она говорит о лежащем на ней «колдовском заклятии, которое обрекает на изгнанничество». А в одном из ее стихотворений, написанных в тот же период, есть строки: «Почему ты мне руку так странно подал – / С робостью, будто от всех скрываясь? / Или ты, чужестранец, на пир к нам попал, / Наших вин, да и нас самих опасаясь?»
Хайдеггер был на семнадцать лет старше Ханны, уже успел стать отцом двоих сыновей, состоял в браке с честолюбивой женщиной, которая очень заботилась о репутации семьи и с подозрением относилась ко всем студенткам, роившимся вокруг ее мужа. С Ханной Эльфрида держалась еще более холодно, чем с другими, потому что Хайдеггер явно выделял эту девушку из числа прочих, а также потому, что Ханна была еврейкой. Антисемитизм же Эльфриды уже в двадцатые годы стал притчей во языцех. Эльжбета Эттингер в этой связи ссылается на воспоминания Гюнтера Штерна (Андерса), который позже в течение нескольких лет был мужем Ханны Арендт: он рассказывает, как однажды на праздничной вечеринке в Тодтнауберге Эльфрида спросила его, не хочет ли он вступить в марбургскую национал-социалистскую молодежную группу, – и как ужаснулась, когда, отвечая ей, он сослался на свою еврейскую национальность. Если Ханна не поставила Хайдеггера перед необходимостью сделать окончательный выбор между ней и его супругой, это не означает, что она не ждала, когда он сам примет такое решение. Ведь, в конечном счете, игра в тайну была нужна ему, а не ей. На ее взгляд, именно ему следовало что-то предпринять, чтобы их отношения приобрели характер более «компактной» реальности. Хайдеггер же этого не хотел: преданность Ханны была для него истинным счастьем, однако принимать на себя какую-либо ответственность за дальнейшую судьбу своей возлюбленной он не собирался. В письмах он вновь и вновь уверял ее, что она понимает его как никто другой – в том числе и прежде всего во всем, что касается философии. И действительно, Ханна Арендт еще покажет, как хорошо она поняла Хайдеггера. Она поймет его даже лучше, чем он сам себя понимал. Ханна вступит в диалог с его философией и дополнит ее, как может сделать только любящая женщина, придав этой философии ту «мирность»[163], которой ей не хватало. На идею «пред-приближения к смерти» она ответит философией рожденности[164]; на экзистенциальный солипсизм, рассуждения о том, что «присутствие вообще определяется через всегда-мое (Jemeinigkeit)» (Бытие и время, 43), – философией плюральности[165]; на критику состояния зависимости от мира обезличенных людей, Man, – любовью к миру, «amor mundi»[166]. Хайдеггеровскому просвету она противопоставит философски облагороженную «публичность». Таким образом, благодаря ей хайдеггеровская философия впервые обретет завершенность, цельность, но только сам Хайдеггер этого не заметит. Он не будет читать книги Ханны Арендт – а если и будет, то очень бегло, с неудовольствием и ощущением обиды. Но подробнее обо всем этом мы поговорим позже.
Хайдеггер любит Ханну и будет любить еще долго; он воспринимает ее всерьез, как женщину, которая его понимает; она станет музой «Бытия и времени» – однажды он признается ей, что без нее вообще не смог бы написать эту книгу. Но его никогда, ни на одно мгновение не посетит мысль, что он мог бы чему-то у нее научиться. В 1955 году, накануне выхода в свет ее большой работы «Истоки тоталитаризма»[167], Ханна захочет повидать Хайдеггера, но в последний момент откажется от этого намерения. В письме Генриху Блюхеру она объяснит свое решение так: «То обстоятельство, что как раз сейчас должна выйти моя книга, создает… наихудшую из всех мыслимых ситуаций… Как ты знаешь, я, в общем, готова вести себя с Хайдеггером так, будто за свою жизнь не написала и не напишу ни единой строчки. И это есть не облекаемое в слова, но непременное условие – соn-ditio sine qua nоn – всех наших взаимоотношений».
К началу семестра они оба вернулись в Марбург. Чем дольше продолжалась их связь, тем труднее было сохранять тайну, и, кроме того, связь эта приносила Ханне все меньше удовлетворения. Поскольку Хайдеггер, хоть и очень ценил драгоценные мгновения встреч, не нуждался в том, чтобы Ханна постоянно находилась с ним рядом, – эту роль он отводил Эльфриде, – он в начале 1925 года предложил своей возлюбленной переехать в какой-нибудь другой город, лучше всего в Гейдельберг, где жил его друг Карл Ясперс. Хайдеггер вовсе не стремился к разрыву, а просто хотел, чтобы, для уменьшения риска, их с Ханной разделяло некое расстояние. К тому времени и сама Ханна стала подумывать о том, чтобы покинуть Марбург, но у нее были для этого другие причины. Возможно, она, как предполагает Эттингер, надеялась, что Хайдеггер, узнав об этих планах, попытается ее удержать, – и почувствовала себя оскорбленной, когда он по собственной инициативе предложил ей уехать. Но она, по мнению Эльжбеты Эттингер, руководствовалась не только тактическими соображениями. Десять лет спустя Ханна напишет Генриху Блюхеру, человеку, который к тому времени станет для нее всем – возлюбленным, другом, братом, отцом, коллегой, – о том, как она расценивает их отношения: «Мне все еще кажется невероятным, что я получила сразу и то, и другое – и «большую любовь», и идентичность с собственной личностью… Причем одно я имею лишь с тех пор, как обрела второе… Теперь, наконец, я тоже узнала, что такое счастье».
Только с Генрихом Блюхером, товарищем по эмиграции, бывшим коммунистом, человеком, не получившим высшего образования, но которого тем не менее в Америке пригласят работать на кафедре философии, – только с этим мужчиной, наделенным интеллектуальной харизмой, независимым и очень добрым, Ханна сможет жить счастливо, соединяя преданность любимому с верностью самой себе. Хайдеггер бы таких отношений не допустил. Чтобы не потерять себя, Ханна в конце 1924 года решила расстаться с Хайдеггером. Однако порвать с ним окончательно и бесповоротно не сумела. Она не сообщила ему свой новый гейдельбергский адрес и все же в глубине души надеялась, что он будет ее искать и найдет.
Хайдеггер действительно узнал ее адрес от Ханса Йонаса, и между ними вновь завязалась переписка. А потом они опять стали договариваться о встречах. Весной Хайдеггер должен был делать доклад в Швейцарии. Они, как установила Эттингер, условились, что Ханна встретит его по дороге, в одном маленьком поселке. Хайдеггер на день прервет свою поездку, и они переночуют вместе в деревенской гостинице. Он обещал, что потом будет находить ее в толпе на всех маленьких станциях, где делает остановки его поезд. Ханна рассказала Хайдеггеру о своем романе с Бенно фон Визе, а позднее – о связи с Гюнтером Андерсом. Его реакция на подобные известия была для нее оскорбительной. Хайдеггер каждый раз желал ей счастья и потом назначал новые свидания. Тем самым он словно давал ей понять, что, будучи охваченным высокой страстью, считает ниже своего достоинства обращать внимание на те мелкие страстишки, в которых погрязла ее каждодневная жизнь. Хуже того: Хайдеггер явно не замечал, что ее любовные увлечения были беспомощными попытками избавиться от его влияния. А если все-таки замечал, значит, как ей казалось, его поведение доказывало, что он нисколько не сомневался в прочности своей власти над ней. Она уходила в себя, не отвечала на его письма, но через какое-то время получала от него очередное требование, просьбу или объяснение в любви – и не могла устоять. Эттингер пересказывает один такой случай: в конце двадцатых годов Ханна со своей подругой собралась съездить в Нюрнберг. Но в самый последний момент пришло письмо от Хайдеггера, который «приглашал ее на свидание» (Эттингер). Хайдеггер звал ее так же требовательно, как чиновник Кламм из кафковского «Замка» звал Фриду. И Ханна отреагировала на это в точности как Фрида: она подчинилась зову и, отложив все дела, поспешила к своему возлюбленному.
Шесть лет спустя после своего расставания с Марбургом Ханна Арендт написала книгу о Рахели Варнхаген[168]. Описание неудачно закончившегося романа Рахели с графом Финкенштейном оставляет впечатление, что этот эпизод отчасти продиктован стремлением автора осмыслить собственный опыт и разочарования. Рахель хотела, чтобы граф открыто признался в своих чувствах к ней не только в ее салоне, но и перед своей семьей. Она, еврейка, хотела, чтобы он «перетянул» ее в свой юнкерский мир, – а если ему не хватало мужества для такого шага, если он не желал, по выражению Ханны Арендт, принести ей дар «явности» и «признанности», то должен был, по крайней мере, решиться на разрыв. Рахель, по мнению Ханны Арендт, чувствовала себя униженной прежде всего потому, что граф предоставил вещам идти своим ходом и тем самым позволил инертным обстоятельствам восторжествовать над их любовью. «Он победитель, – пишет Ханна Арендт, – и он добился, чего хотел: позволил жизни, «судьбе», – а именно, своей жизни и своей судьбе, – по-господски распорядиться ее притязаниями, которые казались ему безмерными и безумными; и при этом лично ему не пришлось выбирать между злом и добром, занимать ту или иную позицию».
Разве Хайдеггер не был таким же «победителем»; разве, уклоняясь от нравственной обязанности самому принять ответственное решение, он не добился того, что «судьба» по-господски распорядилась ее, Ханны, «безмерными и безумными» притязаниями?
«Судьба» сделала свое дело, и они расстались на много лет, а когда потом, в 1950-м, Ханна снова встретилась с Хайдеггером, она написала (Генриху Блюхеру): «В принципе я счастлива уже тем, что убедилась: я поступаю правильно, никогда ничего не забывая…» Эта встреча положила начало новой главе в истории их взаимоотношений, продолжавшихся всю жизнь.
Творческое вдохновение не покинуло Хайдеггера и после того, как его муза уехала из Марбурга. В каникулы он работал в Тодтнауберге над рукописью, которая будет опубликована в 1927 году под названием «Бытие и время». Он снимал комнату у соседа-крестьянина. В его «хижине» было слишком тесно и шумно, когда там собиралась вся семья. В письмах Ясперсу, которому он так и не признался в своей любви к Ханне Арендт, Хайдеггер рассказывает о том, что одержим беспощадной и вместе с тем радостной страстью к работе. 24 июля 1925 года: «1.VIII еду в хижину и с огромной радостью предвкушаю бодрящий воздух гор – эта мягкая невесомая материя здесь внизу по большому счету губительна. Восемь дней заготовки дров – затем снова писать» (Переписка, 104). 23 сентября 1925 года: «Здесь наверху восхитительно – я бы с удовольствием так и остался работать здесь до весны. В общество профессуры я совершенно не рвусь. Крестьяне куда приятнее и даже интереснее» (Переписка, 105). Наконец, 24 апреля 1926 года Ясперс получил еще одно – торжествующее – послание из Тодтнауберга: «1 апреля я начал печатать мою работу «Бытие и время»… Я в приподнятом настроении и досадую лишь по поводу предстоящего семестра и мещанской атмосферы, в которой опять оказался… Уже глубокая ночь – ветер бушует над вершинами, в хижине скрипят балки, а жизнь распростерта перед душою чистая, простая и величавая… Иногда я перестаю понимать, что можно играть столь странные роли там, внизу…» (Переписка, 113–114).
Стимул к тому, чтобы завершить хотя бы первую часть «Бытия и времени», Хайдеггер получил извне. В 1925 году Николай Гартман принял приглашение в Кёльн, и философский факультет Марбургского университета хотел видеть экстраординарного профессора Хайдеггера его преемником в должности ординарного профессора. Комиссия по определению кандидатов на освобождающуюся вакансию оказывала на Хайдеггера мягкое давление, чтобы он наконец представил к публикации свою новую работу. Члены комиссии знали со слов Гартмана о «новой, совершенно выдающейся работе Хайдеггера»[169], уже почти завершенной. Для философского факультета этого оказалось достаточно, чтобы 5 августа 1925 года предложить прусскому министру по делам культов первым в списке кандидатов на место Николая Гартмана Мартина Хайдеггера. Но 26 января 1926 года из Берлина пришел отрицательный ответ. Министр по делам культов К.-Г. Беккер писал: «При всем признании преподавательских успехов профессора Хайдеггера мне все же представляется невозможным предоставить ему место полного профессора кафедры философии, имеющей столь большое историческое значение, пока выдающиеся литературные достижения не найдут особого признания коллег по специальности, которого требует такое назначение»[170]. 18 июня 1926 года философский факультет еще раз обратился в министерство с просьбой назначить Хайдеггера на должность ординарного профессора. За истекшее время, как отмечалось в письме, Хайдеггер довел до печати большую работу. Оттиски этой работы прилагались. 25 ноября они были возвращены. Министерство осталось при своем решении. В начале 1927 года «Бытие и время» вышло в качестве отдельного выпуска «Ежегодника по философии и феноменологическим исследованиям» («Jahrbuch fur Philosophie und Phanomenologische Forschung»), издававшегося Гуссерлем и Максом Шелером. Теперь и в министерстве, наконец, поняли, какого ранга была эта новая философская работа. В октябре 1927 года экстраординарный профессор Хайдеггер получил свое первое назначение ординарным профессором философии.
Волокита вокруг назначения на должность тянулась невыносимо долго. 24 апреля 1926 года Хайдеггер писал Яс-персу: «Вся история зашла в тупик и совершенно мне безразлична» (Переписка, 113), – и все-таки именно эти обстоятельства вынудили Хайдеггера отдать свою работу в печать, хотя, с его точки зрения, она еще не была готова. Ясперс получал по почте все новые и новые печатные листы с комментариями Хайдеггера, достаточно скромными по тону. 24 мая 1926 года: «В целом эта работа для меня переходная…» (Переписка, 116). 21 декабря 1926 года Хайдеггер писал, что не оценивает работу «непомерно высоко», но «благодаря Вам научился понимать, к чему стремились великие» (Переписка, 122). 26 декабря 1926 года: «Работа вообще не даст мне больше, чем уже дала: я сам для себя вырвался на свободу и с некоторой уверенностью и направленностью могу ставить вопросы» (Переписка, 122–123).
Ранней весной 1927 года стало очевидно, что мать Хайдеггера умирает. Хайдеггер написал Ясперсу, как трудно ему было приехать к своей благочестивой матери, видевшей в нем вероотступника, и смотреть ей в глаза: «Что она серьезно тревожится за меня и не может спокойно умереть, Вы себе примерно представляете. Последний час, проведенный с матерью… был частью «практической философии», которая навсегда останется со мной. Думаю, что для большинства «философов» вопрос теологии и философии или, точнее, веры и философии, – вопрос чисто теоретический» (1.3.1927, Переписка, 125).
За те несколько недель, которые Хайдеггер провел со своей умиравшей матерью, он один раз – 9 марта 1927 года – выступил в Тюбингене с докладом на тему «Феноменология и теология» (год спустя, основательно доработав этот доклад, он повторит его в Марбурге). Хайдеггер говорил о том, «что вера в ее глубинном ядре, как специфическая возможность экзистенции, остается… смертельным врагом той формы экзистенции… которая по своей сути относится к философии». Противоположность этих двух форм экзистенции не исключает «их серьезного отношения друг к другу и взаимного уважения» – но достичь подобного согласия можно только в том случае, если разница между ними будет четко осознаваться, а не затушевываться. Выражение «христианская философия» так же бессмысленно, как, например, словосочетание «деревянное железо». Философия должна уметь полагаться только на свои силы, ибо она есть «свободное вопрошание предоставленного самому себе вот-бытия» (W, 66).
Так Хайдеггер понимал свою философию. Он был уверен, что, написав «Бытие и время», уже приблизился к ней вплотную. И потому, прощаясь с матерью, положил на край ее смертного одра рабочий экземпляр своей только что вышедшей книги.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
«Бытие и время». Пролог на небесах. Какое бытие? Какой смысл? С чего начать? Присутствие как колония водорослей – все взаимосвязано. «Бытие-в». Ужас. Забота выходит из берегов. Сколько подлинности может вынести человек? Альтернатива Плеснера и Гелена. Моральная философия Хайдеггера. Судьба и свобода. Коллективное присутствие: община или общество?
Оглянемся назад: Мартин Хайдеггер учился теологии и начинал как католический философ. Его мысль кружилась вокруг вопроса о Боге как опоре и гаранте нашего познания – познания мира и самих себя. Хайдеггер принадлежал к религиозной традиции, которая в борьбе против модернистских течений, отвернувшихся от Бога, могла занимать только оборонительные рубежи. Хайдеггер хотел защищать небо над Мескирхом – если понадобится, то и оружием этого самого модернизма; например, с помощью гуссерлианского тезиса о надвременной и над-субъективной значимости логики, праобраз которого он обнаружил в метафизической философии Средневековья. Однако там же, в средневековой номиналистской философии, Хайдеггер столкнулся и с сомнением разума в самом себе: разум признавал, что не только Бог остается для него непостижимым, но и haecceitas, это-здесь-и-сейчас, уникальное Индивидуальное. Individuum est ineffabile[171].
Но только идея историчности впервые открыла Хайдег-геру глаза на сомнительность метафизики как таковой. Метафизическое мышление хотя и не исходит из неизменности человеческой природы, но предполагает неизменность последних смыслов. Хайдеггер же научился у Дильтея тому, что и истины имеют свою историю. Уже заканчивая диссертацию, он вдруг резко изменил угол зрения: взглянул на средневековое мышление, к которому сумел подойти так близко, словно бы издалека – и тогда оно предстало перед ним как хотя и пленительная, но навсегда ушедшая в прошлое эпоха в истории духа. Решающее значение приобрело для него утверждение Дильтея о том, что «смысл и значение прорастают в человеке и его истории»[172]. Радикально понятая идея историчности разрушает любые притязания на универсальную значимость. Если смотреть на вещи с точки зрения человеческого самосознания, появление этой идеи, вероятно, маркирует важнейший перелом в западной истории. Лично для Хайдеггера ее усвоение означало конец «католического» философствования.
Реальная история, крушение привычного мира в результате Первой мировой войны довершили этот процесс внутренней перестройки, заставив Хайдеггера до конца осознать, что почва, на которой было воздвигнуто здание философии, уже колеблется и что в этой сфере необходимо все начинать заново.
После 1918 года основой философствования станет для Хайдеггера историческая жизнь. Однако он считал, что такой подход не дает большого выигрыша, пока остается неопределенным понятие «жизнь». В школе феноменологии он научился отдавать себе отчет в том, что здесь кроется проблема. И по-феноменологически четко сформулировал вопрос: какую установку я должен избрать, чтобы человеческая жизнь могла «показать себя» в своем своеобразии? Ответ на этот вопрос стал основой для его собственной философии: установку, которая состоит в критике опредмечивания. Человеческая жизнь ускользает от нас, говорил Хайдеггер, если мы хотим постичь ее, имея теоретическую, объективирующую установку. Это можно заметить, даже попытавшись зафиксировать в своем сознании простое «переживание кафедры». В объективирующем мышлении исчезает богатство взаимосвязей, образующих жизненный мир. Объективная установка обезжизневает переживание и обезмирневает встречающий нас мир. Философствование Хайдеггера обращается к тьме переживаемого мгновения. Имеются в виду не какие-то таинственные глубины, не нижний мир подсознания или верхний мир духовности, – нет, он просто хочет добиться того, чтобы жизнь в ее самореализации, в том числе и повседневной, сделалась прозрачной для самой себя. Философия станет для Хайдеггера искусством «бодрствования вот-бытия ради себя самого». Обращение к повседневности имеет полемический акцент: оно направлено против философии, которая все еще полагает, будто ей известно, в чем состоит предназначение человека. Хайдеггер внес в философию пафос нового начала. В ранних лекциях Хайдеггера ощущается дадаистское удовольствие от того, что он занят работой разрушения возвышенных культурных ценностей и разоблачения призрачного характера традиционных метафизических концепций. Хайдеггер буйствует вместе с фактичностью жизни и нисколько не заботится о «культурных задачах всеобщего «сегодня»», как он писал в 1921 году Левиту.
Сначала с трудом, а затем все более уверенно, в ритме торжествующего крещендо, Хайдеггер извлекает на свет из тьмы присутствия, или вот-бытия (Dasein), – так он теперь называет человеческую жизнь – структуры, которые в «Бытии и времени» будет называть экзистенщалами[173]: бытие-в (In-Sein), расположение (Befindlichkeit)[174], понимание (Verstehen), падение (Verfallen), забота (Sorge). Наконец, он находит формулу самого присутствия: «Это сущее, которое мы сами всегда суть и которое среди прочего обладает бытийной возможностью спрашивания» (Бытие и время, 7).
Годы с 1923-го по 1927-й, когда вышло «Бытие и время», были для Хайдеггера периодом чрезвычайно продуктивной работы. В своих больших лекционных курсах он уже развернул главные темы «Бытия и времени». Если принять во внимание объем идейного материала, содержащегося в этих лекциях (в собрании сочинений Хайдеггера они в своей совокупности занимают около полутора тысяч страниц), то станет очевидно, что «Бытие и время» – всего лишь надводная часть айсберга. Но зато в этой работе мысли Хайдеггера представлены в изощренной архитектонической форме и выражены посредством тщательно разработанной терминологии. При этом автор намеренно не разобрал «строительные леса», то есть выставил напоказ свои методические приемы, из-за чего книга должна была производить впечатление чудовищной тяжеловесности. Это, впрочем, не повредило ее популярности в научной среде, где подозрение вызывает не столько излишняя усложненность, сколько простота изложения. Что же касается широкой общественности, то в ее представлении книга – именно по причине своей «темности» – была окружена неким ореолом. Никто толком не понимал, само ли вот-бытие так «темно» или только данная попытка его проанализировать. Но, как бы то ни было, труд этот привлекал внимание публики благодаря (а не вопреки) своей пресловутой таинственности.
В «Бытии и времени» Хайдеггер работает над философским доказательством того положения, что человеческое вот-бытие не имеет никакой иной опоры, кроме этого вот, коим оно располагает для своего бытия. В определенном смысле Хайдеггер продолжает работу Ницше: он обдумывает следствия, вытекающие из «смерти Бога», и критикует «последних людей» (Ницше), которые обходятся жалкими эрзац-богами и на первых порах даже не ужасаются тому, что Бог исчез. В «Бытии и времени» (254) Хайдеггер дает свою формулу способности ужасаться: «мужество перед ужасом».
«Бытие и время»… Само название обещает, что в книге речь будет идти обо всем, о целостности. В университетских кругах знали, что Хайдеггер готовит большую работу, однако никто не ожидал, что он поставит перед собой столь грандиозную задачу. Не следует забывать и о том, что тогда Хайдеггера еще считали не конструктивным философом, а виртуозным интерпретатором философской традиции, который лучше кого бы то ни было умел осовременить эту традицию и обращался с Платоном или Аристотелем так же, как Рудольф Бультман с Христом: возвращал им жизнь.
Герман Мёрхен вспоминает, как Хайдеггер в начале 1927 года, во время дружеской встречи со студентами (участниками молодежного движения), «без единого слова, но преисполненный ожидания, как ребенок, решившийся показать свою любимую игрушку, которую прежде прятал от всех, положил на стол свежий корректурный лист – титульный лист «Бытия и времени»».
Эта книга, очень эффектная по своей драматургии, начинается со своеобразного пролога, действие которого разворачивается на небесах. Появляется Платон. Цитируется высказывание из его диалога «Софист»: «Ибо очевидно ведь вам-то давно знакомо то, что вы собственно имеете в виду, употребляя выражение «сущее», а мы верили правда когда-то, что понимаем это, но теперь пришли в замешательство» (Бытие и время, 1).
Причина этого замешательства, утверждает уже от своего имени Хайдеггер, не устранена и сегодня, только мы в этом себе не признаемся. Мы все еще не понимаем, что имеем в виду под словом сущее. Пролог обвиняет нас в двойном забвении бытия. Мы забыли, что такое бытие, и забыли даже об этом забвении. «И значит вопрос о смысле бытия надо поставить заново»; но поскольку мы забыли и о самом забвении, «надо… прежде всего пробудить внимание к смыслу этого вопроса».
Как и в любом прологе, здесь имеется указание на то, чему, собственно, посвящено данное произведение: «интерпретации времени как возможного горизонта любой понятности бытия вообще». То есть Хайдеггер полагает, что смысл бытия – время. И уже на первой странице «проговаривается», выдает эту мысль. Однако для того, чтобы сделать ее понятной, ему понадобится не только целая книга, но и вся его дальнейшая жизнь.
Вопрос о бытии… Строго говоря, Хайдеггер ставит два вопроса. Один из них звучит так: что мы собственно имеем в виду, употребляя выражение «сущее»? Вопрос касается смысла выражения. К этому вопросу Хайдеггер присоединяет еще один, совсем другой – о смысле самого бытия. И об этом сдвоенном вопросе, вопросе с двойным значением, утверждает, что мы не понимаем даже смысла вопроса как такового. Обескураживающее заявление!
Что касается вопроса о смысле бытия (не только как выражения), то можно сказать, что над этим вопросом человечество размышляет постоянно – с самого начала своей истории и до сего дня. Это есть вопрос о смысле, цели и значении человеческой жизни и природы. Вопрос о жизненных ценностях и ориентирах, о «Почему» и «Зачем» мира, космоса, универсума. Задаваться этим вопросом людей заставляет их практически нравственная жизнь. В ранние времена, когда физика, метафизика и теология еще составляли одно целое, наука тоже пыталась на него ответить. Однако с тех пор, как Кант установил, что хотя мы как нравственные существа должны ставить вопрос о смысле бытия, как ученые мы на него ответить не можем, – с тех самых пор строгие науки воздерживаются от обсуждения этого вопроса. Но практически нравственная жизнь продолжает его ставить и делает это каждодневно: через посредство рекламы, художественной литературы и нравственной рефлексии, религии. Как может Хайдеггер утверждать, что этот вопрос более не находит понимания? Может только потому, что уверен: все эти виды смыслополаганий и соответствующие им вопросы о смысле не затрагивают смысла бытия, бьют, так сказать, мимо цели. Дерзкое утверждение, которое прежде всего позволяет увидеть в истинном свете самого философа. Ибо этот философ выступает как человек, вновь открывающий то, что было забыто и оставалось скрытым от нас со времен Платона. Уже в прологе, разворачивающемся на небесах, Хайдеггер «инсценирует» себя как протагониста, ответственного за эпохальную цезуру. Какой конкретно вклад в понимание смысла бытия может он внести, мы еще увидим. Хайдеггер – мастер по удлинению путей. Он знает, что мы только тогда по-настоящему радуемся свету, когда видим его в конце туннеля.
Сначала Хайдеггер оставляет в стороне вопрос о смысле бытия, который я буду называть «эмфатическим вопросом». Он начинает с другого, «семантического» вопроса, который можно сформулировать так: что мы имеем в виду, употребляя выражение сущее, в каком «смысле» говорим мы о «бытии»? Этот вопрос целиком относится к сфере современной науки. Каждая наука – физика, химия, социология, антропология и т. д. – изучает определенную область сущего; или, может быть, все науки изучают одну и ту же область, но при этом ставят разные вопросы и используют разные методы. Любая методологическая рефлексия на тему того, как подобает подходить к тому или иному предмету научного анализа, предполагает наличие некоей «региональной онтологии», даже если теперь никто не употребляет такого словосочетания. Поэтому утверждение Хайдеггера, что мы больше не отдаем себе ясного отчета в том, в каком смысле мы воспринимаем сущее в каждой из конкретных предметных областей, поначалу не объясняет его мысль, а скорее сбивает читателя с толку. Ведь именно неокантианство впервые стало разрабатывать принципы чрезвычайно изощренной методологической рефлексии. Риккерт и Виндельбанд показали тончайшие различия между науками о природе и о культуре; а еще были герменевтика Дильтея, «понимающая социология» Макса Вебера, феноменологический метод Гуссерля, психоанализ с его герменевтикой бессознательного. Ни одна из этих наук не отличалась – с методологической точки зрения – наивностью; все они ставили онтологические вопросы, пытались уяснить свое специфическое место в общем контексте исследования реальности. Значит, с семантико-методическим вопросом дело обстоит точно так же, как и с эмфатическим вопросом о смысле бытия. В обоих случаях, говорит Хайдеггер, некий вопрос, смысла которого никто не понимает, тем не менее задается на каждом шагу. В практически нравственной жизни таким вопросом является эмфатический вопрос, в научной сфере – методико-семантический. Хайдеггер вроде бы хочет подвести нас к какому-то необычному выводу, но к какому именно, мы пока не знаем. Он искусно нагнетает напряжение – и в конце концов формулирует свой тезис. По его словам, именно при исследовании человека становится очевидным, что науки не отдают себе отчета в том, в каком смысле они считают человека сущим. Они действуют так, будто человека, подобно всем другим наличествующим в мире предметам, можно «охватить взглядом» как целое. При этом они следуют стихийной тенденции всякого «присутствия» – «понимать свое бытие из того сущего, к которому оно по сути постоянно и ближайше относится, из «мира»» (Бытие и время, 15). Однако, понимая таким образом свое бытие, присутствие себя обманывает: на самом деле оно, пока живет, никогда не бывает готовым, целым и замкнутым как предмет, а всегда остается открытым для будущего, преисполненным возможностей. К присутствию, или вот-бытию, всегда относится, являясь его существенной частью, и «бытие-возможным» (Moglich-sein).
В отличие от остального сущего человек соотнесен со своим собственным бытием, как-то к нему относится. Эту соотнесенность Хайдеггер называет экзистенцией. Слово «экзистенция», как я уже показал на примере хайдеггеровской интерпретации Аристотеля (в лекциях 1922 года), имеет транзитивный смысл. Нетранзитивную составляющую присутствия Хайдеггер называет брошенностью (Geworfenheit): «Решало ли присутствие само свободно о том… хочет оно или нет войти в «присутствие»?» (Бытие и время, 228). Но если мы – в нетранзитивном смысле – присутствуем «вот здесь», то нам не остается ничего иного, кроме как жить в транзитивном смысле, преобразуя и используя то, что в нас имеется нетранзитивного. Тем, чем мы стали в нетранзитивном смысле (независимо от своей воли), мы можем и должны быть в смысле транзитивном. Позже Сартр выразит ту же мысль в лаконичной формуле: «Сделать что-то из того, для чего ты был сделан». Мы – это наше отношение к самим себе и, значит, одновременно отношение к бытию. «Оптическое отличие присутствия в том, что оно существует онтологично» (Бытие и время, 12).
Выражение «оптическое» используется Хайдеггером для обозначения всего, что существует. Выражение «онтологическое» – для обозначения любопытствующего, удивляющегося или ужасающегося мышления о том, что существую «я» и что вообще существует что-то. Онтологичны, например, неподражаемые слова Граббе[175]: «Всего лишь раз появиться в мире, и именно жестянщиком в Детмольде!» Итак, феномен присутствия, или экзистенции, означает следующее: мы не только есть, но и воспринимаем то, что мы есть. И мы никогда не бываем «готовыми», законченными, как нечто «наличное» (Vorhandenes); мы не можем «обойти вокруг себя», как вокруг предмета, ибо мы в любой точке открыты для будущего. Мы свою жизнь должны вести. Мы в своем бытии сами себе вверены. Мы – это то, чем мы становимся.
Уже в самом начале книги, ставя вопрос о том, как уместно говорить о бытии, Хайдеггер фокусирует свое внимание на времени.
Вглядываясь во время как в открытый горизонт, мы понимаем, что нам предстоит много всего неизвестного и еще одно, не вызывающее никаких сомнений: великое «вперёд-себя», смерть. С этим «вперёд-себя», или смертью, мы уже знакомы – не только потому, что другие вокруг нас умирают, но и потому, что мы в любой момент можем его («вперёд-себя») пережить: ведь поток времени есть не что иное, как сплошная череда микрорасставаний, микросмертей. Временность, или темпоральность, есть опыт переживания таких «вперёд-себя» (минований) – нынешних, будущих и, наконец, последнего, смертного.
Оба аспекта временности – завершающий и открывающий, «бытие к смерти» и «возможность бытия» – представляют собой тяжелое испытание для присутствия, обращенный к нему вызов. И именно поэтому – здесь круг замыкается, и мы снова возвращаемся к началу – присутствие склонно относиться к самому себе как к чему-то наличному, чему-то такому, что, как нам кажется, допустимо считать завершенным еще прежде, чем оно на самом деле будет завершено. Научная объективация человека есть, с точки зрения Хайдеггера, уклонение от тревожащей нас временности присутствия. При этом науки лишь продолжают уже упоминавшуюся выше упорную тенденцию повседневного присутствия понимать себя «из мира», то есть как вещь среди вещей. Наука – это культивированная и методично реализуемая форма повседневного самоовеществления присутствия. Но Хайдеггер хочет достучаться до ее каменного сердца.
Он соединяет оба вопроса – эмфатический, о смысле бытия, и методико-семантический, о смысле выражения «бытие», – выдвигая следующий тезис: тенденция, которая выражается в приравнивании присутствия к вещам, сохраняется и при постановке эмфатического вопроса о смысле бытия. А именно, под этим «смыслом» подразумевают нечто, существующее либо в мире, либо в воображаемой потусторонности как наличное, на которое можно опираться и ориентироваться: например, Бог, или универсальный закон, или каменные скрижали с моральными заповедями.
Такой способ ставить вопрос о смысле как о чем-то наличном, по мнению Хайдеггера, является одной из форм бегства присутствия от своей временности и от своего бытия-возможным. Вопрос о смысле бытия ставят и отвечают на него в плане метафизики наличного – и потому полученный ответ оказывается неверным. Сегодня подобные нелепицы модны: все кому не лень занимаются «смыслополаганием», разрабатываются соответствующие программы, обсуждается проблема скудости «смысловых ресурсов» и необходимости эффективного использования таковых. Все это – особенно глупая разновидность метафизики наличного.
Речь идет не об ошибочности теоретической установки. Вопрос о смысле бытия, как уже отмечалось, в нашу эпоху более не считается предметом строгих наук, престиж которых основывается именно на том, что они отказались его решать. Вопрос о смысле бытия ставится теперь практически нравственным повседневным сознанием. Но какова установка этого сознания?
Утонченность драматургии «Бытия и времени» выражается, среди прочего, и в том, что Хайдеггер только в середине своего труда выводит на сцену подлинного субъекта вопроса о смысле бытия. Субъект, «Кто» этого вопроса – настроение, а точнее, согласно Хайдеггеру, «основорасположение ужаса». Именно в ужасе (Angst)[176] присутствие вопрошает о смысле бытия, о смысле своего бытия. Знаменитый § 40 посвящен анализу ужаса. Параграфов о радости, о любви – состояниях, которые тоже могли бы породить вопрос о смысле бытия, – в «Бытии и времени» (несмотря на то, что ко времени написания этой книги в жизнь Хайдеггера уже вошла Ханна Арендт) нет. Это связано не только с философски оправданным отбором для анализа именно тех настроений, которые применительно к поставленной философской проблеме обладают наибольшей объясняющей силой, но и с личностью самого автора, с реально владевшими им настроениями и с его предпочтением определенных настроений.
Итак, ужас… Это тайный король настроений. Его следует отличать от страха. Страх направлен на что-то определенное, он мелок. Ужас же неопределенен и безграничен как сам мир. «От-чего ужаса есть мир как таковой» (Бытие и время, 187). В ужасе все нагим опускается на землю, «тонет», одежды значимостей спадают. Ужас суверенен, он порой являет в нас свое могущество в связи с самым ничтожным поводом. Да и как может быть иначе, если его непосредственный визави – ничто![177] Тому, кто испытывает ужас, ««мир» неспособен ничего больше предложить, как и соприсутствие других» (Бытие и время, 187). Ужас не терпит рядом с собой никаких иных богов, он «уединяет присутствие» в двух смыслах. Ужас разрывает связь индивида с другими людьми и заставляет его выпасть из системы доверительных взаимоотношений с миром. Он конфронтирует присутствие с нагим что мира и собственного «я». Однако то, что остается после того, как присутствие уже прошло сквозь холодное пламя ужаса, не есть ничто. Сжигая все лишнее, ужас обнажает раскаленное ядро присутствия: «освобожденность для свободы избрания и выбора себя самого» (Бытие и время, 188)[178].
Следовательно, в ужасе присутствие переживает несвойскость мира и собственную свободу. Ужас может быть одновременно ужасом перед миром и ужасом перед свободой.
Источником вдохновения для этого анализа явно послужила философия Кьеркегора, в которой хайдеггеровскому «ужасу перед свободой» соответствует страх вины, страх перед возможностью совершения греха. Кьеркегор пытался преодолеть этот страх посредством прыжка в веру, прыжка над бездной. Ужас Хайдеггера не есть прелюдия к такому прыжку. Хайдеггер утратил веру унаследованной им католической традиции. И у него речь идет об ужасе после прыжка, ужасе человека, который понимает, что он сейчас упадет в бездну.
Разумеется, хайдеггеровская философия ужаса подпитывалась и общим кризисным настроением двадцатых годов. «Недовольство культурой» – так называлось эссе Фрейда, опубликованное в 1929 году, – в то время было широко распространено. Мировоззренческая эссеистика тех лет была проникнута неуютным ощущением нахождения в гибнущем, искаженном или отчужденном мире. В ней ставились неутешительные диагнозы и предлагались самые разные терапевтические методы. Наибольшим успехом пользовались попытки лечить больной организм, воздействуя на какую-нибудь одну точку. Подобно тому, как в политике Веймарской республики принцип демократической середины был сильно потеснен экстремизмом сторонников тотальных преобразований, так же и в кризисной философии тех лет доминировала склонность к крайним решениям. Эти решения носили разные имена: «пролетариат», «бессознательное», «душа», «святость», «народность» и т. д. Карл Христиан Бри в своей книге «Замаскированные религии» – бестселлере двадцатых годов – подверг анализу эту ярмарку философских учений, пропагандировавших разные способы преодоления кризиса. Когда работа Бри увидела свет (за два года до публикации «Бытия и времени»), в Германии вовсю процветали фанатичный антисемитизм и расистские идеи, начиналась «большевизация» КПГ, Гитлер в тюрьме Ландсберга писал «Майн кампф», а миллионы людей искали спасения в сектантских движениях – оккультизме, вегетарианстве, нудизме, теософии и антропософии. Уж в чем в чем, а в обещаниях спасения и призывах присоединиться к тому или иному течению недостатка не ощущалось! Травматические последствия инфляции были только на руку новоявленным «святым». «Замаскированной религией», по утверждению Бри, могла стать любая идея, если только она преподносилась «мономаниакально», то есть как единственный способ интерпретации бытия и достижения спасения. Бри, который сам был верующим, нашел поразительно простой критерий, позволяющий отличить настоящую религию от ее «эрзаца». Настоящая религия воспитывает в человеке чувство благоговения перед необъяснимостью мира. В свете веры мир становится больше, но и темнее, ибо сохраняет в неприкосновенности свою тайну, и человек понимает себя как ее неотъемлемую часть. Человек остается в неуверенности даже относительно себя самого. Для «мономанов» же, то есть для приверженцев «замаскированных религий», мир, наоборот, сжимается. Такой человек «во всем и вся находит лишь подтверждение своему мнению» – и с пылкостью религиозного фанатика отстаивает это мнение в борьбе со всем миром и с собственными сомнениями.
Книга «Бытие и время» вписывалась в эту кризисную атмосферу, но отличалась от других работ того же жанра тем, что в ней не предлагалось никаких способов преодоления кризиса. Фрейд в 1929 году поставил больной эпохе диагноз «недовольство культурой» и начал его словами: «Итак, мне недостает мужества, чтобы выступить перед моими ближними в качестве пророка, и я принимаю их упрек в том, что не могу принести им никакого утешения, ибо, по сути, они все в нем нуждаются». Те же слова можно было бы отнести и к книге Хайдеггера. Он тоже пытался осмыслить опыт общественного недуга и тоже уклонился от роли пророка, «приносящего утешение».
Правда, уже одно то, что Хайдеггер поставил эмфатический вопрос о «смысле бытия», могло пробудить такого рода ожидания. И действительно пробудило – только ожидания оказались обманутыми. Впрочем, это наверняка входило в замысел автора, поскольку основная идея «Бытия и времени» сводится к следующему: за всем этим ничего не стоит. Смысл бытия – это время; но время – не рог изобилия, оно ничего не содержит и не дает нам никаких ориентиров. Смысл бытия заключается во времени, но из времени никакого смысла не извлечешь.
В хайдеггеровском анализе присутствия глава об ужасе отмечает резкий сюжетный поворот: присутствие вдруг выпадает из системы взаимоотношений, в которой существовало прежде, в которой успело освоиться. В предшествующих главах темой анализа было присутствие, стабильно укорененное в своем мире. Оказывается, что ужас – из-за которого мир «ускользает» из сферы нашего внимания и который поэтому является дистанцирующим феноменом – легче поддается описанию, чем это бытие-в-мире повседневного присутствия, прочно укорененное и странно близкое к нам (не отделенное от нас никакой дистанцией). Если мы хотим сделать прозрачным это движение присутствия, то должны в некотором смысле в нем «участвовать» – а значит, не выбирать такую точку зрения, которая была бы по отношению к нему внешней. Именно здесь особенно важно соблюдать феноменологический принцип, согласно которому нельзя говорить «о» феномене, а надо избрать такую установку, которая позволит феномену «показать себя».
Как раз в этом плане старая философия часто грешила. Она описывала либо то, как сознание возникает из мира (натурализм), либо то, как само сознание конституирует мир (идеализм). Хайдеггер искал третий путь. Его оригинальный, хотя и трудный для восприятия подход заключается вот в чем: надлежит начинать с бытия-в. Ибо с точки зрения феноменологии неверно ни то утверждение, что я узнаю сначала себя, а потом мир, ни противоположное: что я сперва узнаю мир, а потом себя самого; потому что на самом деле в опыте познания то и другое неразрывно связаны. В феноменологии этот опыт называется «интенциональностью». И Хайдеггер считал это важнейшим феноменологическим принципом – причем принципом, характеризующим вообще отношение присутствия к миру, а не только (как полагал Гуссерль) структуру сознания.
Анализ бытия-в потребовал изобретения странных составных терминов. Потому что при разработке понятийного аппарата следовало избегать естественного в обычной речи разделения на субъекты и объекты и выбора либо «субъективной» (внутренней), либо «объективной» (внешней) точки зрения. Так возникли слова-чудовища с одним или несколькими дефисами, нужные для обозначения структур, состоящих из неразрывно связанных элементов. Вот несколько примеров подобных новообразований. Бытие-в-мире (In-der-Welt-sein) означает: присутствие не противостоит миру, а изначально в нем находится. Co-бытие с другими (Mit-sein-mit-anderen) означает: присутствие всегда-уже находится в ситуациях, общих для него и других. Вперёд-себя-бытие (Sich-vorweg-sein) означает: присутствие из «сейчас» – не время от времени, а постоянно – озабоченно вглядывается в будущее. Эти и другие подобные выражения показывают парадоксальный характер всего хайдеггеровского проекта. Ведь слово «анализ» предполагает, что что-то разнимается на части. Хайдеггер же пытается, не прерывая аналитического процесса, одновременно вновь собирать вместе то, что он получает в результате анализа, – отдельные части и элементы. Хайдеггер «схватывает» присутствие, как если бы это была колония водорослей, за которую в каком месте ни ухватись, выдернуть сможешь только целиком. Это стремление выхватить что-то отдельное, но так, чтобы не упустить из виду связанное с ним целое, иногда приводит к тому, что Хайдеггер, формулируя какую-то мысль, невольно создает пародию на самого себя. Например, забота определяется им так: «уже-бытие-вперёд-себя-в (мире) как бытие-при (внутримирно встречном сущем» (Бытие и время, 327).
По его замыслу сложность языка должна соответствовать сложности повседневного присутствия.
В лекциях «Пролегомены к истории понятия времени», прочитанных летом 1925 года, Хайдеггер говорил: «…те тяжеловесные и, видимо, неблагозвучные формулировки, с которыми нам придется иметь дело, я ввожу не по прихоти и не ради особой склонности к приватной терминологии, но в силу давления со стороны самих феноменов.[…] Поэтому такого рода формулировки, как бы часто мы с ними ни сталкивались, не должны нас шокировать. Наука вообще не должна быть изящной, и, видимо, философия – тем более» (Пролегомены, 158). Кроме того, особая терминология Хайдеггера (и в этом она функционально аналогична методу Брехта) представляет собой технику отчуждения, ибо предметом хайдеггеровского исследования является «не что-то чуждое и неизвестное, но, напротив, нечто ближайшее и, видимо, именно поэтому столь трудноуловимое» (там же, 158-159). То есть трудный язык Хайдеггера – это тщательно продуманный, специально сконструированный язык. Его задача – передать очевидное таким образом, чтобы оно стало «ухватываемым» даже для философов. И получается, что сам этот язык свидетельствует о трудностях, с которыми столкнулась философия, когда приступила к исследованию повседневной жизни, прежде, как правило, остававшейся вне сферы ее интересов. «Оптически ближайшее и известное есть онтологически самое далекое, неузнанное и… постоянно просмотренное» (Бытие и время, 43).
Свой анализ присутствия Хайдеггер называет «экзистенциальным анализом», а фундаментальные модусы бытия присутствия – экзистенциалами. С последним понятием было связано немало недоразумений, но оно образовано просто по аналогии с обычным понятием «категории». Традиционная философия, как правило, называла фундаментальные модусы бытия изучаемых ею «предметов» категориями. К категориям относили, например, пространство, время, протяженность и т. д. Однако поскольку в понимании Хайдеггера присутствие является вовсе не наличным «предметом», а экзистенцией, то, соответственно, и фундаментальные модусы бытия этой экзистенции он называет не категориями, а – экзистенциалами.
Хайдеггер начинает свой анализ присутствия с бытия-в, так как с этого начинается само присутствие. Бытие-в означает не только то, что присутствие где-то «находится», но и то, что оно всегда как-то с чем-то «обращается», «имеет дело».
Как известно, радикален в своем анализе тот, кто добирается до корней. Для Маркса «корнем» человека был трудящийся человек. Хайдеггеровское «обращение с чем-то» (Umgehen mit etwas) как фундаментальный модус бытия человека – еще более широкое понятие, чем «труд». Маркс определял труд как «обмен веществ с природой». У Хайдеггера обращение тоже относится к (вещному, природному) «окружающему миру», но вместе с тем – и к «бытию самости» (отношение к самому себе)[179] и к «событию с другими» (отношение к обществу).
Хайдеггеровский подход прагматичен, поскольку предполагает, что действие (а «обращение с чем-то» означает именно действие, и ничто иное) является базовой структурой присутствия.
Прагматична также идея связанности действия и познания. Если воспользоваться терминологией Хайдеггера, то обращению, которое имеет первостепенную значимость, всегда соответствует то или иное усмотрение (Umsicht)[180]. Познание есть функция действия. Поэтому, по Хайдеггеру, мы совершаем ошибку, когда хотим понять познающее сознание из него самого. То есть Хайдеггер выступает против феноменологического исследования сознания по методу Гуссерля. Так как познание проистекает из практического обращения с миром, его необходимо исследовать в контексте практической жизнедеятельности.
Не есть ли это возвращение к хорошо известному материалистическому принципу: «Бытие определяет сознание»? По мнению Хайдеггера, нет: потому что, определяя сознание через бытие, материалисты претендуют на знание того, что есть само бытие. Но, как говорит Хайдеггер, на самом деле мы этого не знаем, мы об этом только спрашиваем. Мы можем только внимательно наблюдать и феноменологически описывать, как встречают присутствие окружающий мир, событие и бытие самости.
Первый вопрос: как и в качестве чего встречает меня вещный окружающий мир? Он встречает меня как средство (Zeug), которое может быть использовано в сфере моей деятельности.
Например: я не воспринимаю дверь, которую постоянно открываю, как лакированную доску. Если с ней все в порядке, я ее вообще не замечаю. Я открываю ее, чтобы войти в свой рабочий кабинет. Она имеет «место» в моем жизненном пространстве; а также в моем жизненном времени – ибо играет определенную роль в ритуале моей повседневности. К этому ритуалу относятся и ее скрип, и царапины на ней, и «приставшие» к ней воспоминания, и т. п. Эта дверь, по выражению Хайдеггера, – подручное (Zuhandene). Если бы она внезапно захлопнулась и я ударился об нее головой, то испытал бы боль и заметил дверь как твердую доску, каковой она и является. Тогда дверь из подручного сразу превратилась бы для меня в наличное (Vorhandene).
Отношения, с которыми мы освоились таким образом, образуют мир подручного. В этом мире существует «взаимосвязь отсылании значимости» (Bedeutungszusammenhang)[181], на которую я ориентируюсь в моих действиях, как правило, не вдаваясь в ее детали. Только если возникают какие-то помехи – внешние или обусловленные моим сознанием – эта взаимосвязь, в которой я живу, распадается и вещи предстают передо мной просто как нечто наличное. В наличном привычные значимости подручного исчезают или, так сказать, утрачивают свою силу. Только превратившись из «подручного» в «наличное», вещи становятся предметами в строгом смысле слова – предметами, которые можно исследовать с теоретической позиции.
Хайдеггер, предпринимая свой анализ, пытается спасти (сделать доступным) для мышления мир подручного, обычно остающийся вне сферы философского познания. Люди слишком быстро приспосабливают вещи (да и других людей) для собственных нужд, превращая их в нейтральное, безразличное для них наличное. Позже Хайдеггер охарактеризует такое преобразование мира в нечто просто наличное как «забвение бытия», а осознанное сохранение подручного жизненного пространства станет в его представлении подтверждением связанности с бытием, понимаемой как «близость к вещам» или «жительствование при вещах». Эту вторую позицию, или подход к миру, он назовет «отрешенностью (от вещей)» (Geiassenheit)[182].
Впрочем, в «Бытии и времени», как мы увидим, еще преобладает иной экзистенциальный идеал.
Базовую структуру обращения с миром Хайдеггер называет заботой. И придает этому понятию всеохватывающий смысл. Забота есть всё. Чтобы пояснить свою мысль, Хайдеггер цитирует басню позднеантичного автора Гигина «Забота».
«Когда однажды «Забота» переходила через реку, она увидела глинистую почву: задумчиво взяла она из нее кусок и начала формовать его. Пока она сама с собой раздумывает о том, что создала, подходит Юпитер. Его «Забота» просит, чтобы он придал дух сформованному куску глины. Это Юпитер ей охотно предоставляет. Когда она однако захотела теперь наделить свое создание своим именем, Юпитер запретил и потребовал, чтобы тому обязательно дали его имя. Пока спорили об имени «Забота» и Юпитер, поднялась также и Земля (Tellus) и пожелала, чтобы слепленному было наложено ее имя, поскольку она ведь все же наделила его своим телом. Спорившие взяли Сатурна судьей. И Сатурн им выдал следующее по-видимому справедливое решение: «Ты, Юпитер, поскольку дал дух, при его смерти должен получить дух, а ты, Земля, поскольку подарила тело, должна получить тело. Поскольку однако «Забота» первая образовала это существо, то пусть, пока оно живет, «Забота» им владеет»» (Бытие и время, 198).
Следовательно, под «заботой» имеется в виду не то, что человек время от времени о чем-то «заботится». Забота есть один из фундаментальных признаков conditio humana[183]. В хаидеггеровском понимании этот термин имеет такие оттенки смысла, как «заниматься чем-то», «планировать», «заботиться о ком-то или о чем-то», «тревожиться», «рассчитывать», «предвидеть». Решающее значение имеет соотнесенность заботы со временем. «Озабоченным» может быть только существо, видящее перед собой открытый и неподвластный ему горизонт времени – горизонт, с которым оно должно освоиться. Мы – заботящиеся и тревожащиеся существа, именно потому, что остро переживаем открытый перед нами временной горизонт. Забота есть не что иное, как переживаемая временность.
Озабоченные, ибо нас подгоняет время, мы, действуя, встречаем мир, который – в перспективе обращения с ним – может быть либо подручным, либо наличным. Однако само присутствие не есть ни нечто подручное, ни нечто наличное; оно – экзистенция. Экзистировать значит иметь какое-то отношение к самому себе; быть вынужденным как-то относиться к самому себе и, значит, к своему бытию. Как являет себя человеку его собственное бытие? Хайдеггер отвечает: в настроении.
«… размыкающие возможности познания слишком недалеко идут в сравнении с исходным размыканием в настроениях, в которых присутствие поставлено перед своим бытием…» (Бытие и время, 134).
Хайдеггер настойчиво борется против упорного самомистифицирования философии. Так как философия есть работа мысли, она приписывает мышлению наибольшую «размыкающую силу». В философии принято считать, что чувства и настроения «субъективны» и потому не приспособлены для объективного познания мира. Конечно, так называемые «аффекты» всегда были предметом теоретического интереса. Они могли становиться объектами познания, однако, как правило, их не признавали в качестве адекватных органов познания. С появлением учения Ницше и «философии жизни» эта ситуация изменилась – но, по мнению Хайдеггера, недостаточно радикально. Философствование, исходящее из настроений, позволило оттеснить себя в «убежище иррационального» – не самое лучшее место для философии. «Иррационализм – подыгрывая рационализму – лишь вкривь говорит о том, к чему последний слеп» (Бытие и время, 136).
Хайдеггер хочет говорить о настроениях напрямую, а не вкривь.
Присутствие «всегда уже как-то настроено» (Бытие и время, 134). Настроение есть расположение. Хотя мы и можем усилить то или иное настроение, существенно то, что они сами «устанавливаются», «просачиваются» в наше сознание, «овладевают» нами, «настигают» нас. Мы над ними не властны. Настроения показывают нам ограниченность нашей способности самоопределения.
Хайдеггер не пытается исследовать все возможные настроения, а концентрирует внимание лишь на немногих – тех, которые значимы в свете его концепции. В качестве наиболее распространенного обыденного основорасположения он выделяет «частую затяжную, равномерную и вялую не настроенность» (Бытие и время, 134), окрашенную безразличием и скукой. В такой ненастроенности «бытие… обнажается как тягота» (Бытие и время, 134). Столь же обыденная «захлебывающаяся деловитость» (Бытие и время, 345) является бегством от такого настроения. Присутствие «берет себя в руки», становится активным, не желает смириться с тем, о чем его извещает настроение. «Присутствие… чаще уклоняется от разомкнутого в настроении бытия» (Бытие и время, 135).
Фундаментальную онтологию Хайдеггера можно понять как грандиозную по своему размаху попытку отрезать присутствию все пути к бегству. Хайдеггер обстоятельно и настойчиво рассматривает именно те настроения, в которых обнажается «тягостный характер присутствия» (Бытие и время, 135); а обнажается он блекло и обыденно в вялой ненастроенности безразличия, ярко и драматично – в ужасе.
Между тем, утверждение Хайдеггера, что именно «тягостные» настроения являются основополагающими, вовсе не бесспорно. Макс Шелер, который, подобно Хайдеггеру, приписывал настроениям фундаментальную значимость, пришел к другим результатам. В своем исследовании «Сущность и формы симпатии» (1912) он интерпретирует любовь и привязанность, способность разделять настроения другого как «основорасположение» (Grundbefindlichkeit), а печальные и тягостные настроения – как «порчу» или временное прекращение действия этого основополагающего «симпатического» принципа.
Можно было бы просто сказать, что Хайдеггер взял за исходный пункт преобладавшее у него самого основополагающее настроение вкупе с общим кризисным настроем, характерным для Веймарской эпохи. Это было бы оправдано в той мере, в какой сам Хайдеггер постоянно подчеркивал, что настроение имеет свойство быть всегда моим и что оно исторично. Однако, что бы Хайдеггер ни утверждал по этому поводу, он хочет, чтобы его высказывания были оправданы и с фундаментально-онтологической точки зрения: то есть хочет «схватить», «ухватить» через анализ настроений не только собственное присутствие и присутствие других людей его эпохи, но и присутствие как таковое, присутствие человека вообще.
Хайдеггер предпринял свой анализ присутствия, чтобы поставить вопрос о бытии; значит, он понимал этот анализ как нечто иное, нежели просто вклад в философскую антропологию. Тем поразительнее, что ведущие представители философской антропологии того времени, Хельмут Плеснер[184] и Арнольд Гелен[185], тоже исходили из постулата о тягостном характере человеческого бытия. Правда, оба они пришли к другим выводам. Интересно сравнить идеи «Бытия и времени» с их концепциями – это позволит отчетливее осознать, в чем состоит своеобразие хайдеггеровского подхода. Плеснер в своем самом значительном антропологическом труде «Ступени органического и человек» (1928) выделяет как главную характеристику человека «эксцентричную позициональность». Человек не имеет специфической для него органической окружающей среды, в которую мог бы быть полностью включен. Он открыт миру. Он не живет, подобно животным, «то выходя за пределы своей среды, то возвращаясь в свою среду», но должен сперва найти для себя среду, создать ее. Человек есть существо, дистанцированное от самого себя, с трудом переносящее и самого себя, и свою эксцентричную позицию, которая делает его положение крайне противоречивым. Он ищет подходящую для себя позицию, устанавливает связи, но ему не удается полностью в них раствориться. Человек вновь и вновь разрывает эти связи, потому что изнутри осознает себя как рефлексирующее существо[186]. Его действия направлены внутрь мира, а саморефлексия – наружу, за пределы мира. Следовательно, он эксцентричен не только по отношению к миру, но и по отношению к самому себе. «Как «я», делающее возможным полное замыкание живой системы на саму себя, человек уже не стоит в «здесь и сейчас», а находится «за» «здесь и сейчас», «за» самим собой, не имеет места, располагается в ничто… Его существование поистине поставлено на ничто».
Эксцентричность положения человека означает следующее: человек вынужден в большей мере «переносить» жизнь, нежели быть «несомым» ее течением; или, если обратиться к позитивному аспекту этой ситуации: человек должен свою жизнь «вести». Человеческая жизнь подчиняется закону «естественной искусственности»[187].
В тридцатые годы изыскания в этом направлении продолжил Арнольд Гелен. Он тоже считал, что человек открыт миру, не приспособлен, не привязан инстинктивно к какой-то специальной окружающей среде. Эта неприспособленность могла бы уменьшить шансы человека на биологическое выживание, если бы не компенсировалась чем-то другим. То, чего человеку не хватает в природе, он должен восполнить культурой. Он должен сам создать себе подходящую для него окружающую среду. При этом он действует по принципу «освобождения от излишних тягот». Так как «делать» ему приходится очень много, он стремится формировать вещи и самого себя таким образом, чтобы «функционирование» вещей требовало от него минимальных затрат спонтанности, мотивационной и стимулирующей энергии. То есть человек пытается избавиться от свойственных ему эксцентричности и рефлективности, обустраивая свой жизненный мир так, чтобы этот мир освобождал его от тех самых «тягот», которые в философской традиции всегда считались воплощениями человеческого достоинства: спонтанности, рефлективности, свободы.
Жизнь бывает тем тягостнее, чем в большей мере человек является «внутренним человеком». Внутренняя жизнь человека, как правило, слишком слабо выражена, чтобы он мог «переносить» собственный мир, но все-таки выражена достаточно сильно, чтобы он ощущал необходимое овеществление и институционализацию общественного «жизненного мира» как предъявляемое к нему несправедливое требование и как «неправду». В конце концов человек, страдающий от «зияния» своей внутренней жизни, склоняется перед неизбежностью и позволяет цивилизации снять с себя тяготы бытия – даже если при этом он испытывает чувство утраты самого себя. Человек уходит в себя – и теряет мир; или он уходит в мир – и теряет себя. Для Гелена отсюда следует такой вывод: «Человек может поддерживать длительные отношения с самим собой и себе подобными только косвенным образом; он должен вновь находить себя на окольном пути, отчуждая самого себя, и здесь-то ему встречаются институты. Правда, все это… суть формы, произведенные людьми, в которых душевное… овеществляется, вплетается в ход вещей и именно поэтому упрочивается на длительный срок. Но, по крайней мере, людей сжигают и потребляют их собственные творения, а не, как это происходит с животными, дикая природа».
Гелен и Плеснер, как и Хайдеггер, исходят из представления о тягостном характере бытия и описывают порожденные культурой методы избавления от тягот как обусловленные элементарной необходимостью выживания. Правда, Хайдеггер также говорит о ближайшей и преобладающей «тенденции к упрощению и послаблению» (Бытие и время, 128). Однако, по его мнению, именно эта тенденция лишает человека способности к «собственному бытию». От того, как человек обращается с тягостным характером бытия – ищет ли освобождения от тягот или, наоборот, принимает тяготы на себя, – как раз и зависит, будет ли его бытие собственным (подлинным) или несобственным (неподлинным). В любом случае всякое стремление избавиться от тягот немедленно вызывает у Хайдеггера подозрение в том, что это есть маневр для бегства, уклонения, падения – то есть не что иное, как проявление «несобственности» (неподлинности). Собственно герой, подобно Атланту, несет на своих плечах тяжесть всего мира и при этом еще должен исхитриться идти прямо, не выпуская из виду своего дерзкого жизненного проекта.
Наряду со знаменитой главой о смерти, именно анализ подлинности и неподлинности обеспечил – в двадцатые годы – большой интерес читательской публики к этой трудной философской книге. Хайдеггеровский анализ неподлинного («несобственного») жизненного мира воспринимался как критика злободневной актуальности, хотя сам Хайдеггер всегда это отрицал. И все-таки картины современности – омассовления культуры и вытеснения городскими формами быта всех прочих, нервозной общественной жизни, мощной индустрии развлечений, лихорадочной повседневности, «фельетонистской» мелкотравчатости и фрагментарности духовной жизни – действительно угадываются за хайдеггеровским описанием присутствия, которое существует «способом несамостояния и несобственности»: «каждый оказывается другой и никто не он сам» (Бытие и время, 128).
Этот мир безликости другие авторы двадцатых годов иногда описывали еще более впечатляюще и точно. Например, Роберт Музиль в «Человеке без свойств»: « – Надо ценить, если у человека сегодня есть еще стремление быть чем-то цельным, – сказал Вальтер. – Этого больше нет, – ответил Ульрих. – Достаточно тебе заглянуть в газету. Она полна абсолютной непроницаемости. Там речь идет о стольких вещах, что это выше умственных способностей какого-нибудь Лейбница. Но этого даже не замечают; все стали другими. Нет больше противостояния целостного человека целостному миру, а есть движение чего-то человеческого в общей питательной жидкости»[188].
Или Вальтер Меринг в песне «Оп-ля, мы живы!»: «В отеле «Земля» очень славно, / Там ушлый народ живет: / Кривится, однако исправно / Тяготы жизни несет!» Или Викки Баум в своем популярном романе «Люди в отеле»: «Стоит вам уехать, как появляется другой и ложится на вашу кровать. Вот и все. Конец. Посидите-ка пару часов в холле и поглядите вокруг: да ведь у людей нет лиц! Они только манекены, куклы, все без исключения. Они все мертвы и совершенно не подозревают об этом…»[189]
Таким же муляжом является и хайдеггеровский Das Man (обезличенный человек): «Человек, отвечающий на вопрос о кто обыденного присутствия, есть тот никто, кому всякое присутствие в его бытии друг среди друга себя уже выдало» (Бытие и время, 128).
В отличие от процитированных выше описаний веймарского модерна, те, что были сделаны Хайдеггером, производят особо сильное впечатление именно из-за контекста, в который они помешены. Благодаря этому контексту тривиальное и повседневное переносится на фундаментально-онтологическую сцену. И оказывается, что оно играет главную роль в драме нашей экзистенции. Потому-то Хайдеггер и не хотел, чтобы его воспринимали как критика актуальной ситуации: критика имеет отношение к онтическому[190], он же желал заниматься онтологическими проблемами.
Эти никто появляются на хайдеггеровской сцене наподобие привидений. Они – маски, за которыми ничего нет. Нет никакой самости. Где же осталась самость? Можно ли считать «несобственность» (неподлинность) таким состоянием, которое возникает в результате отречения, отпадения или отчуждения от собственной самости? Ждет ли подлинная самость – внутри нас или где-то за кулисами мирового театра – того момента, когда она наконец сможет вновь реализовать себя? Нет, отвечает на оба эти вопроса Хайдеггер. «Несобственность» есть исходная форма нашего присутствия – причем не только в онтическом смысле, то есть в том смысле, что она широко распространена, привычна, но и в смысле онтологическом. Ибо несобственность – точно такой же экзистенциал, как и бытие-в. Мы всегда уже изначально находимся в той самой ситуации, в которой растворяемся, когда действуем. Это было разъяснено на примере «окружающего мира», но, конечно, относится также и к событию (с другими людьми), и к «бытию самости». Присутствие прежде всего и по большей части пребывает не само по себе, а «вне» себя, в той внешней среде, где оно занято своими делами и где сталкивается с другими людьми. «Ближайшим образом не «я» в своей самости «есть», но другие по способу людей… Ближайшим образом присутствие это человек людей и большей частью таким остается. Если присутствие собственно открывает и приближает к себе мир, если оно размыкает себе самому свое собственное бытие, то это открытие «мира» и размыкание присутствия совершается всегда как расчистка сокрытий и затемнений, как взлом искажений, какими присутствие запирается от самого себя» (Бытие и время, 129).
Мы уже знаем момент, когда взламываются искажения и размыкается «собственное бытие», – это момент ужаса. Мир теряет свою значимость, предстает как голое «что» на фоне ничто, а само присутствие вдруг ощущает себя бесприютным – не защищенным, не направляемым никаким объективным смыслом. То есть прорыв к «собственному бытию» происходит в результате шока, обусловленного обнаружением того факта, что «мир имеет характер полной незначимости» (Бытие и время, 186), что за всем этим ничего не кроется. Это решающее для «философии подлинности» переживание Хайдеггер еще более четко, чем в «Бытии и времени», описал в своей лекции, которая была прочитана в 1929 году, при вступлении в должность профессора философии Фрайбургского университета. Философия, сказал он, начинается лишь тогда, когда мы набираемся мужества, чтобы «не уклоняться от Ничто» (Что такое метафизика? ВиБ, 26). Оказавшись перед лицом Ничто, мы впервые замечаем, что не только представляем собой «нечто» реальное, но и являемся творческими существами, способными сделать так, чтобы из Ничто вышло нечто. Решающее же значение имеет то обстоятельство, что человек может осознать себя как «место», где из Ничто возникает Нечто, а из Нечто – Ничто. Именно ужас подводит нас к этому переломному моменту. Он размыкает для нас бытие-возможным (Бытие и время, 188), которое есть мы сами.
Хайдеггеровский анализ ужаса явно имеет своей темой не ужас смерти. Скорее можно сказать, что его тема – ужас перед жизнью, которая внезапно предстает перед человеком во всей своей полноте. Ужас открывает человеку, что повседневная жизнь непрерывно бежит от собственного своего содержания. В этом бегстве и состоит смысл всех попыток освоиться.
Можно подумать, что безличное Man («кто-то», «человек», «люди») в «Бытии и времени» относится только к обывателям, однако на самом деле под это определение подпадают и философы. Ибо философы – за что их и критиковал Хайдеггер – осваиваются в своих грандиозных умозрительных конструкциях, в своих ценностных системах и метафизических потусторонних мирах. Философия тоже по большей части занимается тем, что пытается справиться с шоком обнаружения полной незначимости мира или, что было бы еще лучше, вообще такого шока не допустить.
Теперь о самой «собственности» (подлинности). Она является отрицанием отрицания. Она сопротивляется склонности к бегству, к уклонению.
«Собственность» ни в чем не ищет опоры. Она просто означает возвращение к миру. «Собственность» не открывает никаких новых сфер вот-бытия. Все может – и скорее всего будет – оставаться таким, как было, только отношение ко всему этому изменится.
Если ужас есть переживание, инициирующее (вводящее) в «собственное» бытие, то знаменитое хайдеггеровское «бытие к смерти» (или: «забегание вперед к смерти», Vorlaufen zum Tod) уже означает реализацию «собственного» бытия. Поэтому Хайдеггер, когда возводил сложную композиционную структуру «Бытия и времени», поместил главу о смерти именно в тот раздел, где идет речь о «возможной целости присутствия» («целость присутствия» – еще один термин для обозначения «собственности»).
Характеризуя отношение к смерти, Хайдеггер для контраста опять – как и в случае с ужасом и страхом – анализирует не только онтологическое, но и повседневное понимание смерти, которое можно свести к формуле: «в конце концов человек смертен, но ты сам пока еще не задет» (Бытие и время, 253). То есть пока ты живешь, ты чаще всего воспринимаешь собственную смерть как нечто, что «вблизи для тебя самого еще не налично и потому не угрожает» (Там же).
С философской точки зрения было бы не особенно оригинально, если бы Хайдеггер попытался обогатить тысячелетнюю традицию memento mori еще одной проповедью, призывающей к покаянию и обращению. Он, кстати, намекает на эту традицию, цитируя позднесредневековую повесть Йоханнеса Тепла «Богемский пахарь»: «Едва человек приходит в жизнь, он сразу же достаточно стар чтобы умереть» (Бытие и время, 245).
Однако сам Хайдеггер хочет описать различные способы, какими смерть затрагивает нас в нашей жизни, феноменологически – причем используя для этого не эмоционально окрашенную речь, а тщательно разработанную, вещно-дистанцированную терминологию. И все же в этой главе чувствуется взволнованность автора, свидетельствующая о том, что мы находимся в «горячих зонах» его философствования. Смерть, говорит Хайдеггер, есть не конец жизни, а «бытие к концу»; смерть не просто предстоит нам как наш последний час, а присутствует внутри нашей жизни, поскольку мы знаем о неизбежности своей смерти. Смерть есть возможность, постоянно маячащая перед нами, – а именно, «возможность невозможности экзистенции вообще» (Бытие и время, 262). Хотя смерть затрагивает всех, каждый должен умереть своей собственной смертью. Человеку не поможет мысль о всеобщности этой судьбы. Смерть разобщает, даже если это массовая смерть. Пытаясь понять смерть как абсолютную границу, мы одновременно понимаем, что смерть есть граница понимания. Отсылка к смерти подразумевает конец всяких иных отсылок. Мышление о смерти есть окончание мышления. Думая о смерти, Хайдеггер хочет напасть на след тайны времени: ибо смерть – это не событие «во» времени, но конец времени. Как событие «во» времени смерть предстает только тогда, когда я узнаю о смерти другого. В таком случае я поддаюсь иллюзии «опространственного» времени. То есть мне кажется: временное пространство настолько обширно, что и после окончания жизни другого для меня еще найдется место в этом пространстве. Такие пространственные образы времени суть порождения «несобственного», неподлинного мышления о времени. Они возникают, потому что мы мыслим не собственно-время (Eigen-Zeit), думаем не о том факте, что вот через меня проходит необратимый поток времени, великое вперёд себя (Мимо). Несобственные пространственные образы времени изображают время как нечто наличное.
Напомню, что Хайдеггер отличал сущее в качестве экзистенции от наличного. В контексте анализа смерти это различие становится особенно значимым. Наличное есть не что иное, как «опространствленное» (Verraumlichte). Человеческое же присутствие – это заданное, вынесенное, прожитое до конца время. Наличествованию противостоит бытие «вперёд себя». Вещи пребывают «во» времени, тогда как присутствие имеет свое время, оно – присутствие – временит себя; а поскольку последнее обстоятельство противоречит потребности присутствия в безопасности и устойчивости, то существует мощная тенденция к самоовеществлению жизни. Человек хотел бы «покоиться» во времени так же, как покоятся в нем вещи. Утешительные мысли о бессмертии мобилизуют силу «упорствующего» пространства против устремленного «вперёд себя», протекающего «мимо» времени.
Сформулированный в самом начале книги вопрос о смысле бытия внезапно – в контексте мыслей о временности – предстает в новом свете. Мы вдруг понимаем, в каком смысле по большей части ставится вопрос о смысле бытия: он ставится как вопрос об упорствующем смысле или о смысле упорствующего. Мысль Хайдеггера обращена против этого упорствования, против того тайного и зловещего воздействия, которое оказывает на человеческое сознание пространство. Смысл бытия есть время, и это означает: бытие – не что-то застывшее, «упорствующее», а нечто устремленное «вперёд себя»; не наличествование, а событие. Это открытие – чуть ли не наивысшая степень самопрозрачности, какой только может достичь для себя присутствие. Если самосокрытие есть «несобственность», то достижение такого рода самопрозрачности есть, напротив, акт «собственного» бытия. Поскольку же философия Хайдеггера работает над тем, чтобы добиться этой самопрозрачности, она трактует саму себя как один из возможных актов «собственного» бытия.
Некоторые интерпретаторы «Бытия и времени» рассматривали хайдеггеровскую «философию подлинности» только как фундаментальную онтологию и пытались «очистить» ее от всякой этики – чтобы ни у кого не возникало подозрения о возможной взаимосвязи между этой «подлинностью», или «собственностью», и позднейшим сотрудничеством Хайдеггера с национал-социализмом. Однако сторонники такой позиции недопустимым образом преувеличивают формализм этой «философии подлинности». Сам же Хайдеггер объяснил, что в основе «концепции собственной экзистенции» лежит «фактичный идеал присутствия» (Бытие и время, 310).
Этот идеал определяется в первую очередь негативно. Присутствие подлинно только в том случае, если имеет мужество полагаться на самое себя, а не на «субстанциальную нравственность» (если воспользоваться выражением Гегеля) государства, общества и общественной морали; если умеет отказываться от тех способов облегчения тягот, которые предлагаются ему миром усредненных людей, если находит силы, чтобы вернуть себя из затерянности (Verlorenheit)[191]; если уже не играет с «бесконечной многосложностью подвертывающихся ближайших возможностей» (Бытие и время, 384), а хватается за ту возможность быть, которой является оно само.
Если Хайдеггер, великий интерпретатор Аристотеля, хотел противопоставить свою этику подлинности этике публичности, он должен был отмежеваться от аристотелевской традиции, которая включает и практическую этику публичной жизни. Аристотель, в противоположность Платону, вернул «философию добра» на почву общественной реальности своего времени. Он реабилитировал обыкновенное и привычное. С его точки зрения, человек может обрести нравственное благо, не отгораживаясь от общественно значимых ценностей, а, напротив, только опираясь на них.
Для Аристотеля и представителей восходившей к нему традиции – вплоть до последователей этического прагматизма и теории коммуникативного разума – исходным пунктом и ориентиром для определения удавшейся и этически ответственной жизни была именно та область, которую Хайдеггер называет миром людей (Man) или миром человеко-самости[192].
Когда самость высвобождает себя из безликого «человека вообще» и возвращается к себе самой – к чему она тогда приходит? Хайдеггер отвечает: к пониманию своей смертности и временности, ненадежности всех форм заботы о присутствии, продиктованных цивилизацией, но прежде всего – к осознанию «собственной способности быть», то есть к свободе в смысле спонтанности, инициативы, творчества[193]. К тому же, пусть и другими путями, хотел прийти Готфрид Бенн[194]. В его стихотворении «Пивная» есть такие строки: «Я позволю себе распадаться, / я дойду до последней черты, / и в развалинах, может статься, / час великий, мне явишься ты». По Бенну, возвращающееся к самому себе присутствие должно сперва «распасться, разрушиться»; по Хайдеггеру, оно должно вырвать себя из несобственного бытия, и тогда неизбежно окажется, что под ногами у него нет никакой твердой опоры, что перед ним разверста пропасть свободы, – но это будет его «великий час».
В 1929 году, в Давосе, во время знаменитого диспута с Кассирером, Хайдеггер скажет, что «человек лишь в крайне редкие мгновения экзистирует на острие своей собственной возможности» (Давосская дискуссия, 132).
Действительно, хайдеггеровская «подлинность» («собственный» способ бытия) подразумевает не столько благое и в этическом смысле правильное поведение, сколько открытие шансов переживания «великих моментов», наращивание интенсивности присутствия. Что же касается этики как таковой, то хайдеггеровские рассуждения на эту тему в «Бытии и времени» можно резюмировать одной фразой: делай, что хочешь, но решай, что тебе делать, сам, никому не позволяя принимать за тебя решения и, значит, освобождать тебя от ответственности. Марбургские студенты, которые в то время, пародируя Хайдеггера, говорили: «Я решился, вот только не знаю, на что», – очень хорошо вникли в суть хайдеггеровской концепции «решимости» (Entschlossenheit); а с другой стороны, все-таки поняли эту концепцию неправильно. Они были правы с той точки зрения, что Хайдеггер действительно призывал к «решимости», не раскрывая содержания того, на что следует «решиться», и даже не упоминая никаких ценностных ориентиров. Ошибались же в той мере, в какой, тем не менее, ожидали от его философии такого рода указаний и ориентиров. Хайдеггер хотел однозначно объяснить необоснованность подобных ожиданий. Ибо они, по его мнению, были характерны для «несобственного» способа философствования. Философия – не справочное агентство, выдающее рекомендации по нравственным вопросам; она (так, во всяком случае, считал Хайдеггер) есть работа по сносу и демонтажу якобы объективных этических постулатов. То, что остается после такой расчистки, и в самом деле представляет собой «ничто» – в сравнении с богатейшей традицией этической мысли.
Следуя доброму старому обычаю нравственной философии, Хайдеггер берется за исследование проблемы совести – но лишь для того, чтобы опять-таки указать на это «ничто», дать ему конкретные определения. Совесть призывает нас к собственному бытию, но не подсказывает, что мы должны делать, дабы обрести это собственное бытие. «Что совесть выкрикивает позванному? Беря строго – ничего… Окликнутой самости ничего не называется, но она вызывается к себе самой, т. е. к ее самой своей способности быть» (Бытие и время, 273).
Хайдеггер не боялся упрека в формализме. В лекциях «Пролегомены к истории понятия времени», прочитанных в Марбурге, он говорил о формализме нравственной философии Канта, который, как известно, не предложил никакой другой моральной максимы кроме той, что, действуя, необходимо уважать разум другого, то есть его свободу. В переводе на общедоступный язык это означает: не поступай с другими так, как ты не хочешь, чтобы поступали с тобой.
По аналогии с кантовским постулатом о необходимости уважать разум и свободу другого Хайдеггер разработал свой принцип взаимного уважения: «Сущее, к которому относится присутствие как событие, не имеет однако бытийного рода подручного средства, оно само присутствие. Этим сущим не озабочиваются, но заботятся о нем» (Бытие и время, 121).
Хайдеггер выражает эту мысль в описательной форме, но в действительности речь идет о требовании. Ведь слово «забота» (Fiirsorge) в данном контексте обозначает как раз не повседневный, обычный в обществе способ человеческого общения, а то, как люди «собственно» должны обращаться друг с другом: «Эта заботливость, сущностно касающаяся собственной заботы – т. е. экзистенции другого, а не чего, его озаботившего, помогает другому стать в своей заботе зорким и для нее свободным» (Бытие и время, 122).
Хайдеггер формулирует здесь, пусть и описательно, свой «категорический императив»: быть «собственным» значит, среди прочего, не превращать ни себя, ни другого в вещь, в средство. И даже «решимость на само себя» («решимость как собственное бытие-собой») связывается с нравственным требованием, опять-таки скрытым под описательной формулировкой. Эта решимость должна «позволить сосуществующим другим «быть» в их наиболее своей бытийной способности… Из собственного бытия-самости в решимости только и возникает собственная взаимность» (Бытие и время, 298).
Однако вопрос, в чем могла бы выражаться «собственная взаимность», пока остается столь же непроясненным, сколь и вопрос о собственном бытии самости. Единственное разъяснение, которое дает по этому поводу Хайдеггер, опять-таки имеет негативный характер. Взаимность, как и бытие самости, должна найти способ вырваться из «потерянности в людях»[195]. Но мыслимо ли коллективное «выламывание», высвобождение из несобственного бытия?
Хайдеггеровское различение «собственной» и «несобственной» человеческой взаимности часто сравнивали с противопоставлением «общины» и «общества» в книге Фердинанда Тенниса[196] «Община и общество (Теорема философии культуры)». Эта работа была опубликована в 1887 году, но поначалу не вызвала откликов. Зато в двадцатые годы она стала социологическим бестселлером, и именно из нее представители консервативного крыла в философии черпали важнейшие аргументы для своей критики современного массового общества. Согласно Теннису, община имеет большую ценность, чем общество. Община – это «живой организм», «длительная и подлинная» совместная жизнь людей. Общество же есть «механический агрегат и артефакт», оно обеспечивает лишь «преходящее и мнимое» сосуществование. В общине люди «объединены вопреки всему, что их разделяет», в обществе же, напротив, «разъединены вопреки всему, что их объединяет».
В действительности «собственная взаимность», о которой говорил Хайдеггер, не совпадает с общиной, какой она виделась Теннису. Ибо Теннис полагал, что индивид тянется к общине, так как хочет освободиться от бремени своей дистанцированности, от своего одиночества, от своей индивидуальности. Хайдеггеровское же «собственное» бытие подразумевает отказ от любого конформизма. Поскольку Хайдеггер говорит о незаменимости присутствия и придает решающее значение способности индивида к «собственному бытию», община, обладающая высокой степенью гомогенности, по логике вещей должна была бы казаться ему подозрительной. Хайдеггер и в самом деле сделает из своей этики «собственного» бытия иные политические выводы. Он поймет национал-социалистскую революцию как коллективное «выламывание» из «несобственности» и потому присоединится к этой революции. Однако такой выбор вовсе не является неизбежным следствием мировоззренческой системы «Бытия и времени». Другие люди делали на основании этой книги другие выводы. Фундаментальная онтология Хайдеггера и его «философия подлинности» достаточно неопределенны, чтобы допустить самые разные варианты политической ориентации. Примером тому могут служить «хайдеггерианцы» первого поколения – Герберт Маркузе, Жан Поль Сартр, Гюнтер Андерс, Ханна Арендт и Карл Лёвит.
Несомненно, однако, что в «Бытии и времени» Хайдеггер, несмотря на свою онтологию свободы, выступил как противник плюралистической демократии. И показал, что вообще не понимает принципа демократической публичности: «Она («публичность». – Т. Б.) ближайшим образом правит всем толкованием мира и присутствия и оказывается во всем права. И это… не потому, что она имеет в своем распоряжении отчетливо адекватную прозрачность присутствия, но на основании невхождения «в существо дела», потому что она нечувствительна ко всем различиям уровня и подлинности» (Бытие и время, 127).
То, что Хайдеггер ставит здесь в упрек демократической публичности, есть не что иное, как ее структурообразующий принцип. Действительно, эта система позволяет отстаивать любые мнения и идеи – независимо от того, имеют ли их поборники «в своем распоряжении отчетливо адекватную прозрачность присутствия» или нет. Для публичности этого типа характерно, что она, будучи «нечувствительной ко всем различиям уровня», предоставляет возможность высказаться даже заурядным, «усредненным» людям – в том числе и тем, которые не обладают «собственным» бытием. Такая система публичности (во всяком случае, по своей идее) является зеркальным отражением жизни, какой бы тривиальной и невзрачной – «несобственной» – эта жизнь ни была. Истины – при такой системе – вынуждены терпеть, что их низводят до уровня простых мнений на ярмарке мнений. Демократическая публичность и в самом деле есть ярмарочное поле, на котором привольнее всего чувствует себя Man, обезличенный человек.
Известно, что немецкие интеллектуалы из академических кругов, испытавшие на себе воздействие аполитичных или антидемократических традиций, лишь в редких случаях испытывали симпатии к веймарской демократии. Они презирали все то, что относилось к этой демократии: партийную систему, многообразие мнений и стилей жизни, релятивизацию так называемых «истин», непрерывно соперничающих друг с другом, усредненность и негероическую «нормальность». В этих кругах государство, народ, нация рассматривались как ценности, в которых еще продолжает жить пришедшая в упадок метафизическая субстанция: считалось, что государство, стоящее над партиями, действенно именно как облагораживающая народный организм нравственная идея; что лидирующие личности, обладающие харизмой, выражают дух народа. В том году, когда было опубликовано «Бытие и время», ректор Мюнхенского университета Карл Фосслер[197] выступил с критикой антидемократических настроений, бытовавших среди его коллег: «Все в новых и новых обличьях проявляется старое неразумие: поверхностные рассуждения о политике – метафизические, спекулятивные, романтические, фанатичные, абстрактные и мистические… Часто можно услышать сетования на то, как грязны, нездоровы и нечисты все политические дела, как лжива пресса, как фальшива деятельность кабинетов, как вульгарны парламенты и так далее. Очевидно, те, кто жалуется на все это, считают самих себя слишком возвышенными, слишком духовными, чтобы заниматься политикой».
Уверенный в «подлинности» своего бытия, Хайдеггер тоже считал себя стоящим над партиями и с презрением наблюдал за политической возней.
Но как он представлял себе в то время возможные способы преодоления «неподлинности» в политической сфере? «Бытие и время» еще не дает однозначного ответа на этот вопрос. С одной стороны, обращение к «подлинному» бытию в представлении Хайдеггера пока остается актом радикального обособления. Хайдеггер в этой связи цитирует графа Йорка фон Вартенбурга[198], соглашаясь с ним: «Государственно-педагогической задачей мог бы быть подрыв стихийного общественного мнения и какое только возможно поощрение образованием индивидуального взгляда и воззрения. Тогда вместо так называемой общественной совести – этого радикального отчуждения – снова вошла бы в силу индивидуальная совесть, т. е. совесть» (Бытие и время, 403).
С другой стороны, к основополагающим структурам бытия-в-мире относится и то обстоятельство, что человек укоренен в истории своего народа, в его судьбе (Geschick)[199] и его наследии (Erbe). А так как «подлинность» не представляет собой никакой особой сферы деятельности со специальными целеполаганиями и ценностями, но означает просто другую, измененную установку и позицию по отношению к любой жизненной сфере, то присутствие может включаться в эту судьбу народа как в «подлинном», так и в «неподлинном» смысле. Однако о том, в чем могла бы выражаться «подлинная» включенность в судьбу народа, в «Бытии и времени» ничего не говорится. В книге содержится лишь беглое указание: присутствие, в том числе и коллективное, может отыскать путь к «собственному», «подлинному» бытию не с помощью норм, конституций, институтов, а только обратившись к примерам , уже прожитой жизни, только благодаря тому, «что присутствие изберет себе своего героя» (Бытие и время, 385)[200]. И все же вопреки этим темным намекам на возможность коллективного пути к «собственному» бытию в «Бытии и времени» преобладает индивидуалистический подход к жизненным явлениям. Хайдеггер в одном месте даже называет его «экзистенциальным «солипсизмом»» (Бытие и время, 188). Каждый человек, сталкиваясь с решающими вопросами экзистенции, остается с ними один на один. Никакой народ и никакая коллективная судьба не могут освободить индивида от необходимости принимать самостоятельные решения относительно всего того, что касается его «собственной способности быть». Лучшее, что может сделать присутствие, столкнувшись с феноменом коллективной судьбы, – это «стать прозорливым для случайностей разомкнувшейся ситуации» (Бытие и время, 384)[201].
Хайдеггер подчеркнуто отвергает все проекты исторического действия, рассчитанные на длительный срок. В результате для него остается приемлемым только исторический окказионализм. С его точки зрения, следует «ловить момент», пользоваться «счастливыми» обстоятельствами.
Зачем, для чего?
Не ради какой-то отдаленной исторической цели; если вообще можно говорить о существовании какой-то цели, то цель эта и есть само мгновение. Речь идет об интенсификации ощущения собственного присутствия. «Подлинность» – это интенсивность, и ничто другое.
Хайдеггер пока находит свои мгновения повышенной интенсивности бытия главным образом в философии. Но пройдет немного времени, и это перестанет его удовлетворять – он станет искать такие мгновения также и в политической жизни.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Настроение времени: ожидание «великого мига». Карл Шмитт, Тиллих и другие. Присутствие духа. Решимость и Ничто. Освобождение от «школьной принудиловки». Заклинание присутствия. Ночная месса в Бойроне. Благоговение и дерзновенность. Зло. Великий спор в Давосе: Хайдеггер и Кассирер на Волшебной горе. Ночь и день.
«Бытие и время» было, так сказать, лишь торсом. Планировались еще две части. Но пока Хайдеггер не закончил даже первую, хотя под конец, подгоняемый сроками, работал над ней, не различая дня и ночи. Пожалуй, единственный раз в его жизни случилось так, что он не брился много дней подряд. Вновь и вновь обдумывал он все темы заявленных в «Бытии и времени», но ненаписанных глав. Набросок не вошедшего в книгу третьего раздела первой части (на тему «Время и бытие») он изложил еще летом 1927 года в рамках лекционного курса «Основные проблемы феноменологии».
Еще ненаписанную большую вторую часть «Бытия и времени» – по плану она должна была представлять собой деструкцию образцовых онтологий Канта, Декарта и Аристотеля – Хайдеггер в последующие годы переработал в отдельные статьи и лекции: в 1929 году вышла в свет работа «Кант и проблема метафизики»; в 1938-м он прочитал доклад «Время картины мира», содержавший критику картезианства; полемика с Аристотелем была продолжена в его лекциях тридцатых годов.
В этом смысле можно считать, что «Бытие и время» получило продолжение и даже было завершено. И так называемый «поворот», позже столь сильно мистифицированный последователями Хайдеггера, был запланирован еще в рамках этого проекта. В лекциях по логике, прочитанных в летнем семестре 1928 года, о «повороте» впервые говорится как о предстоящей задаче: «Аналитика времени одновременно является поворотом» (GA 26, 201).
Под поворотом имеется в виду следующее: аналитика присутствия сначала «открывает» время, но затем «поворачивается» назад, возвращаясь к собственному мышлению, – и теперь рассматривает его с точки зрения понятого ею времени. Мышление о времени приводит к пониманию временности самого мышления. Однако это понимание не предполагает анализа исторических обстоятельств – по мнению Хайдеггера, суть временности заключается вовсе не в них. Временность присутствия, как мы уже знаем, находит выражение в заботе. Заботясь, присутствие вживается в свой открытый временной горизонт, проявляет беспокойство и предусмотрительность, стараясь отыскать надежные опорные пункты в потоке времени. Такими опорными пунктами могут быть: работа, ритуалы, институты, организации, ценности. Однако для философии, которая «повернулась» к осознанию своей собственной временности, подобные опорные пункты неизбежно утрачивают всякую субстанциальную значимость. Ибо когда философия открывает существование потока времени, она уже не может не рассматривать саму себя как часть этого потока. А отказавшись поневоле от своих притязаний на универсализм и неподвластность времени, эта «повернувшаяся» философия обнаруживает, что если смысл бытия заключается во времени, то никакое бегство из времени в «надежное» бытие невозможно. Все пути к бегству отрезаны; философия больше не дает никаких ответов, отныне она может понимать себя только как озабоченное вопрошание. Философия есть не что иное, как забота в действии, или, как говорит Хайдеггер, самоозабочивание (Selbstbekummerung).
Претендуя на мудрость, философия выдает себя за нечто иное, нежели то, чем она является в действительности[202], – причем таким образом, что застигнуть ее на этом очень трудно. Хайдеггер хочет по ходу философствования разоблачать уловки философии[203]. Но что вообще может дать философия? Хайдеггер отвечает: обнаруживая во времени смысл бытия, она может обострить наше восприятие бьющегося сердца времени – мига. Поворот – это переход от бытия времени ко времени бытия. А «время бытия» балансирует на острие каждого мига.
Понятие «миг» у Хайдеггера имеет особый, патетический смысл. Оно подразумевает не ту банальную мысль, что текущее время всегда протекает через настоящее, через точку мига. Миг не просто «дан», он должен быть обнаружен – потому, что наше обычное отношение ко времени «перекрывает», подменяет феномен «миговости» (Augenblicklichkeit) бессодержательным и стабильным «и-так-далее». На самом же деле «миговость» – это не то, что само по себе имеет место, а одно из достижений присутствия, одна из добродетелей подлинности. «Миг есть не что иное, как взгляд решимости, в которой раскрывается и сохраняется раскрытой вся ситуация действия». Возможность подчиниться мигу, а значит, и необходимости принять решение, Хайдеггер называет «основной возможностью собственной экзистенции присутствия» (GA 29/30, 224).
Тот факт, что Хайдеггер «открыл» и особым образом выделил миг, хорошо вписывается в общую атмосферу лихорадочного любопытства и тяги к метафизическому экспериментированию, характерную для двадцатых годов. Все тогдашние философские определения временного перелома – от «тьмы пережитого мгновения» Эрнста Блоха до «мига решения» Карла Шмитта, от «внезапного ужаса» Эрнста Юнгера[204] до «кайроса» Пауля Тиллиха[205] – были, как и концепция Хайдеггера, так или иначе связаны с понятием мига, впервые введенным в философский контекст Кьеркегором.
Кьеркегоровский «миг» – это тот момент, когда Бог внезапно вторгается в жизнь и индивид чувствует, что призван принять решение: осмелиться на «прыжок» в веру. В такой миг историческое время, отделяющее этого индивида от Христа, становится незначимым. Тот, к кому обращены – как вызов – послание Христа и Его искупительное деяние, существует «в одном времени» с Христом. Вся культурная традиция, включающая в себя и религию (как культурное достояние и конвенциональную мораль), сгорает в этот миг предельного накала экзистенции. Со времени Кьеркегора слово «миг» стало лозунгом не приемлющих обывательского менталитета религиозных виртуозов вроде Карла Шмитта, заблудившегося со своей «мистикой мига» в политике и государственном праве, или Эрнста Юнгера, затерявшегося среди военных и сюрреалистов. Лживому «и-так-далее», выражавшему обывательский идеал стабильности, эти люди противопоставляли острое наслаждение интенсивной бесконечностью – наслаждение, длящееся не долее мига.
Миг, понимаемый таким образом, дает шанс контакта с «совершенно иным», предполагает иное переживание времени и переживание иного времени. Он обещает внезапные повороты и превращения, может быть, даже новое рождение и спасение – и в любом случае принуждает к принятию решения. В такой миг горизонтальное время разрезается вертикальным временем. Миг, как утверждал Рудольф Отто в своей книге «Святое», оказавшей большое воздействие на умы, есть субъективный временной эквивалент встречи с нуминозным. Тяга к нуминозному во всех его формах была характерной приметой духовной жизни двадцатых годов, изголодавшейся по интенсивности переживаний. Метафизический импульс преобразовывался в страх перед возможностью пропустить решающий миг. «Нормальные часы абстрактной эпохи взорвались», – писал Хуго Балль в «Бегстве из времени»; и, в ожидании «великого перелома», инсценировал в «Кабаре Вольтер» тысячи маленьких культурных переломов. Дадаизм был уникальной программой тренинга – подготовки к «великому мигу», который, как предполагалось, принесет с собой обновление всего и вся. Отсюда проистекало и специфическое нетерпение дадаистов. «Быть дадаистом – значит отдаваться во власть вещей, позволять им бросать себя как угодно, не позволять себе превращаться в осадочную породу: просидеть даже минуту на каком-то стуле – значит подвергнуть жизнь опасности…» («Дадаистский манифест»)[206]. В жизненной среде, дестабилизированной в духовном и материальном смыслах, величайшим идеалом является присутствие духа. Присутствие духа – это чутье на благоприятные шансы. О таком присутствии духа идет речь и в романе Кафки «Замок», написанном в начале двадцатых годов. Там упущенный шанс и недостаточное присутствие духа становятся метафизическим сценарием ужаса. Герой романа, землемер Йозеф К., проспал аудиенцию у управляющего замком, которая, вероятно, могла бы его спасти.
Представители «новой вещественности» с их пристрастием к сильно охлажденной метафизике тоже делали ставку на присутствие духа. Они ценили лишь то, что, с их точки зрения, оказывалось «на высоте своего времени». Для Брехта, например, культовой фигурой был боксер: атлет, обладающий присутствием духа. Хороший боксер инстинктивно чувствует, в какое мгновение ему следует пригнуться, а в какое – ударить. В фантазиях на тему мобильности, созданных сторонниками «новой вещественности», доминирует навязчивая идея о том, что человек может упустить свое время – так, как бывает, когда опаздываешь на поезд. В последние годы Веймарской республики получил распространение специфический тип диагностирования времени: историческую истину искали тогда не во временном континууме, а, напротив, в разрывах и переломах. Примеры тому – «Следы» Блоха, «Улица с односторонним движением» Беньямина[207], «Авантюрное сердце» Эрнста Юнгера. Все эти попытки анализа современной эпохи можно охарактеризовать словами Беньямина: ««Сейчас» познаваемости есть миг пробуждения». История подобна вулканическому кратеру: она не «происходит», а производит извержения. Поэтому надо мгновенно решать, где найти укрытие, чтобы тебя не засыпало обломками. Впрочем, тот, кто любит миг, не должен слишком заботиться о собственной безопасности. В опасные мгновения требуются «авантюрные сердца». Так как, по словам Освальда Шпенглера, «всемирная история идет от катастрофы к катастрофе», следует приготовиться к тому, что решающие события будут происходить «внезапно», «стремительно, как вспышка молнии, как землетрясение… Поэтому мы должны освободиться от тех воззрений прошлого столетия, которые заключены… в понятии «эволюция»».
Кьеркегор был одним из мыслителей XIX века, посвятивших XX век в мистерию мига. Другим таким мыслителем был Ницше. Для Кьеркегора «миг» означал вторжение в человеческую жизнь «совершенно иного». Для Ницше – выламывание человека из привычного для него образа жизни. В миг «великого разрыва», по Ницше, происходит рождение свободного духа: «Великий разрыв приходит внезапно, как подземный толчок: юная душа сразу сотрясается, отрывается, вырывается – она сама не понимает, что с ней происходит. Ее влечет и гонит что-то, точно приказание; в ней просыпается желание и стремление уйти, все равно куда, во что бы то ни стало; горячее опасное любопытство по неоткрытому миру пламенеет и пылает во всех ее чувствах. Внезапный ужас и подозрение против того, что она любила, молния презрения к тому, что звалось ее «обязанностью», бунтующий, произвольный, вулканически пробивающийся порыв к странствию»[208].
Миг Ницше – это предельная интенсивность, которая достигается не через соприкосновение с абсолютом, как у Кьеркегора, а посредством совершаемого самим человеком трансцендирования его собственного «я», то есть «великого разрыва». Это результат эндогенного процесса возникновения тепловой энергии. Процесса, осуществляемого без ориентации на высшие ценности, которые исчезли – ведь «Бог умер»! Интенсивность мига проистекает из свободы, из абсолютной спонтанности. Из Ничто. Конечно, подобные мгновения – исключения. Но только благодаря таким исключениям обнаруживается то, что в обычной, «регулярной» жизни остается сокрытым. «Нормальное ничего не проявляет, исключение проявляет всё… В исключении сила реальной жизни пробивает корку механики, затвердевшей из-за повторений».
Это слова из «Политической теологии» (1922) Карла Шмитта, настойчиво ратовавшего за решения, которые «с нормативной точки зрения рождаются из Ничто». По его мнению, сила, заключенная в решении, не имеет иного фундамента, кроме воли к власти[209]; на место легитимности он поставил интенсивность порождающего решение мига. Эту теорию решения, с нормативной точки зрения возникающего из Ничто, Пауль Тиллих в 1932 году охарактеризовал как «политический романтизм», содержащий в себе требование «сотворить мать из сына и вызвать отца из Ничто». Для Карла Шмитта государство есть установившееся на длительное время нуминозное «исключение»: такой огосударствленный священный миг Шмитт называет «суверенитетом». Предложенное Шмиттом отточенное определение суверенности гласит: «Суверен – это тот, кто решает на основании исключения»[210]. Карл Шмитт отдавал себе отчет в том, что в разработанном им понятии суверенитета наличествует теологическое содержание: «Исключение имеет для юриспруденции такое же значение, как для теологии – чудо». В чуде раскрывается суверенитет Бога, в исключении, чрезвычайном положении – суверенитет государства.
Любители «великих мгновений» в Веймарской республике почти все были проповедниками Ничто, апостолами, которые не могли принести людям никакой благой вести; они подменяли содержание позой.
Миг Хайдеггера – миг, когда присутствие возвращается из рассеяния к себе самому, – тоже можно назвать «исключением», пробиванием «корки механики, затвердевшей из-за повторений» (Карл Шмитт). Но одновременно это и «миг» в понимании Ницше и Кьеркегора: момент, когда что-то вторгается, «вламывается» в жизнь и что-то «выламывается» из нее. Все дело в том, как объяснял Хайдеггер в лекционном курсе «Основные понятия метафизики» (1929/30 учебного года), что человек должен допустить в свою жизнь миг «внутреннего ужаса», который «привносится любой тайной и который придает присутствию его величие» (GA 29/30, 244).
Между тем Хайдеггер вернулся во Фрайбург. В 1928 году ему предложили занять освободившуюся кафедру Гуссерля. Сам Гуссерль высказался за то, чтобы Хайдеггера сделали его преемником.
В статьях и лекциях Хайдеггера, относящихся ко времени после 1928 года, – в лекции «Что такое метафизика?», прочитанной в 1929 году при вступлении в должность профессора философии во Фрайбурге, в докладах «О существе основания» (1929) и «О сущности истины» (1930), но прежде всего в лекционном курсе «Основные понятия метафизики» (1929-1930) – явственно различим новый тон. И повышенный эмоциональный накал. «Новая вещественность» наконец проникла и в труды Хайдеггера. Через его холодноватые, чуть ли не инженерные фундаментально-онтологические описания теперь как бы пропускается экзистенциальный ток. Хайдеггер начинает с того, что пытается распалить воображение своих слушателей.
В период подготовки цикла лекций 1929-1930 годов он писал Элизабет Блохман: «Мои «Лекции по метафизике» стоят мне немалых трудов, но в целом мне сейчас работается свободнее. Школьная принудиловка, фальшивое наукообразие и все, с этим связанное, от меня отпало» (18.12.1929, BwHB, 34).
Что же произошло?
Еще в лекции 1928 года «Метафизические начальные основы логики» Хайдеггер, обобщая «результаты» работы над «Бытием и временем», подчеркивал, что экзистенциальный анализ есть не что иное, как чистое описание, что он говорит об экзистенции, а не обращается к ней самой. «Следовательно, аналитика присутствия предшествует всякому проро-чествованию и мировоззренческой проповеди; не является она и мудростью» (GA 26, 172); она есть именно аналитика, и не более того.
Анализ присутствия не претендует ни на одну из двух ролей, на которые Аристотель указывал как на основные возможности этического мышления. Такой анализ – и не «софия» (мудрость), и не «фронезис»[211] (практический ум, «знание употребления» всякой вещи). Он – не мировоззренческая проповедь, поучающая человека, как ему должно вести себя во времени и по отношению ко времени. Но и не мудрость, которая смотрит на вещи с точки зрения, лежащей по ту сторону турбулентного потока времени. Этот анализ не имеет ничего общего ни с «вечными истинами», ни с умными изречениями, касающимися ограниченных во времени явлений.
Анализ присутствия должен всего-навсего показать, как обстоит дело с присутствием в целом, и лекция 1928 года, не боясь упрощений, сводит полученные результаты к нескольким кратким тезисам.
Во-первых, присутствие фактически поначалу всегда бывает рассеяно в своем мире (в теле, природе, обществе, культуре).
Во-вторых, это рассеяние вообще не могло бы быть замечено, если бы не имелось «изначальных позитивности и мощи» присутствия – того, что теряется в рассеянии, но может и вызволить себя оттуда. Без изначальной мощи не было бы ничего, что могло бы рассеяться. Драматичное «фундаментальное событие» (Grundgeschehen) присутствия разыгрывается в промежутке между изначальным происхождением и рассеянием, причем парадоксальным образом рассеяние является более изначальным, чем изначальная мощь, которой человек никогда не обладает, но всегда только обретает, завоевывает ее – возвращая из рассеяния.
В-третьих, чтобы произошло это возвращение из рассеяния, необходим импульс со стороны очевидности, миг истинного чувства: по Хайдеггеру, таким чувством является настроение ужаса или томительной скуки. Именно в этом настроении становится слышимым зов совести, побуждающий присутствие вернуться к самому себе.
В-четвертых, это колебание между рассеянием и собиранием, между великими мгновениями и повседневными заботами делается зримым только тогда, когда удается охватить одним взглядом «присутствие как целое». Колебание туда и сюда между рассеянием и изначальным истоком как раз и составляет это целое – больше ничего нет.
В-пятых, такой взгляд на целое возможен только «на основании предельной экзистенциальной вовлеченности (Einsatz)» самого философствующего (GA 26, 176). Тот, кто занимается фундаментальной онтологией, может экзистенциально анализировать только то, что он сам экзистенциально пережил.
Что может «вовлечь» в процесс познания тот, кто философствует? Ответ: свои собственные ужас и скуку, свой собственный слух, улавливающий зов совести. Философствование, которое не начинается с мгновений истинного чувства, лишено корней и беспредметно.
Что бы конкретно ни подразумевалось под этой «предельной экзистенциальной вовлеченностью», очевидно одно: «анализ присутствия» (в хайдеггеровском смысле данного термина) может быть понят только в том случае, если и со стороны слушателя/читателя будет проявлена такая же вовлеченность. Хайдеггеру, видимо, каким-то образом удавалось провоцировать своих студентов на «экзистенциальную вовлеченность». Он не мог просто говорить «об» экзистенции, но должен был пробуждать «изначальные позитивность и мощь» в других человеческих присутствиях. Тот, кто хочет слушать и, более того, понимать, должен чувствовать. Философ не может ограничиться тем, чтобы «описывать сознание человека», – он обязан овладеть искусством «заклинать в человеке его присутствие». Это значит: перспективы фундаментальной онтологии вообще открываются «только в процессе преобразования человеческого присутствия и из такого преобразования». Короче говоря: для того, чтобы хоть как-то понять экзистенциальную аналитику, требуется экзистенциальная ангажированность. Хайдеггеру предстояло найти путь, провоцирующий слушателей на мгновения истинных чувств. Он должен был, так сказать, инсценировать эти чувства. И он найдет такой путь – путь инициаций, экзерсисов и медитаций, свободный от «школьной принудиловки» и «фальшивого наукообразия». Мгновения истинных чувств – ужаса, скуки, зова совести – должны быть разбужены в слушателях, чтобы могла заявить о себе неразрывно связанная с этими мгновениями «тайна присутствия». Новый стиль Хайдеггера – философия-событие. Философия должна «наколдовать», «вызвать заклятием» тот феномен, толкованием которого она затем будет заниматься. Например, она должна внушить присутствию страх, ввергнуть его в ужас, погрузить в скуку – чтобы затем ждать, когда присутствие сделает открытие, осознав: то, что загоняет его в эти настроения, есть Ничто.
Этот новый тон экзистенциальной «философии действия» в то время производил сильнейшее впечатление на слушателей. Генрих Виганд Петцет, которому в студенческие годы довелось присутствовать на лекции «Что такое метафизика?», прочитанной Хайдеггером при вступлении в должность профессора во Фрайбургском университете, рассказывает: «Было так, будто гигантская молния расколола затянутое темными тучами небо… в почти болезненной ясности обнажились все вещи мира… речь шла не о «системе», а о самой экзистенции… Выходя из аудитории, я почувствовал, что лишился дара речи. Мне показалось, что на мгновение моему взгляду раскрылось основание мира…»
Так оно и было: Хайдеггер хотел заставить своих слушателей на мгновение увидеть «основание мира».
Основание, обоснование, все эти разговоры о достаточном основании и научной позиции, наконец, повседневное ощущение жизни – куда ни посмотри, повсюду заявляет о себе потребность в стоянии на твердой земле. Хайдеггер с оттенком легкой иронии напоминает о различных вариантах прочности и устроенности. И между прочим спрашивает: а как обстоит дело с Ничто? Не должен ли тот, кто задает радикальный вопрос об основании и основах, рано или поздно открыть, что основание (Grand) на самом деле есть бездна (Abgrund)? Что Нечто может выделиться и быть замеченным нами только на фоне Ничто?
На какое-то время Хайдеггер предоставляет слово позитивистам – представителям конкретных наук и логикам, – которые, как известно, вообще не хотят ничего знать о Ничто. Ученый всегда имеет дело только с Нечто, логик же указывает на то, что «Ничто» есть лишь языковой трюк, а именно, субстантивация негативного суждения, отрицания (такого, например, как «Цветок не желтый» или «Он не пришел домой»). Эти нелепые доводы против существования Ничто дают Хайдеггеру повод говорить о внутренней омертвелости и неукорененности современных наук. Они отгораживаются от элементарного опыта. «Сама идея «логики» расплывается в водовороте более изначального вопрошания» (Что такое метафизика? ВиБ, 23). Хайдеггер идет по следу Ничто. Но он не может просто посредством каких-то аргументов указать на Ничто, он должен заставить своих слушателей пережить Ничто. Такое переживание рождается в миг ужаса, о котором мы уже говорили. «Ужасом приоткрывается Ничто. В ужасе «земля уходит из-под ног». Точнее: ужас уводит у нас землю из-под ног, потому что заставляет ускользать сущее в целом» (там же, 21).
Это ускользание одновременно подавляет и опустошает. Опустошает потому, что всё вокруг теряет свое значение и становится ничтожным. Ужас опустошает, и эта пустота теснит, подавляет, наседает на нас: у нас сжимается сердце. Внешний мир овеществляется, застывает в безжизненности, а внутреннее «я» теряет свой центр активности, деперсонализируется. Ужас есть овеществление снаружи и деперсонализация внутри. «Отсюда и мы сами – вот эти существующие люди – с общим провалом сущего тоже ускользаем сами от себя. Жутко делается поэтому в принципе не «тебе» и «мне», а «человеку»» (там же).
У этой нулевой отметки ужаса Хайдеггер совершает ошеломляющий поворот. Мгновенное погружение в Ничто он называет «выступлением за пределы сущего» (там же, 22). Такое выступление есть акт трансцендирования, который впервые открывает перед нами возможность говорить о сущем как о целом. Конечно, мы можем рассуждать на тему «целого» и абстрактно. Мы тогда чисто умозрительно сконструируем понятие высшего порядка, собирательное понятие: Шит, «целое». Но «целое», понятое таким образом, не будет обладать в наших глазах свойствами переживаемой реальности, останется понятием без содержания. Только когда появляется ужасающее чувство того, что Ничто принадлежит к самой основе сущего, это сущее становится переживаемой реальностью – реальностью, которая не приходит к нам, а, напротив, ускользает от нас. Тот, кто ужасается ускользанию реальности, переживает в этот момент драму отстояния, дистанцированности. Внушающее ужас ощущение дистанцированности показывает, что мы не вполне принадлежим к этому миру, что нас что-то гонит, выталкивает за его пределы – причем не в другой мир, а в пустоту. В самой жизни мы окружены пустотой. В трансцендентности этого пустого пространства, раскрывающегося между нами и миром, мы переживаем «выдвинутость нашего бытия в Ничто» (там же, 24). Каждый вопрос, начинающийся с «почему», подпитывается предельным вопросом: почему вообще есть Нечто, а не, наоборот, Ничто? Тот, кто способен думать, на время исключив из своего мышления себя самого или мир, кто способен сказать «нет», действует в измерении ничтожения. Он доказывает, что Ничто действительно существует. Человек, по словам Хайдеггера, есть «заместитель Ничто» (там же).
Итак, трансцендентность человеческого присутствия – это Ничто.
Те из представителей «философии мига», что были людьми религиозными, полагали: в такой миг человеку являет себя нуминозное (Рудольф Отто), или «Безусловное»[212] (Пауль Тиллих), или «царство Божие» (Карл Барт), или «объемлющее»[213] (Карл Ясперс). Миг Хайдеггера тоже ведет к трансцендентности, но к трансцендентности пустоты. К трансцендентности Ничто. И все же сила нуминозного не исчезла. Она исходит из особого рода колебания между Ничто и Нечто – колебания, которое человек способен производить посредством своего сознания. Это и есть его нуминозное пространство, которое позволяет ему переживать то чудо, что вообще существует нечто, именно как чудо. И это еще не все – столь же удивительной в свете всего вышесказанного представляется творческая потенция человека. Человек способен что-то создавать; он изначально обнаруживает себя как данность, вместе с набором данностей для своего такого-то и такого-то бытия, – и тем не менее он может формировать себя и свой мир, может «наращивать» бытие или, напротив, разрушать его. В состоянии ужаса перед пустотой человек теряет привычный ему мир и вместе с тем узнает, что из Ничто всегда рождается новый мир. Пройдя через ужас, человек может вновь вернуться к миру.
Присутствие означает следующее: экзистировать в этом свободном пространстве, на этом открытом просторе. Свободное пространство открывается в опыте переживания Ничто. Колесо может вертеться потому, что не вплотную прилегает к оси, у него имеется люфт, – присутствие тоже все время находится в движении, потому что обладает люфтом, то есть свободой. К этой свободе относится не только то, что присутствие узнает на собственном опыте о существовании Ничто, но и то, что оно может расчистить для себя место, утвердив свое «нет» в «жесткости действия наперекор» или в «режущей остроте презрения», в «муке несостоятельности» или в «беспощадности запрета» (там же, 24).
В «Нет» и «Ничто», по мнению Хайдеггера, заключена великая тайна свободы. Ибо это пространство между Ничто и Нечто, которое открывается в присутствии, как раз и дает свободу, необходимую для того, чтобы разделять, различать и решать. «Без исходной открытости Ничто нет никакой самости и никакой свободы» (там же, 22).
Следовательно, метафизическое фундаментальное событие человеческого присутствия состоит вот в чем: поскольку присутствие может трансцендировать в Ничто, оно может также воспринять все сущее в его целостности как нечто такое, что из ночи Ничто вступает в освещенное пространство бытия.
Летом 1929 года, через несколько недель после доклада «Что такое метафизика?», Элизабет Блохман навестила Хайдеггера в Тодтнауберге. Между ними складывались пока еще сдержанные отношения влюбленности. В конце того же лета Ханна Арендт в письме Хайдеггеру призналась, что он по-прежнему остается «непрерывностью» ее жизни, и «дерзко» напомнила ему о «непрерывности нашей, – пожалуйста, позволь мне так сказать, – любви». Теперь, значит, Элизабет Блохман… Хайдеггер оказался между двумя женщинами. Он извиняется перед Элизабет Блохман за то, что посягнул на «границу… [их] дружбы», «принудив ее [Элизабет] к чему-то такому», что должно было быть ей «неприятно». Хайдеггер мог обидеть Элизабет Блохман либо тем, что пожелал слишком большой близости с ней, либо, наоборот, тем, что не захотел такой близости. Его невнятное письмо от 12 сентября 1929 года допускает оба толкования. В письме упоминается их совместная поездка в Бойрон. Они посетили церковь тамошнего аббатства бенедиктинцев. И весь день разговаривали в основном на религиозные темы. Хайдеггер объяснял Элизабет свое отношение к Католической Церкви. В письме он напоминает об этом разговоре. Истина, пишет Хайдеггер, «совсем не простая вещь». Чтобы она могла открыться, требуются «особый день и час, когда мы полностью овладеваем своим присутствием». И далее: «Бог – или как там его называют – обращается к каждому другим голосом». Человек не должен приписывать себе какое бы то ни было право распоряжаться истиной. Никакие институты и никакие догмы не способны ее хранить, ибо все они – «бренные конструкции». Затем Хайдеггер переходит к той ситуации, которая, вероятно, и вызвала раздражение Элизабет Блохман – так как не состыковывалась с долгим разговором, который они вели на протяжении дня. Дело в том, что они вместе присутствовали на всенощной в церкви аббатства, и Хайдеггер был совершенно захвачен происходившим – к удивлению Элизабет, которая все еще не забыла его резкой критики в адрес католицизма. В этом письме он старается объяснить, что именно тогда чувствовал. И пишет, что бойронское переживание «подобно зерну разовьется в нечто существенное».
Его попытка описать это существенное кажется чуть ли не парафразом центральной идеи доклада о метафизике – или, может быть, лучше сказать: доклад о метафизике представляет собой парафраз переживания, испытанного Хайдеггером во время ночного богослужения в Бойроне. В письме говорится: «То, что человек каждодневно вступает в ночь, нынешним людям представляется банальностью… А ведь во всенощной еще ощутима мифическая и метафизическая первобытная сила ночи, сквозь которую мы постоянно должны пробиваться, чтобы взаправду существовать. Ибо добро – это только добро зла».
Эта всенощная стала для Хайдеггера символом «выдвинутости экзистенции в ночь и внутренней необходимости быть каждодневно готовым к ней [ночи]».
И затем Хайдеггер связывает это переживание со своей философией Ничто: «Мы воображаем, будто сами творим существенное, и забываем, что оно прирастает только тогда, когда мы всецело – а это значит, перед лицом ночи и зла – живем, следуя своему сердцу. Решающее значение имеет этот первобытной силы негатив: поставить ничто на пути глубины присутствия. Именно этому мы должны конкретно учиться и этому учить».
И все же в одном важном аспекте это письмо выходит за пределы тематики доклада: в нем идет речь о ночном измерении бытия – измерении, о котором в докладе о метафизике, посвященном Ничто, ничего не говорилось. Дело в том, что в докладе это Ничто еще не связывалось так однозначно, как в письме, со злом. В письме сказано: мы должны жить, «всецело – перед лицом ночи и зла – следуя своему сердцу». Не потому ли Хайдеггер именно в письме к Элизабет Блохман заговорил о присущем Ничто аспекте зла, что не мог не видеть в себе самом соблазнителя? Как бы то ни было, здесь в его размышлениях о Ничто слышится лейтмотив христианско-гностической метафизики, которая для него, разумеется, еще оставалась живой традицией.
В этой традиции сохранялось знание того, что зло есть неотъемлемая часть conditio humana. Эта традиция, линия которой тянулась от апостола Павла через святого Августина и Лютера и вплоть до Канта, не забывала, что каждое размышление – не важно, направлено ли оно на понимание целостного бытия, морали или политики, – рождается из той (являющейся фундаментом для всего на свете) ночи, которую называют «хаосом», или «злом», или даже так: «Ничто». И каждое яркое свечение мышления и цивилизации рассматривали на этом фоне. Такие свечения приходили из ночи и были обречены на то, чтобы опять погрузиться в ночь. Люди были готовы к тому, что даже в те фазы цивилизации, которые кажутся стабильными, в любой момент может вновь разверзнуться бездна искушения, разрушения и уничтожения. Для раннего христианства, еще находившегося под сильным влиянием гностического мышления, вопрос о зле в мире был почти идентичен вопросу: что есть мир? Определения мира и зла приблизительно совпадали. В ту эпоху, когда родился Христос, на некоторое время был найден мощный по своему воздействию ответ на вопрос о существовании зла в мире: а именно, вера в то, что мы, хотя и присутствуем в сем мире, к нему не принадлежим. Ранние образы дьявола с их пластичностью и наглядностью были простонародными способами выражения тайны и не могли затушевать ее сути: зло считалось таким же непостижимым, как и Сам Бог. Может быть, даже еще более непостижимым, потому что зло не образует никакого порядка, а является отрицанием такового. Казалось, рассудок не способен проникнуть в подобные глубины, и потому люди поначалу воздерживались от попыток понять и объяснить зло. Говорили, что нужно просто противостоять злу и полагаться на милость Господню. Правда, в связи с этим возникла серьезная проблема: было неясно, как вообще всемогущий Бог мог допустить существование зла. Проблема оказалась столь весомой, что вся философия и теология Средневековья не смогли ее разрешить. И эта проблема теодицеи, то есть оправдания Бога, допустившего существование зла в мире, держала мышление в своем плену вплоть до современной эпохи, когда она, секуляризировавшись, превратилась в проблему антроподицеи.
Старая метафизика пыталась справиться с проблемой теодицеи посредством углубленных размышлений о человеческой свободе. Утверждалось, что Бог, творец мира, не мог сделать человека богоподобным иначе как даровав ему свободу. От свободы человека проистекает приходящее в мир зло; или, точнее: свобода есть то «незащищенное» место в творении, через которое прорывается зло, лежащее – как Ничто или хаос – в основе мироздания. Уже для тогдашнего мышления человек – именно потому, что он свободен и способен к творческой активности, – был «заместителем Ничто».
Хайдеггер будет вновь и вновь полемизировать с этим ходом рассуждений, особенно в своих интерпретациях трактата Шеллинга о свободе[214], который целиком принадлежал к охарактеризованной выше традиции. Соображения Хайдеггера по поводу этой работы то и дело «выдают» его, показывая, насколько близко он знаком с метафизикой Ничто, под которым понимается, среди прочего, и искушение Злом.
В докладе о метафизике, в отличие от письма, вопрос об этической значимости рассуждений о Ничто и ночи вообще не затрагивается. Письмо же (с его странным высказыванием: «добро – это только добро зла») заостряет внимание именно на нравственной проблематике, на вопросах о том, как можно вырвать у зла добро, как человек выдерживает ночь и потом вновь находит обратный путь к свету дня. В докладе Хайдеггер говорил о предрасположенности присутствия к тому, чтобы скрывать от себя самого бездну Ничто, довольствуясь видимостью надежности и защищенности. Ужас, по выражению Хайдеггера, в обыденной жизни спит (Что такое метафизика? ВиБ, 24). Философ же призывает к «дерзновенному человеческому бытию» (там же), которое захватывает опасное пространство свободы. Человек должен пройти через ужас, прежде чем он обретет силы для «избавления от божков, которые у каждого есть и у которых каждый имеет обыкновение прятаться» (там же, 26).
В переводе на язык нравственных понятий проблема, поставленная в докладе о метафизике, звучала бы так: речь идет не только о сопротивлении злу; прежде всего человек должен вообще заметить, что существует это зло, эта ночь в нас и вокруг нас. Проблема заключается в безликой одномерности нашей культуры, в том, что мы чувствуем себя защищенными от всего бездонного и злого. Современный человек, говорится в письме Хайдеггера, превращает ночь «в день, как он понимает день, делая ее продолжением деловой активности и чувственного угара».
Если бы Хайдеггер в своем докладе о метафизике действительно говорил не о Ничто, а о зле, то его призыв обратиться к Ничто и пройти через него приобрел бы оттенок переливчатой двусмысленности. Притягательность Ничто объяснялась бы тогда, среди прочего, и тем, что человек, изголодавшийся по интенсивности переживаний, забывший о нравственности, охотно предается злу как особенно влекущему «дикому» опыту – идея вполне в духе Эрнста Юнгера, в те же годы открыто пропагандировавшего революционный нигилизм. «Одно из средств подготовки к новой, проникнутой большей отвагой жизни, – писал Юнгер в 1932 году в своем эссе «Рабочий», – состоит в отвержении оценок освободившегося и ставшего самовластным духа, в разрушении той воспитательной работы, которую провела с человеком бюргерская эпоха… Лучший ответ на измену, которую дух совершает по отношению к жизни, – это измена духа по отношению к «духу», и участие в этой подрывной работе входит в число возвышенных и жестоких наслаждений нашего времени»[215].
Призывая к «дерзновенному человеческому бытию», Хайдеггер действительно двигался в сходном направлении – и все-таки речь в его докладе идет не о мужестве, потребном для совершения зла, не об инфернальном восторге, порождаемом воинственной, анархической, авантюристической аморальностью, а «только» о мужестве перед лицом Ничто. Человек как «заместитель Ничто», каким его видел Хайдеггер, наверняка не был похож на того воителя, которого описал Эрнст Юнгер. Но как иначе можем мы его себе представить? Давайте теперь поднимемся на ледяные высоты Давоса, где весной 1929 года, в рамках давосской Недели высшей школы, состоялось легендарное совместное выступление Мартина Хайдеггера и Эрнста Кассирера[216]. Тот и другой прочитали перед приглашенной из разных стран публикой по несколько докладов. Кульминацией недели стала дискуссия между двумя учеными. Это было действительно большое событие. Съехались представители международной прессы. Каждый, кто считал себя философом, слушал эту дискуссию или, по крайней мере, читал отчеты о ней в прессе, поскольку радиотрансляции подобных мероприятий тогда еще не вошли в моду. Мартин Хайдеггер к тому моменту одолел, если можно так выразиться, первый горный пик своей славы. Кассирер также был восходящей звездой и пользовался огромным уважением. Его главная работа, «Философия символических форм», монументальный труд по философии культуры, публиковалась в двадцатые годы. Кассирер, вышедший из школы неокантианства, освободился от узости в постановке вопросов, свойственной традиционной теории научного познания, и в этой работе осуществил прорыв к всеобъемлющей философии творческого духа человека. Кассирер имел возможность пользоваться для своих исследований гигантским собранием материалов библиотеки Аби Варбурга[217] в Гамбурге. Кассирера считали великим представителем гуманистической традиции и культурного идеализма, ориентированного на универсальные ценности. В 1929 году, вскоре после давосской «встречи в верхах», он принял пост ректора Гамбургского университета – это был первый случай, когда еврей возглавил немецкий университет. Случай тем более примечательный, что очень скоро Кассирер, к неудовольствию реакционного профессорского большинства, публично выступил в защиту республики. Выполняя просьбу ученого совета Гамбургского университета, он произнес в городской ратуше праздничную речь по случаю Дня конституции. Вопреки распространенному в профессорских кругах мнению о «негерманском» характере республиканско-парламентской конституции, он привел доказательства того, что республиканизм был заложен уже в философии Лейбница и Вольфа и нашел свое полное выражение в сочинениях Канта о мире между государствами. «Фактом является то, – сказал Кассирер, – что идея республиканской конституции как таковая в целостности германской духовной истории отнюдь не представляет собой что-то чужеродное и, тем более, привнесенное извне; она, напротив, взросла на собственной почве этой истории и была вскормлена ее исконными силами, силами идеалистической философии».
Эта речь вызвала в Гамбурге протесты и стала предметом полемики. Обходительный Кассирер неожиданно оказался в центре ожесточенной борьбы, а его избрание на пост ректора приветствовалось во многих городах Германии как триумф либерального духа. Кассирер действительно был патриотом-конституционалистом.
Этого-то рыцаря политического гуманизма и идеалистической философии культуры организаторы семинара в Давосе и пригласили на роль оппонента Мартина Хайдеггера, который, со своей стороны, был поборником нового, революционного направления в философии. Участники давосской встречи невольно вспоминали о легендарных диспутах Средневековья, на которых вступали в поединок представители самых мощных духовных течений эпохи. Им мнилось, что на сверкающих снежных вершинах Давоса они слышат звон метафизических клинков. Но напрашивалась и другая ассоциация – уводившая не в глубь времени, а в пространство воображения.
Именно на высотах Давоса вели свои нескончаемые споры герои «Волшебной горы», романа Томаса Манна, опубликованного в 1924 году: гуманист Сеттембрини и иезуит Нафта. Эти дебаты стали архетипами той духовной борьбы, которая составляет содержание современной эпохи. На одной стороне – Сеттембрини, нераскаявшееся дитя Просвещения, либерал и антиклерикал, гуманист, наделенный неисчерпаемым даром красноречия. На другой – Нафта, апостол иррационализма и инквизиции, влюбленный в эротику смерти и насилия. Для Сеттембрини дух есть не что иное, как сила жизни, данная человеку ради его пользы и блага; Нафта, напротив, любит дух вопреки жизни. Сеттембрини хочет возвысить людей, утешить их, расширить горизонты их сознания; Нафта же стремится вселить в них страх, спугнуть с комфортного гуманистического «ложа», изгнать из надежных убежищ, которые создает образование, сломать хребет их самомнению. Сеттембрини желает людям добра, Нафта – своего рода метафизический террорист.
Участники давосской Недели и в самом деле не могли не уловить аналогии между тем, что происходило на их глазах, и этим воображаемым событием. Курт Рицлер[218], в то время куратор Франкфуртского университета, который в Давосе сопровождал Хайдеггера во время лыжных вылазок в горы, в своем репортаже для «Нойе Цюрхер цайтунг» (утренний выпуск от 30 марта 1929 года) обыгрывал эпизоды из «Волшебной горы».
Так что же, за Кассирером стоял призрак Сеттембрини, а за Хайдеггером – Нафты? Хайдеггер, между прочим, прочитал «Волшебную гору» вместе с Ханной в лето их любви, в 1924 году.
Как вспоминает О. Ф. Больнов[219], тогда студент, по приглашению Хайдеггера приехавший в Давос, от диалога двух мыслителей «перехватывало дыхание». Участники семинара, по его словам, испытывали «возвышенное ощущение, что они стали свидетелями исторического события, в точности как это описал Гёте во «Французской кампании»: «С этого места и с этого дня начинается новая эпоха всемирной истории», – только в данном случае речь шла об истории философии, – «и вы можете сказать, господа, что присутствуете при этом»[220]».
Хайдеггеру не нравились эти завышенные ожидания. В письме Элизабет Блохман он говорит об «опасности» того, что «все это превратится в сенсацию»; он «оказался в центре внимания» – в большей степени, чем ему «хотелось бы», – а потому попытался отвлечь философский интерес от себя лично, всецело сосредоточившись на Канте. Зато он, по-видимому, ничуть не смущался тем, что его необычное поведение не вполне соответствовало элегантной атмосфере «Гранд-Отеля». В письме Элизабет он рассказывает, как в промежутках между заседаниями совершал «великолепные прогулки» в горы вместе с одним знакомым (речь идет об уже упоминавшемся Курте Рицлере). «Испытывая прекрасную усталость, напитавшиеся солнцем и свободой гор, еще ощущая во всем теле звенящее напряжение длинных спусков, мы каждый вечер, возвращаясь домой, в своем лыжном снаряжении сразу вторгались в скопище элегантных вечерних туалетов. Это непосредственное единство серьезной исследовательской работы и совершенно беззаботного, радостного катания на лыжах было для большинства доцентов и слушателей чем-то неслыханным» (12.4.1929, BwHB, 30).
Ему хотелось, чтобы его видели именно таким: непреклонным тружеником в гигантских каменоломнях философии, презирающим элегантное светское общество; но вместе с тем спортсменом и дитятей природы, который покоряет вершины и дерзко преодолевает опасные спуски. Примерно так и воспринимали его свидетели той философской «встречи в верхах», на высотах Волшебной горы. «Полемика между Хайдеггером и Кассирером, – вспоминает один из очевидцев, – дала нам чрезвычайно много также и в человеческом плане… С одной стороны, этот низкорослый дочерна загорелый человек, хороший лыжник и спортсмен с волевым и непреклонным выражением лица, этот суровый и нелюдимый, а иногда даже резкий в обращении анахорет, который внушает уважение своим затворническим образом жизни и тем, что с глубочайшей нравственной серьезностью старается соответствовать исследуемой им проблеме, служить ей; с другой – тот, второй, с седыми волосами, олимпиец не только по внешнему виду, но и внутренне, отличающийся широчайшим кругозором и умением ставить всеохватные проблемы, с его всегда приветливым лицом, благосклонной предупредительностью, живостью и гибкостью и, между прочим, аристократическим ощущением собственного превосходства над соперником».
Тони Кассирер, жена философа, рассказывает в своих воспоминаниях, написанных в 1950 году, что приехавшие в Давос коллеги постарались заранее подготовить ее и ее мужа к эксцентричным выходкам Хайдеггера. «Мы уже знали, что он отвергает все принятые в обществе условности». В кругу их единомышленников от Хайдеггера ожидали самого худшего. Ходили слухи, будто он хочет «по возможности уничтожить» философию Кассирера.
И все же той личной враждебности со стороны Хайдеггера, о которой Тони Кассирер, как ей казалось, вспомнила через много лет, во время диспута совершенно не ощущалось. Диспут проходил в «удивительной атмосфере коллегиальности», как писал в своем репортаже уже цитировавшийся нами очевидец. Сам Хайдеггер в письме к Элизабет Блохман оценивал встречу с Кассирером как свое личное обретение, но сожалел о том, что из-за обязывающей обстановки противоречия между ними не могли проявиться с достаточной наглядностью. «Во время дискуссии Кассирер держался очень благородно и был сверх меры предупредителен. Он оказывал мне слишком слабое сопротивление, и это помешало придать формулировкам проблем надлежащую остроту» (BwHB, 30).
Впрочем, протокол диспута не оставляет такого впечатления. Напротив, кажется, что острота противоречий превысила все мыслимые пределы.
Кассирер спросил, не хочет ли Хайдеггер, раз уж он призывает вернуться к «конечному существу» человека, «обойтись без всей этой объективности, без формы абсолютности», которая запечатлена в культуре (Давосская дискуссия, 126).
Кассирер в своих исследованиях стремился объяснить силу человеческого духа, которая создает символы и тем самым творит культуру, представив ее как особый мир «форм». Хотя эти формы в своей совокупности и не образуют бесконечность в традиционном метафизическом смысле, они все же являются чем-то большим, нежели просто производными от функции самосохранения конечной сущности. По мнению Кассирера, культура – это ставшее формой трансцендирование; она воздвигает для человечества просторный дом, который легче разрушить, чем сберечь, эту хрупкую защиту от варварства, способного в любой момент возродиться и потому представляющего для нее постоянную угрозу.
Хайдеггер возразил, что Кассирер ищет для себя комфорта в жилищах духа. По словам Хайдеггера, его оппонент совершенно правильно видит в любой культуре, в любом свершении духа выражение свободы, но не понимает, что эта свобода может застыть, закоснеть в своих формах. Поэтому свобода всегда должна выливаться в новое освобождение; если она превратилась в состояние культуры, значит, мы ее уже потеряли. «Единственно адекватное отношение к свободе в человеке есть самоосвобождение свободы в человеке» (там же, 129).
Для Хайдеггера проблема заключается в том, что человек осваивается в созданной им самим культуре и из-за этого теряет сознание своей свободы. Необходимо снова пробудить это сознание. Но философия довольства культурой на такое не способна. Следует вернуть присутствие к его изначальной наготе и брошенности. Кассирер направляет свое внимание на трансцендирующие достижения культуры («из чаши этого духовного мира на него [человека] изливается бесконечность», как объяснил такое предпочтение он сам, процитировав фразу Гегеля); Кассирер хочет избавить человека от конфронтации с его конечностью и ничтожностью – значит, он не видит подлинной задачи философии: «извлечь человека, попросту использующего продукты духа, из его ленивого и затхлого состояния и вернуть к суровости его судьбы» (там же, 132).
Когда спор достиг кульминации, Хайдеггер спросил: «В какой мере задача философии заключается в освобождении от страха? Или, напротив, ее задача состоит в том, чтобы как раз таки радикальным образом предоставить человека страху?» (там же, 130).
Собственный ответ на этот вопрос Хайдеггер уже давно дал: философия должна сначала ввергнуть человека в состояние страха, а потом отбросить его назад в ту бесприютность, от которой он вновь и вновь пытается спастись посредством бегства в культуру.
Кассирер же в своем ответе показал приверженность культурному идеализму: способность человека создавать культуру «есть печать его бесконечности». «Я хотел бы, чтобы смысл, цель освобождения были поняты в таком смысле: «Отбрось страх земного от себя!»» (там же).
Кассирер более всего ценил искусство жить в культуре, тогда как Хайдеггер хотел «настоящей почвой [метафизики] сделать бездну» (там же, 131).
Кассирер защищал работу смыслополагания, совершаемую через посредство культуры, и те творения духа, которые в силу своей внутренней необходимости и продолжительности своего существования торжествуют над случайностью и переменчивостью человеческого бытия.
Хайдеггер все это с яростью отвергал. И считал, что в конечном итоге остаются, сохраняют свою значимость только редкие мгновения особой интенсивности переживаний. По его мнению, люди не должны более скрывать от самих себя, «что высшая форма экзистенции Dasein [присутствия] может быть сведена к чрезвычайно немногим и редким мгновениям длительности Dasein между жизнью и смертью, что человек лишь в крайне редкие мгновения экзистирует на острие своей собственной возможности» (К, 290).
Одним из таких мгновений было для Хайдеггера посещение ночной мессы в бойронской монастырской церкви, когда ему открылась «мифическая и метафизическая первобытная сила ночи, сквозь которую мы постоянно должны пробиваться, чтобы взаправду существовать».
Другим – та привычная сцена из детства, о которой Хайдеггер впоследствии неоднократно вспоминал в кругу своих друзей. Он рассказывал, как мальчишкой-звонарем ранним утром, еще почти ночью, брал в сенях своего дома зажженную матерью свечу и, защищая пламя рукой, шел через площадь к церкви, а там стоял у алтаря, кончиками пальцев поднимая наверх стекавший воск, чтобы свеча горела дольше. И все-таки свеча в конце концов догорала, он ждал этой минуты, хотя и пытался ее оттянуть.
Если драма присутствия состоит из двух актов – ночи, в которой оно возникает, и дня, преодолевающего ночь, – то можно сказать, что Кассирер направлял свое внимание сразу на второй акт, то есть на день культуры; для Хайдеггера же был важен только первый акт, он вглядывался в ночь, из которой мы все пришли. Его мышление фиксировало то Ничто, на фоне которого только и может выделяться Нечто. Один философ обращался к проистекшему, другой – к истоку. Один всю жизнь занимался тем домом, который воздвигло для себя человечество; другой завороженно застыл перед бездонной тайной creatio ex nihilo[221], которая возобновляется всякий раз, как человек пробуждается от сна повседневности и осознает смысл собственного вот-бытия.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Второй главный труд Хайдеггера, не признанный в качестве такового: лекции по метафизике 1929-1930 годов. О скуке. Тайна и внушаемый ею ужас. Хайдеггер пробует свои силы в натурфилософии. От камня к сознанию. История о том, как открылся некий просвет.
Когда Мартину Хайдеггеру в феврале 1928 года предложили занять кафедру Гуссерля во Фрайбурге, он написал Карлу Ясперсу: «Фрайбург вновь станет для меня испытанием – есть ли там что-то от философии или все грязнет в учености» (24.09.1928, Переписка, 163). Хайдеггер хотел подвергнуть испытанию самого себя. И дело тут было не только в искушении ученостью – его недавно обретенная слава тоже создавала проблемы. «Менее приятна для меня публичная жизнь, в которую я угодил», – жаловался он Ясперсу 25 июня 1929 года (Переписка, 186). Между тем доклады Хайдеггера стали пользоваться большой популярностью. Зигфрид Кракауэр рассказывал о докладе, с которым Хайдеггер выступил 25 января 1929 года перед Кантовским обществом во Франкфурте-на-Майне: «Остается еще упомянуть, что имя оратора привлекло изрядное количество не вполне подготовленных в философском плане слушателей, которые, однако, с охотой углубились в дебри труднейших дефиниций и разграничений».
Конечно, Хайдеггер наслаждался и своими выступлениями, и своей славой. Он почувствовал себя польщенным, когда Ясперс сообщил ему, что теперь и в гейдельбергском семинаре читают и обсуждают «Хайдеггера». Но Хайдеггер не хотел, чтобы его знали только как автора «Бытия и времени». В письмах Ясперсу он принижал значение этой работы: «Я уже и забыл, что сам недавно опубликовал так называемую книгу» (24.9.1928, Переписка, 163).
В первые годы после публикации «Бытия и времени» Хайдеггеру постоянно приходилось сталкиваться с тем обстоятельством, что философская общественность ждала от него систематически завершенного и охватывающего все жизненные сферы анализа положения человека в его мире. «Бытие и время» рассматривали как вклад в философскую антропологию и надеялись, что этот проект получит продолжение.
В своей книге о Канте, вышедшей в 1929 году, Хайдеггер со всей определенностью показал, что подобные ожидания проистекают из неправильного понимания его идей. Невозможно, писал он в этой книге, разработать какую бы то ни было завершенную философию о человеке и об основополагающих структурах его жизни. Ибо требование завершенности противоречит основному свойству присутствия – его конечности и историчности. Если в человеке пробуждается философствование, то происходит это каждый раз заново и конец такого философствования не достигается изнутри, посредством постепенного приближения к системной завершенности; нет, единственный возможный здесь подлинный конец – это случайное прерывание философствования смертью. Философия тоже умирает.
Но человек – как философ – может «умереть» еще прежде, чем наступит его физический конец. И происходит это тогда, когда живое мышление затвердевает (замерзает), принимая форму той мысли, которую человек уже однажды продумал. Тогда, когда прошлое торжествует над настоящим и будущим; когда то, что было помыслено раньше, берет в плен мысль, рождающуюся сейчас. В начале двадцатых годов Хайдеггер хотел «разморозить» идеи философской традиции – от Аристотеля до Гуссерля. Теперь он поставил перед собой задачу «разморозить», вновь превратить в живой поток мысли свою собственную фундаментальную онтологию, на которую уже стали ссылаться как на почти завершенную систему и которую рассматривали в качестве готового для использования метода.
12 сентября 1929 года Хайдеггер писал Элизабет Блохман, намекая на шумиху, поднятую вокруг его книги и его самого: «Копошащаяся вокруг суетливая деятельность с ее успехами и достижениями с самого начала направляет нас в наших поисках по ложному пути: мы воображаем, будто нечто существенное можно создать» (BwHB, 32).
Он не хотел просто продолжать – продолжать развивать собственную мысль, продолжать строить собственную систему. В том же письме Хайдеггера есть такая фраза: «Зимний цикл моих лекций по метафизике должен удаться как совершенно новое для меня начало».
Я уже упоминал этот большой курс лекций по метафизике, прочитанный в зимнем семестре 1929/30 года, цикл, которому Хайдеггер дал название: «Основные понятия метафизики. Мир – конечность – уединение». В этих лекциях он попытался опробовать новый стиль, который я в предыдущей главе обозначил термином «философия-событие». В них Хайдеггер говорил о том, что философия должна пробудить «фундаментальное событие в человеческом бытии» (ВиБ, 333). О каком фундаментальном событии идет речь? Приведенные уже в названии лекционного курса слова конечность и уединение указывают на то, что Хайдеггер имеет в виду углубление опыта неприкаянности, ощущения, что «мы, философствующие, повсюду не дома» (там же, 330). «Философия – противоположность всякой успокоенности и обеспеченности. Она воронка, в середину которой затягивает человека, чтобы только так он без фантазирования смог понять собственное присутствие» (там же, 342).
Но понятия такого философствования неизбежно будут иметь другую функцию, будут по-другому строгими, нежели понятия науки. По Хайдеггеру, философские понятия остаются пустыми, если мы «заранее не захвачены тем, что они призваны охватить» (там же, 331). Для Хайдеггера понятия философии суть посягательство на всякого рода самоуверенность и доверие к миру – схватывание[222]. «Постоянный и опасный сосед» философии – «высшая недостоверность». Однако «элементарная готовность к опасности философии» встречается редко – потому и не возникает настоящих философских дискуссий, несмотря на необозримое количество философских публикаций. «Они все хотят друг перед другом надоказывать всяких истин и забывают при этом единственную настоящую и труднейшую задачу – поднять собственное присутствие и присутствие других до плодотворной вопросительности» (там же, 342).
В этих лекциях много говорится об опасности, тревожности и сомнительности. Решимость избрать дикий и опасный (в философском плане) жизненный путь и есть, по мнению Хайдеггера, метафизика; но под «метафизикой» он не имеет в виду учение о сверхчувственных феноменах. Форманту «мета», заключающему в себе значение перехода, он хочет придать иной, как ему кажется, исконный смысл. И утверждает, что речь идет не о «переходе» в смысле поиска некоего иного места, некоего потустороннего мира, а о «своеобразном повороте по отношению к повседневному мышлению и вопрошанию» (GA 29/30, 66).
Такой поворот, очевидно, будет легче осуществить, если «присутствие изберет себе своего героя» (Бытие и время, 385). Ведь есть же люди, имеющие «странный удел – быть для других побуждением к тому, чтобы в них пробудилось философствование» (ВиБ, 337).
Сам Хайдеггер, несомненно, причислял себя к этим странным людям. Он сознавал, что является философом-харизматиком, что ему предстоит выполнить некую миссию. И 3 декабря 1928 года писал Карлу Ясперсу: «… то, что… привносит в наше существование странную отчужденность – такое мрачное стояние перед собственным другим, которое полагаешь необходимым принести в дар времени» (Переписка, 176). Через год Ясперс, воодушевленный последней встречей с Хайдеггером, высказался о своем друге примерно в том же духе: «С незапамятных времен я не слушал никого так внимательно, как Вас сегодня. В этом беспрестанном трансцендировании мне дышалось легко и свободно, как на свежем, чистом воздухе» (5.12.1929, Переписка, 193).
Предпринятый Хайдеггером анализ ужаса уже показал, куда ведет такого рода трансцендирование: в Ничто, из которого затем возникает в высшей степени удивительное и пугающее Нечто. Следующим шагом хайдеггеровской философии-события, которая шла по следам тайны времени и мига, стало рассмотрение другого великого события пустоты – скуки. То, что из этого получилось, относится к числу наиболее впечатляющих результатов, когда-либо достигнутых Хайдеггером. Во всем философском наследии лишь крайне редко можно встретить описание и истолкование настроения, сравнимое с теми, что даются в этом лекционном курсе. Скука действительно предстает здесь как событие.
Хайдеггер хочет втолкнуть своих слушателей в великую пустоту, заставить услышать донный шум экзистенции; он хочет открыть для них тот миг, когда вообще ничего не происходит, ничто из имеющегося в мире не предлагает себя – и человеку не за что ухватиться, нечем себя заполнить. Миг, когда время расходуется впустую. Время в чистом виде, его простое присутствие… Это и есть скука – момент, когда человек замечает, как проходит время; замечает именно потому, что время не желает «проходить», ибо человек не может его ни «скоротать», ни «убить», ни, как говорится, «провести с пользой». С непоколебимым терпением – в печатном тексте лекционного курса этот кусок занимает 150 страниц – Хайдеггер продолжает развивать тему скуки. Он инсценирует скуку как событие инициации в метафизику. Он показывает, как в состоянии скуки оба полюса метафизического опыта – мир как целое и индивидуальная экзистенция – парадоксальным образом соединяются друг с другом. Индивид оказывается захваченным целостностью мира именно потому, что эта целостность не захватывает его, а оставляет пустым. Хайдеггер хочет подвести своих слушателей к той точке, где они должны будут спросить себя: «Неужели мы в конце концов докатились до того, что глубинная скука подобно беззвучному туману заколебалась в безднах бытия?» (GA 29/30, 119).
Перед безднами этой скуки нас, как правило, охватывает horror vacui, ужас пустоты. Но нам следует выдержать этот ужас, ибо только он дает интимное знание того Ничто, которое подразумевается в старом метафизическом вопросе: почему вообще есть сущее, а не, наоборот, Ничто? Хайдеггер требует от своих слушателей, чтобы они относились к встречам с Ничто как к упражнению в искусстве оставаться пустым.
Хайдеггер подчеркивает, что речь идет не о некоем искомом настроении, которое нужно искусственно создать, не о какой-то особой установке, достигаемой целенаправленными усилиями, а, напротив, об «отрешенности (Gelassenheit) повседневного свободного взгляда» (GA 29/30, 137). В повседневности мы часто испытываем ощущение пустоты, говорит Хайдеггер, но стараемся сразу же эту пустоту «прикрыть». Он призывает нас не торопиться с этим, а какое-то время – такое, чтобы мы успели почувствовать скуку, – ничего не предпринимать, оставаться в бездействии. Но подобное бездействие дается лишь ценой тяжелой философской борьбы, ибо оно противоречит спонтанному повседневному импульсу – стремлению подпасть под власть мира, а не, наоборот, выпасть из мира, как происходит, когда мы выдерживаем такого рода пустой миг. Однако тут ничего не поделаешь: философствования без такого «выпадения», без ощущения потерянности и оставленности, без этой пустоты вообще не бывает. Хайдеггер хочет продемонстрировать, как происходит рождение философии из Ничто скуки.
Рассуждая о скуке, скрыто присутствующей в повседневности, Хайдеггер незаметно подходит к вопросу о духовной ситуации всей нынешней эпохи. Он говорит, что недовольство современной культурой широко распространено. В качестве авторов, сумевших выразить это недовольство, называет Шпенглера, Клагеса[223], Шелера и Леопольда Циглера[224]. И в немногих словах «разделывается» с их диагнозами и прогнозами. Все это, говорит Хайдеггер, может быть, интересно и умно, но – будем откровенны сами с собой, – собственно, совершенно не волнует нас. «Напротив, все это в целом есть сенсация, а значит, приносит нам никогда ясно не осознаваемое и тем не менее очевидное умиротворение» (GA 29/30, 112). Почему? Потому, что «освобождает нас от нас самих» и побуждает «отразиться в зеркале той или иной всемирно-исторической ситуации и роли» (GA 29/30, 112). Мы как бы становимся участниками драматического спектакля и можем расхаживать по сцене на высоких котурнах, ощущая себя субъектами культуры. Даже гнетущие видения гибели мира льстят нашему самолюбию, или, точнее: соответствуют нашей потребности что-то изображать, представлять из себя и, с другой стороны, видеть себя изображенными, представленными. Хайдеггер завершает свою критику такого рода философской диагностики болезней эпохи безапелляционным замечанием: «Эта философия достигает успеха лишь в представлении (Darstellung) человека, но никогда не добирается до его бытия-вот (Da-sein)» (GA 29/30, 113).
Дело в том, что в безднах бытия-вот притаилась скука, от которой жизнь пытается спастись, ища для себя прибежище в формах изображения, представления.
Хайдеггеровский анализ постепенно принимает характер поиска средоточия пустыни. При этом Хайдеггер демонстрирует незаурядное умение нагнетать драматическое напряжение. Напряжение возрастает по мере того, как все более пустынными становятся места, по которым он «проводит» мысль. Он начинает с анализа того состояния, когда человеку становится скучно «от чего-то». Когда еще есть идентифицируемый предмет – какая-то вещь, книга, праздничная церемония, конкретный человек, – на который мы можем, так сказать, возложить ответственность за овладевшую нами скуку. В таком случае скука проникает в нас, в определенном смысле, извне, имеет внешнюю причину. Но когда этот предмет уже не поддается однозначному определению, когда скука проникает извне и одновременно поднимается откуда-то изнутри, тогда мы имеем дело с состоянием, когда человек «сам соскучился из-за чего-то». Так, например, нельзя сказать, что поезд, не успевающий прибыть по расписанию, нагоняет на кого-то скуку – скуку может нагнать ситуация, в которую человек попал из-за опоздания поезда. Человек скучает во время какого-то определенного события или из-за него. Такая скука особенно раздражает потому, что в соответствующих ситуациях человек начинает «наскучивать» самому себе. Он не знает, чем ему заняться, что ему делать с самим собой, и в результате «что-то делать» с ним начинает Ничто. Например, скучная вечерняя беседа – тут Хайдеггер с удовольствием воспроизводит одну из таких бесед в академической среде – не просто раздражает людей, но и приводит их в состояние легкой паники, потому что в подобных ситуациях человек чувствует, что сам является виновником скуки. Ситуация и в самом деле непростая, ибо, как правило, скуку нагоняют именно те действия, которые мы предпринимаем, чтобы ее – скуку – прогнать. Скука подстерегает нас как раз в тех занятиях, с помощью которых мы надеемся «убить время». Все средства, которые мобилизуются против скуки, уже изначально заражены ею. В развлечениях нуждаются те, кому угрожает падение. Куда же мы изгоняем время, когда пытаемся его скоротать, «убить»? Куда «изгоняется» само присутствие, осуществляющее «убийство» времени? Существует ли какая-то «черная дыра» экзистенции, которая все это притягивает и поглощает?
Глубинная скука совершенно анонимна. Она не может быть вызвана чем-то определенным. Es langweilt einen («скучно», буквально приблизительно так: «оно / погружает в скуку / одного-неважно-какого»), – говорим мы. Хайдеггер подвергает данную фразу тонкому анализу. Она заключает в себе двойную неопределенность. Es («оно») может означать всё или ничего, но в любом случае не подразумевает что-то определенное. А под «одним-неважно-каким», конечно, имеется в виду сам скучающий человек, но как существо, лишенное конкретной индивидуальности. Как если бы скука уже поглотила «я», которое могло бы стыдиться того, что является виновником скуки. Данное выражение – es langweilt einen – Хайдеггер использовал для характеристики того мига полного отсутствия наполненного и наполняющего времени, когда никто и ничто более не предъявляет никаких требований к индивиду, не обращается к нему и не претендует на него. Хайдеггер определяет такую «пустоос-тавленность» (Leergelassenheit) как «выданность в полное распоряжение сущего, которое как Целое отказывается [чем бы то ни было распоряжаться]» (GA 29/30, 214).
В этом определении заключена ошеломляющая концепция Целого – но такого целого, которое более не имеет касательства к индивиду. Пустое Нечто противостоит пустому Целому – и в этой безотносительности друг к другу они все-таки оказываются каким-то образом соотнесенными. Здесь налицо тройственная негативность: некая не-самость, некое незначащее (нефункционирующее) Целое и отсутствие соотнесенности между ними как негативная соотнесенность. Очевидно одно: это та самая высшая или низшая точка, к которой Хайдеггер хотел подвести свой захватывающий анализ скуки. Мы оказались в самом средоточии метафизики, понимаемой во вкусе Хайдеггера. В этой же точке он достигает другой своей цели: «посредством истолкования сущности скуки добраться до сущности времени» (GA 29/30, 201). Как, спрашивает Хайдеггер, переживается время в этой ситуации полного отсутствия всего, что могло бы его – время – наполнить? Оно не хочет «проходить», оно останавливается, оно и человека удерживает в инертной неподвижности, завораживает-сковывает его (bannt). Это состояние всеохватывающего оцепенения, паралича, позволяет обнаружить, что время – не просто среда, в которой мы движемся; что оно есть нечто, порождаемое нами самими. Мы временим время, а когда мы парализованы скукой, это как раз и значит, что мы прекратили его временить. Однако такое прекращение никогда не бывает тотальным. Процесс временения, прерываясь, останавливаясь на какие-то мгновения, все равно остается связанным с потоком времени (каковой поток есть не что иное, как мы сами) – но только связанным в модусе приостановки, завороженной скованности, обездвижения.
Этот амбивалентный опыт переживания приостановки течения времени есть поворотный пункт в той драме скуки, которую инсценирует и анализирует Хайдеггер. Из ситуации «тройственной негативности» – не-самости, незначащего Целого и отсутствия отношений между ними – возможен только единственный выход: человек должен сам из нее вырваться. Если ничто более не движется, человек должен заставить двигаться себя самого. Хайдеггер обстоятельно формулирует этот свой вывод: «То, что завораживающе-сковывающее как таковое, то есть время, позволяет понять и, собственно, делает возможным… есть свобода присутствия как таковая. Ибо эта свобода присутствия состоит исключительно в самоосвобождении присутствия. А самоосвобождение присутствия происходит только тогда, когда оно решается быть самим собой» (GA 29/30, 223).
Но поскольку в состоянии скуки эта самость истончается до такой степени, что становится лишенным сущности призраком, решение, о котором идет речь, не может заключаться в возвращении к некоей компактной самости, только ожидающей момента, когда она сможет возобновить свою активность. Самость впервые рождается лишь в момент принятия решения. В некотором смысле правильно будет сказать, что ее не «находят», а «изобретают» – в процессе принятия решения. «Миг решимости» возникает из скуки и кладет этой скуке конец. Потому-то Хайдеггер и говорит о том, что «завораживающе-сковывающее (в состоянии скуки) время» не только сковывает, но вместе с тем является причиной «вынужденного пребывания присутствия на острие подлинной возможности» (GA 29/30, 224). Можно выразить ту же мысль и иначе, более доступно: в состоянии скуки человек замечает, что ничто не имеет никакого значения – и не будет иметь, если он сам это значение не привнесет…
Итак, чтобы присутствие могло пробудиться к осознанию себя самого, оно сперва должно пересечь зону глубинной скуки – «пустоты в целостности [сущего]». В этом пункте своих рассуждений Хайдеггер вдруг резко сворачивает в сторону с того пути, которым следовал раньше, и переходит от анализа скорее «приватных» и «интимных» разновидностей скуки к рассмотрению – с позиции философии культуры – современной ему общественно-исторической ситуации. Он спрашивает: продолжает ли вообще современный человек переживать как бедствие это ощущение «пустоты в целостности [сущего]», или такого рода переживания оказались вытесненными необходимой борьбой против других, более конкретных бедствий?
Вспомним, что разговор этот происходит во время зимнего семестра 1929/30 года. Уже начался процесс стремительного роста безработицы и обнищания, вызванный мировым экономическим кризисом. Хайдеггер рискнул бросить беглый взгляд на эпизоды характерных для его времени бедствий: «Повсюду потрясения, кризисы, катастрофы, беды: нынешняя нищета, политический хаос, бессилие науки, выхолащивание искусства, беспочвенность философии, бессилие религии. Конечно же, бедствия имеют место повсюду» (GA 29/30, 243). В целях борьбы с этими бедствиями разрабатываются специальные программы, создаются партии, предлагаются разные меры, активизируется всякого рода деятельность. Но, как считает Хайдеггер, именно «эта судорожная необходимая оборона от конкретных бедствий не позволяет открыться некоему бедствию в Целом» (GA 29/30, 243).
Следовательно, «бедствие в Целом» – это не какое-то отдельное бедствие, а проявление тягостности присутствия вообще, тягостности, которая ощущается как раз в настроении скуки и обусловлена тем, «что человеку вверено присутствие как таковое, что его удел – быть здесь» (GA 29/30, 246). У того, кто уклоняется от этого «сущностного бедствия» (GA 29/30, 244), отсутствует упрямое «наперекор» (Trotzdem), – употребляя данный термин, Хайдеггер подразумевает повседневный героизм. Тот, кто не ощутил жизнь как бремя – именно в этом смысле, – тот ничего не знает и о тайне присутствия, а значит, остается «чуждым тому внутреннему ужасу, который неотделим от всякой тайны и который только и придает присутствию его величие» (GA 29/30, 246).
Тайна и ужас… Хайдеггер обыгрывает здесь определение нуминозного, данное Рудольфом Отто. Отто считал важнейшим аспектом религиозного опыта («встречи со Святым») ужас перед той силой, которая предстает перед нами как тайна. Хайдеггер заимствовал у Отто определение признаков понимаемой таким образом нуминозности, но лишил их соотнесенности с потусторонним миром. Для него само присутствие нуминозно, ибо оно таинственно и внушает ужас. Ужас, по его мнению, – это достигшее драматичного апогея удивление перед тем, что есть сущее, а не, наоборот, Ничто; ужасная загадка – само сущее в его нагой чтойности. Именно о таком ужасе идет речь и в нижеследующих фразах из лекционного курса – я специально это подчеркиваю, потому что позже в них усматривали чисто политический смысл, которого в то время, когда читались лекции, они еще просто не могли иметь: «Если [главное] бедствие нашего присутствия, несмотря на все лишения, сегодня не ощущается и если исчезла тайна, то нам прежде всего необходимо обрести для человека тот базис и то измерение, в рамках которых нечто подобное только и сможет вновь предстать перед ним как тайна его присутствия. То, что при выдвижении этого требования и при попытке его осуществить сегодняшнему нормальному человеку, обывателю, становится как-то не по себе, а порой, может быть, у него и в глазах темнеет, так что он судорожно хватается за своих божков, – вполне в порядке вещей. Желать чего-то другого было бы нелепо. Сперва мы должны вновь призвать того, кто сумеет внушить нашему присутствию ужас» (GA 29/30, 255).
Кто же способен внушить такой ужас? Пока – до поры до времени – Хайдеггер не мыслит в этой роли никого иного, кроме философа-харизматика, который имеет «странный удел – быть для других побуждением к тому, чтобы в них пробудилось философствование» (Основные понятия метафизики, ВиБ, 337). Иными словами, он видит в качестве исполнителя этой миссии самого себя. Пока еще способность внушать ужас и умение пробуждать в людях философствование кажутся ему идентичными качествами.
Будто предчувствуя, что это его высказывание может быть превратно истолковано, понято в политическом смысле, как призыв довериться «сильной руке», Хайдеггер сразу же после процитированного пассажа уточняет свою мысль, говоря, что никакое политическое событие, даже мировая война, не может способствовать такому пробуждению человека к осознанию самого себя. Следовательно, речь идет о событии пробуждения, пока еще понимаемом не в политическом, а в философском смысле. Потому-то Хайдеггер и критикует все попытки воздвигнуть на политическом поле «здание некоего мировоззрения», а потом потребовать, чтобы люди в нем жили (GA 29/30, 257). Когда присутствие становится прозрачным для себя самого, оно перестает воздвигать подобные здания. Заклясть (GA 29/30, 258) в человеке его присутствие означает не что иное, как привести это присутствие в движение – таким образом, что все подобные здания неминуемо должны будут рухнуть.
Хайдеггер проделал долгий путь – то, о чем он говорил до сих пор, в напечатанном тексте лекций занимает 260 страниц. О сформулированных в самом начале основных метафизических вопросах – что есть мир? что такое конечность? что такое уединение? – слушатели наверняка уже успели забыть. Теперь Хайдеггер вновь возвращается к этим вопросам и напоминает о том, что все предшествующие «упражнения» в скуке были лишь подготовкой к главному: попыткой пробудить или инсценировать то настроение, благодаря которому мир, конечность и уединение предстают перед нами (встречаются нам) таким образом, что для нас вообще впервые становится возможной работа философского мышления. Тут все зависит от «Как» этой встречи. То, что мы собираемся подвергнуть философскому осмыслению, прежде должно произойти – произойти здесь и сейчас, именно в этот послеполуденный час четверга, в один из учебных дней зимнего семестра 1929/30 года.
Мир как Целое… Почему требуется особое настроение, чтобы пережить, прочувствовать это? Ведь мир всегда здесь; мир – это всё, что можно охарактеризовать как случайность или как падение. И мы всегда находимся в его средоточии. Конечно. Но мы уже успели кое-что узнать: для Хайдеггера это повседневное пребывание в мире одновременно означает впадение в зависимость от мира. Мы исчезаем, растворяемся в нем. И потому Хайдеггер уделяет такое внимание настроению скуки: в этом настроении – как и в настроении ужаса, которое было проанализировано в «Бытии и времени», – «Целое мира» предстает перед нами в некотором отдалении, отделенное от нас той дистанцией, которая только и делает возможной метафизическую позицию удивления или ужаса, а значит, является необходимым условием третьего акта экзистенциальной драмы. В первом акте человек – каждодневно – растворяется в мире и мир наполняет его собой; во втором акте все куда-то «отодвигается», теряет свою значимость и свершается событие великой пустоты, тройственной негативаности (не-самость, незначащий мир и отсутствие соотнесенности между ними); наконец, в третьем акте то, что ранее было «отодвинуто», вновь возвращается: возвращаются собственная самость и мир. Самость и вещи в определенном смысле становятся более «сущими», чем были прежде: они обретают новую, повышенную интенсивность. К этому все и сводится. Хайдеггер редко формулировал свои идеи так ясно и незащищенно, как в этом лекционном курсе: «Дело идет не менее как о восстановлении этого изначального измерения события в философствующем бытии, чтобы снова «видеть» все вещи проще, зорче и неотступнее» (ВиБ, 345).
Тема «мир как целое» слишком велика, чтобы взгляд исследователя мог ее охватить. Наверное, это так. Именно поэтому Хайдеггер хотел показать, что эта большая тема, хотя она слишком велика для исследования, повседневно непосредственно переживается нами в таких настроениях, как скука и ужас, – переживается в те мгновения, когда мир от нас ускользает. Ближе к концу лекционного курса, когда оглядываешься назад, становится очевидно, что весь проделанный Хайдеггером филигранный анализ скуки был лишь попыткой описать, каким образом мы имеем «мир как целое».
Но перспективу можно и перевернуть. То, что мы «имеем мир», – это одно; и совсем другое – что мир «имеет» нас. «Имеет» не только в том смысле, что мы растворяемся в мире обезличенных людей (Man) и «забот о подручном» (Besorgen des Zuhandenen). Как раз этот аспект Хайдеггер уже рассмотрел в «Бытии и времени». Сейчас его интересует то обстоятельство, что мы принадлежим к природному царству.
Во второй части лекционного курса Хайдеггер впервые предлагает набросок своего рода натурфилософии – эта попытка так и останется единичной в его творчестве, больше он ее никогда не повторит. Насколько большое значение придавал ей сам Хайдеггер, видно из того, что он ставил эти рассуждения в один ряд с «Бытием и временем».
Годом ранее были опубликованы две важные работы по философской антропологии: «Положение человека в космосе» Макса Шелера и «Ступени органического» Хельмута Плеснера. Шелер и Плеснер пытались, каждый своим путем, соединяя результаты биологических исследований и их философские интерпретации, раскрыть взаимосвязь между человеком и остальной природой и тот разрыв, который существует между ними. Сам Хайдеггер в «Бытии и времени» так сильно подчеркнул наличие разрыва между присутствием и нечеловеческой природой, что, как потом утверждал критиковавший его Карл Лёвит, при чтении этой книги неизбежно напрашивался вывод об оторванности человеческой экзистенции от телесных, природных предпосылок ее существования. Шелер и Плеснер, оба отчасти побуждаемые к тому неприятием точки зрения Хайдеггера, вновь поместили человека в природный контекст, однако – что было главной проблемой для них обоих – показали и его «несводимость» к этому контексту.
В то время особенно большое внимание привлекло к себе исследование Шелера. Хайдеггер почувствовал, что должен ответить на его вызов, совершив собственный экскурс в сферу натурфилософской антропологии.
Природа относится к миру. Но имеет ли вообще нечеловеческая природа «мир»? К примеру, камень или животное – имеют ли они некий мир или просто появляются, встречаются в нем? В нем – то есть в мировом горизонте, который «имеется» только для человека, этого миросозидающего природного существа?
В «Бытии и времени» Хайдеггер объяснил, что способ бытия природы, как неорганической, так и органической, и вообще телесного аспекта жизни «лишь по видимости само-понятен» (Бытие и время, 371). Это не так просто: чтобы сознание «схватило» бессознательное, чтобы было познано то, что само не способно познавать. Присутствие, или бытие-вот (Dasein) должно понять некое сущее (Seiendes), бытие которого вовсе лишено этого «вот» (da).
Натурфилософская часть лекций по метафизике представляет собой отдельное размышление об этом «вот» и о том, как вообще мы можем понимать природу, не знающую этого «вот». Хайдеггер хочет проникнуть в эту тьму, чтобы оттуда еще раз бросить взгляд на человеческую экзистенцию. Бросить взгляд отстраненный, для которого то событие, что в человеке происходит просветление, благодаря чему светло делается вообще в природе, является совершенно необычным. Речь идет вот о чем: взгляд на человека «со стороны» природы позволяет обнаружить, что в нем, человеке, открывается бытие-вот (Da-sein) – просвет (Lichtung), как позже назовет это Хайдеггер, – в котором могут «показываться» вещи и сущности, сами от себя сокрытые. Бытие-вот дает природе сцену. Единственный смысл натурфилософии Хайдеггера заключается в инсценировании эпифании этого «вот».
Вещи и сущности «выступают» перед нами. Но можем ли и мы, в свою очередь, поставить себя на их место? Можем ли мы разделить с ними их способ бытия? Могут ли они сообщать нам какие-то свои свойства и можем ли мы сообщать какие-то наши свойства им?
Мы разделяем с ними мир, в который они погружены, тогда как для нас он представляет собой «вот». И потому в определенном смысле мы им даем это «вот», которого сами они не имеют. А от них мы воспринимаем волшебство их покоя и полной погруженности в то, чем являются они сами. И благодаря этому можем на самих себе испытать, что значит «нехватка бытия».
Хайдеггер начинает свой экскурс с рассмотрения камней. Камень безмирен. Он пребывает в мире, но не способен из себя самого установить какое-либо отношение с миром. Переходя далее к животным и описывая те отношения, что существуют между ними и миром, Хайдеггер опирается главным образом на исследования Якоба фон Икскюля[225]. Он говорит, что животное «бедно миром» (weltarm). Окружающий его мир – это именно «кольцо окружения» (Umring), которым охвачены (benommen sind) все инстинкты животного (GA 29/30, 347). В соответствии с поступающими оттуда раздражениями приходят в действие, отмыкаются определенные способы поведения и импульсы. Для животного миром является «окружающая среда». Оно не способно выжить, будучи оторванным от этой среды. Хайдеггер цитирует голландского биолога Буйтендайка: «Итак, оказывается, что во всем животном мире связь животного с его окружением почти так же прочна, как и единство тела» (GA 29/30, 375). Этот малый «окружающий мир», который можно рассматривать как продолжение тела животного, Хайдеггер называет «кольцом отсутствия препятствий» (Enthemmungsring). Животное реагирует на все, что прорывается внутрь этого кольца; оно реагирует на Нечто и в этом смысле связано с ним, но не воспринимает его как именно эту, конкретную данность, или, иными словами: оно не воспринимает самого акта своего восприятия. Животное в определенной мере открыто для мира, но мир не может стать для него открытым, очевидным именно как мир. Мир открывается только человеку. Между человеком и его миром разверзается некое свободное пространство. Привязанность человека к миру уже настолько ослабла, что человек может как-то относиться и к миру, и к самому себе, и к себе как к чему-то такому, что происходит в мире. Конкретный человек не только отличен от других, но может и «из себя самого» отличать себя от других; кроме того, он не просто по-разному относится к разным вещам, но и сам выявляет различия между ними. Как мы уже знаем, Хайдеггер называл это промежуточное «пространство» свободой. Пребывающее в мире сущее, попав в горизонт свободы, приобретает другой характер реальности: оно теперь выделяется – как реальное – на фоне возможного бытия. Существо, которое обладает возможностями, не может не воспринимать реальность как реализацию возможностей. Пространство возможного, раскрывающееся перед человеком, как бы придает реальному четкий контур, делает его уникальным. Это пространство включено в горизонт сравнимости, генезиса и истории, а значит, и времени. Благодаря всему этому у человека появляется возможность удержать Нечто в поле своего восприятия именно как «это» (конкретное) Нечто, отличить его от других, «опросить» его. Если для животного Нечто входит в зону охваченности (Benommenheit) окружающим миром, зону, в которой субъект восприятия проживает, но не переживает мир, то с появлением человеческого взгляда оно впервые выделяется на этом смутном фоне как нечто отчетливо воспринятое, «схваченное» (wahrgenommene). К возможному бытию, между прочим, относится и мысль, что Нечто могло бы вовсе не существовать. Эта мысль придает миру особую прозрачность. Мир – совокупность всего, что случайно и подвержено падению; и именно поэтому мир – это не Всё. Он «оправлен» в еще более просторные пространства возможного и недействительного (незначащего). Только потому, что мы чувствуем, что значит «отсутствующее», мы можем пережить присутствие как таковое – пережить, испытывая благодарность, удивляясь, ужасаясь или радуясь. Реальность, какой ее переживает человек, постоянно пребывает в прерывистом движении: она то подступает ближе, то прячется, то вновь показывает себя.
Эта соотнесенность с возможным бытием и с Ничто – то, что совершенно отсутствует в отношении животного к миру, – характерно именно для человеческого, более свободного отношения к миру, которое Хайдеггер называет миросозидающим (weltbildend).
Если Макс Шелер в своем антропологическом эссе «Положение человека в космосе» интерпретировал духовную личность человека, опираясь на шеллинговскую идею «становящегося» – в человеке и посредством человека – Бога, то Хайдеггер в конце лекционного курса по метафизике напоминает о другой великой мысли Шеллинга: именно в человеке природа открывает глаза и впервые замечает, что она есть. Этот описанный Шеллингом «просветляющий взгляд» (Lichtblick) природы (GA 29/30, 529) Хайдеггер называет «открытым местом», которое «открывается» только в человеке, ибо все остальное сущее по природе своей закрыто. Без человека бытие оставалось бы немым: оно было бы здесь, но не было бы «вот-бытием». В человеке природа впервые совершает прорыв к самопрозрачности (зримости для самой себя).
Курс лекций о метафизике, прочитанный в зимний семестр 1929/30 года, – несомненно, самое значительное из всех устных выступлений Хайдеггера и едва ли не второй по значению труд его жизни – начался с инсценирования и анализа скуки, настроения вялого безразличия ко всему. А закончился резким переходом от этого скучного безразличия к совершенно иному настроению – энтузиазму. Именно в этих лекциях мы находим один из редких хайдеггеровских пассажей, которые проникнуты духом торжества жизни: «Человек – это Не-могу-оставаться-на-месте и Не-могу-двинуться-вперед… И только там, где опасность ужаса, там и блаженство изумления – та зоркая захваченность [сущим], которая есть дыхание всякого философствования» (GA 29/30, 531).
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Подведение итогов в последние годы республики. Плеснер. Обрушивающиеся перекрытия. Друг и враг. Двусмысленность Хайдеггера: индивид или народ? Первое приглашение в Берлин. Карл Мангейм. Спор вокруг социологии знания, попытка спасти либерализм. Об умении притираться друг к другу, несмотря на «неустранимые шероховатости». Хайдеггер в платоновской пещере. Идея полномочности. Как сущее становится еще более сущим.
Незадолго до своей смерти Макс Шелер (в докладе 1928 года) сказал: «За всю историю, охватывающую около десяти тысячелетий, наша эпоха – первая, когда человек стал полностью и без остатка проблематичным для самого себя; когда он больше не знает, что он такое, и в то же время знает, что он этого не знает».
Диагноз Шелера относится к двум аспектам исторической ситуации, сложившейся к концу существования Веймарской республики. Первый аспект касается появления множества противоборствующих друг с другом идеологий и мировоззрений. Почти все они были «настроены» на грядущую в скором будущем катастрофу – некое крушение, перелом или разлом – и в своей совокупности порождали только ощущение беспомощной растерянности.
«Это как если бы мир вдруг стал жидким и начал утекать сквозь пальцы» – так Вальтер Ратенау[226] уже в 1912 году описывал процесс, более позднюю стадию которого Роберт Музиль (ближе к концу Веймарского периода) прокомментировал еще язвительнее[227]: «Стоит только появиться какому-нибудь новому «изму», как все думают, что с ним явился и новый человек, и с завершением каждого учебного года начинается новая эпоха… Неуверенность, отсутствие энергии, пессимистический настрой характерны для всех нынешних душ… И, естественно, все это приводит к неслыханной мелочной торговле в духовной сфере… Политические партии сельских хозяев и работников ручного труда имеют каждая свою философию… Духовенство раскинуло свои сети, но и у штайнерианцев миллионы приверженцев, и университеты тоже ценятся. Я даже как-то прочитал в газете профсоюза кельнеров о мировоззрении младшего персонала ресторанов, который требует всяческого уважения к себе. Просто какой-то вавилонский сумасшедший дом: из тысяч окон наперебой вопят тысячи голосов!»
«Перепроизводство мировоззрений» в Веймарский период было реакцией на то, что традиционные модели интерпретации мира и ориентации в нем явно не выдерживали перегрузок, обусловленных новыми событиями и ситуациями. К числу этих новых ситуаций относится в первую очередь плюрализм либерального открытого общества, которое характеризуется именно отсутствием какого бы то ни было обязательного мировоззрения или представления о человеке. В таком обществе обязательны не содержательные высказывания, а только правила игры, которые – по крайней мере, в идеале – требуют мирного сосуществования даже противоположных смыслополагающих проектов. В плюралистической среде со свойственным ей многообразием духовной жизни так называемые «истины» низводятся до уровня простых мнений. Это, конечно, не может нравиться тем, кто полагает, будто нашел «спасительное слово». Демократия как форма жизни делает относительными все притязания на обладание абсолютной истиной. Ганс Кельзен[228], один из немногих защитников республики среди юристов, в ту пору объяснял это так: «Метафизически-абсолютистское мировоззрение связано с автократической позицией, критически-релятивистское – с демократической. Тот, кто считает, что абсолютная истина и абсолютные ценности человеческого познания изжили себя, должен признавать не только свое, но и чужое, противоположное мнение по меньшей мере допустимым. Поэтому релятивизм есть мировоззрение, предполагающее демократическое мышление».
В веймарском обществе все пользовались преимуществами существования либеральных гарантий свободы мысли, но лишь очень немногие были готовы примириться с релятивизмом как их следствием. Исследование духовной позиции немецкой молодежи, проводившееся в 1932 году, показало, что для большинства представителей этого поколения либерализм мертв: «У этих молодых людей осталось лишь невыразимое презрение к «либеральному» миру, который пренебрежительно называет духовную бескомпромиссность оторванностью от реальной действительности; они знают, что компромиссы в духовной сфере являются началом всех пороков и всяческой лжи».
Выразителем такого рода антилиберализма был русский философ Николай Бердяев[229], тогда очень популярный в Германии; в Берлине двадцатых годов он разглядел – и научился презирать – процесс лабораторных экспериментов по производству современной культуры. Его эссе «Новое средневековье» (1927) направлено против демократии, которую автор упрекает в том, что она позволяет «большинству голосов» решать, что есть истина. «Демократия – свободолюбива, но это свободолюбие возникает не из уважения к человеческому духу и человеческой индивидуальности, это – свободолюбие равнодушных к истине»[230].
Бердяев отожествлял демократию с недостаточным уважением к духу. Макс Шелер тоже говорит о все усиливающемся презрении к духу – втором (наряду с ощущением растерянности) из двух аспектов современной ситуации, которые он подвергает философскому анализу. Но Шелер возлагает ответственность за это презрение к духу не на демократию, а на ее противников. С его точки зрения, презрением к духу проникнуты все те течения, которые отрекаются от цивилизации, призывают вернуться к (мнимо) естественному, или элементарному, и заклинают такие «изначальные» силы, как кровь и почва, инстинкт, опьянение, народная общность и судьба. «Всё это указывает на систематический бунт инстинктов в человеке новой мировой эры». Шелер считал, что инстинкты восстают против рассудка, который требует постоянных компромиссов. Томас Манн, вдохновленный идеями Шелера, сходным образом описал доминировавшие в ту эпоху умонастроения в статье «Немецкая речь» (1930). Он говорил о «распустившихся школьниках», которые сбежали из «идеалистически-гуманистической школы» и теперь исполняют «Виттову пляску фанатизма». «Эксцентричному душевному состоянию человечества, сбежавшего от Идеи, соответствует политика в гротескном стиле: с замашками в духе Армии спасения, с массовыми конвульсиями, с базарной шумихой, с криками «Аллилуйя!» и дервишески-монотонным скандированием лозунгов – до тех пор, пока у всех не выступит на губах пена. Фанатизм становится принципом спасения, воодушевление – эпилептическим экстазом, политика – опиумом для масс Третьего рейха или пролетарской эсхатологией, разум же закрывает свой лик». Томас Манн восхваляет практичный республиканский разум социал-демократического рабочего движения. Он делает ставку на левоцентристские политические силы и предупреждает интеллектуалов о том, как опасна эрозия основополагающих гуманистических идеалов, советует не доверять экзальтации «авантюрных сердец», которые, изголодавшись по интенсивности переживаний, жаждут бунта любой ценой и превозносят разрушение, так как усматривают в нем выражение метафизического экстаза. Томас Манн намекает на «бунтарей» типа Эрнста Юнгера, заявившего в середине двадцатых годов: «Мы не укрепимся нигде, если огнеметы предварительно не осуществят в этом месте большую чистку посредством Ничто».
Томас Манн оперировал чисто политическими доводами, Шелер же оставался в рамках философии. Он призывал дух заново осмыслить свою роль, проявить самокритичность и осознать наконец тот факт, что время великих духовных синтезов действительно миновало. Но это не значит, что дух должен отступить и примириться со своим поражением. Напротив, ему следует постичь собственную сомнительность как особый благоприятный шанс. Шелер придает растерянности возвышенное значение. Его последний труд «Положение человека в космосе» заканчивается, как известно, мыслью о том, что утрата уверенности в чем бы то ни было могла бы стать началом рождения нового Бога. Но уже не Бога «спасения и помощи», «внемирного всемогущества», а Бога свободы. Такого Бога, который растет благодаря нашим свободным действиям, нашей спонтанной энергии и инициативе. Этот Бог не предлагает никакого убежища тем, кто сбил себе ноги, бродя по дорогам современности. «Для поддержания человека, для элементарной компенсации его слабостей и для удовлетворения его потребностей, которые все время грозят превратить его в «предмет», не предусмотрено никакого абсолютного бытия».
Итак, Бог Шелера являет себя в мужественном стремлении к свободе. Надо выстоять в нынешних смутах, выдержать утрату ориентиров. Из той силы, что противостоит всякого рода фанатичной односторонности и догматизму, родится новый гуманизм – как «идея вечного, объективного Логоса… проникновение … в тайны которого доступно не одной нации, не одному культурному кругу, а только всем вместе, включая и будущих… незаменимых в своем солидарном… сотрудничестве (ибо каждый из них уникален) субъектов культуры».
Хельмут Плеснер в эссе «Власть и человеческая природа» (1931) цитирует эти рассуждения Шелера как пример стремления (очевидно, непреодоленного до конца даже самыми свободными умами) найти формулы, которые позволили бы достичь компромисса, «навести мосты» в ситуации духовной бесприютности. «Как можем мы здесь, где все затоплено наводнением, надеяться на возможность какого-то прочного синтеза, который не потребовал бы основательного ремонта уже через несколько лет? От перекрытий нам ждать нечего – кроме того, что они обрушатся».
Антропологический принцип Плеснера: человек определяется только тем, что не может быть определен окончательно, ибо любые этические, научные, религиозные рамки возможного определения сами являются историческим продуктом жизнедеятельности человека. «Человек» в определяющем, сущностном смысле всегда остается изобретением им же самим создаваемой культуры. Все высказывания о человеке никогда не могут охватить человека как завершенную, опредмеченную величину. Любая возможная точка зрения на человека располагается в «сфере творческого субъективизма». Субъективизм этот следует рассматривать в радикально-историческом плане. Однако история – не просто «сцена», на которой «в соответствии с какой-то взаимосвязью появляются (и потом вновь уходят с нее) носители вневременных ценностей»; скорее уж историю нужно понимать как «место создания и уничтожения ценностей» (304). Но даже и эта идея историчности есть лишь одна из исторически обусловленных идей. Мысль о том, что в процессе истории ценности сами собой релятивизируются, тоже не может быть абсолютно правильной. Существовали и сейчас еще существуют культуры, которые не знают такого рода тематизации собственных основ. Так что в результате остается одно: «будоражащая» идея неисчерпаемости человека. Человек неисчерпаем, потому что его основания всегда располагаются «перед» ним. Что собой представляет человек, это всегда только предстоит узнать – в очередной миг решения. Предназначение (Bestimmung) человека заключается в его самоопределении (Selbstbestimmung), то есть в том, что он сам выбирает для себя предназначение. Человек есть то, чем он решил стать. Он «проектирует» себя самого исходя из ситуации неопределенности. «Будучи связанным с самим собой этим отношением неопределенности, человек постигает себя как силу и открывается навстречу своей жизни, теоретически и практически, как открытый вопрос» (321).
Отсюда Плеснер делает вывод: вовсе не философия, а только практическая деятельность в бесчисленных ситуациях, каждая из которых неизбежно оказывается необозримой, решает вопрос о том, что собой представляет человек в тот или иной конкретный исторический момент. Сущность человека нельзя обнаружить «ни в каком нейтральном определении какой бы то ни было нейтральной ситуации» (319). В этой связи Плеснер заговаривает о Хайдеггере, чья фундаментальная онтология (по его, Плеснера, мнению) содержит слишком много нейтральных определений человеческого бытия.
Экзистенциальные понятия Хайдеггера, считает Плеснер, исторически индифферентны, и в этом заключается их недостаток. Например, само понятие историчности понимается не исторично.
По словам Плеснера, Макс Шелер и Мартин Хайдеггер исполняют, каждый на свой лад, «симфонию взглядов, бросаемых в Абсолютное» (286). Первый видит Абсолютное в творческом духе, второй – в основаниях, фундаментах присутствия.
У Хайдеггера такая позиция в конечном итоге приводит к презрительному отбрасыванию всей политической сферы, которую он считает сферой обезличенных людей (Man) и неподлинности – областью, резко отграниченной от сферы подлинного («собственного») бытия самости. Но эта последняя сфера, которую немцы обычно называют Innerlichkeit («внутренней жизнью»), как раз и есть то последнее метафизическое убежище, в котором люди еще пытаются укрыться от силы истории.
Хельмут Плеснер же хочет, чтобы философия изнутри себя раскрылась навстречу этой силе, даже рискуя погибнуть. Философия должна погрузиться в «бездонность реальности» (345), а это значит: осознать, что она сама, желает ли она того или нет, включена в «естественные жизненные отношения дружбы и вражды» (281). Для нее не может быть никакой лишенной напряжения «внеположности», никакой позиции «над» враждующими партиями. Нынешнее время не допускает никакого «универсалистского» расслабления, не дает никакой передышки. Философия, которая намеревается исходить из реальности, должна вступить в элементарные отношения дружбы и вражды и попытаться их понять, чтобы из них понять и саму себя. Здесь Плеснер явно опирается на определение «политического», данное Карлом Шмиттом.
Эссе Хельмута Плеснера было написано в период, когда в Германии уже начиналась гражданская война. Национал-социалисты добились убедительной победы на выборах в рейхстаг в сентябре 1930 года[231], штурмовые отряды патрулировали улицы городов, время от времени ввязываясь в уличные схватки с бойцами «Ротфронта»[232] или защитниками республики. Центристская позиция, ориентированная на разумные компромиссы, практически исчезла. Политический стиль того времени определялся формированием враждующих лагерей.
В этой ситуации Плеснер требует, чтобы философия наконец очнулась от своих грез, от обманчивого представления, будто она способна постичь «основание» человека. Она не умнее, чем политика. У обеих одно и то же поле зрения, «открывающееся в непостижимое «Куда», из которого философия и политика посредством рискованных предвосхищений… формируют смысл нашей жизни» (362).
Осознание радикально понимаемой историчности приводит Плеснера к той точке зрения, что философия – не только из-за навязанного ей извне обязательства, но и в силу внутренней логики своего развития – должна вступить в опасную сферу политической жизни. Но, открывшись навстречу политике, философия сразу же замечает, как трудно ей держаться на уровне требований своего времени. Философское мышление «никогда не бывает таким же широким, как жизнь, и вместе с тем оно всегда шире жизни» (349). Кажется, философия по самой своей сути не способна сосредоточиться на текущем историческом моменте. Поэтому она, как правило, ограничивается тем, что формулирует общие принципы или описывает свои видения. Она предпочитает держаться либо в сфере предпосылок, либо в сфере ожиданий. И уклоняется от запутанного «настоящего», от мига принятия решения. Политика же, как утверждает Плеснер, «есть искусство распознавать нужный миг, благоприятную возможность. Там все зависит от момента» (349). Плеснер хотел бы видеть такую философию, которая открывается навстречу этому «мигу».
Чего же в 1931 году требовал актуальный «миг» от философа? Ответ Плеснера: постижения значения «народности». «Народность есть такая же сущностная черта человека, как способность говорить «я» и «ты», как доверчивость и отчужденность» (361). Просто позволить своей сопричастности к народу раствориться в идее универсального гуманизма – наихудший вид идеализма. «Собственное» должно утвердить себя – это верно как в отношении индивида, так и в отношении народа. Но такое самоутверждение не предполагает господства одного над другими, образования иерархической структуры. Поскольку все народы и все культуры вырастают на «мощной почве… творческой субъективности», Плеснер признает «ценностно-демократическое равноправие всех культур» (318) и надеется на «постепенное преодоление абсолютизации собственной народности» (361). В переводе на ясный политический язык это означает: следует содействовать национальному самоутверждению немцев (вопреки несправедливым требованиям Версальского мирного договора и репарационным платежам), но одновременно – давать отпор национальному и, тем более, расовому шовинизму. И все-таки принадлежность к определенной «народности» сохраняет «аспект абсолютности», ибо индивид не может распоряжаться этой своей принадлежностью, а всегда уже изначально обнаруживает себя в ней. «Для человека все политические проблемы помещаются в горизонте его народа: потому что человек существует только в этом горизонте, в случайном преломлении этой возможности». Такая ситуация, говорит Плеснер, не допускает для человека «никакой чистой самореализации – ни в мыслях, ни в действиях… а [допускает] лишь относительную, ориентированную на определенную народность, к которой он всегда принадлежит по крови и в силу традиции» (361).
Плеснер заканчивает свое эссе еще одним критическим замечанием в адрес Хайдеггера, которому ставит в вину отсутствие интереса к «народности». Своей «философией подлинности» Хайдеггер еще более углубляет традиционный для Германии «разрыв между частной сферой спасения души и общественной сферой власти». И тем самым содействует распространению «политического индифферентизма», представляющего, по мнению Плеснера, опасность для «нашего государства и нашего народа».
Я позволил Плеснеру высказаться так пространно, потому что его философия, опирающаяся на идеи Хайдеггера, политизировалась и национализировалась «на виду у всех», с высокой степенью саморефлексии, тогда как у Хайдеггера те же процессы протекали скорее в скрытой, латентной форме. Но именно потому, что они происходили подспудно, Хайдеггеру в 1931 году, когда вышло эссе Плеснера с критикой в его адрес, не было нужды чувствовать себя задетым. Ибо к тому времени он тоже уже искал способы установления прочных связей с «народностью» и, значит, с политикой – искал почти на тех же путях, что и Плеснер.
Я еще раз напомню о том ходе мысли в «Бытии и времени», который связывает воедино понятия историчности, судьбы и народа. Идея принадлежности индивида к народному сообществу уже в этой работе играла определенную роль, пусть и не центральную. Хотя идеал экзистенции в «Бытии и времени» скроен по мерке свободного самоопределения индивида, Хайдеггер не хочет понимать его как индивидуализм. Поэтому он подчеркивает, что такие фактичные силы присутствия, как сообщество и народ, должны быть включены в собственный проект присутствия как аспекты брошенности. Тот, кто решился «свободнее от иллюзий» принимать «брошенность своего вот» (Бытие и время, 391), не может не заметить, что он не волен выбирать народ, к которому принадлежит, что он брошен и в народ, то есть от рождения принадлежит к истории, традиции и культуре этого народа. Хайдеггер называет судьбой такую вовлеченность индивидуального присутствия в «событие общности, народа» (там же, 384). Но эта сопричастность, как и другие виды жизненной самореализации, может проживаться по-разному – подлинно и неподлинно. Присутствие может осознанно принять судьбу народа, понятую таким образом; тогда оно будет готово разделить эту судьбу и нести за нее ответственность; оно сделает дело народа своим делом – и даже при необходимости пожертвует ради него собственной жизнью; оно «изберет себе своего героя» (там же, 385) из сокровищницы традиции этого народа. Но при всем том индивид не должен отказываться от своей ответственности перед самим собой. Подлинная связь с народом остается связью с собственной самостью. И, напротив, «неподлинно» ведет себя тот, кто ищет причастности к народу лишь затем, чтобы убежать от собственной самости; в его восприятии народ не будет ничем иным, кроме как миром «обезличенных людей» (Man).
Итак, поскольку может быть подлинная и неподлинная связь с народом, все рассуждения о народе и о принадлежности к нему неизбежно должны быть окрашены той двусмысленностью, которая присуща всякой «подлинной» мысли[233]. «Все выглядит так, словно подлинно понято, схвачено и проговорено, а по сути все же нет, или выглядит не так, а по сути все же да» (Бытие и время, 173).
В «Бытии и времени» Хайдеггер так и не сумел преодолеть эту двусмысленность. В книге идет речь о народе и о судьбе, но хайдеггеровская мысль еще не пытается понять, какой именно час пробил, чего конкретно требует текущий исторический миг. Хайдеггер еще не ищет «своего героя». Он еще не вышел за пределы забаррикадированной сложными терминами сферы принципиального – фундаментальной онтологии. Он еще подозревает конкретную историю в неподлинности; или формализует ее, сводя к историчности – пустой форме, равно способной вместить любой исторический «материал» и не вместить никакого. Его мышление требует от самого себя историко-политической открытости (причастности к «судьбе народа»), но еще не достигает такой открытости.
Тогдашняя критика заметила эту двусмысленность, эти колебания между неисторичной онтологией и постулатом историчности. Один из примеров тому – критические замечания Плеснера в адрес Хайдеггера. А еще раньше, в обстоятельной рецензии на «Бытие и время», Георг Миш высказался в том плане, что в Хайдеггере онтолог одержал верх над герменевтиком исторической жизни.
Сам Хайдеггер, хотя часто сетовал, что отклики на «Бытие и время» (якобы) свидетельствуют о непонимании его книги, как раз в этом был со своими оппонентами согласен. Во всяком случае, уже вскоре после публикации «Бытия и времени» он начал работать в направлении, указанном Плеснером и Мишем: размышлять о возможности более радикального понимания историчности, о соотнесенности философии с текущим «мигом» и о политической решимости.
18 сентября 1932 года Хайдеггер писал Элизабет Блохман, что успел далеко отойти от «Бытия и времени» и что путь, по которому он тогда следовал, теперь представляется ему заросшим и непроходимым. Уже с 1930 года он часто упоминал в письмах к Элизабет Блохман и к Ясперсу о необходимости нового начала, но также и о своих сомнениях относительно того, удастся ли ему это новое начало. В письме Ясперсу от 20 декабря 1931 года он открыто признает, что «дерзнул зайти слишком далеко, за пределы собственной экзистенциальной силы, не видя ясно ограниченности реально мною вопрошаемого» (Переписка, 212). В том же письме он ссылается на «берлинский эпизод», происшедший годом ранее.
28 марта 1930 года Хайдеггер получил приглашение в Берлин, на самую престижную философскую кафедру в Германии. Комиссия по замещению вакантных должностей, деятельность которой тогда еще курировал прусский министр по делам культов Беккер, была настроена в пользу Эрнста Кассирера. Хотя Хайдеггер и был включен в число самых ближайших кандидатов, мнение противников его назначения перевесило. В обстоятельствах этой истории разобрался Фариас[234]. Его разыскания показали, что против Хайдеггера выступал прежде всего Эдуард Шпрангер. Шпрангер первым поднял вопрос о том, что популярность Хайдеггера, возможно, объясняется скорее какими-то свойствами его личности, нежели достоинствами его философии, которая едва ли вообще пригодна для преподавания и изучения. В отчете комиссии говорилось: «В последнее время часто упоминают имя Мартина Хайдеггера. Если научная ценность его прежних литературных заслуг весьма спорна, то все же несомненно, что его личность… обладает большой притягательной силой. Между тем даже его почитатели признают, что из многочисленных студентов, которые толпятся вокруг него, едва ли хоть один действительно его понимает. В настоящее время он находится в состоянии кризиса. Следует подождать, пока он из него выйдет. Приглашать его в Берлин именно сейчас было бы роковой ошибкой».
Слухи о творческом кризисе, который якобы переживал Хайдеггер, основывались прежде всего на том, что вторая часть «Бытия и времени» еще не вышла из печати и даже не была заявлена. Книга о Канте, опубликованная в 1929 году, произвела двойственное впечатление, и, главное, ее не восприняли как продолжение «Бытия и времени». Представлению о кризисе способствовало и выступление Хайдеггера в Давосе. Все еще хорошо помнили, как резко он критиковал «философию культуры» и как пророчествовал о каком-то новом начале, смысл которого так и остался непроясненным.
В феврале 1930 года в прусском министерстве по делам культов произошла смена руководства. Место Беккера занял Адольф Гримме. Этот политик с философским образованием (между прочим, ученик Гуссерля), который входил в кружок религиозных социалистов, объединившихся вокруг Пауля Тиллиха, отверг список, представленный факультетом, и вопреки ясно выраженной воле факультетского начальства добился того, чтобы приглашение послали именно Мартину Хайдеггеру. Гримме хотел видеть на этом посту выдающуюся личность. Кроме того, антибуржуазные, проникнутые идеей культурной революции выступления Хайдеггера не могли испугать такого человека, как Адольф Гримме, который и сам когда-то участвовал в антибуржуазном молодежном движении. Берлинские либеральные газеты возмущались этим актом произвола: «Социалистический министр приглашает в Берлин реакционера в области культуры»…
В апреле 1930 года Хайдеггер поехал в Берлин на переговоры. Он специально выбрал путь через Гейдельберг, чтобы посоветоваться с Ясперсом. Ясперс еще раньше узнал о приглашении из газет и написал Хайдеггеру: «Вы займете заметнейшую позицию и оттого получите и осмыслите доселе Вам неведомые импульсы для философствования. Думаю, лучшей возможности не существует» (29.3.1930, Переписка, 194). Так как Ясперс сам когда-то надеялся получить берлинскую кафедру, ему было «чуточку больно. Но совсем-совсем чуточку – потому что приглашение получили теперь Вы» (там же, 195).
Хайдеггер, хотя министр проинформировал его о сопротивлении факультета, поначалу отнесся к переговорам всерьез. И попросил обеспечить необходимые условия, чтобы его жизнь могла протекать «вдали от помех, обусловленных сутолокой большого города, в относительном покое», аргументируя свое требование тем, что подобный жизненный уклад является непременной основой его философских занятий.
Однако потом, уже после возвращения во Фрайбург, Хайдеггер все-таки решил отклонить приглашение. «Отказ дался мне тяжело, особенно из-за самого Гримме», – писал он 10 мая 1930 года Элизабет Блохман. В письме же к Гримме обосновал свое решение следующим образом: «Сегодня, именно когда я вплотную приблизился к началу уверенной работы, я не чувствую себя в достаточной мере подготовленным, чтобы выполнять обязанности, связанные с берлинской профессурой, так, как считаю необходимым этого требовать от самого себя или от любого другого. Действительно долговечной может быть только такая философия, которая поистине есть философия своего времени, т. е. владеет своим временем».
Последняя фраза имеет решающее значение: Хайдеггер откровенно признает, что еще не чувствует себя «в достаточной мере подготовленным», что еще не пришел к «истинной философии», которая не только – в гегелевском смысле – выражает свое время, но и владеет им, а это значит, что она должна указывать ему направление или, как скажет Хайдеггер год спустя в лекции о Платоне, должна «преодолевать настоящее».
Хайдеггер чувствует, что еще не дорос до уровня этого предъявленного самому себе требования, но он также пишет, что находится на верном пути, что начало уже положено.
Хотя уже первое приглашение в Берлин вызвало большой общественный резонанс, в тот раз со стороны Хайдеггера еще не последовало триумфального по тону и программного по характеру заявления о «приверженности провинции»[235]; он ограничился лишь скромным признанием недостаточности достигнутых им до сей поры результатов. Письмо к Гримме заканчивается просьбой «принять во внимание границы, которые существуют и для меня».
Истинная философия, как писал Хайдеггер, должна «владеть своим временем». Он поставил перед философией и перед самим собой грандиозную задачу: философия должна доказать, что способна поставить верный диагноз эпохе и обладает прогностической силой; кроме того, она должна предложить конкретные решения насущных проблем – а не просто проявить абстрактную решимость. Необходимы такие философские взгляды, которые могут быть политизированы; философия должна уметь показывать альтернативные варианты политического действия и, по возможности, помогать делать выбор между ними. Вероятно, все это и имел в виду Хайдеггер, когда утверждал, что философия должна «владеть своим временем».
Требования, которые предъявлял к философии Хайдеггер, соответствовали духу времени. Это особенно отчетливо видно на примере взбудоражившей тогдашний культурный мир большой дискуссии о «социологии знания», поводом для которой послужило яркое выступление Карла Мангейма[236] на конференции социологов в 1928 году. Один из участников этого мероприятия, молодой Норберт Элиас[237], говорил тогда о только что свершившейся «духовной революции», а социолог Альфред Мёзель сказал, что испытывает «ощущение тревоги», как будто ему предстоит пересечь «разбушевавшийся океан на не приспособленном для морского плавания судне». Что же произошло?
Карл Мангейм выступил с докладом о «значении конкуренции в духовной сфере», в котором, как казалось на первый взгляд, прибег к обычному марксистскому объяснению «духовных образований» из условий общественного базиса. Провоцирующим для марксистов было, однако, то обстоятельство, что подозрение в «идеологичности», которому марксисты, как правило, подвергали только своих противников, Мангейм обратил против них самих[238]. Тем самым он поставил под сомнение их претензии на обладание универсальной истиной. Однако такого рода оскорбление марксистов само по себе вряд ли могло бы вызвать столь сильное и всеобщее возбуждение в научном мире. Выступление Мангейма было провоцирующим прежде всего потому, что он предложил принцип, согласно которому при анализе «духовных образований» вопрос об истине вообще не должен ставиться. С его точки зрения, в духовной сфере существуют лишь различные «стили мышления», определяемые двумя видами отношений (сам Мангейм называл свой подход «реляционистским»[239]): с одной стороны, эти стили мышления непосредственно соотносятся с «естественной» и «цивилизационной» реальностями, с другой – соотносятся друг с другом[240]. Результатом такого рода отношений является комплексный процесс формирования традиций и консенсусных сообществ, конкуренции и открытой вражды – процесс, очень похожий на развитие свободного рыночного хозяйства. Конечно, описанный процесс имеет «базис», но сам этот базис может быть постигнут только посредством анализа того или иного стиля мышления. Вопрос о том, в чем коренится мышление как таковое, в условиях борьбы между разными стилями мышления неизбежно должен оставаться спорным. Поэтому и не может быть никакого готового определения для этого «базиса». В качестве самого общего определения Мангейм использует понятие «бытие», подразумевая под ним всю совокупность того, с чем вообще может соотноситься мышление и что может стимулировать мышление, «бросая ему вызов». Мышление, по словам Мангейма, никогда не имеет дела с голой, или действительной, реальностью, но всегда движется в уже интерпретированной, как-то понятой реальности. Мангейм критически комментирует хайдеггеровский анализ обезличенного человека (Man). «Философ подвергает рассмотрению это «Man», этого таинственного субъекта[241], но его не интересует, как формируется это «Man». Однако именно там, где философ перестает задавать вопросы, начинается социологическая проблема. Социологический анализ показывает, что такая общепринятая интерпретация бытия не просто наличествует, но и не придумывается кем-то – за нее борются. И вовсе не созерцательная любознательность определяет интересы борющихся сторон; интерпретация мира по большей части является коррелятом борьбы отдельных групп за власть».
Реляционизм Мангейма предполагает, что на обладание истиной не может претендовать ни одна мировоззренческая партия, ни один проект истолкования действительности. Как и исторические эпохи, о которых говорил фон Ранке[242], все «духовные образования» равноценны – если и не перед Богом, как утверждал прусский историк, то, во всяком случае, с точки зрения фундирующего их бытия. Никаких «привилегированных» подходов не существует. Каждое мышление характеризуется «связанностью бытием» (Seinsgebundenheit) – и каждое связано им на свой лад. Но главное: мышление, будь то индивидуальное или групповое, всякий раз коренится в особом бытии конкретного индивида или конкретной группы. В фундаментах разных типов мышления заложены «парадигматические первичные типы опыта, свойственные определенным жизненным укладам» (345), которые потом находят выражение в разных «духовных образованиях» и, следовательно, имеют «неустранимые шероховатости (Unschlichtbarkeiten) экзистенциального характера» (356). Поэтому в принципе невозможно полностью ликвидировать все различия и разработать общее для всех мировоззрение, а потом вывести из него единые правила, регулирующие практическую деятельность. Однако, как утверждает Мангейм, политическая задача «социологии знания» как раз и состоит в том, чтобы уменьшать противоречия и конфликты – для этого нужно показывать, что у каждой из враждующих партий, ведущих конкурентную борьбу «на вытеснение» противников, имеется своя полезная правда, своя «связанность бытием». Благодаря такого рода взаимопониманию в разорванном на части целом станет меньше энергии враждебности. Если будет сделан этот шаг, в обществе смогут сосуществовать разные мировоззрения, из которых ни одно уже не посмеет претендовать на обладание абсолютной истиной; в самом же лучшем случае мировоззренческие партии научатся ускорять посредством своего сотрудничества и противостояния («дисциплинированных» благодаря тому, что они станут прозрачными друг для друга) сам ход исторического развития. Общество, которое представляет собой не что иное, как совокупность отношений между его частями, нуждается в «социологии знания» – так постоянно ссорящиеся супруги нуждаются в услугах давно наблюдающего за ними психотерапевта. «Социология знания» не характеризуется никакой привилегированной «связанностью бытием», не обладает никакой истиной, претендующей на вневременной характер; только в достаточной мере доказав, что они – «социально-свободно-парящие интеллектуалы»[243], профессионалы «социологии знания» смогут подтвердить свою пригодность для роли политического арбитра, «шлифовальщика», который частично устраняет «шероховатости» и тем самым, насколько это возможно, нейтрализует противоречия. «Социология знания» отдает себе отчет в том, что достижение полной гомогенности общества невозможно, да и нежелательно. Духовно-политическая программа «социологии знания» нацелена на другое: на ослабление противоречий путем убедительной демонстрации того факта, что именно не поддающаяся устранению часть «связанных бытием» различий коренится в «глубинных слоях человеческого миротворчества (Weltformung)» (350).
«Социологию знания» Мангейма можно рассматривать как предпринятую на исходе Веймарского периода впечатляющую научно-политическую попытку спасти либерализм, подкрепив его своего рода онтологическим плюрализмом. По Мангейму, мышление должно проводить различие между устранимыми и неустранимыми противоречиями, искать пути к рациональному компромиссу там, где таковой возможен, а в других случаях внушать людям уважение к тайне «неустранимых шероховатостей экзистенциального характера». Карл Мангейм закончил свое выступление так: «Тот, кто хотел бы видеть иррациональное уже там, где de jure еще должны править ясность и строгость рассудка, просто боится встретиться лицом к лицу с тайной на ее истинном месте» (369).
Хайдеггер принял к сведению эту социологическую программу разрядки напряженности. Но он, конечно, не мог рассматривать такую попытку спасти либерализм посредством демонстрации его связи с онтологическим плюрализмом как ценный вклад в решение насущных проблем эпохи. Он попросту сомневался в том, что «социология знания» хотя бы на шаг приблизилась к «тайне на ее истинном месте».
В цикле лекций о Платоне, прочитанном в зимний семестр 1931/32 года и в значительной мере посвященном «притче о пещере» из платоновского «Государства», Хайдеггер отвел сторонникам «социологии знания» место в пещере, среди узников, которые могут наблюдать только игру теней на стене и не видят ни настоящих предметов, ни, тем более, освещающего весь мир солнца. Того, кто вырвался бы из пещеры к свету истины, а потом вернулся в темноту, чтобы освободить своих прежних товарищей по несчастью, узники вряд ли встретили бы добром. «Ему сказали бы, что он пристрастен, что он, откуда бы ни пришел, занимает одностороннюю – в их глазах – позицию; и вероятно – даже наверняка! – те, кто внизу, владели бы так называемой «социологией знания» и с ее помощью объяснили бы ему, что он работает с так называемыми «мировоззренческими предпосылками», а это, естественно, ощутимым образом мешает совместному мышлению в пещере и потому должно быть отвергнуто». Однако истинный философ, уже увидавший свет, не станет придавать большого значения этой «пещерной болтовне», а «крепко ухватит и силком потащит к выходу» тех немногих, которые того стоят, чтобы «попытаться в конце концов вывести их из пещеры» (GA 34, 86).
В 1930 году Хайдеггер заявил о том, что философия должна «владеть своим временем». Однако, как мы увидим, в последующие годы он все глубже погружался в историю греческой мысли. Значит ли это, что он пытался убежать, укрыться от истории? Такое подозрение он отметал от себя (в только что упомянутых лекциях о Платоне) чуть ли не с яростью: «В подлинном смысле возвращаясь в историю, мы отодвигаемся от настоящего, благодаря чему только и образуется свободное пространство для разбега, необходимого, чтобы перепрыгнуть через наше собственное настоящее, т. е. проявить к нему такое отношение, какого единственно и заслуживает любое настоящее: принять его как то, что должно быть преодолено… В конечном итоге только возвращение в историю впервые переносит нас в то, что собственным образом совершается сегодня» (GA 34,10).
Но Хайдеггеру угрожала опасность надолго «застрять» в истории прошлого, и иногда его одолевали сомнения: сможет ли он, обеспечив себе пространство для разбега, действительно совершить прыжок в настоящее? Впечатление, которое производила на него философия Платона, было столь сильным, что Хайдеггер вновь и вновь задавал себе вопрос: а сумеет ли он вообще добавить к тому, что уже содержится в ней, что-нибудь свое, новое? Ясперсу он писал, что видит себя «в роли смотрителя галереи» Великой Философии, «который, в частности, следит за тем, чтобы шторы на окнах были надлежащим образом раздвинуты или задернуты, дабы немногие великие произведения прошлого были более или менее хорошо освещены для случайно забредших посетителей» (20.12.1931, Переписка, 212). Насколько всерьез он воспринимал эту комичную самохарактеристику, показывает одно его замечание из письма к Элизабет Блохман: «Чем больше я углубляюсь в собственную работу, тем неотвратимее влечет меня каждый раз к великому началу, к грекам. И часто я колеблюсь, спрашивая себя, не правильнее ли было бы оставить все собственные попытки и работать только ради того, чтобы этот мир снова встал у нас перед глазами – не просто как пример для подражания, а во всем своем волнующем величии и в своей архетипичности (Vorbildlichkeit)» (19.12.1932, BwHB, 55).
Хайдеггер занимался проблемой греческих истоков философии еще с начала двадцатых годов. Однако именно теперь творения античных философов начали оказывать на него столь мощное воздействие, что временами его собственное философское самосознание оказывалось на грани исчезновения. Он ощущал собственную ничтожность – правда, только в сравнении с греками, а не с философами современности.
Таким образом, интенсивное изучение греческой философии сопровождалось у Хайдеггера двойственным настроением. Перед ним открылся бесконечный горизонт, который окрылял его, дарил мощное ощущение свободы. С другой стороны, в сравнении с этим горизонтом он сам казался себе маленьким и ничтожным. Возникало сильное искушение просто исчезнуть, раствориться в этом прошлом; однако его радикальное понимание историчности, в соответствии с которым философия должна владеть текущим историческим мигом, не позволяло ему целиком сосредоточиться на истоке. Он чувствовал, что обязан правильно истолковать столь приятное для него погружение в прошлое – как обеспечение дистанции для разбега, после которого должен последовать прыжок в настоящее. Но Хайдеггер без всяких иллюзий отдавал себе отчет в том, что как академический философ он застрял в «тесном пространстве» таких феноменов, «о которых можно задавать вопросы по существу», и что ему мешает двинуться дальше «сращенность с собственной работой» (письмо к Элизабет Блохман, 10.5.1930, BwHB, 35). В те мгновения, когда его охватывала депрессия, Хайдеггер чувствовал: он сам сидит в пещере. По поводу насущных проблем современности он, если вдуматься, пока еще не мог сказать ничего особенно важного, никакого собственного слова. И это его мучило. Настроение Хайдеггера постоянно колебалось: временами он ощущал в себе силы, потребные для «нового начала», чувствовал себя равноправным с Платоном; в другие моменты казался самому себе «пустым», лишенным оригинальности и творческой силы. Слишком амбициозные намерения отчасти захватывали его, влекли вперед, а отчасти, наоборот, тяготили. В письме Ясперсу Хайдеггер выразил эти намерения в по-платоновски краткой и емкой формуле: роль философии – быть ««сведущим» водителем и стражем» в «подлинной публичности» (20.12.1931, Переписка, 212).
Что же Хайдеггер нашел у Платона, какие идеи греческого мыслителя оказали на него столь мощное воздействие, что его собственное «небольшое «мое»» стало растворяться «в этой строгой атмосфере» (письмо Ясперсу 8.12.1932, Переписка, 217)? И вообще – какие взгляды должен иметь философ, чтобы быть пригодным для роли ««сведущего» водителя»!
Первая половина лекционного курса о Платоне 1931/32 учебного года, как уже говорилось, была посвящена интерпретации «притчи о пещере» из платоновского «Государства». Хайдеггер подробно описывает и истолковывает отдельные фазы этой истории. Первая ступень: жители пещеры наблюдают игру теней на расположенной перед ними стене. Вторая ступень: с одного из них снимают оковы, его освобождают. Третья ступень: теперь он может повернуться, видит предметы, костер за ними; его выводят на ясный свет дня. Ослепленный, он поначалу вообще ничего не в силах разглядеть, но затем предметы перед ним начинают сверкать на свету, они становятся «более сущими», и в конце концов он замечает солнце, которое не только освещает всё вокруг, но и позволяет всему расти и процветать. Четвертая ступень: освобожденный опять спускается в пещеру, чтобы освободить своих товарищей, но они противятся этому, не желая быть вырванными из привычной среды. Освободитель предстает в их глазах смехотворным безумцем, самонадеянным и опасным. Они убьют его, если сумеют схватить.
Эта притча поначалу кажется кристально ясной – тем более что Платон сам, рассказав ее, потом еще и интерпретирует. Узники «скованы» своими внешними ощущениями, своим внешним восприятием. «Освобождение» высвобождает их внутреннее ощущение, то есть мышление. Мышление есть созерцательная способность души. Если чувственность и мужество, две другие способности души, неразрывно связаны с чувственно воспринимаемым миром, то мышление вырывается на волю и видит вещи такими, каковы они на самом деле. Солнце, к которому мышление в конце концов воспаряет, есть символ высшей истины. Но что представляет собой эта истина? Платон отвечает: добро. А что такое «добро»? Оно – как солнце. Это утверждение имеет двойной смысл. Во-первых, добро позволяет видеть вещи, делает возможными познаваемость вещей и, следовательно, наше познание; во вторых, оно позволяет всему сущему рождаться, расти и процветать. Добро дает восторжествовать зримости, что идет на пользу даже и обитателям пещеры, поскольку огонь, производное от солнца, позволяет им по крайней мере видеть различные тени; да и потом, только благодаря добру вообще существует нечто и это Нечто «держится» в бытии. Это всеохватное бытие, живущее силой добра, Платон представляет себе как справедливо устроенное сообщество – идеальный полис. Диалог-притча должен прояснить вопрос о сущности справедливости, и Платон недвусмысленно дает понять, что справедливость, то есть упорядоченное добром бытие, лишь с трудом можно постичь путем исследования души – что лучше рассматривать ее в более крупном масштабе, в масштабе полиса. Тот, кто научится распознавать справедливость в «макроантропосе» полиса, сумеет распознать ее и в душе отдельного человека. Основной принцип справедливости, который Платон демонстрирует на примере своего идеального государства, заключается в поддержании правильной меры и порядка. В иерархически упорядоченном мире, состоящем из неодинаковых, неравных между собой людей, каждому человеку отводится такое место, на котором он сможет развить присущие ему способности и поставить их на службу Целому. Образ гармонически функционирующего Целого Платон расширяет и за пределы полиса: он рисует еще более масштабную картину пифагорейской гармонии сфер. Но на этом круг замыкается. Душа, согласно Платону, имеет космическое происхождение, а космос подобен душе. Душа и космос пребывают в сфере покоя и неизменности. Они и представляют собой чистое бытие, в противоположность меняющемуся времени – становлению.
Но из такого платонизма Хайдеггер не смог бы извлечь ничего значимого для себя. Начнем с последнего из названных аспектов, с бытийного идеала постоянства.
Для Хайдеггера смысл бытия – это время, то есть конечность (обреченность на смерть) и событийность. Для него не существует бытийного идеала устойчивости, и, по его мнению, задача мышления состоит именно в том, чтобы сделать человека восприимчивым к протеканию времени. Мышление повсюду открывает временной горизонт – тогда как повседневная тенденция к опредмечиванию «замораживает» отношения и ситуации, заставляя их застыть в состоянии фальшивой безвременности. Мышление должно размораживать, должно вновь препоручать сущее, и прежде всего само присутствие, потоку времени; оно упраздняет метафизический потусторонний мир вечных идей. В результате не остается ничего такого, что могло бы сохранять устойчивость в «водовороте вопросов».
Следовательно, чтобы чего-то добиться от Платона, Хайдеггеру нужно было прочитать его тексты, так сказать, перевернув их с ног на голову. Это касается такого аспекта, как противоположность платоновского «покоящегося бытия» и хайдеггеровского понятия времени. Это касается и вопроса об «истине».
У Платона мы сталкиваемся с такой «истиной», которая обладает устойчивым постоянством и, следовательно, просто ждет, когда мы ее обнаружим. Тени на стене – плохие копии оригиналов, а именно, тех отбрасывающих тени предметов, которые кто-то проносит за спинами узников и которые освещаются отблесками костра. Отражение сохраняет связь с оригиналом. Но и сами эти «оригинальные» вещи, в сравнении с более высокой ступенью реальности, то есть с идеями, суть всего лишь несовершенные отражения. Истинное познание проникает сквозь отражения и открывает оригинал – то, что в собственном смысле «существует». Истина – это правильность, соответствие познания познанному. Впечатления жителей пещеры неистинны, потому что эти люди воспринимают только видимости, не замечая просвечивающего сквозь них бытия. Платон признавал абсолютную истинность идей. И считал, что она может быть постигнута в состоянии душевного подъема, когда мышление колеблется между математикой и мистическим экстазом. Но для Хайдеггера не может быть такой истины; для него существует только «событие истины», которое происходит, когда человек вступает в определенное отношение с самим собой и с миром. Человек не открывает никакой существующей независимо от него истины; он набрасывает – по-разному в разные эпохи – тот или иной горизонт истолкования, в котором реально существующее только и получает определенный смысл. Такое понятие истины Хайдеггер частично уже развил в «Бытии и времени» и потом, в расширенном варианте, в докладе 1930 года «О сущности истины».
Истина, говорил он в этом докладе, не пребывает ни на стороне субъекта (как «истинное» высказывание), ни на стороне объекта (как нечто правильно охарактеризованное); она есть событие, свершающееся в двойном движении: движении мира, который обнаруживает себя, выступает вперед, «показывается», и движении человека, который овладевает миром и открывает его для себя. Это двойное событие предполагает наличие некоей дистанции, отделяющей человека от него самого и от его мира. Человек знает об этой дистанции и, следовательно, знает также, что есть мир, который показывает себя ему, и другой, который от него прячется. Человек знает это потому, что и самого себя ощущает как существо, которое может показываться, а может и прятаться. Эта дистанция и есть пространство свободы. «Сущность истины есть свобода» (О сущности истины, 15). Свобода в этом смысле означает: быть дистанцированным, иметь перед собой свободное пространство. Дистанцированность, обеспечивающую такое свободное пространство, Хайдеггер также называет открытостью. Только в этой открытости и возможна игра сокрытия и раскрытия. Не будь этой открытости, человек не мог бы отличить себя от того, что его окружает. Он не мог бы отличить себя даже от себя самого, то есть не знал бы, что он вообще есть. Только потому, что имеется эта открытость, человеку может прийти в голову мысль соотнести свои высказывания о реальности с тем, что из этой реальности ему «показывается». Человек не обладает никакими непоколебимыми истинами, но он – непоколебимо – пребывает в таком отношении к истине, которое порождает игру сокрытия и раскрытия, появления и исчезновения, присутствия и отсутствия. Самое краткое выражение такого понимания истины Хайдеггер обнаружил в греческом термине алетейя, в буквальном переводе означающем «непотаенность». Истина должна быть вырвана из потаенности; это происходит либо таким образом, что нечто сущее показывает себя, проявляется, либо таким, что сам человек «выведывает» некое сущее, раскрывает его. В любом случае здесь имеет место своего рода борьба.
Эти рассуждения неизбежно подводят к выводу, что не может быть никакого «метаисторического» критерия истины. Нет бесконечной истории приближения к истине, как нет и описанного Платоном «воспарения» души к небу идей; существует только «событие истины», а это означает: есть история набросков (проектов) бытия. Которая идентична истории основных парадигм культурных эпох и типов цивилизации. Для Нового времени, например, определяющим является бытийный проект, связанный с природой. «Решающее, что [тогда] произошло, заключается в осуществлении проекта, посредством которого уже наперед было ограничено то, что вообще в будущем должно пониматься под природой и природным процессом: определенная в пространственно-временном отношении подвижная взаимосвязь между точками массы» (GA 34, 61). Этот бытийный проект – который, конечно, следует представлять себе не как порождение какой-то одной головы, а как результат культурного синтеза – определяет современность во всех ее аспектах. Природа становится предметом оценки, исчисления, да и на самого себя человек смотрит теперь как на вещь среди вещей; поле внимания суживается, ограничиваясь лишь теми аспектами мира, которыми, как кажется, можно так или иначе овладеть, чтобы потом ими манипулировать. Эта фундаментальная позиция – позиция инструментализма – вызвала ускорение технического развития. Вся наша цивилизация, говорит Хайдеггер, есть реализация определенного проекта бытия, в сфере действенности которого мы остаемся даже при «столь тривиальном происшествии, как любая поездка на трамвае по городу» (GA 34, 121). Если наши знания приводят к обретению важных технических навыков, это не означает, что они «более истинны», чем другие, прежние знания; просто природа дает различные ответы – в зависимости от того, какие вопросы мы ей задаем. Когда мы воздействуем на нее, она всякий раз раскрывает разные свои аспекты. А поскольку мы сами являемся частью природы, мы и сами изменяемся в зависимости от характера нашего воздействия. Мы тоже раскрываемся и тем самым даем проявиться, активизироваться каким-то новым, не ведомым прежде аспектам нашей сущности.
Нет никакой истины в смысле большого неизвестного X, к которой мы приближались бы в ходе бесконечного прогресса и которой все в большей мере, все точнее соответствовали бы наши высказывания о ней; есть лишь наше активное противостояние (Auseinandersetzung) с сущим, которое (сущее) всякий раз показывает себя по-иному, – но и мы тоже всякий раз показываем себя по-иному. И все это – творческий процесс; ибо каждый бытийный проект порождает особый, определенным образом истолкованный и организованный мир, материальный и духовный.
Хотя, как мы видели, не существует абсолютного критерия истины, а только динамическое «событие истины», Хайдеггер все же находит лежащий за пределами этого «события истины» критерий для его оценки – критерий успешности. В зависимости от того, как мы встречаем сущее и какой способ бытийствования для него допускаем, оно может проявлять себя как «более сущее» или, напротив, «менее сущее». Современное технически-рациональное понимание природы является, по мнению Хайдеггера, таким бытийным проектом, который заставляет сущее блёкнуть. «Это еще вопрос, действительно ли благодаря такой науке сущее стало более сущим, или, напротив, между сущим и познающим человеком вклинилось нечто совершенно иное, из-за чего связь с сущим порвалась, инстинктивное понимание сути природы у человека исчезло, а инстинктивное понимание сути другого человека оказалось подавленным» (GA 34, 62).
Из процитированного отрывка можно понять, что Хайдеггер, вводя сравнительный критерий «более сущего», имел в виду большую или меньшую интенсивность жизненных проявлений: может ли сущее «показаться» во всей полноте своих возможностей, отпускаем ли мы на волю себя и мир, позволяет ли характер нашего внимания, чтобы сущее «выступило вперед» во всем своем богатстве и росло – и чтобы мы сами при этом росли. «Сущностным взглядом, нацеленным на возможное» (GA 34, 64), называет Хайдеггер такое внимание, обладающее своими особыми органами: «изначальной философией» и «великой поэзией». Та и другая делают «сущее более сущим» (GA 34, 64).
После 1933 года Хайдеггер будет философствовать, в основном идя по следу «великой поэзии»; в начале тридцатых годов роль такого стимула для него играет «изначальная философия» – философия Платона.
Однако Платон, этот метафизик абсолютной истины par exellence, вряд ли мог дать какие-то отправные точки для хаидеггеровского понимания истины как «события истины». Или все-таки мог?
Хайдеггер признает – впрочем, это было бы трудно опровергнуть, – что у Платона фундаментальный опыт переживания алетейи, понимаемой как открывающее событие истины (в данном случае речь не идет об «объективной» истине), уже начал «утрачивать свою действенность» и преобразовываться в «обычное понимание сущности истины» как «правильности» высказывания (GA 34, 17)[244]. Если Хайдеггер хочет найти «великое начало» у греков, ему не остается ничего иного, как «понять» Платона лучше, чем тот сам себя понимал. Поэтому он исключает из своего анализа то, с чем соотносил истину Платон, – мир идей, управляемый солнцем, которое символизирует высшую «идею добра», и сосредоточивает внимание почти исключительно на процессе освобождения и восхождения души; причем, по Хайдеггеру, процесс этот заключается вовсе не в обнаружении скрытого за внешними видимостями «духовного мира». Хайдеггер видит в этом освобождении такое изменение позиции и установки, в результате которого сущее становится «более сущим». Он не признает сходства описанного Платоном воспарения души с бегством от действительности. Напротив: по его мнению, только тот, кто освобождается из пещеры теней (мнений, привычек, повседневных установок), по-настоящему приходит к миру – к реальному миру. А что есть реальный мир? Мы это уже знаем, Хайдеггер достаточно часто его описывал: мир, увиденный в перспективе подлинности; арена брошенности и бытийного проекта, заботы, жертвы и борьбы; мир, которым управляет судьба, которому угрожают Ничто и ничтожение; опасное место, где только решившиеся на бесприютность, подлинно свободные индивиды способны выстоять, не ища защиты под кровлей навязываемых им «истин». Поскольку для Хайдеггера важнее всего эта картина мира, он не задерживается на подлинной кульминации «притчи о пещере» – спасительном миге экстатического созерцания солнца, – а поспешно возвращается (вместе с только что перенесшимся в иной мир героем Платона) назад в пещеру. Согласно Хайдеггеру, именно там действие притчи достигает своей кульминации. Потому что освобожденный и увидевший свет узник теперь становится освободителем. Но освободитель «должен быть насильником» (GA 34, 81), ибо закованные в цепи узники успели обжиться в своем мире и вовсе не хотят, чтобы их освобождали: ведь ничего другого они не знают. Хайдеггер обыгрывает два аспекта платоновского сюжета, создавая героический образ философа: увидевший свет призван стать вождем и стражем; и он должен быть готов к тому, что при попытке освободить узников может оказаться в роли мученика. Эти люди будут защищаться и ответят насилием всякому, кто попытается применить насилие к ним. Может быть, они даже убьют философа, чтобы он не посягал на их безмятежное существование.
Итак, философ-вождь, ощущающий свое призвание в том, чтобы стать для всего сообщества зачинателем нового «события истины», пробудить новое отношение к истине… И он же – философ-мученик, который не только, подобно Сократу, умрет смертью философа, но, возможно, еще до своей смерти переживет смерть самой философии… Философия неизбежно отравится, говорит Хайдеггер, если она подчиняется привычкам жителей пещеры и их представлениям о полезности. Хайдеггер с ядовитой желчностью перечисляет нынешние роли философии: философия как остаточная форма религиозного назидания; как служанка позитивных наук, обеспечивающая им гносеологический базис; как простая болтовня на мировоззренческие темы; как однодневные литературные поделки, коими торгуют на ярмарке интеллектуальных честолюбий. Все это означает, что философия, очевидно, претерпела некую болезнь, выражавшуюся в «изничтожении и обессиливании собственной ее сущности» (GA 34, 86). Подлинная философия – та, что у Платона созерцала солнце добра, а у Хайдеггера срывала плоды свободы; та, что, согласно Платону, обладает истиной, а по мнению Хайдеггера, способствует «событию истины», – эта подлинная философия ныне оказалась в тупике; ибо она не может защищаться от отравления, от того, что ее инструментализируют, руководствуясь соображениями пользы и общепринятыми мнениями; если же она попытается сопротивляться, то навлечет на себя презрение и будет оттеснена в сторону. Однако этика свободы запрещает ей и уклонение от опасности. Она не вправе просто уйти из пещеры: «Бытие-свободным, бытие-освободителем – это со-участие в историческом действии» (GA 34, 85). Хайдеггер делает отсюда такой вывод: «Подлинное философствование бессильно в сфере господствующей самоочевидности; и лишь постольку, поскольку сама эта самоочевидность меняется, философия может обращаться [к людям]» (GA 34, 84).
Хайдеггер опять вспоминает об истории. «Господствующая самоочевидность» должна измениться, прежде чем подлинная философия сможет обратиться к людям. Что же тогда остается, кроме ожидания великого исторического мига? Есть, правда, и иная возможность: возможность того, что однажды появится великий философ, который, как говорил Хайдеггер в лекционном курсе по метафизике 1929/30 учебного года, будет обладать харизмой, позволяющей ему стать для других людей судьбой, побуждением «к тому, чтобы в них пробудилось философствование» (Основные понятия метафизики, 337). Хайдеггер, который пока еще видит себя в роли смотрителя Галереи Философии, заботящегося о том, чтобы великие работы мастеров прошлого были правильно освещены, тем не менее уже задумывается о новой роли: роли предтечи, «приуготовляющего путь» (как сказано в лекциях о Платоне) тому, кто должен прийти после него (GA 34, 85). Тогда же, в одном из писем Ясперсу, Хайдеггер задает вопрос, сформулированный в туманном стиле Сивилл иных пророчеств: «Удастся ли в следующие десятилетия создать для философии почву и пространство? Придут ли люди, которые несут в себе далекое предназначение?» (8.12.1932, Переписка, 217).
Но если великое изменение в истории произойдет при участии философов, если подлинное философствование должно рассматривать как работу освобождения, значит, связи философии с политической сферой избегать более не следует. В политическое измерение ведет в конечном счете и то восхождение души, которое описано в «Государстве» Платона. Там, как известно, Платон развивает идею, согласно которой общество может быть хорошо организовано лишь в том случае, если им управляют истинные философы. Сам Платон предпринял такого рода попытку при дворе сиракузского тирана Дионисия, но потерпел сокрушительную неудачу. Он был продан в рабство и лишь благодаря счастливой случайности снова обрел свободу.
Однако Платона это не смутило: он считал, что истинного философа просветляет идея добра. Философ создает порядок в себе самом, приводя в состояние гармонии способности души – чувственное влечение, мужество, мудрость; по модели этой внутренней гармонии он сможет упорядочить и человеческое сообщество. Общество, подобно правильно устроенной душе, развивается как трехступенчатая структура: чувственному влечению соответствует класс трудящихся; мужеству – класс воинов и стражников; мудрости – класс правителей-философов. Эта троичная структура на протяжении долгого времени определяла политическое мышление западных стран; в Средние века она приняла форму триады «крестьяне – рыцари – священники»; отголоски той же идеи можно уловить и в ректорской речи Хайдеггера, в рассуждении о триединстве трудовой, воинской и научной «повинностей».
Философ, который, уже узрев солнце, потом как освободитель возвращается в пещеру, наверняка имеет в запасе этические максимы. Платоновское «Государство», вне всяких сомнений, представляет собой философски-этический труд. Тем удивительнее, что Хайдеггер, постоянно размышлявший о том, как философия в наше время может вновь вернуть себе могущество, утверждал, будто платоновская идея добра «вообще не содержит в себе ничего этического или морального»[245], и призывал своих слушателей «воздерживаться от всякого сентиментального представления об этой идее добра» (GA 34, 100).
По мере приближения к концу лекционного курса все неотступнее встает вопрос: если Хайдеггер отодвигает на второй план конкретную политическую этику Платона, то что же в платоновской философии оказывает на него столь поразительное по своей мощи воздействие?
В «притче о пещере» бывшего узника, который освободился и узрел свет, ничто не принуждает возвращаться в качестве освободителя в пещеру. Он мог бы удовлетвориться тем, что сам спасся, обретя истину, достигнув наивысшей формы человеческого существования – βίος θεωρητικός («созерцательной жизни»). Почему он вновь решается смешаться с людьми, почему хочет вершить среди них работу освобождения, почему вообще мудрость возвращается на ярмарку политической жизни? Платон ставит все эти вопросы и затем проводит различие между бесспорно добродетельным идеалом политической справедливости и индивидуалистическим идеалом освобождения от сложностей политической жизни. «Практическая философия» и «философия освобождения» противостоят друг другу. Философ волен выбирать между ними. «Все вошедшие в число этих немногих, отведав философии, узнали, какое это сладостное и блаженное достояние; они довольно видели безумие большинства, а также и то, что в государственных делах никто не совершает, можно сказать, ничего здравого… Учтя все это, он [философ] сохраняет спокойствие и делает свое дело, словно укрывшись за стеной в непогоду. Видя, что все остальные преисполнились беззакония, он доволен, если проживет здешнюю жизнь чистым от неправды и нечестивых дел, а при исходе жизни отойдет радостно и кротко, уповая на лучшее»[246]. Эта возможность самоосвобождения посредством философии всегда оставалась для Платона соблазном, альтернативой политической этике.
Но если Хайдеггер выносит за скобки политическую этику Платона, то, может быть, его вдохновляет этот соблазнительный вариант самоосвобождения с помощью философии? Нет – ибо Хайдеггер недвусмысленно говорил о «со-участии в историческом действии» (GA 34, 85) как обязанности философа. Что же тогда – если мы установили, что это не могла быть ни конкретно сформулированная этика Платона, ни желание спасти самого себя с помощью философии, – побуждало Хайдеггера философствовать «вослед» Платону?
Да просто притягательность самого акта освобождения, выхода на открытый простор; тот запечатленный в платоновском сочинении «изначальный опыт», который показывает, что все свойственные определенной культуре и цивилизации общепринятые нормы, представления об обязательном, ценностные ориентации по большому счету не имеют обязательной силы. Это вовсе не означает, что человек должен упражняться в искусстве быть свободным от всяческих обязательств; опыт учит другому: то, что нас связывает, со временем превращается в нечто такое, что является результатом нашего осознанного выбора. Открытый простор, который открывается перед человеком, освободившимся из пещеры, позволяет ему увидеть сущее «в целом». «В целом» – это значит в горизонте Ничто, из которого сущее выступает и на фоне которого только и становится отчетливо различимым. Освободившийся обитатель пещеры делает ставку на Ничто[247], избирает для себя место «в сомнительности сущего в целом»; тем самым он вступает в некое отношение, в связь «с бытием и с его границей в Ничто» (GA 34, 78). Хайдеггер определяет такую позицию формулой: полномочность, Ermachtigung (GA 34, 106). Что это значит? Хайдеггер не дает ответа. «О том, что это значит, сейчас не время говорить, нужно просто соответствующим образом действовать» (GA 34, 78). С обретением опыта полномочности достигается «граница философии» (GA 34, 106).
Хайдеггеровская мысль в этот период кружится вокруг идеи полномочности. Хайдеггер ищет путь, позволяющий преодолеть границы философии – но преодолеть философскими средствами и по причинам философского характера.
Хайдеггер, с головой ушедший в изучение трудов Платона, опьяненный картиной гигантомахии, которая открылась ему в этих сочинениях, испытывающий попеременно то хмельное ощущение вознесенности в надмирные сферы, то полный упадок духа, вот-вот найдет соответствующую ему роль: он хочет быть вестником историко-политической и одновременно философской эпифании. Он знает: придет время, достойное философии, и придет философия, которая сумеет овладеть этим временем. И он, Хайдеггер, так или иначе окажется в числе званных на сей брачный пир. Как оруженосец или как рыцарь. Нужно только быть бдительным и не пропустить тот миг, когда политика сможет и должна будет стать философской, а философия – политической.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Зима 1931/32 года в тодтнаубергской «хижине»: «На крепкий сук – острый топор». Национал-социалистская революция. Коллективный побег из пещеры. Бытие приблизилось. Стремление к аполитичной политике. Союз между толпой и элитой. «Великолепные руки» Гитлера. Хайдеггер «включается». Избрание ректором. Ректорская речь. «Взрывоопасные древности». Священник без небесного послания.
Платона тянуло заниматься политикой. Причинами тому были элементарные инстинкты жителя полиса, всегдашняя склонность философии соблазняться властью и мечта о таком общественном устройстве, которое предоставило бы философии ничем не омраченную счастливую возможность быть чистой теорией. Как бы ни хотел Платон отдалиться от обычной жизни, он все-таки оставался жителем своего города и вырваться из него не мог – даже основанная им позднее «Академия» находилась под защитой полиса, которому и служила.
Мартин Хайдеггер, читая Платона, пока еще не рвется в политику, но он надеется на некий исторический поворот, который, быть может, принесет новое понимание бытия. Хайдеггер еще отделяет творческие силы истории от так называемой повседневной политики. В последней он видит только стремление к комфортной устроенности, бесплодное возбуждение, суету и партийные дрязги. Подлинная история, по его мнению, вершится в глубинах, о которых господствующая политика, похоже, ничего не знает.
Такое историко-философское «углубление» (или «укрупнение») политики в годы Веймарской республики было модным. Специалисты по диагностике времени, преисполненные философских амбиций, смотрели тогда на политическую жизнь как платоновские узники на стену пещеры: они хотели обнаружить за игрой теней, то есть за актуальными событиями, подлинную гигантомахию. Им казалось, что повседневная политика есть результат борьбы великих полярных сил: борьбы «изначального мифа» против пророчества (Тиллих), «фаустовского человека» против человека «феллахского типа» (Шпенглер), «нового средневековья» против демонизма «модерна» (Бердяев), «тотальной мобилизации» против буржуазного бидермейерского мещанства (Э. Юнгер).
Хайдеггер тоже предпочитал этот патетический, «фресковый» стиль философствования всем другим. Он спешил сквозь бурлящую повседневность, мечтая о встрече с «подлинной» историей. В цикле лекций о Платоне 1931-1932 годов упоминается «переворот всего человеческого бытия, у начала которого мы стоим» (GA 34, 324). Но пока все оставалось расплывчатым. Поначалу было ясно только одно: что произошел какой-то прорыв, перелом в сознании самого Хайдеггера – в результате одиноких экстатических размышлений, вызванных притчей о пещере. Этот экстаз, имеющий свою формулу – «сущее становится более сущим», – необходимо выпустить из пещеры индивидуальной внутренней жизни и сделать достоянием общества. Но как такое может произойти? Должен ли философ, переживающий экстаз, стать основоположником нового людского сообщества? Хайдеггер до поры до времени довольствуется тем, что на семинарских занятиях пытается пробудить у своих студентов дух философствования и соблазнить их большими путешествиями в необозримые дали философских традиций. Но он знает: все это еще не значит, что философия овладевает своим временем. А ведь именно в этом и состоит ее долг. Хайдеггер пока ждет. Вероятно, сначала история должна проявить себя во всем своем могуществе, и только тогда философ сможет почувствовать собственную полномочность.
Впрочем, даже тот, кто живет ожиданием встречи с Историей и Большой Политикой, все-таки имеет какие-то мнения по вопросам обыкновенной, текущей политики. Хайдеггер до сих пор выражал такие мнения редко, а если и выражал, то по большей части мимоходом, чуть ли не с пренебрежением. Все это представлялось ему «пещерной болтовней».
На рубеже 1931 и 1932 годов, то есть в каникулы «платоновского семестра», Герман Мёрхен навестил философа в его тодтнаубергской «хижине». Тогда же Мёрхен записал свои впечатления в дневник: «Там, наверху, очень много спят – уже в полдевятого отправляются на покой. Однако зимой темнеет рано, так что остается какое-то время, чтобы поболтать. О философии, правда, речи не было, говорили все больше о национал-социализме. Бывшая поклонница Гертруды Боймер, когда-то столь либеральная, теперь заделалась национал-социалисткой, и муж от нее не отстает! Раньше я бы ни за что в такое не поверил, и все же удивляться, собственно, нечему. В политике он разбирается не особенно хорошо, и потому, вероятно, именно его отвращение ко всякого рода посредственной половинчатости заставляет его ожидать чего-то от партии, которая обещает предпринять некие решительные шаги и прежде всего эффективно выступить против коммунистов. Демократический идеализм и совестливость Брюнинга[248] – в обстановке, когда все зашло так далеко, – ничего уже изменить не могут; значит, сегодня, как он считает, следует одобрить диктатуру, которая не побоится боксхеймских средств[249]. Только благодаря такой диктатуре можно избежать еще худшей, коммунистической, которая уничтожит всякую индивидуальную культуру личности и тем самым – вообще всякую культуру в западном понимании. Конкретные вопросы политики его [Хайдеггера] едва ли интересуют. Те, кто живет здесь, наверху, оценивают все это по другим масштабам».
Герман Мёрхен был просто ошеломлен политическими симпатиями Хайдеггера. И мог их себе объяснить только полным невежеством своего учителя во всем, что касалось «конкретных вопросов политики». Другой ученик Хайдеггера, Макс Мюллер, также вспоминает о том удивлении, с каким студенты восприняли признание Хайдеггера в приверженности национал-социализму. Ведь «никто из его учеников в то время не думал о политике. На занятиях не произносилось ни единого политического слова».
В период платоновских лекций и посещения Мёрхеном Тодтнауберга, то есть зимой 1931/32 года, хорошее отношение Хайдеггера к НСДАП было еще не более чем политическим мнением. Он видел в этой партии силу, способную навести порядок в обстановке разрухи, вызванной экономическим кризисом, в хаосе распадающейся Веймарской республики, но прежде всего – оплот против опасности коммунистического переворота. «На крепкий сук – острый топор», – сказал он Мёрхену. Однако пока чувство политической симпатии к национал-социализму еще никак не влияло на его философию. Год спустя всё резко изменится. Тогда для Хайдеггера наступит «великий миг» истории, тот миг «переворота всего человеческого бытия», о котором он, исполненный предчувствий, впервые заговорил в лекциях о Платоне. Национал-социалистская революция станет в его глазах событием, которое властно распоряжается присутствием; это событие затронет потаенные глубины мышления Хайдеггера, а его самого заставит перешагнуть через «границу философии». В лекциях о Платоне Хайдеггер резко оборвал анализ философского экстаза замечанием: «О том, что это значит, сейчас не время говорить, нужно просто соответствующим образом действовать» (GA 34, 78). В феврале 1933 года для Хайдеггера наступит миг действия. Ему внезапно покажется, что экстаз возможен и в политике.
В лекциях о Платоне Хайдеггер объяснил, что намерен вернуться к греческим истокам, чтобы получить дистанцию, необходимую для прыжка в настоящее и через настоящее, за его пределы. Он сам тогда прыгнул на слишком малое расстояние и в настоящее не попал. Но теперь история сама движется ему навстречу, захлестывает, подобно волне, и увлекает за собой. Ему больше нет надобности прыгать, он мог бы отдаться на волю влекущего его потока, если бы не имел честолюбивого намерения самому оказаться в числе тех, кто увлекает за собой других. В марте 1933 года Хайдеггер сказал Ясперсу: «Нужно включаться»[250].
Впоследствии, оглядываясь назад и ища себе оправданий, Хайдеггер подчеркивал, что та бедственная эпоха порождала необходимость в решительных политических действиях. Безработица, экономический кризис, все еще нерешенный вопрос о репарациях, гражданская война на улицах, угроза коммунистического переворота… Политическая система Веймарской республики не могла справиться со всеми этими проблемами, демонстрировала лишь межпартийную грызню, коррупцию и безответственность. Он же хотел присоединиться к тем силам, которым, как ему казалось, была присуща подлинная воля к новому началу. Он надеялся, напишет Хайдеггер 19 сентября 1960 года своему студенту Хансу-Петеру Хемпелю, «что национал-социализм признает и вберет в себя все созидательные и творческие силы».
Этот студент признался профессору, что переживает внутренний конфликт, не умея примирить свое восхищение философией Хайдеггера и неприязнь к его былой политической деятельности. Хайдеггер взял на себя труд подробно ответить. Он писал: «Конфликт останется неразрешимым до тех пор, пока Вы, скажем, в какой-то день будете утром читать «Положение об основании», а вечером листать книгу или смотреть документальный фильм о поздних годах гитлеровского режима; пока Вы будете оценивать национал-социализм только ретроспективно, глядя на него из сегодняшнего дня и с учетом всего того, что лишь постепенно прояснялось после 1934 года. В начале же 30-х годов для всех немцев, наделенных чувством социальной ответственности, классовые различия в нашем народе стали нестерпимыми – равно как и тяжелое экономическое закабаление Германии посредством Версальского договора. В 1932 году насчитывалось 7 миллионов безработных, которые вместе со своими семьями видели впереди лишь нужду и бедность. Замешательство, порожденное этой ситуацией, которую нынешнее поколение вообще не может себе вообразить, распространилось и на университеты».
Хайдеггер перечисляет здесь рациональные мотивы. Однако о своем тогдашнем революционном энтузиазме не упоминает. Оглядываясь назад, он не хочет «больше признавать… радикальность своих [былых] намерений» (Макс Мюллер).
То, что происходило после прихода национал-социалистов к власти, переживалось Хайдеггером как революция; для него это было чем-то гораздо большим, нежели просто политика, – новым актом истории присутствия, переломом эпох. Он полагал, что с Гитлером начинается новая эра. Поэтому в письме Хемпелю Хайдеггер, чтобы хоть отчасти снять с себя груз ответственности, ссылается на Гёльдерлина и Гегеля, в свое время тоже совершавших аналогичные ошибки: «Подобные ошибки случались и с более великими людьми: Гегель увидел в Наполеоне воплощение Мирового Духа, а Гёльдерлин – князя, на пиршество к которому приглашены боги и Христос».
Приход Гитлера к власти вызвал подъем революционных настроений, когда люди с ужасом, но также с восхищением и облегчением увидели, что НСДАП действительно собирается разрушить «веймарскую систему», которую к тому времени поддерживало меньшинство. Решительность и жестокость национал-социалистов впечатляли. 24 марта представители всех партий, за исключением социал-демократов и уже арестованных членов коммунистической фракции, проголосовали за так называемый «закон о чрезвычайных полномочиях»[251]. Самороспуск веймарских партий объяснялся не только страхом перед репрессиями, но и тем, что многие их члены искренне поддержали национал-социалистскую революцию. Теодор Хейс[252], в то время депутат от Германской демократической партии, 20 мая 1933 года с одобрением писал: «Революции берутся за дело энергично, чтобы расположить в свою пользу «общественное мнение», так было всегда… Помимо прочего, они таким образом заявляют историческую претензию на то, что собираются заново сформировать «народный дух»…»
Повсюду можно было видеть мощные манифестации чувства новой общности, массовые клятвы под открытым небом; на горах в знак радости зажигали костры; по радио транслировались речи фюрера, и чтобы их слушать, люди, одетые по-праздничному, собирались прямо на площадях или в университетских аудиториях, ресторанах и кафе. В церквях звучали хоралы, славившие приход НСДАП к власти. Глава Лютеранской Церкви Пруссии Отто Дибелиус[253], выступая 21 марта 1933 года, в «День Потсдама», в церкви Святого Николая, сказал: «Север и юг, восток и запад проникнуты новой волей к возрождению немецкого государства, горячим стремлением не оставаться долее лишенными, говоря словами Трейчке[254], «одного из самых возвышенных чувств в жизни человека», а именно, гордости за свое государство». Настроение тех недель трудно передать, пишет Себастьян Хафнер, очевидец тогдашних событий. Оно, собственно, и стало фундаментом власти формировавшегося фюрерского государства. «Это было – иначе его не назовешь – очень широко распространившееся ощущение спасения и освобождения от демократии». Не только враги республики испытали чувство облегчения от того, что демократии пришел конец. Большинство приверженцев республики тоже уже давно не верили, что у нее найдутся силы для преодоления кризиса. Всем казалось, что спало злое заклятие. Казалось, заявляет о себе что-то действительно новое – господство народа без партий, во главе с фюрером, от которого ждали, что он снова сделает Германию единой внутри и ведущей уверенную внешнюю политику. Даже у сторонних наблюдателей тех событий создавалось впечатление, что Германия оправляется от болезни, приходит в себя. Произнесенная Гитлером 17 мая 1933 года «Речь о мире», в которой он заявил, что «безграничная любовь к собственному народу и преданность ему» предполагают «уважение» национальных прав других народов, возымела свое действие. «Таймc» писала: Гитлер «действительно говорил от имени единой Германии».
Даже в еврейских кругах – несмотря на организованный 1 апреля бойкот еврейских магазинов и на увольнения чиновников-евреев, начавшиеся с 7 апреля, – многие с воодушевлением восприняли «национальную революцию». Георг Пихт вспоминает, как в марте 1933 года Ойген Розеншток-Хюсси выступил с докладом, в котором объяснял, что национал-социалистская революция является попыткой немцев осуществить мечту Гёльдерлина. В Киле Феликс Якоби летом 1933 года начал свою лекцию о Горации с таких слов: «Как еврей я нахожусь в трудном положении. Но как историк я научился не смотреть на исторические события с приватной точки зрения. Я голосовал за Адольфа Гитлера с 1927 года и счастлив, что в год национального возрождения мне представилась возможность прочитать лекцию о поэте Августа. Ибо Август – единственная фигура в мировой истории, которую можно сравнить с Адольфом Гитлером».
Казалось, мечта об «аполитичной политике» внезапно осуществилась. Раньше в представлении большинства людей политика была тягостной борьбой разнонаправленных интересов; делом, которое никогда не обходится без свар и проявлений эгоизма, а потому постоянно порождает беспокойство. Все понимали, что политическая среда – это лишь совокупность групп и союзов, закулисных заправил и заговорщиков, банд и клик, проворачивающих свои неблаговидные аферы. Хайдеггер сам выразил это предубеждение против политики, когда отнес ее к сфере «обезличенных людей» (Man) и «толков» (Gerede). «Политика» считалась предательством по отношению к ценностям «истинной» жизни, семейного счастья, духа, верности, мужества. «Политический человек отвратителен мне», – говорил уже Рихард Вагнер. Под влиянием охватившего всех антиполитического настроя никто уже не желал считаться с фактом многообразия человеческого сообщества; искали Великого Лидера – немца, выходца из народа, одинаково хорошо владеющего и кулаками, и мозгами (духом).
То, что еще оставалось от политической разумности, буквально за одну ночь утратило всякое значение; теперь ценились только захваченность происходящим, ощущение причастности к нему. В эти недели Готфрид Бенн писал, обращаясь к литературным эмигрантам: «Большой город, индустриализм, интеллектуализм, все тени, которые наша эпоха отбрасывала на мои мысли, все силы нынешнего столетия, которым я подчинялся в моем творчестве, – бывают мгновения, когда вся эта мучительная жизнь куда-то проваливается и не остается ничего, кроме равнины, шири, времен года, простых слов: народ…»
Аналогичные чувства испытывал и Хайдеггер, последнюю встречу с которым (в июне 1933 года) Ясперс описал так: «Сам Хайдеггер тоже казался другим. Сразу, как только он приехал, возник настрой, разделивший нас. Народ был опьянен национал-социализмом. Я поднялся наверх, в комнату к Хайдеггеру, чтобы поздороваться с ним. «Как будто опять наступил 1914 год… – начал я, желая продолжить: – опять то же всеобщее, лживое опьянение», но при виде сияющего Хайдеггера слова застряли у меня в горле… Перед одурманенным Хайдеггером я оказался бессилен. Я не сказал ему, что он на ложном пути. Я уже не доверял его изменившемуся характеру. От той силы, к которой теперь примкнул Хайдеггер, я чувствовал угрозу и для себя самого…»[255]
В представлении же Хайдеггера это была спасительная сила. Хайдеггер, сам с таким удовольствием занимавшийся профессиональным трудом мыслителя, теперь требовал суда над философией. Во время последнего разговора с Ясперсом «он сказал слегка сердитым тоном: это безобразие, что существует столько профессоров философии – во всей Германии следовало бы оставить двух или трех»[256]. На вопрос Ясперса «Кого же?» последовало многозначительное молчание. Речь идет о философском сальто-мортале, прыжке в примитивность. В докладе, прочитанном перед тюбингенскими студентами 30 ноября 1933 года, Хайдеггер, судя по газетному репортажу, недвусмысленно высказался в пользу именно такой позиции: «Быть примитивным – значит по внутреннему побуждению и порыву стоять там, где вещи начинаются; быть примитивным – это быть движимым внутренними силами. Именно потому, что новый студент примитивен, он призван удовлетворить новые требования, предъявляемые к знанию».
Так может говорить человек, который хочет разрубить гордиев узел действительности, который с яростью отбрасывает прочь утомительные утонченные подробности собственного мышления о бытии. Внезапно дает о себе знать жадная тяга к конкретности, к компактной действительности, и вот философия-затворница уже ищет возможности окунуться в толпу. Это плохое время для дифференцирования, и Хайдеггер даже отказывается от самого известного из введенных им различий – от различия между бытием и сущим, – давая понять, что бытие наконец вплотную приблизилось к нам, что «мы находимся в подчинении у новой действительности, облеченной властью отдавать приказы».
То, что скрывается за этой фразой, Ханна Арендт позднее, в своем большом исследовании «Истоки тоталитаризма», определит как «союз между толпой и элитой». Духовная элита, утратившая в ходе Первой мировой войны традиционные ценности вчерашнего мира, сожгла за собой мосты в тот самый миг, когда фашистские движения пришли к власти. «Послевоенная элита желала разрушить себя, растворившись в массе».
В «водовороте философских вопросов», как раньше говорил Хайдеггер, тонут наши «самоочевидные» представления о действительности. Теперь происходит обратное: Хайдеггер вверяет свою философию водовороту политической действительности. Но он поступает так лишь потому, что в это мгновение действительность представляется ему воплотившейся в жизнь философией.
«Немец, рассорившийся сам с собой, непоследовательный в мыслях, с расщепленной волей и потому бессильный в действии, теряет силу в утверждении собственной жизни. Он мечтает о праве на звездах и теряет почву под ногами на земле… В конечном итоге немцам всегда оставался только путь внутрь себя. Будучи народом певцов, поэтов и мыслителей, немцы мечтали тогда о мире, в котором жили другие, и только когда нужда и лишения наносили этому народу бесчеловечную травму, тогда, может быть, на почве искусства произрастало желание нового подъема, нового царства, а значит и новой жизни»[257].
Тот, кто здесь выступает как воплощение тайных чаяний художников и поэтов, – Адольф Гитлер; а цитируется его речь, произнесенная в «День Потсдама», 21 марта 1933 года.
Карл Краус[258] как-то заметил, что ему нечего сказать по поводу Гитлера. Хайдеггер не только мог многое сказать о Гитлере, но, как он заявил в 1945 году Комиссии по чистке Фрайбургского университета, верил в него. В протоколе Комиссии по чистке мы находим краткое резюме показаний Хайдеггера: «Он верил, что Гитлер перерастет партию и ее доктрину и сможет направить движение, в духовном плане, по другому пути – так, чтобы все соединилось, на почве обновления и сплочения сил, в единое чувство ответственности западной [культуры]».
Объясняя впоследствии свою связь с национал-социализмом, Хайдеггер всегда пытался представить дело так, будто его тогдашнее поведение диктовалось соображениями трезвого политического расчета и сознанием своей социальной ответственности. Но в действительности в тот первый год нового режима он был попросту очарован Гитлером.
«Как может такой необразованный человек, как Гитлер, управлять страной?» – в растерянности спросил Ясперс у Хайдеггера, когда тот в последний раз гостил у него в доме в мае 1933 года. Хайдеггер на это ответил: «Образование совершенно не важно… вы только посмотрите на его великолепные руки!»[259]
И отнюдь не тактическим маневром, не внешним приспособленчеством, а выражением подлинного душевного порыва были слова, которыми Хайдеггер 3 ноября 1933 года закончил свое «Обращение к немецким студентам» (по поводу референдума о выходе Германии из Лиги Наций): «Не научные положения и не «идеи» должны быть правилами вашего бытия. Сам фюрер, и только он один, есть сегодняшняя и будущая немецкая действительность и ее закон».
В письме Хансу-Петеру Хемпелю, который напомнил ему об этом высказывании, Хайдеггер дал следующее объяснение: «Если бы я имел в виду только тот смысл, который постигается при беглом прочтении, я выделил бы разрядкой слово «фюрер». Действительно же выделенное разрядкой слово «есть», напротив, подразумевает… что «в первую очередь и всегда ведомыми бывают сами фюреры» – они ведомы судьбой и законом истории».
Итак, в письме 1960 года Хайдеггер в качестве оправдания ссылается на то, что в процитированном нами одиозном высказывании имелось в виду нечто совершенно особенное, ускользающее от внимания при беглом чтении. Но эта «особенная» мысль совпадает с тем образом фюрера, который всегда создавал сам Гитлер: она сводится к представлению о Гитлере как о воплощении судьбы. Хайдеггер действительно воспринимал Гитлера именно так.
Хайдеггер сознательно умалчивает о том обстоятельстве – которое только и придавало его высказываниям и его деятельности в первые месяцы нового режима их подлинный смысл и их особый пафос, – что национал-социалистская революция стала мощным стимулом для его философствования, что в перевороте 1933 года он увидел фундаментальное метафизическое событие, метафизическую революцию: «полное преобразование нашего немецкого бытия» (Тюбингенская речь, 30.11.1933). К тому же, по его тогдашнему мнению, это был такой переворот, который не просто касался жизни немецкого народа, но и открывал новую главу в истории Запада. Для Хайдеггера речь шла о «втором великом вооруженном походе» – втором после «первого начала», которое было заложено греческой философией и явилось истоком западной культуры. Этот второй вооруженный поход стал необходим потому, что импульс первого начала за истекшее время оказался растраченным. Греческая философия поместила присутствие человека в открытое пространство неопределенности, свободы и сомнительности. Но со временем человек снова забился в скорлупу своих мировоззренческих и ценностных представлений, своей технической и культурной устроенности. На заре греческой цивилизации человечество пережило миг подлинности. Но потом всемирная история вновь вернулась в тусклый полумрак неподлинности, в платоновскую пещеру.
Хайдеггер воспринял революцию 1933 года как коллективный побег из пещеры, как прорыв в то открытое пространство, которое прежде открывалось лишь индивидуальному философскому вопрошанию и мышлению. Для него вместе с революцией 1933 года пришел исторический миг подлинности.
Хайдеггер, конечно, реагировал на действительные политические события, и его деятельность развертывалась в реальной политической сфере – однако управляла его реакциями и действиями сила философского воображения. И эта сила философского воображения превращала сферу политической жизни в подмостки историко-философского театра, на которых разыгрывалась пьеса из репертуара истории бытия. В зеркале сего грандиозного воображаемого действа едва ли можно было узнать черты подлинной истории, но ведь дело было совсем не в том. Хайдеггер хотел поставить собственную историко-философскую драму, хотел сам набрать для нее актеров. Правда, во всех своих речах, произнесенных в те месяцы, Хайдеггер ссылался на «власть отдавать приказы», коей обладает «новая немецкая действительность», однако – и он не оставлял на этот счет никаких сомнений – именно его философия должна была раскрывать подлинный смысл приказов. Философии предстояло таким образом вводить людей в сферу действия этих приказов, чтобы люди могли преобразовываться изнутри. Поэтому Хайдеггер организовал «лагерь науки»; поэтому читал лекции для безработных, которых специально приглашал в университет; поэтому выступал с бесчисленными воззваниями, обращениями, призывами, в которых пытался углубить повседневные политические события, чтобы приспособить их к воображаемой метафизической сцене. Он полагал, что философия только тогда может осуществлять подобного рода власть, когда говорит не «об» отношениях и событиях, а «исходя из них». Философия сама должна стать частью той «революционной действительности», о которой она говорит. «Она [революционная действительность. – Р. С] познаваема только для того, кто обладает правильным чувственным восприятием, позволяющим ее пережить, а не для стороннего наблюдателя… ибо революционная действительность не есть нечто наличное; в ее сущности заложено то, что она развертывается впервые… Такая действительность требует к себе совсем иного отношения, нежели фактичное положение вещей» (Тюбингенская речь, 30.11.1933).
Хайдеггер всегда отстаивал тот основополагающий принцип, что наше бытие-в-мире определяется настроением; потому он и теперь принял за исходный пункт революционное настроение перелома, прорыва в новую действительность, формирования нового сообщества. Государственные репрессии, неистовство черни, антисемитские акции представлялись ему неприятными побочными явлениями, с которыми необходимо мириться.
Итак, пытаясь представить себе тогдашнего Хайдеггера, погруженного в свои грезы об истории бытия, мы понимаем, что его движения на политической сцене – это сомнамбулические движения философа-мечтателя. Позже в письме Ясперсу (8.4.1950) он признается, что в политике «мечтал» и потому совершал ошибки. Однако признать, что он совершал ошибки в политике, потому что мечтал в философии, Хайдеггер не сможет никогда. Ведь как философ, который хотел исследовать историческое время, Хайдеггер вынужден был отстаивать – в том числе и перед самим собой – свою философскую компетентность в интерпретации политико-исторических процессов.
Другое дело, если бы Хайдеггер бросился в политическую авантюру, начисто забыв о философии; если бы в своих действиях он не ориентировался на собственное философствование и не руководствовался им. В таком случае можно было бы сказать, что он действовал вопреки своей философии или что по ходу его деятельности у него сгорели «философские предохранители». Однако в действительности все было не так. Он имел определенные философские соображения по поводу Гитлера, он ввел в игру философские мотивы и даже соорудил воображаемую сцену для исторических событий. Философия должна «овладеть своим временем», писал он в 1930 году. И чтобы не пришлось отказываться от этой концепции, Хайдеггер впоследствии будет возлагать ответственность за то, что он ошибся в национал-социалистской революции, на свою политическую неопытность, а не на свою тогдашнюю философскую интерпретацию событий. Правда, еще позже Хайдеггер превратит эту ошибку в философскую притчу, в которой отведет себе грандиозную роль: он будет утверждать, что в нем и при его посредничестве впало в заблуждение само бытие. Что он, Хайдеггер, нес крест «заблуждения бытия»…
«Нужно включаться», – сказал Хайдеггер Ясперсу. Это включение началось в марте 1933 года, когда Хайдеггер вступил в «Культурно-политический кружок немецких преподавателей высшей школы», своего рода национал-социалистскую фракцию в «Германском союзе доцентов», официальной профессиональной организации преподавателей высших учебных заведений. Члены этого кружка считали себя активистами национал-социалистской революции в университетах. Они настаивали на необходимости скорейшей реорганизации «Союза доцентов» в соответствии с концепцией гляйхшалтунга[260], требовали введения в университетах «принципа фюрерства»[261] и придания учебному процессу идеологической направленности, но как раз по последнему вопросу имелись серьезные разногласия.
Инициатором создания этой группы и вдохновителем ее деятельности был Эрнст Крик, в прошлом учитель народной школы, поднявшийся вверх по служебной лестнице до должности титулярного профессора философии и педагогики в Педагогической академии во Франкфурте-на-Майне. Криком владело честолюбивое стремление стать ведущим философом национал-социалистского движения, конкурентом Розенберга[262] и Боймлера[263]. Он хотел превратить «Культурно-политический кружок» в свою опору и вотчину. Крик был горячим сторонником НСДАП еще в ту пору, когда это никак не способствовало карьере. В 1931 году он был за нацистскую агитацию переведен на другую должность, а в 1932-м – и вовсе уволен со службы. Приход Гитлера к власти помог этому человеку снова стать профессором – сначала во Франкфурте, потом в Гейдельберге. В партии он числился «философом переходного периода». Крик представлял, так сказать, героически-народную разновидность идеализма, направленную против культурного идеализма: «Радикальная критика учит понимать, что так называемая культура стала совершенно несущественной». «Культурному надувательству» Крик противопоставлял новый тип героического человека: «Он живет не духом, а кровью и почвой. Он живет не ради образования, а ради дела». «Героизм», которого требовал Крик, был близок к хайдеггеровскому «мужеству» в том смысле, что оба понятия превращали культуру, понимаемую как убежище для слабого, в нечто достойное презрения. Крик, как и Хайдеггер, утверждал, что человек должен научиться жить без так называемых «вечных ценностей». По его мнению, здание «образования, культуры, гуманности и чистого духа» уже обрушилось, универсалистские идеи стали очевидным самообманом.
Однако, в отличие от Хайдеггера, Крик в этой ситуации метафизической бесприютности предлагал новые ценности крови и почвы, то есть считал, что «метафизику сверху» должна заменить «метафизика снизу». «Кровь, – писал Крик, – восстает против формального разума; раса – против рационального стремления к цели; привязанность – против произвола, именуемого «свободой»; органичная целостность – против индивидуалистического распада… народ – против отдельного человека и массы».
В марте 1933 года Крик хотел навязать кружку культурно-политическую программу, которая соответствовала бы его идеологической линии. Хайдеггер противился этому, так как не принимал идеологию крови и почвы. Члены кружка были едины только в своем критическом отношении к «Союзу доцентов» и к царившему там просветительскому идеализму, лишь отчасти приспособленному к новым условиям. Председатель союза, философ Эдуард Шпрангер, направил властям приветственное послание, в котором говорилось о лояльности ученых по отношению к «борющемуся государству», но одновременно содержалась просьба пощадить «дух». Хайдеггер посмеялся над этой попыткой достижения компромисса и назвал ее «приспособленчеством к духу времени в стиле канатных плясунов». Так он выразился в письме к Элизабет Блохман, написанном 30 марта 1933 года, после одного из первых заседаний франкфуртского кружка. В том же письме приводится и краткая характеристика Эрнста Крика. Крик – человек с мышлением «подчиненного»; «сегодняшняя фразеология» мешает ему понять «подлинное величие и трудность задачи». Вообще для нынешней революции характерно то, что всё вдруг начинает восприниматься только «в политическом смысле», всё «приклеивается к поверхностному». Для многих, правда, это может быть «первым пробуждением», но на самом деле это лишь подготовка, за которой должно последовать «второе и более глубокое пробуждение». Хайдеггер упоминает об этом сомнительном «втором пробуждении», потому что хочет отмежеваться от идеологов вроде Эрнста Крика. О том, что означает это «второе пробуждение», он говорит в письме к Элизабет Блохман – которая, как полуеврейка, месяц спустя потеряет свое место доцента – только невразумительными намеками. В письме идет речь о некоей «новой почве», позволяющей человеку «по-новому и с новым пониманием открыться навстречу самому бытию» (19.12.1932, BwHB, 55). Ясно, во всяком случае, что под этой почвой не подразумеваются, как у Эрнста Крика, «кровь и раса».
Хайдеггер хотел привлечь к работе в кружке Альфреда Боймлера. Боймлер, с которым Хайдеггер в то время еще дружил, добивался, как и Крик, роли ведущего философа национал-социалистского движения. Но политический де-ционизм[264] Боймлера был ближе мышлению Хайдеггера, чем идеи Крика. В одном докладе, прочитанном в феврале 1933 года перед национал-социалистским студенчеством, Боймлер противопоставил «политического человека» «человеку теоретическому». Второй воображает, будто живет в «более возвышенном духовном мире», первый же реализует себя как «изначально действующее существо». В этом «изначальном пространстве» действия идеи и идеологии, как считал Боймлер, уже не играют решающей роли. «Действовать не значит сделать выбор в пользу чего-то… ведь такой акт предполагал бы, что человек знает, в пользу чего он делает выбор. Нет, действовать – значит последовать в каком-то направлении, принять чью-то сторону в силу своего судьбоносного предназначения, в силу «собственного права»… Выбор в пользу чего-то, что я узнал, есть уже нечто вторичное».
Такие формулировки могли бы принадлежать и Хайдег-геру. Выбор, решение как «чистый» акт, этот толчок, который человек дает самому себе, это выпрыгивание из привычной колеи – вот что первично. Напротив, «к чему» этого решения есть только предлог для того, чтобы смогла проявиться сила, способная перевернуть все вот-бытие. У Хайдеггера озабоченные вопросы, касающиеся «к чему», задает «обезличенный человек» (Man), который испытывает страх перед принятием решения и потому предпочитает «серединность», то есть «уравнение всех бытийных возможностей»; обезличенные люди многословно обсуждают эти возможности – «но так, что они же всегда и ускользнули там, где присутствие пробивается к решению» (Бытие и время, 127). Этот страх перед принятием решений в представлении Хайдеггера является виной, и так же смотрит на него Боймлер, многому научившийся у Хайдеггера. Боймлер тоже связывает эту концепцию «волевого решения» (которая у Хайдеггера в конце двадцатых годов странным образом еще оставалась лишенной конкретного содержания) с национал-социалистской революцией. Боймлер агитирует за «чистое» движение, видя в нем экзистенциальную субстанцию и считая, что идеология, напротив, является простой акциденцией, а потому тот, кто держится в стороне от движения, окажется виновным «из-за [своей] нейтральности и терпимости».
Хайдеггер не добился от Крика согласия на свое предложение пригласить Боймлера в кружок. Для Крика Боймлер был слишком опасным конкурентом. Но это не могло приостановить карьеру Боймлера. Ему покровительствовало ведомство Розенберга. Партия назначила его «политическим воспитателем» студенчества в Берлине и там же создала специально для него «Институт политической педагогики». Против этого протестовал Эдуард Шпрангер, занимавший в Берлинском университете кафедру политической педагогики, – протестовал, между прочим, и потому, что видел в Боймлере лицо, ответственное за кампанию доносительства на ученых, придерживавшихся либеральных взглядов или имевших еврейское происхождение. 22 апреля Шпрангер опубликовал протест против «лжи, давления на совесть и бездуховности». Это дало Боймлеру повод для контратаки. В своей речи, приуроченной к главной акции по сожжению книг, проводившейся 10 мая в Берлине, он подверг критике позицию Шпрангера и одновременно заклеймил преобладающий в высшей школе «старый дух»: «Но высшая школа, которая даже в год революции рассуждает только о том, что ею руководят Дух и Идея – а не Адольф Гитлер и Хорст Вессель, – просто аполитична».
Хайдеггер, наэлектризованный приходом Гитлера к власти, хотел действовать, но еще не знал точно, что именно он должен делать. Никаких четких представлений на этот счет мы при всем желании у него не найдем. Разумеется, он думал в первую очередь об университете. Позднее, оправдываясь, Хайдеггер будет утверждать, что согласился стать ректором Фрайбургского университета, чтобы «иметь возможность противостоять натиску недостойных лиц и угрозе возобладания партийного аппарата и партийной доктрины» (R, 24).
Однако из материалов, собранных Хуго Оттом, Виктором Фариасом и Берндом Мартином, вырисовывается совсем другая картина. Как показывают эти источники, уже с марта 1933 года группа национал-социалистских профессоров и доцентов (во главе с Вольфгангом Шадевальдтом[265] и Вольфгангом Али) с согласия Хайдеггера целенаправленно добивалась его назначения на должность ректора. Ключевым в этом плане документом является письмо, которое Вольфганг Али (член НСДАП с самым большим стажем среди университетских профессоров и лучший оратор в местной партийной организации) отправил в министерство по делам культов 9 апреля, то есть за три недели до выборов ректора. В письме сообщалось, что «г-н проф. Хайдеггер уже вступил в переговоры с прусским министерством по делам культов» и что он пользуется «полнейшим доверием» университетской партийной группы. Официальные инстанции могут рассматривать его как «доверенное лицо» университета. На ближайшем заседании франкфуртского «Культурно-политического кружка», 24 апреля, Хайдеггер, видимо, уже выступал как «представитель нашего университета».
К тому моменту избрание Хайдеггера на пост ректора было для партийных кругов университета, в принципе, делом решенным. Сам Хайдеггер, возможно, еще колебался, но не потому, что ему не нравилось покровительство национал-социалистов, а потому, что наверняка сомневался в том, оправдает ли он ожидания, возлагавшиеся на него «революционными» силами. Действовать, включаться – этого он хотел, оставалось только найти «надлежащее место» (Ясперсу, 3.4.1933, Переписка, 220).
В письме к Элизабет Блохман от 30 марта 1933 года Хайдеггер признается в своей растерянности и одновременно пытается рассеять собственные сомнения: «Что случится с университетами, никто не знает… В отличие от бонз, которые еще несколько недель назад называли работу Гитлера «верхом идиотизма», а теперь дрожат за свое жалованье и т. п., люди прозорливые должны сказать себе, что не столь уж многое могут испортить. Ведь уже ничего и не осталось; университет давно не является тем действительно внутренне сплоченным, эффективно действующим или осуществляющим руководство миром, каким был когда-то. Принуждение, побуждающее опомниться, – даже если будут совершены ошибки – может быть только благотворным» (BwHB, 61).
Лес рубят – щепки летят; тот, кто вступает на революционную целину, должен принять на себя риск ошибок и заблуждений. И, во всяком случае, не позволить сбить себя с толку предупреждающим криком «Наука в опасности!». Кроме того, задача слишком важна, чтобы доверить ее решение одним лишь «партийным товарищам», партайгенос-сен, пишет Хайдеггер Элизабет Блохман 12 апреля 1933 года, то есть за три недели до своего официального вступления в партию.
В то время как «за кулисами» уже готовилась передача ректорства Хайдеггеру, официально эту должность все еще занимал специалист по истории Католический Церкви Йозеф Зауэр[266]. Введение в должность Вильгельма фон Мёллендорфа[267], нового ректора, избранного в конце 1932 года, планировалось на 15 апреля. Мёллендорф, профессор анатомии, был социал-демократом.
По версии Мартина Хайдеггера и его жены Эльфриды, сам Мёллендорф после прихода к власти Гитлера более не стремился вступить на пост ректора. Мёллендорф дружил с Хайдеггером и прямо обратился к нему, чтобы обсудить трудности, которые могли возникнуть в связи с его назначением. Хайдеггер, у которого зимой 1932/33 года выдался свободный семестр, 7 января приехал из Тодтнауберга во Фрайбург. По воспоминаниям фрау Хайдеггер, Мёллендорф выразил «настойчивое желание», чтобы пост ректора принял именно Хайдеггер, человек, «никоим образом не связанный в партийно-политическом плане». «Он много раз повторял это желание – когда заходил к нам утром, днем и вечером».
Сомнения социал-демократа Мёллендорфа относительно того, стоит ли ему принимать должность ректора, как нельзя более понятны, ибо во Фрайбурге, как и повсюду, тогда уже начались преследования социал-демократов. Под руководством имперского комиссара Роберта Вагнера[268] эти гонения приобрели особую ожесточенность. Уже в начале марта были разгромлены дом профсоюзов и центральный офис местной организации СДПГ, производились аресты и домашние обыски. 17 марта произошел неприятный инцидент с депутатом ландтага Нусбаумом. Нусбаум, как раз перед тем прошедший многонедельный курс лечения в психиатрической клинике, защищаясь от двух полицейских, смертельно их ранил, после чего в городе усилилась травля СДПГ. На площади у кафедрального собора состоялась демонстрация против марксизма – агитаторы говорили о том, что его нужно «вырвать с корнем». Недалеко от Хойберга уже построили два концентрационных лагеря. Местная пресса публиковала фотографии, запечатлевшие отправку туда первых партий заключенных. Теперь НСДАП направила свои атаки против бургомистра д-ра Бендера, члена партии Центра. Его обвиняли в том, что он не отреагировал должным образом на инцидент с Нусбаумом. Бендер говорил в этой связи о «несчастном случае». Партия потребовала, чтобы его изгнали с занимаемого им места. За Бендера вступилась депутация горожан. Одним из тех, кто возвысил свой голос в его защиту, был Мёллендорф. 11 апреля Бендера на время освободили от должности. На его место был назначен крайсляйтер НСДАП и редактор нацистской газеты «Дер алеманне» Кербер. В этой газете Хайдеггер потом опубликует одну статью. Из-за своего вмешательства в «дело Нусбаума – Бендера» Мёллендорф стал в глазах местных национал-социалистов совершенно одиозной личностью. Мёллендорф наверняка понимал, что для него опасно принимать пост ректора, – но как человек мужественный проявил готовность к вступлению в эту должность. Церемония, как и предусматривалось, состоялась 15 апреля. Накануне вечером Шаде-вальдт, по поручению партийной группы, посетил ректора Зауэра, которому назавтра предстояло уйти с этого поста, выразил свои сомнения относительно того, является ли Мёллендорф именно тем человеком, который сможет проводить в университете необходимую политику гляйхшалтунга, и предложил кандидатуру Хайдеггера. Зауэр, представитель Католической Церкви, который никак не мог одобрять антиклерикализм Хайдеггера, не поддержал эту инициативу. Мёллендорф находился на посту ректора в течение пяти дней. 18 апреля – в день, когда состоялось первое заседание ученого совета, которым руководил Мёллендорф, – газета «Дер алеманне» опубликовала резкую статью с нападками на нового ректора, которая заканчивалась словами: «Мы рекомендуем г-ну профессору д-ру фон Мёллендорфу воспользоваться представившейся возможностью и не препятствовать реорганизации высшей школы». Теперь Мёллендорф понял, что ему долго не продержаться. На 20 апреля он назначил заседание ученого совета, на котором было решено, что только что назначенный ректор уйдет в отставку, а его преемником станет Мартин Хайдеггер. По свидетельству Эльфриды Хайдеггер, накануне вечером он побывал у них дома и сказал Мартину Хайдеггеру: «Господин Хайдеггер, теперь вы просто обязаны принять должность!»
Сам Хайдеггер, в пользу которого уже месяц назад сделала свой выбор влиятельнейшая фракция университета, вплоть до последнего момента не мог принять окончательного решения: «Еще с утра в день выборов я колебался и хотел снять свою кандидатуру» (R, 21). На пленарном заседании Хайдеггер был избран почти единогласно – правда, 13 из 93 профессоров как евреи к выборам допущены не были, а из остававшихся 80 в голосовании участвовали только 56. Один голос был подан против и двое воздержались.
Свою нерешительность Хайдеггер с лихвой компенсировал заметным должностным рвением, которое стал демонстрировать сразу же после выборов.
22 апреля он написал Карлу Шмитгу, приглашая его к сотрудничеству – теперь, когда в университете сложилась новая ситуация. Правда, надобности в подобных призывах не было; Шмитт уже сотрудничал с национал-социалистами, хотя и по соображениям, противоположным тем, что двигали Хайдеггером: Хайдеггер хотел революции, Шмитт – порядка. На пленарном заседании избрали не только ректора, но и новых членов ученого совета – людей умеренных взглядов, по большей части старых консерваторов; предполагалось, что Хайдеггер будет вынужден считаться с их мнением. Но Хайдеггер не попался в эту западню: он просто перестал созывать ученый совет. Еще до торжественной церемонии передачи должности ректора он объявил (в речи, произнесенной 27 мая), что в университете вводится «принцип фюрерства» и что отныне будет осуществляться политика гляйхшалтунга. Вскоре после 1 мая, «Национального дня труда», он демонстративно вступил в НСДАП. Конкретная дата его вступления в партию была предварительно согласована (с учетом тактических соображений) с партийными инстанциями. Его обращение к студентам и преподавателям с призывом принять участие в первомайских торжествах было выдержано в стиле приказов о мобилизации. В этом циркулярном письме говорилось: «Созидание нового духовного мира для немецкого народа станет важнейшей задачей немецкого университета. Это – работа национального масштаба, исполненная высочайшего смысла и значения». Когда имперский комиссар обороны Роберт Вагнер – тот самый организатор кампании травли социал-демократов, ответственный за отправку оппозиционеров в концлагерь Хойберг, – в первых числах мая был назначен имперским наместником Бадена, Хайдеггер направил ему энергичное приветственное послание: «В высшей степени обрадованный Вашим назначением на пост имперского наместника, Вас, вождя нашей родной пограничной области, приветствует боевым «Зиг хайль!» ректор Фрайбургского университета. Подпись: Хайдеггер».
20 марта Хайдеггер поставил свою подпись под телеграммой Гитлеру, составленной несколькими национал-социалистскими ректорами университетов. В телеграмме содержалась просьба перенести на более поздний срок дату встречи фюрера с делегацией «Союза доцентов», и просьба эта обосновывалась так: «Только руководство [Союза], избранное заново на основе принципа гляйхшалтунга, будет пользоваться доверием высшей школы. Кроме того, нынешнее руководство вызывает сильнейшее недоверие со стороны немецкого студенчества».
26 мая, накануне торжественной церемонии по случаю его вступления в должность ректора, Хайдеггер произнес свою первую публичную речь – в день памяти Лео Шлагетера, члена «Добровольческого корпуса»[269], который был расстрелян в 1923 году по приговору военно-полевого суда за организацию террористических актов против оккупационных французских властей в Рурской области. В националистических кругах Шлагетер считался мучеником за народное дело[270]. Хайдеггер испытывал особо теплое чувство к Шлагетеру еще и потому, что тот тоже был питомцем констанцской семинарии «Дом Конрада». 26 мая исполнилась десятая годовщина со дня гибели Шлагетера; эта дата во Фрайбурге, как и повсюду, отмечалась с большой помпой.
В этой речи Хайдеггер впервые попытался испытать на широкой общественной аудитории политическую действенность своей «философии подлинности». Он стилизовал Шлагетера под символическую фигуру, позволяющую понять, что значит – в конкретно-историческом и политическом плане – встретиться с тайной бытия сущего. Шлагетер, по словам Хайдеггера, претерпел «самую тяжкую смерть». Он погиб не в совместной борьбе, защищаемый и увлекаемый вперед сообществом своих боевых товарищей, а в одиночку, в полном смысле отброшенный к самому себе, потерпев крушение (S, 48). Шлагетер воплощает идеал экзистенции, описанный в «Бытии и времени»: он принял смерть как «наиболее свою, безотносительную, не-обходимую возможность» (Бытие и время, 250). Участники памятной церемонии должны «впустить в себя суровость и ясность» этой смерти. Но откуда Шлагетер черпал свою силу? Он получал ее от гор, лесов и неба родной земли. «Горы – это гранит, коренная порода… Они издавна закаляют волю… Осеннее солнце Шварцвальда… испокон веков питает ясность сердца» (S, 48). Горы и леса только мягкотелым обывателям даруют ощущение защищенности, на твердых же и решительных они воздействуют как «зов совести». Совесть, как объяснял Хайдеггер в «Бытии и времени», призывает не к определенному поступку, а к подлинности. Что конкретно надлежит делать, решает ситуация. В случае со Шлагетером ситуация сложилась так, что в час его унижения ему пришлось защищать честь Германии. Он «должен был» отправиться в Прибалтику (чтобы сражаться против коммунистов[271]), «должен был» оказаться в Руре (чтобы сражаться против французов). Он последовал за своей судьбой, которую сам выбрал для себя и которая выбрала его. «Когда безоружный герой стоял под дулами направленных на него ружей, внутренним взором он переносился к светлым дням и горам своей родины, чтобы, видя перед собой алеманнскую землю, умереть за немецкий народ и за его Рейх» (S, 48). Это был миг истины, ибо сущность истины, как сказал Хайдеггер в докладе 1930 года «О сущности истины» (несколько отличавшемся от текста, опубликованного позднее), есть событие, которое происходит на «почве родины». Все дело в том, чтобы открыться навстречу силам присутствия. Необходимой предпосылкой для этого является укорененность (Bodenstandigkeit).
А днем позже Хайдеггер произнес свою ректорскую речь.
Уже во время подготовки к церемонии его вступления в должность наблюдалось заметное возбуждение. 23 мая новый ректор Хайдеггер обнародовал инструкцию для коллектива университета относительно организационных вопросов: в ней предписывалось исполнять во время церемонии гимн «Хорст Вессель»[272] и кричать «Зиг хайль!». Мероприятию следовало придать характер национального праздника. Профессора восприняли это с некоторым неудовольствием.
В циркулярном письме Хайдеггер объяснял, что «выбрасывание вверх правой руки» выражает не связь с партией, а солидарность с национальным подъемом. Впрочем, он проявил готовность к компромиссу: «Проконсультировавшись с фюрером студенческого объединения, я решил, что поднятие руки в партийном приветствии будет обязательным только в момент исполнения четвертой строфы гимна «Хорст Вессель»».
Хайдеггер знал, что в это мгновение на него смотрит весь философский мир. В предшествовавшие недели он не упустил ни одной возможности, чтобы подчеркнуть свой статус фюрера; на церемонии присутствовали высокие партийные чины, министры, ректоры других университетов, представители прессы – в зале было больше коричневых рубашек, чем фраков. Хайдеггер замахнулся на многое. 3 апреля 1933 года он писал Ясперсу: «Все зависит от того, подготовим ли мы для философии надлежащее место и сумеем ли дать ей высказаться» (Переписка, 220). Теперь он нашел такое «надлежащее место» – но найдет ли и надлежащее философское слово?
Ректорскую речь он посвятил теме «Самоутверждение немецкого университета». И начал с вопроса: что представляет собой «самость» университета, в чем состоит его «сущность»?
Сущность университета заключается вовсе не в том, что здесь молодые люди получают образование, необходимое, чтобы заниматься определенной профессией, приобретают нужные для этой профессии знания. Сущность университета – это наука, но в чем сущность самой науки? Поставив этот вопрос, Хайдеггер внезапно возвращается к своему любимому коньку, «греческим истокам философии», – то есть туда, куда он уходил, чтобы иметь дистанцию для разбега и прыжка в современность.
Сущность науки отчетливо проявилась уже у греков. Там воля к знанию восставала против «подавляющей мощи судьбы», была упрямым протестом. Это «высочайшее упрямство» хотело знать, что с ним происходит, какие силы вот-бытия определяют его и что означает тот факт, что Целое вообще существует. Такое знание пробивало светлую просеку, просвет в темной чаще.
Хайдеггер драматизирует событие истины. Правда, о каких именно истинах идет речь, так и остается неясным. Но зато все более проясняется центральная метафора, организующая весь текст. Это метафора борьбы или, точнее, операции штурмовой группы.
Сущность греческого начала – завоевание некоторых оплотов зримости среди сущего, которое в целом остается темным. Это есть героическое начало истории истины, и в нем, говорит Хайдеггер, заключена истинная самость науки и университета.
Что же может угрожать понимаемой таким образом науке? Конечно, тьма сущего, однако само противостояние этой угрозе дает науке основания гордиться собой. Ведь борьба с тьмой – это и есть сущность знания. Куда опаснее другая угроза – угроза вырождения в результате «безопасной возни, направленной на обеспечение простого прогресса в накоплении знаний» (R, 13).
Опасность грозит с тыла, где разворачивается обычная научная жизнь, делаются карьеры, удовлетворяется мелкое тщеславие и зарабатываются деньги. Эта комфортная жизнь в тылу тем более возмутительна, что одновременно с ней на переднем фронте науки происходят великие и опасные события. Отношение присутствия к тьме сущего успело измениться. История истины ныне вступила в критическую фазу. Грекам еще было свойственно «восхищенно-выжидательное отношение» к сомнительности всего сущего. Они обладали ощущением своей защищенности, верой в бытие, доверием к миру. Теперь эта вера в бытие исчезла, потому что «Бог умер». Однако в тылу этого почти не замечают. Там продолжали бы комфортно существовать в «отжившей свое культуре видимостей» – вплоть до самого ее обвала в безумие и разрушение, – если бы не пришла революция, это «великолепие прорыва» (R, 19).
Что же несет с собой эта революция?
С ее приходом, фантазирует Хайдеггер, только и достигается правильное понимание ницшеанской вести о том, что Бог умер, и весь народ осознанно принимает на себя груз «покинутости (Verlassenheit) нынешнего человека посреди сущего» (R, 13). Народ преодолевает упадническую ступень так называемых «последних людей» (этот термин Ницше употребил в книге «Так говорил Заратустра»), которые больше не носят в себе «хаоса» и потому не способны родить «звезду»[273]; которые рады, что нашли удобное «счастье» и «покинули страны, где было холодно жить»; которые довольствуются тем, что «у них есть свое маленькое удовольствие для дня и свое маленькое удовольствие для ночи», и считают, что «здоровье – выше всего»[274].
Итак, Хайдеггер видит в национал-социалистской революции попытку «родить танцующую звезду» (Ницше) в лишенном богов мире. И потому использует все регистры своей метафизической романтики благоговейного трепета, чтобы придать текущим событиям неслыханную глубину.
Хайдеггер так обращается к своим слушателям – студентам и партийным боссам, профессорам, уважаемым горожанам, министерским чиновникам и ответственным референтам, а также супругам всех этих господ, – будто они являются бойцами метафизической штурмовой группы, совершающей разведывательную операцию в районе, где «присутствию грозит острейшая опасность со стороны превосходящих сил сущего». И будто сам Хайдеггер – командир этой группы, фюрер. Как известно, фюреры уходят дальше всех, во тьму – туда, где их не смогут прикрыть даже их собственные бойцы; они не боятся «совершенно незащищенной выдвинутости в потаенное и неизвестное» – и тем доказывают, что обладают «силой идти в одиночку» (R, 14).
Несомненно, оратор хотел повысить престиж – как свой собственный, так и своих слушателей. Все вместе они принадлежат к штурмовой группе, к отряду мужественных бойцов. Сам оратор – фюрер – может быть, даже немного мужественнее других, ибо он доказал (или, по крайней мере, претендует на то), что обладает «силой идти в одиночку».
Все вертится вокруг некоей опасности – и при этом из поля зрения исчезает тот простой факт, что в сложившейся актуальной ситуации наибольшей опасности подвергаются как раз те, кто не принадлежит к пресловутому штурмовому отряду революции.
Какую же опасность чуял в окружающей тьме Хайдеггер? Ту ли, что подразумевал Кант, когда говорил: «Имей мужество пользоваться собственным умом?»[275] Самостоятельное мышление действительно требует мужества, ибо отказывается от защищенности и комфорта, обеспечиваемых согласием с общепринятыми предрассудками.
Хайдеггер, произнося свою речь, не подвергался такой опасности. Правда, позже, во время банкета, кто-то шепнул ему на ухо, что он-де изложил свое «приватное понимание национал-социализма», но это ничуть не помешало ему и дальше «принадлежать» к господствующему течению. Этой речью он еще не поставил себя в позицию стороннего наблюдателя.
Или, может быть, опасность познания (ее однажды блестяще охарактеризовал Шопенгауэр, сравнив истинного философа с Эдипом, «который, желая прояснить собственную страшную судьбу, неустанно продолжает свои поиски, даже если уже догадывается, что из ответов сложится нечто для него ужасное»)? Под «ужасным» Шопенгауэр имел в виду метафизическую бездну, которая разверзается перед человеком, осмелившимся задавать вопросы о смысле жизни.
Хайдеггер тоже видел эту бездну и называл ее «покинутостью нынешнего человека посреди сущего». Но такой опыт покинутости – утраты смысла – индивид может пережить и осмыслить именно и только как индивид, то есть как человек, выброшенный из системы коллективных смысловых связей. О какой покинутости может идти речь, если, по выражению Хайдеггера, весь народ ныне находится «на марше»?
Хайдеггер и в самом деле интерпретировал революцию как коллективный побег из пещеры – пещеры лживых утешений и удобных смыслополагающих банальностей. Он верил, что народ наконец обретает подлинность, выпрямляется во весь рост и задает тревожный вопрос о бытии: почему вообще есть сущее, а не, наоборот, Ничто? Люди упорно вверяют себя могущественным силам вот-бытия: «природе, истории, языку; народу, обычаю, государству; поэзии, мышлению, вере; болезни, безумию, смерти; праву, хозяйству, технике» (R, 14), – хотя знают, что эти силы не могут служить последней опорой, а ведут в темноту, неизвестность, авантюру.
Человек, действующий таким образом, не отвоюет для себя никакой обособленный мир духа, который, быть может, принес бы ему облегчение от бремени повседневных забот. Для подобного эскапизма у Хайдеггера находились только слова презрения. Тот, для кого «сущее стало сомнительным», не отшатывается от этого сущего, а, напротив, прокладывает себе дорогу вперед, вдохновляемый атакующим духом. Тут надо не ломать себе голову над чем-то потусторонним, а просто заниматься работой. Так Хайдеггер переводит греческое слово «энергейа».
Хайдеггер хочет повторить феческое начало философии, не соблазнившись идеей «созерцательной жизни» – платоновским солнцем. Он отметает эту идею, претендуя на то, что понимает феков лучше, чем они сами понимали себя. И утверждает, что «теория» в феческом смысле[276] выражается «исключительно в страстном желании оставаться вблизи сущего как такового, разделяя его бедственное положение» (R, 14). Однако смысл платоновской притчи о пещере заключается как раз не в этом. В ней идет речь о спасении, об освобождении из бедственного положения, в котором находились узники пещеры. Цель Хайдеггера парадоксальна: он хочет платоновского экстаза без платоновского неба идей. Он хочет бегства из пещеры, но без веры в то, что существует какое-то место за пределами пещеры. И полагает, что присутствие должно быть захвачено бесконечной страстью, но не страстью к бесконечному.
В 1930 году Томас Манн предостерегал от «взрывоопасных древностей». Одну из таких опасных архаических диковин можно обнаружить и в речи Хайдеггера, в том месте, где он говорит о трех службах – «службе труда», «службе обороны» и «службе знания». В этом рассуждении оживает внушительный, господствовавший в средневековом общественном сознании образ трех сословий – крестьянского, воинского и священнического. Средневековое определение такого общественного устройства: «Божий дом тройствен, хотя людям мнится, что он един: здесь на Земле одни молятся, другие воюют, третьи занимаются ручным трудом; эти три сословия составляют одно целое и не переносят, когда их разделяют; ибо на деяниях каждого основываются труды двух других и все три помогают друг другу» (Адальберт Ланский).
Согласно средневековым представлениям о трех сословиях, священники соединяют общественный организм с небом. Их дело – заботиться о том, чтобы духовные энергии циркулировали в земном мире. У Хайдеггера место священников занимают философы или, точнее, философия, овладевшая своим временем. Однако там, где когда-то было небо, теперь лишь тьма скрывающего себя сущего, «неопределенность мира»; и новые священники поистине стали «заместителями Ничто», пожалуй, еще более отчаянно-дерзкими, чем воины. Нет больше никаких посланий, которые они могли бы передавать с неба на землю, – и тем не менее на них еще падает слабый отблеск той древней священнической власти, которая когда-то основывалась на монопольном праве вступать в контакт с великими незримыми и превосходящими человеческое разумение силами.
Итак, Хайдеггер, ощущая себя священником, вмешивается в политику и берет слово, когда дело доходит до того, чтобы нанести Веймарской республике смертельный удар. Пятнадцатью годами раньше, в начальный период этой самой республики, Макс Вебер в своей мюнхенской речи «Наука как призвание и профессия» убеждал интеллектуалов смириться с «расколдовыванием мира». Тогда он тоже напомнил своим слушателям «удивительный образ» из платоновской притчи о пещере[277]. Но то была лишь меланхолическая реминисценция, ибо платоновское единство строгого познания и поисков высшего смысла, по мнению Вебера, безвозвратно утрачено. Великого освобождения, выхода из пещеры, не предвидится, и Вебер советовал не доверять «кафедральным пророкам», которые ради каких-то своих темных дел вновь заколдовывают мир.
Хайдеггер, как и Вебер, не жаловал «кафедральных пророков». Но ведь к тем, кого ты не жалуешь, всегда относишь других, а не самого себя.
Когда Хайдеггер впервые – летом 1927 года – заговорил в своей лекции о платоновской притче, он описал освобождение из пещеры как процесс, который совершается с сохранением «полной трезвости чисто содержательной постановки вопроса» (Основные проблемы, 379).
Но теперь Хайдеггер сам стоит на кафедре, гордо выпрямившись и воинственно бряцая словами, словно оружием, – священник без небесного послания, фюрер метафизического штурмового отряда, окруженный знаменами и штандартами; читая лекции о Платоне, он было возомнил себя освободителем, который расковывает и выводит на открытый простор узников пещеры. А потом вдруг заметил, что все обитатели пещеры, собственно, уже выступили в поход. Ему остается лишь встать во главе маршевой колонны.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Ректорская речь и отклики на нее. Реформа университета. Хайдеггер – антисемит? «Революционное приспособленчество» Хайдеггера. Сходство с движением 1968 года. Служить народу. «Лагерь науки».
«Ректорская речь произносилась на ветер и была забыта на следующий день после торжества… Все двигались по десятилетиями накатывавшейся колее факультетской политики», – пишет Хайдеггер в своих оправдательных записках «Факты и мысли 1945 года» (R, 34).
На самом деле речь забыли не так скоро. Во времена национал-социализма она дважды была напечатана в виде отдельной брошюры и о ней с похвалой отзывались в партийной прессе. В газете «Килер Блеттер», например, в одной статье 1938 года с ретроспективным обзором того участка пути, который успела пройти национал-социалистская политика в области науки, говорилось: «Подобно Боймлеру, Мартин Хайдеггер в своей ректорской речи определяет сущность науки с активистской, героической позиции».
Непосредственные отклики были еще более восторженными. Местная пресса и региональные газеты представляли речь как большое новаторское событие. Журнал национал-социалистского студенчества предостерегал от оппортунизма, свойственного многим ученым, которые лишь поверхностно приспосабливаются к новым условиям, и выделял как позитивное исключение ректорскую речь Хайдеггера, отмечая, что она действительно выражает дух революции, прорыва в новую реальность. Даже журнал «Фольк им верден» («Народ в становлении») опубликовал в 1934 году, когда его издатель Эрнст Крик уже был злейшим врагом Хайдеггера, статью некоего Генриха Борнкама, в которой, в частности, говорилось: «Из всех чересчур многочисленных нынешних работ, посвященных реформе высшей школы, на мой взгляд, самой значимой в плане предлагающихся в ней подходов является фрайбургская ректорская речь Хайдеггера».
Реакция менее официальной прессы тоже была положительной. Так, Ойген Херригель[278], впоследствии ставший даосом (и автором книги «Искусство стрельбы из лука»), назвал речь Хайдеггера «классическим текстом», а «Берлинер бёрсенцайтунг» писала: «Мало найдется ректорских речей, которые так же пленяли бы слушателей и одновременно столь же настойчиво напоминали им об их долге».
Впрочем, речь вызвала и некоторую растерянность. Карл Лёвит, описывая реакцию слушателей, заметил, что людям было непонятно, к чему, собственно, призывает их ректор: должны ли они теперь же кинуться изучать досократиков, или, напротив, срочно вступить в СА. Поэтому тогдашние комментаторы охотно возвращались к тем пассажам, которые воспринимались без всяких трудностей и однозначно вписывались в национал-социалистскую доктрину, например, к хайдеггеровской программе «трех служб» – «службы труда», «службы обороны» и «службы знания».
Что касается критически настроенных зарубежных журналистов, то в их реакциях преобладало крайнее удивление, порой смешанное с возмущением. «Новая цюрихская газета»: «Речь Хайдеггера – даже если перечитать ее три-четыре раза – остается выражением бездонного разрушительного нигилизма, несмотря на все заверения в приверженности крови и почве народа». Бенедетто Кроче[279] писал Карлу Фосслеру 9 сентября 1933 года: «Наконец-то я дочитал до конца речь Хайдеггера, глупую и одновременно раболепную. Меня не удивляет успех, которым некоторое время будет пользоваться его философствование: пустота и общие места всегда имеют успех. Но ничего не создают. Я также думаю, что он не сможет оказать никакого воздействия на политику: но он бесчестит философию, а это вредит и политике, по крайней мере, будущей».
Поражает реакция Карла Ясперса. 23 августа 1933 года он писал Хайдеггеру: «Спасибо за Вашу ректорскую речь… Широта Вашего подхода к раннему эллинизму вновь тронула меня как новая и одновременно совершенно естественная истина. Здесь Вы едины с Ницше, с одной только разницей: есть надежда, что однажды Вы, философски интерпретируя, осуществите то, о чем говорите. Вот почему Ваша речь приобретает реальную убедительность. Я говорю не о стиле и не о насыщенности, которые делают Вашу речь, насколько я вижу, единственным пока документом современной академической воли, которому суждено сохранить свое значение. Моего доверия к Вашему философствованию… не умаляют те особенности Вашей речи, что обусловлены временем, некоторая, на мой взгляд, форсированность и фразы, звучащие довольно пусто. В целом же я рад, что есть человек, способный говорить, достигая до подлинных пределов и начал» (Переписка, 223-224).
За два месяца до получения этого письма Хайдеггер в последний раз побывал в гостях у Ясперса. В тот день он выступал с докладом на тему «Университет в новом рейхе». Его пригласил гейдельбергский национал-социалистский студенческий союз, чтобы укрепить фронт против консервативных профессоров и в особенности против ректора Вилли Андреаса[280], упорно не желавшего проводить политику гляйхшалтунга. Хайдегтер, по всей видимости, оправдал возлагавшиеся на него ожидания. Один из участников этого мероприятия, историк Герд Телленбах[281], отметил в своих воспоминаниях: «Я услышал, как один студент, доведенный до фанатизма его воинственной речью, сказал другому: Андреасу, собственно, следовало бы… пустить себе пулю в лоб». Действительно, Хайдеггер был настроен очень воинственно: он заявил, что этот приверженный старым традициям университет мертв, подверг резкой критике «гуманитарные, христианские представления» и призвал своих слушателей к «работе для государства». Далее речь пошла о риске, с которым связано стремление к знанию, и о том, что эту борьбу сможет выдержать только «крепкое поколение, не думающее о собственных интересах». Тот же, кто «не выстоит в этой борьбе, останется лежать» (S, 75).
Профессора пришли послушать эту речь, заранее разрекламированную прессой, как обычно, в строгих деловых костюмах. Хайдеггер же оделся в стиле молодежного движения, на нем были бриджи и рубашка с отложным «шиллеровским» воротником. Ясперс в своих воспоминаниях отметил: «Я, сидя в первом ряду с краю, вытянув ноги и заложив руки в карманы, не пошевелился»[282].
В частной беседе, состоявшейся после этой лекции, Хайдеггер показался ему как бы «одурманенным», и Ясперс почувствовал исходившую от него угрозу[283].
И тем не менее два месяца спустя Ясперс расхваливал ректорскую речь! Позднее, в своих личных заметках, он объяснял это тем, что в то время еще пытался истолковать ее «в возможно более положительном смысле», чтобы не порывать отношения с Хайдеггером, хотя в действительности уже чувствовал отвращение к «содержанию его речей и поступков», которое «скатилось на невыносимо низкую и чуждую мне ступень»[284].
Ясперс одобрил ректорскую речь Хайдеггера не только из тех тактических соображений, на которые ссылается в своих воспоминаниях. Как до этой речи, так и после нее взгляды обоих ученых в некоторых важных моментах совпадали –в том числе, как это ни странно, и по вопросу о национал-социалистской университетской реформе. В своем письме от 23 августа 1933 года Ясперс назвал только что изданный тогда баденским министерством культуры новый Устав университета, основным пунктом которого были введение «принципа фюрерства» и лишение коллегиального органа – ученого совета – его полномочий, «шагом чрезвычайным». Ясперс признал этот «новый устав правильным»: «Великая эпоха Университета» теперь кончается, а значит, настало время нового начала (Переписка, 324-325).
Летом 1933 года Ясперс и сам работал над «Тезисами к обновлению высшей школы». Первоначально он предполагал, что передаст тезисы для обсуждения в Общество гейдельбергских доцентов[285]. Во время последнего визита Хайдеггера Ясперс рассказал ему о своих планах, надеясь, что Хайдеггер посодействует тому, чтобы правительственные инстанции связались с ним, Ясперсом. На такой случай Ясперс даже набросал сопроводительное письмо, в котором заверял, что его идеи реформы «не противоречат, а, скорее, согласуются с принципами, уже одобренными министерством» (Переписка, 350). В конце концов Ясперс отказался от дальнейших попыток добиться рассмотрения своих проектов. Причину он указал на листке, который приложил к рукописи тезисов: «По собственной инициативе я ничего предпринять не могу, ибо мне говорят, что как беспартийного и супруга еврейки меня только терпят, но доверять мне не могут» (Переписка, 351).
В своих «Тезисах» (которые в 1945 году он использует при написании речи «Обновление университета») Ясперс нарисовал картину общего упадка университетской жизни. Поставленный им диагноз совпадает с тем, что думал по тому же поводу Хайдеггер. К наиболее очевидным симптомам кризиса он относит: дробление знания на специальные дисциплины, «возрастание школярства» и одностороннюю профессиональную ориентацию, непомерный рост управленческих структур, снижение общего уровня преподавания, ущемление свободы обучения (ибо «отпал необходимый компонент свободы – отсеивание неудачников»). Ясперс пишет, что в современной ситуации (то есть летом 1933 года) существует, вероятно, «уникальная» возможность «преодоления всех затяжных и запутывающих переговоров посредством решительных распоряжений человека, который имеет неограниченную власть над университетами и может опереться на мощную поддержку сознающей ситуацию молодежи и необычайную готовность тех, кто прежде был безучастен и равнодушен». Если же сейчас не будут предприняты решительные действия, то университет двинется навстречу своей «окончательной гибели»[286].
Предлагавшийся Ясперсом план реформ, в частности, предусматривал: упразднение принудительного регулирования учебного процесса, отмену учебных планов и формальных справок, упрощение управления посредством усиления ответственности руководящих инстанций. Ректор и деканы не должны были более «зависеть от решений большинства»[287]. То есть Ясперс ратовал за «принцип фюрерства» – но с той оговоркой, что ответственные лица должны действительно нести ответственность за свои ошибки и при определенных условиях переизбираться. Для Ясперса было важно наличие гарантий против злоупотребления «принципом фюрерства». Обеспечит ли такие гарантии обновленный баденский Устав университета, должно было показать время. Но, во всяком случае, Ясперс желал только что утвердившемуся «аристократическому принципу» «всяческого успеха», как он писал Хайдеггеру 23 августа 1933 года (Переписка, 225).
Итак, летом 1933 года Ясперс разделял убеждение Хайдеггера в том, что в условиях национал-социалистской революции вполне возможно осуществить разумное обновление университетов – если только политики будут прислушиваться к мнению авторитетных ученых. Ясперс, на свой лад, тоже хотел «включиться». Он даже шел на уступки сторонникам обязательной трудовой повинности и военно-прикладного спорта. В его представлении то и другое было «реальностью всеохватного перегиба», соединяющей с «основами существования и народом в целом». Но Ясперс последовательно выступал против примата политики, полагая, что «ни одна другая инстанция в мире», кроме «ясности самого подлинного знания», не может «указывать цели исследованию и обучению»[288].
Хайдеггер пока высказывался примерно в том же плане. В своей ректорской речи он не выводил дух науки из политики, а, напротив, объявлял политическую активность следствием правильного понимания философского вопроса. И все же: если говорить об общем настрое и характере внутренней причастности к политическому движению, то между позициями Ясперса и Хайдеггера пролегали целые миры. Ясперс защищал аристократию духа, Хайдеггер же хотел ее сокрушить. «Это безобразие, что существует столько профессоров философии… следовало бы оставить двух или трех», – сказал Хайдеггер, когда в последний раз беседовал с Ясперсом.
Для Хайдеггера, который еще в апреле 1933 года писал Ясперсу, что в грядущей «новой действительности» все будет зависеть от того, «подготовим ли мы для философии надлежащее место и сумеем ли дать ей высказаться» (Переписка, 220), этой «новой действительностью» стала национал-социалистская революция. Для Ясперса же важнее всего было сберечь не извращенное политикой философское слово. С удивлением и возмущением он наблюдал, как Хайдеггер интерпретирует те политические силы, от которых всецело зависит, «стилизуя» их под бытийные силы метафизического типа. Но вместе с тем верил, что политическое приспособленчество Хайдеггера порождается подлинным философским чувством. И это завораживало Ясперса. Он хотел понять, почему «новая действительность» обрела в глазах Хайдеггера такую значимость, стала столь мощным импульсом для его философствования. Отсюда и двусмысленное замечание Ясперса по поводу ректорской речи Хайдеггера: «… есть надежда, что однажды Вы, философски интерпретируя, осуществите то, о чем говорите» (Переписка, 223).
Сразу же после своего избрания на пост ректора Хайдеггер de facto ввел во Фрайбурге «принцип фюрерства» – еще прежде, чем этот принцип был официально утвержден в результате баденской реформы высшей школы. Новый ректор много месяцев не созывал ученый совет, тем самым лишив его власти. Его сообщения и циркулярные письма, адресованные коллегиальным органам и факультетам, были выдержаны в резком повелительном тоне. Хайдеггер, человек, приобретший во время Первой мировой войны весьма ограниченный фронтовой опыт, теперь был одержим идеей привнесения в сообщество преподавателей воинского духа. Он поручил профессору Штилеру, бывшему капитану третьего ранга, разработать статут суда чести для доцентов, ориентируясь на соответствующие правила, которые действуют в офицерском корпусе. Хайдеггер, не так давно сам проявивший изрядную сноровку в закулисных переговорах по поводу своего назначения на должность, теперь хотел покончить со всякого рода махинациями с целью получения прибавки к жалованью, лучшего оборудования для кафедр и т. п., намеревался преодолеть дух рынка и экономической конкуренции. Поэтому в проекте статута суда чести говорилось: «Мы хотим культивировать и все более развивать в нашей среде тот дух подлинного товарищества и истинного социализма, который не позволяет видеть в своих коллегах конкурентов в борьбе за существование».
В этом проекте, одобренном Хайдеггером, есть и такая статья: «Мы хотим очистить нашу корпорацию от малоценных элементов и в будущем не допускать никаких кампаний, ведущих к падению нравов».
Хайдеггер, скорее всего, понимал под «малоценными элементами» лиц, не обладающих необходимыми для преподавателя профессиональными и личностными качествами, однако с точки зрения национал-социалистской революции под эту категорию, конечно, подпадали прежде всего евреи и представители политической оппозиции. И он не мог этого не знать.
Во Фрайбурге штурмовики уже в начале марта подстрекали население к бойкоту еврейских магазинов и распространяли списки адвокатов и врачей еврейской национальности. Национал-социалистский студенческий союз начал призывать студентов бойкотировать лекции профессоров-евреев. 7 апреля был издан «Закон о восстановлении профессионального чиновничества», согласно которому все «неарийцы», принятые на государственную службу после 1918 года, должны были быть уволены. Но во Фрайбурге имперский комиссар обороны Роберт Вагнер за день до этого отдал еще более жесткое распоряжение: об отправлении в отпуск с целью последующего увольнения всех еврейских чиновников – даже тех, что находились на государственной службе еще до 1918 года. На основании этого распоряжения 14 апреля 1933 года отправили в отпуск и Гуссерля. К тому моменту Хайдеггер еще не занимал ректорскую должность. Когда же в конце апреля распоряжение Вагнера утратило свою силу, потому что вступил в действие «Закон о восстановлении профессионального чиновничества», отпуск Гуссерля пришлось отменить. Этим должен был заняться новый ректор. Хайдеггер соединил выполнение данной формальности с личным поздравительным жестом. Он попросил Эльфриду послать Гуссерлю цветы. Гуссерль воспринял увольнение в отпуск как «величайшую обиду» всей жизни; он ощущал себя оскорбленным прежде всего в своем национальном чувстве и в одном из писем объяснил это так: «Я полагаю, что был не худшим немцем (старого стиля и закала), а дом мой всегда оставался местом подлинно национального мышления, и это доказали все мои дети, воюя как добровольцы на полях сражений и … [проходя лечение] в лазаретах во время войны».
Цветы и приветствие уже не могли изменить отношения Гуссерля к Хайдеггеру: старый мэтр разочаровался в своем ученике. В письме к другому ученику, Дитриху Манке[289], от 4 мая 1933 года Гуссерль прямо говорит, что расценивает «совершенно театральное» вступление Хайдеггера в партию как конец связывавшей их «мнимой философской дружбы». И добавляет, что такого конца следовало ожидать: в последние годы у Хайдеггера «все сильнее проявлялся антисемитизм – в том числе по отношению к группе его одаренных учеников-евреев и на факультете».
Хайдеггер – антисемит?
Если и да, то, во всяком случае, не в том смысле, что он разделял бредовую идеологическую систему национал-социализма. Потому что очевидно, что ни в его лекциях и философских трудах, ни в политических речах и памфлетах нет антисемитских, расистских высказываний. Например, когда Хайдеггер в циркулярном письме, разосланном накануне первомайского праздника, назвал в качестве «важнейшей задачи» текущего момента «созидание нового духовного мира для немецкого народа», он не собирался отстранять от решения этой задачи никого из желавших принять ее на себя. Хайдеггеровский национал-социализм – это, по сути, децизионизм. Главным для него была не национальная принадлежность человека, а его способность принимать решения. В терминологии Хайдеггера это означало: человека следует оценивать не исходя из его ситуации брошенности, а в соответствии с его жизненным проектом. А потому Хайдеггер иногда даже помогал подвергавшимся преследованиям коллегам-евреям, если признавал их научные достижения. Когда Эдуард Френкель, ординарный профессор классической филологии, и Георг фон Хевеши[290], профессор физической химии, должны были быть уволены как евреи, Хайдеггер попытался воспрепятствовать этому, направив письмо в министерство культуры. В качестве аргументации он выдвинул тактическое соображение: увольнение обоих еврейских профессоров, бесспорно имеющих необычайно высокую научную репутацию, может нанести вред именно «университету, расположенному в пограничной области», который привлекает особое внимание критически настроенной заграничной общественности. Кроме того, оба профессора – «благороднейшие евреи», обладающие образцовыми характерами. Он, Хайдеггер, готов поручиться за их безупречное поведение, «насколько тут может быть компетентно человеческое суждение». Несмотря на ходатайство Хайдеггера, Френкель был уволен, Хевеши же на время оставили в покое.
Хайдеггер вступился и за своего ассистента, еврея Вернера Брока[291]. Правда, он не сумел сохранить ему место во Фрайбургском университете, но помог получить стипендию для исследовательской работы в Кембридже.
После 1945 года Мартин Хайдеггер ссылался на факты своего заступничества за еврейских ученых, как и на то, что уже через несколько дней после вступления в должность ректора он рискнул пойти на конфликт с национал-социалистским студенческим союзом, запретив вывесить в университете антисемитские плакаты с надписью «Против негерманского духа».
Эти поступки показывают, что Хайдеггер не одобрял грубых проявлений антисемитизма и идеологического антисемитизма.
В начале 1933 года, незадолго до своей эмиграции, Ханна Арендт написала Хайдеггеру. В письме (судя по его пересказу в работе Эттингер) речь шла о том, что до Ханны дошли нехорошие слухи о Хайдеггере. «Правда ли, что он не допускает в свой семинар евреев, перестал здороваться… с еврейскими коллегами, не принимает докторантов-евреев и вообще ведет себя как антисемит?» (Эттингер). Хайдеггер ответил в озлобленном тоне – это было его последнее письмо к Ханне до 1950 года. «Он по порядку (так перефразирует это письмо Эттингер) перечислил все любезности, какие оказывал евреям, начиная с проявлений отзывчивости по отношению к еврейским студентам, ради которых он великодушно жертвовал своим временем, хотя это мешало его собственной работе… Кто приходит к нему, оказавшись в трудном положении? Еврей. Кто настаивает на том, что ему срочно нужно поговорить с ректором о своей диссертации? Еврей. Кто присылает ему объемистую работу, чтобы он тотчас ее отрецензировал? Еврей. Кто просит его о помощи, чтобы получить прибавку к жалованью? Еврей».
Не говоря уже о том, что Хайдеггер почему-то называет «любезностями» дела, которые входят в круг его должностных обязанностей, он, пытаясь оправдаться, ясно показывает, что «действительно делит немцев, как своих коллег, так и студентов, на евреев и неевреев» (Этгингер), и дает понять, что присутствие евреев в университете кажется ему излишне навязчивым. На основании обнаруженного в 1989 году письма Хайдеггера (от 20 октября 1929 года) Виктору Швёреру[292], вице-президенту «Общества взаимопомощи немецких ученых» (организации, выдававшей стипендии), можно сделать вывод, что Хайдеггеру был свойствен широко распространенный в академических кругах «антисемитизм из-за конкуренции» (термин Себастьяна Хафнера). Хайдеггер писал: «…речь идет о… неотложном осмыслении того факта, что мы стоим перед выбором и должны либо вновь обеспечить для нашей немецкой духовной жизни подлинно почвенные силы и соответствующих воспитателей, либо уступить ее нарастающему оевреиванию в широком и в узком смыслах».
Поборники такого «антисемитизма из-за конкуренции» в принципе не признавали ассимиляции евреев, продолжали идентифицировать их как особую группу и стремились не допустить того, чтобы евреи заняли доминирующее положение в культуре – положение, не соответствующее их пропорциональной доле в общей численности населения. В этой связи интересно свидетельство Макса Мюллера, который рассказывает: Хайдеггер в 1933 году в одном разговоре отметил, «что первоначально среди терапевтов было только два врача-еврея, в конечном же итоге во всей этой сфере осталось лишь два нееврея. Это его несколько раздражало».
Так что не стоит удивляться тому, что Хайдеггер, написав письмо в министерство культуры в поддержку своих еврейских коллег Хевеши и Френкеля, которым грозило увольнение, в том же письме однозначно признал «необходимость Закона о восстановлении профессионального чиновничества».
В области культуры «антисемитизм из-за конкуренции» включает в себя, как правило, представление об особом «еврейском духе». Но у Хайдеггера мы не найдем никаких предостережений против «еврейского духа». Хайдеггер всегда отвергал такого рода «духовный» антисемитизм. В одной лекции, прочитанной в середине тридцатых годов, он защищал Спинозу и говорил, что если философия Спинозы еврейская, то и всю философию от Лейбница до Гегеля следовало бы считать еврейской. Такое неприятие «духовного» антисемитизма тем более удивительно, что вообще Хайдеггер охотно рассуждал о «немецком начале» в философии, противопоставляя его рационализму французов, утилитаризму англичан и техницизму американцев. Однако, в отличие от Крика и Боймлера, своих соратников и противников, Хайдеггер никогда не использовал эту идею «немецкого начала» в философии для того, чтобы отмежеваться от «еврейского начала».
Карл Ясперс, которого в 1945 году попросили письменно изложить свое мнение по поводу антисемитизма Хайдеггера, высказал суждение, что в двадцатые годы Хайдеггер не был антисемитом, и продолжил свою мысль так: «… в 1933 году он, по крайней мере в определенных рамках, стал антисемитом. В этих вопросах он практиковал не только пассивность. Но это не исключает, что в других отношениях, как я полагаю, антисемитизм шел вразрез с его совестью и вкусом»[293].
Во всяком случае, свойственный Хайдеггеру род антисемитизма не был для него мотивом присоединения к национал-социалистской революции. С другой стороны, очень рано проявившаяся жестокость национал-социалистского антисемитизма не испугала Хайдеггера и не побудила его отойти от движения. Он не поддерживал антиеврейские акции, но принимал их как неизбежное зло. Когда летом 1933 года группа националистически настроенных студентов разгромила здание еврейского студенческого объединения, действуя столь агрессивно, что прокуратура была вынуждена начать расследование и обратилась к ректору Хайдеггеру с просьбой предоставить относящуюся к делу информацию, он отказался помогать следствию, сославшись на то, что в нападении участвовали не только студенты (см.: V. Farias, 172). Хайдеггер фактически прикрыл погромщиков, полагая, что в этом состоит его долг перед революцией.
Когда Элизабет Блохман, которую как полуеврейку уволили с работы в соответствии с «Законом о восстановлении профессионального чиновничества», написала Хайдеггеру, надеясь на его помощь, он хотя и пообещал похлопотать за нее в Берлине (и потом выполнил свое обещание, не добившись никакого успеха), но даже в этом приватном случае, когда его не сковывали никакие тактические соображения, не нашел ни единого слова возмущения по поводу происшедшего. Он жалел Элизабет Блохман – но так, как если бы она стала жертвой несчастного случая. Хайдеггеру, похоже, никогда не приходила в голову мысль, что его действия, вплетенные в революционную коллективную деятельность, направлены, в частности, и против его подруги, которая с горечью писала ему: «Я пережила очень тяжелые дни, я даже не могла себе представить, что бывает такая отверженность. Я, вероятно, жила чересчур наивно, будучи уверенной в глубинной неразрывности духа и чувства – и потому поначалу оказалась совершенно беззащитной, впала в отчаяние» (18.4.1933, BwHB, 64). Хайдеггер на это ответил: «Я в любое время готов помочь Вам во всем, что касается Ваших желаний и потребностей» (16.10.1933, BwHB, 77).
Ханна Арендт, Элизабет Блохман, Карл Лёвит – люди из ближайшего окружения Хайдеггера – были вынуждены покинуть Германию, однако данное обстоятельство на первых порах не помешало ему верить, что с национал-социалистами его связывает «общность устремлений». Он искренне ощущал свою принадлежность к движению – даже когда на его родине появились первые концлагеря, когда участились случаи зверских нападений на студентов-евреев, а в городе стали распространяться первые проскрипционные списки. И когда чуть позже Хайдеггер начал высказывать первые осторожные замечания в адрес официальной политики, объектами его критики были вовсе не антисемитские эксцессы, а уступки старым буржуазным силам.
Слухи, доходившие до Ханны Арендт в начале 1933 года, – о том, что Хайдеггер воздерживается от общения со своими еврейскими коллегами и еврейскими студентами; слухи, которые он оспаривал в ответном письме Ханне, полностью подтвердились в последующие месяцы. С того момента, как он стал ректором, Хайдеггер прекратил всякое внеслужебное общение с коллегами-евреями и более не курировал ни одной работы докторанта-еврея. Он перекладывал такого рода обязанности на своих коллег по факультету. «Хайдеггер хотел, чтобы его еврейские ученики защищались, но предпочитал, чтобы они защищались не у него» (Макс Мюллер). Вильгельму Шилази, еврейскому ученому, занимавшемуся приватными исследованиями, с которым он поддерживал дружеские отношения, Хайдеггер сказал: «В нынешней ситуации мы должны прекратить наши контакты».
Хайдеггер прекратил контакты и с Эдмундом Гуссерлем. Слухи о том, что он якобы запретил своему старому учителю и другу приходить на семинарские занятия, не соответствуют действительности. Но, с другой стороны, Хайдеггер ничего не сделал, чтобы прорвать круг все усиливавшейся изоляции Гуссерля. Не Хайдеггер, а его коллега по католической кафедре Мартин Хонекер поддерживал связь с Эдмундом Гуссерлем, регулярно передавал ему через «курьера» Макса Мюллера «самые сердечные приветы из философского семинара» и информацию о том, что происходило в университете. «Он [Гуссерль] представлялся мне «мудрецом», потому что его не интересовали никакие повседневные вопросы, хотя именно повседневная политика постоянно угрожала лично ему, как еврею, и его жене-еврейке. Казалось, он ничего не знает об этой угрозе или попросту не желает принимать ее к сведению» (Макс Мюллер). Гуссерль не особенно вникал в университетские дела, но всегда хотел что-нибудь услышать о Хайдеггере. Первая реакция Гуссерля на «предательство», совершенное Хайдеггером в 1933 году, – возмущение – со временем сменилась более мягким отношением. Однажды, в разговоре с Максом Мюллером, Гуссерль сказал о Хайдеггере: «Он – величайшее из всех дарований, когда-либо принадлежавших к моему кругу».
Когда в 1938 году Эдмунд Гуссерль в одиночестве встретил свой конец, на церемонии кремации, состоявшейся 29 апреля, от философского факультета присутствовал только Герхард Риттер. Не было и Мартина Хайдеггера, в те дни прикованного к постели болезнью. Вечером после похорон экономист Карл Диль в узком кругу коллег произнес речь памяти Гуссерля. Диль называл этот кружок своих единомышленников «факультетом порядочных людей».
В начале сороковых годов Хайдеггер – по требованию издательства – снимет посвящение Гуссерлю с форзаца «Бытия и времени». Однако оставит выражения благодарности учителю, скрытые в примечаниях.
Но вернемся в 1933 год.
Вспомним: в своей ректорской речи Хайдеггер набросал сценарий эпохального перелома, второго начала человеческой истории; и приглашал всех стать свидетелями или участниками этого решающего эпизода гигантомахии, лежащей в основе истории бытия. Но на практике лично для него все это вылилось в борьбу с университетскими ординарными профессорами. Хайдеггер позже писал Ясперсу: «… я мечтал и думал, по сути, о «том» университете, который мне грезился» (8.4.1950, Переписка, 275).
Эта борьба за «новый» университет имеет некоторое сходство со студенческими волнениями 1968 года. Хайдеггер разыгрывал из себя представителя молодежного движения, фюрера революционных студентов, находящихся «на марше». Даже его неизменные бриджи и рубашка с «шиллеровским» воротником казались протестом против «затхлой» академической атмосферы. Он натравливал представителей студенчества, национал-социалистов, на ординарных профессоров и поддерживал притязания ассистентов на большую самостоятельность. Время благоприятствовало приват-доцентам: у них теперь появились основания для всякого рода честолюбивых мечтаний. А еще Хайдеггер следил за тем, чтобы к обсуждению насущных университетских проблем привлекался и прочий обслуживающий персонал.
Хайдеггер не был настолько самонадеянным, чтобы полагать, будто «может руководить фюрером» (как утверждал впоследствии Ясперс), однако на уровне университетской политики он действительно стремился занять ведущую позицию в борьбе против господствующего положения ординарных профессоров. На состоявшемся в июне 1933 года заседании Союза доцентов национал-социалистской фракции, в которой Хайдеггер претендовал на главную роль, удалось убедить старых членов правления уйти в отставку. Вскоре после того была созвана конференция ректоров, на которой Хайдеггер высказался за роспуск Союза. Кроме того, по его мнению, Фрайбург следовало объявить «испытательным полигоном» национал-социалистского преобразования университетов. Если бы эта идея прошла, Хайдеггер действительно стал бы своего рода фюрером немецких университетов. Необходимое для этого честолюбие у него было. Но одержать верх над другими ректорами ему не удалось. Национал-социалистская фракция в знак протеста покинула собрание. Так как на национальном уровне активность Хайдеггера не принесла желаемого результата, он попытался построить образцовую модель образовательной системы по крайней мере в региональном масштабе. Нет никаких сомнений в том, что летом 1933 года Хайдеггер активно участвовал в разработке баденской реформы высшей школы. Соответствующий закон вступил в силу 21 августа, в результате чего Баден оказался первой землей, осуществившей реорганизацию университетов в соответствии с политикой гляйхшалтунга и «принципом фюрерства».
В глазах Хайдеггера отстранение от власти ординарных профессоров было продолжением его борьбы против буржуазного идеализма и против позитивистского духа специальных наук, характерного для Нового времени. Импульс такого рода проявится и в студенческом движении 1968 года. Тех, против кого выступал Хайдеггер, в 1968 году студенты будут называть «профессионально зацикленными идиотами». Суть критических выступлений 1968 года сводится к следующему: буржуазное общество распространяет интерес к наукам, чтобы отвлечь людей от общественных проблем. Об ответственности науки за общественное Целое говорил и Хайдеггер, пусть другими словами: «Созидание нового духовного мира для немецкого народа станет важнейшей задачей немецкого университета. Это – работа национального масштаба, исполненная высочайшего смысла и значения».
Идеалом студенческого движения 1968 года было так называемое «преодоление разграничения между физическим и умственным трудом». Таким же был и идеал Хайдеггера. На церемонии посвящения в студенты, 25 ноября 1933 года, Хайдеггер выступил с программной речью на тему «Немецкий студент как рабочий». Используя формулировки, которые напоминали идеи из эссе Эрнста Юнгера «Рабочий», опубликованного в 1932 году, он обличал «высокомерие образованных». Студент должен не собирать духовные сокровища для частного употребления и для своей карьеры, а спрашивать себя, как посредством своих исследований и своих знаний он мог бы наилучшим образом послужить народу. «Такое служение дает фундаментальный опыт зарождения подлинного товарищества». Студент должен относиться к своей учебе со скромностью, воспринимать ее как труд, но он должен заниматься и подлинно физическим трудом – помогать при уборке урожая, на мелиоративных работах в окрестностях Фрайбурга, на городской общественной кухне и везде, где может понадобиться его сила. «Национал-социалистское государство – это рабочее государство», – говорил Хайдеггер; а значит, студенты со своими исследованиями и знаниями, находясь каждый на своем месте, должны постоянно ощущать, что они «на службе».
Странно, что Хайдеггер, который до описываемого момента всегда стремился охранить дух истинной науки и философии, не допустить его подчинения каким бы то ни было соображениям полезности или идее непосредственной ориентации на практику, теперь высказывался в пользу инструментализации науки ради национальных целей. Он изобразил ориентацию философии на ценности в карикатурном виде, как редуцированный вариант буржуазного идеализма; и предложил в качестве единственной достойной замены ценности национального самоутверждения, чтобы затем – ради этих новых ценностей, подтвердив их значимость авторитетом философии, – потребовать от своих слушателей «готовности идти до крайних пределов» и «товарищества до последнего мига». Всё это будет поставлено в связь (особенно убедительно – в речи Хайдеггера, произнесенной во время лейпцигской «Манифестации немецкой науки в поддержку Адольфа Гитлера», 11 ноября 1933 года) с тем философским принципом, согласно которому «изначальное требование» всякого присутствия состоит в том, «что оно должно сохранить и спасти свою собственную сущность» (S, 149).
Итак, Хайдеггер сформулировал лозунг служения народу. НСДАП в начале 1934 года выдвинула программу социальной интеграции безработных. Теперь группы безработных направлялись в университеты для получения «государственно-политического» воспитания. Там «рабочие умственного труда» должны были обучать «рабочих физического труда». Хайдеггер сразу же включился в реализацию этой программы «базисной связи», как ее назвали бы в 1968 году. Он произнес вступительную речь перед шестьюстами присланными в университет рабочими.
Хайдеггер начал с того, что объяснил собравшимся перед ним людям, что означает сам факт их присутствия здесь. Уже самим своим появлением в стенах университета они служат «строительству и созиданию нового будущего нашего народа». На данный момент они, к сожалению, остались без работы… Хайдеггер воспользовался этим поворотом темы, чтобы осторожно вставить в свою речь первые философские термины, – он назвал трудное положение своих слушателей «неспособностью к присутствию». «Способными к присутствию» они станут только тогда, когда смогут служить государству и народной общности. Таким образом, первая задача национального государства – обеспечить всех своих граждан работой. Вторая его задача – обеспечить их знаниями. «Каждый трудящийся в нашем народе должен знать, почему и для чего он стоит там, где стоит». Только тогда индивид будет «укоренен в народной целостности и в народной судьбе». Поскольку Хайдеггер не мог говорить безработным, что, по его мнению, осознание сомнительности сущего в целом как раз и есть та форма знания, в которой нуждается человек из народа, и поскольку он, собственно, не хотел специально заострять внимание людей, временно выброшенных из сферы труда, на их ситуации брошенности, ему пришлось найти и предложить им для осмысления какие-то более конкретные вещи. По тексту речи видно, с какими трудностями он при этом столкнулся. Ему не приходило на ум ничего подходящего. Поэтому он и рассуждал о том, что им необходимо знать, «как членится народ… что происходит с немецким народом в этом национал-социалистском государстве… что понимается под «будущим оздоровлением народного тела»… что принесла немецким людям урбанизация…». Узнав все это, продолжал Хайдеггер, собравшиеся здесь безработные смогут стать «ясно мыслящими и решительными немецкими людьми». В этом им помогут ученые из университета. Помогут охотно. Ибо ученые понимают, что и они смогут приобщиться к народу лишь в том случае, если будут передавать свои знания трудящемуся человеку. Единство кулака и лба – вот подлинная действительность. «Эта воля к тому, чтобы обеспечение работой было дополнено подлинным обеспечением знаниями, эта воля должна стать глубочайшей уверенностью и неколебимой верой». Опорой же для такой веры является «верховная воля нашего фюрера». Хайдеггер завершил свою речь возгласом «Зиг хайль!».
В речи перед тюбингенским студенчеством, 30 ноября 1933 года, Хайдеггер описывал процесс «завоевания новой действительности» – описывал так, будто речь шла о рождении художественного произведения. Он говорил, что сейчас самое время покинуть пространство старого Университета, который есть не более чем «опустевший остров опустевшего государства». Однако тот, кто борется за новое, уже как бы находится внутри рождающегося творения. Такой человек ощущает всю полноту присутствия и становится «совладельцем истины народа в его государстве».
На смену философскому экстазу пришла мистическая идея народного сообщества. Философия как индивидуальное мышление и вопрошание на время оказалась не у дел. Но, конечно, Целое сохранило свою связь с философией, поскольку Хайдеггер поддался чарам национал-социалистского движения именно в философском смысле – и ему удавалось распространять воздействие этих чар также на других людей. Один из таких «очарованных» в то время признался: «Когда говорит Хайдеггер, у меня будто спадает с глаз пелена».
Самым амбициозным проектом Хайдеггера был «Лагерь науки». Идею такого лагеря он предложил еще 10 июня 1933 года, на учебном семинаре «Научного отделения Союза немецких студентов» в Берлине. Хайдеггер хотел создать своеобразный гибрид – нечто среднее между скаутским лагерем и платоновской Академией. Вместе жить, вместе работать, вместе мыслить – в течение некоторого ограниченного срока, на свободной природе. Предполагалось, что в таких условиях наука снова станет «живой действительностью природы и истории», преодолев «бесплодный идеологизм» христианства и «позитивистскую возню с фактами». А те, кто будет жить в лагере, откроются для восприятия новых сил бытия. Таков был замысел. Он воплотился на практике в октябре (с 4-го по 10-е) 1933 года, у порога тодтнаубергской «хижины». Отряд вышел из университета сомкнутым строем. Для первого опыта Хайдеггер отобрал маленькую группу доцентов и студентов и составил для нее инструкцию: «Движение к цели – пешим маршем… Форменная одежда С А и СС; возможна униформа «Стального шлема» с нарукавной повязкой». Распорядок дня: подъем в 6 утра, отбой примерно в 22 часа. «Собственно лагерная работа – осмысление путей и способов завоевания будущей высшей школы немецкого духа». Темы для обсуждения в рабочих кружках, заранее установленные Хайдеггером, касались университетских дел, организации факультетов, национал-социалистской реформы высшей школы, «принципа фюрерства» и т. д. Но, как писал Хайдеггер, решающее значение имело то обстоятельство, что благодаря «лагерному братству» в людях пробуждаются «основополагающий настрой и основополагающая внутренняя установка», отличающие участников нынешней революции. Хайдеггер собирался привести горстку молодежи в мирный Тодтнауберг, где им предстояло собираться вокруг лагерного костра, строиться на линейку, готовить себе еду, вести долгие разговоры, петь под гитару, – а возвестил он об этом намерении так, будто речь шла об опасном походе во вражескую страну: «Успех лагерного начинания будет зависеть от степени обладания новым мужеством… от того, решилась ли воля на верность, жертву и служение…» Единственная опасность, которая угрожала этому предприятию, заключалась в том, что Хайдеггер мог осрамиться и из задуманного не вышло бы ничего, кроме обычной лагерной скаутской жизни (к которой зачем-то привлекли людей, давно уже вышедших из подросткового возраста). Однако Генрих Бур, один из участников тогдашнего «похода», рассказывает, как выразительно Хайдеггер у лагерного костра говорил об «обесценивании мира, презрении к миру и упрощенческой унификации мира», в которых виновно христианство, и как он прославлял «великое благородное знание о непотаенности бытия». Генрих Бур (позднее ставший священником) чувствовал себя так, будто ему напомнили об «Авантюрном сердце» Эрнста Юнгера. Это было назидательное, для многих даже захватывающее действо, однако, чтобы пережить его, никакого мужества, конечно, не требовалось. Оно было романтическим, но не опасным. Несколько портили впечатление только словесные перепалки между приверженцами Хайдеггера и группой гейдельбергских студентов-штурмовиков, которые акцентировали военное начало в противовес принципам организации молодежных объединений и представляли точку зрения воинствующего антисемитизма. В своей оправдательной записке, составленной в 1945 году, когда шел процесс политической чистки университета, Хайдеггер представил эти разногласия как важный политический конфликт. Он писал: «У гейдельбергской группы было задание сорвать работу лагеря».
В результате этих столкновений приват-доцент Штадельман, человек из окружения Хайдеггера, по настоянию последнего покинул лагерь. Хуго Отт обнаружил письма Штадельмана и Хайдеггера, в которых обсуждается данный эпизод. При ознакомлении с этой перепиской создается впечатление, что в отношениях между «рыцарем» и его «оруженосцем» произошел некий в высшей степени драматичный перелом. В письмах идет речь о верности до последней черты, о жертве, предательстве, вероломстве, раскаянии, состоянии подавленности. Хайдеггер утверждает, что «испытания лагерем», возможно, не выдержал никто, «но зато каждый обрел великое осознание того, что революция еще не закончилась. И что целью университетской революции является студент-штурмовик». Штадельман же, очевидно, оскорбленный тем, что Хайдеггер раньше времени отослал его домой «с поля боя», пишет: «И я еще никогда не понимал так ясно, как в Тодтнауберге, что принадлежу к лагерю революции… Дисциплину я выдержу – но я надеялся на большее, я верил в возможность быть преданным спутником». Хайдеггер отвечает: «Я знаю, что теперь должен снова завоевать Вашу преданность, которая не утратила для меня своего значения».
«Силы бытия», которые, очевидно, сыграли немаловажную роль в этой истории, – те же, что когда-то определяли характер мужских союзов, а потом движения «перелетных птиц». Но Хайдеггеру удалось соорудить сцену, на которой козни, интриги и конфликты, обусловленные динамикой внутригрупповых отношений, выглядят как нечто великое, как нечто такое, что – если воспользоваться выражением Хайдеггера из его ректорской речи – «способно выстоять в бурю». Хайдеггер постепенно стал пленником тех смыслов, которые сам же и вкладывал в реальность.
Но он вернет свободную подвижность своего мышления, когда откажется от участия в создании того коллективного художественного творения, каким является всякое народное сообщество, и вновь обратится к обычным творениям искусства и философии. Их он всегда умел «прочитывать» лучше, чем политическую действительность. Он чувствовал себя дома только в философии – и в стилизованной под философию действительности. Пожелав включиться – в реально-политическом смысле – в революционное движение, он предъявил к себе чрезмерно завышенные требования. Вскоре он поймет это и ретируется в свое сравнительно надежное убежище – в сферу философской мысли.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Короткое замыкание между философией и политикой. «Человек» в единственном и множественном числе. Исчезновение «различности». Отсутствие «онтологии различий». Второе приглашение в Берлин. Борьба Хайдеггера за чистоту национал-социалистского движения. Революционер как доносчик.
Философия должна овладеть своим временем, говорил Хайдеггер.
Пытаясь реализовать это требование, он, так сказать, вырвал свою фундаментальную онтологию из ее первоначального контекста.
Вспомним: В «Бытии и времени» человеческое присутствие описывалось на элементарном уровне, без учета исторических различий и противоречий между индивидуальными жизненными проектами. Настроения скуки и страха, которые Хайдеггер анализировал в своих лекциях начала тридцатых годов, тоже относились к бытию-в-мире вообще, а не к индивидуальным обстоятельствам присутствия в определенных ситуациях.
Хотя Хайдеггер иногда делал предметом своего анализа со-бытие (с другими), его мышление всегда было направлено только на человека как на представителя человеческого рода: der Mensch, das Dasein; то, что противостоит человеку, или то, в чем находится человек, Хайдеггер тоже обозначал как нечто единичное: die Welt («мир»), das Seiende («сущее»), das Sein («бытие»).
Но между человеком и великим Целым – бытием, духом, историей – имеется некая промежуточная область, где существуют die Menschen («люди» во множественном числе): многочисленные, отличающиеся друг от друга, преследующие разные интересы, взаимодействующие и только в этом взаимодействии совместно порождающие то, что может быть названо политической реальностью. В хайдеггеровской панораме присутствия исчезает вся эта сфера, онтологическое значение которой заключается во множественности и различиях между индивидами. Для Хайдеггера существует только два вида присутствия: подлинное и неподлинное, самость (Selbst) и обезличенный человек (Man). Конечно, Хайдеггер не стал бы отрицать, что проекты бытия у разных индивидов различны, однако эта «различность» не становится для него позитивным вызовом, он не относит ее к фундаментальным условиям человеческой экзистенции. Мы вынуждены жить, считаясь с тем фактом, что окружены людьми, отличными от нас, которых мы не понимаем или, наоборот, понимаем чересчур хорошо; которых мы любим или ненавидим, к которым мы равнодушны или которые кажутся нам загадочными; от которых нас отделяет пропасть или ничто не отделяет, – однако всему этому универсуму возможных отношений Хайдеггер не придает никакого значения, не включает его в число своих «экзистенциалов». Хайдеггеру, который ввел понятие онтологического различия, никогда не приходила в голову мысль разработать онтологию различий. Понятие «онтологическое различие» подразумевает: необходимо различать бытие и сущее. «Онтология различий» означала бы, что философия должна считаться с различиями между людьми и с обусловленными этими различиями трудностями и шансами, которые играют столь важную роль в совместной жизни.
В философской традиции уже давно проделывается один сбивающий с толку терминологический фокус: в ней всегда идет речь только о человеке, тогда как имеются в виду люди. На философской сцене действуют Бог и человек, или «я» и мир, или «ego cogito» («мыслящее «я»») и «res extensa» («протяженная вещь», «природа»), или, как у Хайдеггера, присутствие и бытие. Хайдеггеровское понятие «присутствия» тоже предполагает (хотя бы потому, что это подсказывается самой используемой здесь языковой формой) идентичность всего, что можно назвать «присутствием». Присутствие выдвинуто за «сущее в целом», говорит Хайдеггер[294]. Да, но прежде всего единичное присутствие выдвинуто за мир других присутствующих людей.
Вместо того чтобы осмыслить фундаментальный факт множественности этого человеческого мира, Хайдеггер обращается к «коллективному единому» – к собирательному понятию «народ». И на народ, как на нечто единое, распространяет экзистенциальный идеал «бытия самостью» – идеал, который, «собственно», изначально относился к индивиду, «отброшенному» к самому себе. «Изначальное требование» всякого присутствия, состоящее в том, «что оно должно сохранить и спасти свою собственную сущность», Хайдеггер (в речи, произнесенной во время лейпцигской «Манифестации немецкой науки в поддержку Адольфа Гитлера», 11 ноября 1933 года) приписывает народу, который, по его словам, тоже должен «сохранить и спасти свою собственную сущность». Что же представляет опасность для народа? Унизительные статьи Версальского договора, отторжение областей, прежде принадлежавших Германии, репарационные платежи. Какая организация санкционирует эти несправедливые меры? Лига Наций. А значит, Гитлер поступил правильно, объявив о выходе Германии из Лиги Наций, и правильно, что народ на плебисците (связанном с выборами в рейхстаг по единым спискам кандидатов) одобрил его решение. И теперь Хайдеггер освящает этот политический маневр своей «философией подлинности» (перенесенной с индивида на народ), интерпретируя его как «изначальное требование присутствия».
По содержанию лейпцигская речь 1933 года – не что иное, как «прикладная», то есть приспособленная к национальным нуждам, фундаментальная онтология. В лекциях по логике, прочитанных летом 1934 года (до сих пор был опубликован только их искаженный вариант), Хайдеггер специально рассуждал об этом превращении «всегда-моего» (Je-meinigkeit) во «всегда-наше» (Jeunsrigkeit). «Самость, – говорил он, – не является самым характерным определением «я»». Фундирующее значение имеет скорее «мы-самость». Озабочиваясь «я-самостью», индивид теряет почву под ногами, он «оказывается потерянным для самости», поскольку ищет самость в неправильном месте, а именно, в изолированном «я». Найти же ее можно только в «мы»; правда, не всякое скопление людей – скажем, не «клуб любителей игры в кегли» и не «банда грабителей» – является таким «мы». Различие между подлинностью и неподлинностью существует и на уровне «мы». Неподлинное «мы» – это обезличенные люди (Man); подлинное «мы» – народ, утверждающий себя так же, как утверждает себя отдельно взятый человек. «Народное целое, следовательно, есть человек в увеличенном масштабе (Mensch im Gro|3en)» (L, 26 ff.).
Весь пафос концепции «подлинности» в «Бытии и времени» связан с идеей одиночества. Но когда народ становится «коллективным единым», коллективным присутствием, это одиночество не может не раствориться в (сомнительном) единстве народа. Однако Хайдеггер не хотел отказываться от экзистенциального пафоса и потому нашел такую сценическую площадку, на которой целый народ может предстать в ситуации избранного по собственной воле одиночества. Немецкий народ одинок среди других народов. Осуществляя свою революцию, он дальше других выдвинулся в неизвестное «сущего в целом». Это мы уже слышали в ректорской речи Хайдеггера: народ выдвинулся под пустое небо Заратустры; это сообщество – расчлененное на воинские части, дружины, союзы – выступило в поход, чтобы внести смысл в то, что лишено смысла. Немецкий народ, метафизический народ…
Что представляет собой подлинное политическое мышление, покажет Ханна Арендт (отчасти в порядке полемики с Мартином Хайдеггером): оно возникает из «со-бытия и друг-с-другом-бытия различных людей» и сопротивляется любым попыткам гностически «углубить» сумятицу исторического процесса, либо возвысить ее до уровня «подлинной» истории, обладающей тем автоматизмом и той логикой, которые никогда не могут быть присущи хаосу подлинной истории, состоящей лишь из бесконечного множества перекрещивающихся историй. Хайдеггер пришел не к политическому мышлению, а лишь к такого рода «историческому гностицизму». Это было бы еще полбеды, если бы он заметил, что у него отсутствуют политические понятия. Не то, что он был аполитичным, а то, что он этого не заметил и спутал свой «исторический гностицизм» с политическим мышлением, делало его тогдашние политические выступления столь двусмысленными. Если бы Хайдеггер, как «историогностик», продолжал рассказывать свои «подлинные» истории, не пытаясь с их помощью делать «политику», он остался бы тем художником философии, каким был раньше; однако он, отдавшись на волю революционного потока, захотел стать политиком философии. И вот он стоит у костра, на празднике солнцестояния, и обращается к молодым людям, завороженно вслушивающимся в его слова: «Дни проходят, они снова становятся короче. Но растет наша мужественная решимость разорвать сгущающуюся тьму. Мы не имеем права быть слепыми в борьбе. Пусть пламя возвещает и освещает, показывает нам путь, с которого уже нельзя повернуть назад! Огонь пылает, сердце горит!»
Большинство профессоров во Фрайбурге видели в ректоре разбушевавшегося бескомпромиссного фантазера. Временами его находили комичным и пересказывали друг другу историю о том, как группа студентов под руководством уже упоминавшегося доцента философии, бывшего морского офицера Штилера упражнялась в карьере кирпичного завода с деревянными макетами ружей и как затем подъехал (и выпрыгнул из машины) Хайдеггер. Верзила Штилер – в нем было 2,2 метра росту – встал навытяжку перед низкорослым Хайдеггером и отрапортовал по всей форме, а ректор, вся военная служба которого прошла в ведомстве почтовой цензуры и в метеорологическом батальоне, изображая из себя командира, тоже по всем правилам принял рапорт, после чего поприветствовал присутствовавших. Такими были батальные сцены «по Хайдеггеру».
В сентябре 1933 года Хайдеггер получил приглашение в Берлинский университет, а в октябре – в Мюнхенский. Виктор Фариас исследовал сопутствовавшие этому обстоятельства и выяснил, что в обоих случаях приглашения были посланы вопреки желанию преподавателей соответствующих факультетов. В Берлине кандидатуру Хайдеггера особенно настоятельно рекомендовал Альфред Боймлер; в своем заключении он даже назвал фрайбургского ректора «философским гением». Тогда же, вступив в переговоры с Мюнхенским университетом, Хайдеггер ссылался на то, что в Берлине ему уже обещано место профессора «с особой политической задачей», и спрашивал, нельзя ли будет и в Мюнхене привлечь его, в соответствии с его желанием, к работе по «преобразованию высшей школы». Его решение о выборе места службы, говорит Хайдеггер, будет зависеть оттого, где и как он сможет наилучшим образом послужить «делу Адольфа Гитлера». Противодействие назначению Хайдеггера оказывалось с двух сторон: консервативные профессора находили, что его лекционные курсы лишены «позитивного» содержания, а «жесткие» идеологи национал-социализма, вроде Эрнста Крика и Йенша[295], не верили в его приверженность национал-социалистскому мировоззрению.
Важную закулисную роль в берлинских и мюнхенских переговорах сыграл отзыв психолога Йенша, бывшего коллеги Хайдеггера по Марбургскому университету. Йенш характеризовал Хайдеггера как «опасного шизофреника», чьи работы в действительности представляют собой «психопатологические документы». Мышление Хайдеггера, как утверждал Йенш, в основе своей иудейское, «талмудически-крючкотворское», почему оно и привлекает прежде всего евреев. Хайдеггер, отмечал Йенш, искусно «перечеканил» свою «экзистенциальную философию» в соответствии с «тенденциями национал-социализма». Годом позже, когда обсуждался вопрос о назначении Хайдеггера руководителем национал-социалистской Академии доцентов, Йенш написал второй отзыв. Йенш предостерегал от «шизофренической болтовни» Хайдеггера, придающей «банальностям видимость значительности». Хайдеггер, говорилось в отзыве, «типичный революционер», и потому следует считаться с такой возможностью, что если «революция у нас когда-нибудь закончится», он, может быть, «более не пожелает оставаться на нашей стороне» и снова «поменяет окраску». Эрнст Крик, претендовавший на роль «официального философа» национал-социалистского движения, определил позицию Хайдеггера как «метафизический нигилизм». В отличие от Йенша Крик в 1934 году выразил свое критическое отношение к Хайдеггеру публично, в издававшемся им журнале «Фольк им верден»: «Основной мировоззренческий тон учения Хайдеггера задается понятиями заботы и страха, нацеленными на Ничто. Смысл этой философии – откровенный атеизм и метафизический нигилизм, представленный у нас преимущественно еврейскими литераторами, то есть фермент, способствующий разложению и распаду немецкого народа. В «Бытии и времени» Хайдеггер осознанно и намеренно философствует о «повседневности» – ни словом не упоминая ни народ и государство, ни расу, ни все другие ценности нашей национал-социалистской картины мира. Если в ректорской речи… вдруг начинают звучать героические ноты, то это лишь результат приспособления к ситуации 1933 года, который полностью противоречит его основной позиции, сформулированной в «Бытии и времени» (1927) и в лекции «Что такое метафизика?» (1931), – позиции, которая включает в себя учения о заботе, страхе и Ничто».
Полицентризм национал-социалистского аппарата власти сказывался, среди прочего, в научно-политической и идеологической сферах. В баварском и берлинском министерствах культуры Хайдеггера поддерживали из-за его высокой международной репутации. Чиновники хотели использовать его имя как «вывеску» и закрывали глаза на тот факт, что «приватный» национал-социализм Хайдеггера оставался непонятным для представителей партийных кругов или даже казался им подозрительным. Крик, например, высказал подозрение в том, что Хайдеггер намеренно связывает революцию с нигилизмом страха – для того, чтобы в конечном итоге толкнуть немецкий народ «в спасительные объятия Церкви». Во всяком случае, по мнению Крика, Хайдеггер не мог внести никакого полезного вклада в решение насущной задачи «разработки духовно-этического ядра движения».
Вальтер Гросс[296], руководитель Расово-политического управления НСДАП, тоже, видимо, думал о хайдеггеровской версии национал-социализма, когда в 1936 году в памятной записке отмечал, что «доставшиеся нам от прошлого кадры квалифицированных в профессиональном плане и не имеющих расовых или политических изъянов ученых… практически не содержат элементов, пригодных с национал-социалистской точки зрения». В настоящее время бессмысленно добиваться «политической ориентации» высшей школы; лучше повышать экономико-техническую эффективность наук. Гросс рекомендовал «деполитизировать» университеты, чтобы положить конец «мучительным потугам» нынешних ординарных профессоров, «изображающих приверженность национал-социализму». Задачу развития и распространения национал-социалистского мировоззрения, по его мнению, лучше пока возложить на соответствующие партийные инстанции, которые должны будут подготовить – скажем, за десять лет – «безупречное в мировоззренческом отношении» научное пополнение.
Итак, в национал-социалистских инстанциях, ответственных за идеологию, Хайдеггера считали одним из тех, кто лишь «изображает приверженность национал-социализму». Именно Гросс настоятельно убеждал ведомство Розенберга не доверять Хайдеггеру: когда в конце лета 1934 года во внутрипартийном порядке обсуждался вопрос о назначении последнего руководителем национал-социалистской Академии доцентов – высшего учебного заведения, которое только собирались создать и которому предстояло заниматься идеологическим воспитанием нового поколения ученых. Гросс ссылался на мнения Йенша и Крика, а также на неблагоприятные отзывы о «деятельности» Хайдеггера во Фрайбурге.
Несмотря на это сопротивление, Хайдеггер все-таки получил приглашения в Мюнхен и Берлин. И в обоих случаях отказался. Как официально, так и в приватном порядке Хайдеггер обосновывал свое решение тем, что он еще нужен для проведения университетской реформы во Фрайбурге, поскольку пока нет подходящего человека, который мог бы его заменить на посту ректора. «Если я уйду, – писал он Элизабет Блохман 19 сентября 1933 года, – во Фрайбурге все пойдет прахом» (BwHB, 73).
Во Фрайбургском университете на это смотрели иначе. Большинство профессоров желали, чтобы Хайдеггер ушел со своей должности, и чем скорее, тем лучше. Им не нравился жесткий тон его циркулярных писем, воззваний, запретов. Главное же заключалось в том, что хотя преподаватели в своем большинстве были готовы как-то приспособиться к новой политической ситуации, они не хотели, чтобы она влияла на организацию учебной и научной работы. Особенно раздражало профессоров то, что из-за введенных по инициативе студентов-штурмовиков военно-спортивных занятий и «трудовой повинности» сокращались часы семинаров и лекционных курсов. Но Хайдеггер придавал этим нововведениям большое значение, ибо они осуществлялись по распоряжению Ведомства высшей школы при Имперских силах СА. Эрик Вольф, которого Хайдеггер назначил деканом юридического факультета, особенно усердно пытался реорганизовать обучение студентов-юристов в духе идей ректора – так, чтобы освободить время для военно-спортивных занятий и трудовой повинности; и натолкнулся на энергичное сопротивление консервативно настроенной профессуры. Измученный этой борьбой, Вольф уже хотел было сдаться и 7 декабря 1934 года подал Хайдеггеру прошение об отставке. Вольф писал, что страдает от душевных мук, сомневается, подходит ли он для занимаемой им должности, и почтительно предоставлял «Его Превосходительству[297], который знает более глубинные причины, нежели те, что известны другим людям», самому судить, почему его – Вольфа – усилия ни к чему не привели: из-за «убожества его личности» или из-за обструкции со стороны коллег. Хайдеггер отставки не принял: «В соответствии со смыслом нового [университетского] устава и с современной боевой ситуацией Вы должны в первую очередь пользоваться моим доверием, а не доверием факультета». Хайдеггер чувствовал себя обязанным помочь своему верному, но отчаявшемуся «оруженосцу»; и потому, отпуская строптивых профессоров на рождественские каникулы, напутствовал их такими словами: «С первого дня моего вступления в должность определяющим мотивом и целью (которая, собственно, может быть достигнута только постепенно) моей деятельности было коренное преобразование научного воспитания, исходящее из сил и требований национал-социалистского государства. Приспособление, скажем, отбора и распределения лекционного материала к «сегодняшней ситуации», осуществляемое лишь от случая к случаю, не просто недостаточно, но вводит студентов и преподавателей в заблуждение относительно подлинных задач. Время, высвободившееся у преподавателей в связи с отменой каких-то семинаров и лекций, безусловно должно использоваться для обдумывания внутренней перестройки лекций и упражнений… Борьба и противоречия, обусловленные действительно общей волей к изменению университета, для меня гораздо существеннее, нежели то возможно более всестороннее удовлетворение коллег, при котором ничего не происходит и лишь защищается практика, бытовавшая до сих пор. Я благодарен за малейшую помощь, способствующую прогрессу высшей школы как целого. Но и работу факультета, и работу отдельных преподавателей я тоже буду оценивать лишь соответственно тому, в какой мере она является зримым и полезным вкладом в построение будущего. Остается несомненным, что только несгибаемая воля к будущему придает смысл нынешним усилиям и поддерживает их. Индивид, на каком бы месте он ни находился, ничего не значит. Судьба нашего народа в его государстве значит все».
Хайдеггер пригрозил, что оценит недовольных так, как они заслуживают. Это могло означать многое – от выговора до доноса в вышестоящие инстанции, увольнения с должности или даже ареста. Однако позиция Хайдеггера по вопросу о трудовой повинности и военно-спортивных занятиях оказалась слабой, потому что к тому времени в соответствующих партийных учреждениях взяли верх сторонники нормализации учебного процесса.
Позднее, оправдываясь, Хайдеггер утверждал, что министерство в Карлсруэ по политическим мотивам требовало увольнения деканов Вольфа и Мёллендорфа, а он не мог на это согласиться (особенно в случае с социал-демократом Мёллендорфом) и поэтому ушел в отставку. Однако исследования Хуго Отта и Виктора Фариаса показали, что такая интерпретация событий не выдерживает критики. Хайдеггер ушел в отставку вовсе не из солидарности с социал-демократом, а потому, что политика партии была, по его мнению, недостаточно революционной. Неправда, что Хайдеггер, как он говорил после войны, защищал тогда западный дух университета, universitas; на самом деле он защищал национал-социалистскую революцию – защищал от консерватизма ученых и от буржуазной «реальной политики», заинтересованной только в том, чтобы университет был полезным с экономической и технической точек зрения. Поэтому в тюбингенской речи, прочитанной 30 ноября 1933 года, Хайдеггер заявил, что «революция в немецкой высшей школе не только не закончена, она даже и не начиналась»; и поэтому же 14 апреля 1934 года он ушел с поста ректора – после того, как 12 апреля министерство культуры, «из-за не совсем необоснованных сомнений», рекомендовало ему уволить Эрика Вольфа с должности декана. О Мёллендорфе вообще речи не было. Просто министерство дало понять, что не одобряет чрезмерной революционности Хайдеггера, который в своем стремлении осуществить в рамках университета «переворот всего немецкого бытия» явно зашел слишком далеко.
Итак, уход Хайдегтера с поста ректора был связан с его борьбой за чистоту революционного движения, как он это движение понимал: с борьбой за обновление западного духа после «смерти Бога».
Он защищал эту чистоту революционного движения, помимо прочего, и от клерикальных тенденций, во Фрайбурге особенно сильных. Когда в начале 1934 года местные партийные инстанции сначала временно приостановили деятельность католического студенческого союза «Рипуария» (что Хайдеггер от всей души одобрил), а потом, дабы не портить отношений с Ватиканом, вновь разрешили ее, взбешенный ректор написал Оскару Штэбелю[298], фюреру Национал-социалистского союза студентов: «Эту официальную победу католицизма как раз здесь ни в коем случае нельзя терпеть. Она наносит всей работе такой ущерб, что в настоящее время ничего худшего невозможно даже вообразить. Я многие годы и до мелочей знаю местные отношения и силы… Католическую тактику люди все еще не знают. И однажды за это придет тяжелое возмездие»[299].
Католицизм, пользовавшийся во Фрайбурге большим организационным и духовным влиянием, в глазах Хайдеггера, который сам лишь ценой напряженных усилий освободился от своих католических корней, был весьма серьезным препятствием на пути «преобразования всего немецкого бытия». Поэтому и в «Лагере науки» главным объектом нападок Хайдеггера было христианство, каким оно предстает в церковной практике. В лоне Церкви, говорил Хайдеггер, господствует подлинное безбожие, ибо люди приспособили Бога к потребностям лентяев и трусов, превратили Его в своего рода страховое свидетельство. Метафизическая же революция – для сильных, дерзновенных, решительных.
Хайдеггер со своей радикальной критикой католицизма не добился успеха у партийных функционеров, так как они в тот период еще стремились к компромиссу с традиционными силами.
Забота о чистоте революционного движения в двух случаях побудила Хайдеггера написать доносы на политически ненадежных с его точки зрения людей.
Эдуард Баумгартен, племянник Макса Вебера, начинал научную карьеру в США и по своим философским взглядам был близок к американскому прагматизму. Во Фрайбурге, в двадцатые годы, он подружился с Хайдеггером, который даже стал крестным отцом одной из его дочерей. В философском плане между ними возникали разногласия, но поначалу это не мешало дружбе. Потом Баумгартен переселился в Гёттинген, где читал курс по американистике. Поскольку его лекции пользовались большим успехом, в 1933 году он должен был получить место доцента с правом принимать экзамены. Баумгартен был готов приспособиться к политической ситуации и подал заявление о приеме в СА, а также в национал-социалистский Союз доцентов. Вот тогда-то Хайдеггер и решил вмешаться. 16 декабря 1933 года он написал руководству национал-социалистского Союза доцентов: «Д-р Баумгартен по духовной позиции и по родственным связям принадлежит к либерально-демократическому кругу гейдельбергских интеллектуалов вокруг Макса Вебера. Во время своего пребывания здесь [во Фрайбурге] он был кем угодно, только не национал-социалистом… Потерпев неудачу у меня, Баумгартен установил активные контакты с евреем Френкелем, прежде преподававшим в Гёттингене, а ныне уволенным оттуда. Я подозреваю, что именно с его помощью Баумгартен устроился в Гёттингене…[300] Я считаю, что в настоящее время невозможно принимать его ни в СА, ни в Союз доцентов. Баумгартен – необычайно искусный оратор. Однако как философ он представляется мне очковтирателем».
Хайдеггер в публичных выступлениях постоянно призывал своих слушателей остерегаться тех, кто лишь внешне приспосабливается к новым условиям. Поэтому и негативный отзыв о Баумгартене можно рассматривать как следствие хайдеггеровского революционного экстремизма. Фюреру гёттингенского отделения Союза доцентов этот документ показался «исполненным ненависти» – и был за ненадобностью «положен под сукно». Баумгартен успешно продолжил свою карьеру – с помощью партии. Позже он стал директором Философского семинара в Кенигсберге, почетным блокляйтером местной партийной группы; ведомство Розенберга приглашало его на свои заседания.
В 1935 году Ясперс узнал от Марианны Вебер[301] содержание этого отзыва. Отзыв произвел на него неизгладимое впечатление, стал «самым болезненным переживанием» его жизни. Удар по «либерально-демократическому кругу гейдельбергских интеллектуалов вокруг Макса Вебера» задевал и лично его. Но еще хуже было то, что Хайдеггер, которого Ясперс прежде не знал как антисемита, оказался способным очернить неприятного ему ученого, прибегнув к антисемитским инсинуациям. Ясперс пришел в ужас – но к тому времени он уже опасался Хайдеггера и потому не решился напрямую высказать ему свое мнение. Только в конце 1945 года, когда Комиссия по чистке попросила Ясперса дать отзыв о Хайдеггере (который сам предложил, чтобы за отзывом обратились к его бывшему другу), Ясперс предал дело Баумгартена огласке.
Что касается случая с Германом Штаудингером[302], профессором химии и лауреатом Нобелевской премии 1953 года, то соответствующие документы разыскал – и реконструировал по ним ход событий – Хуго Отт. Когда Хайдеггер 29 сентября 1933 года посетил во Фрайбурге Ферле, баденского референта по делам высшей школы, – речь шла о назначении Хайдеггера фюрером-ректором, как требовал новый устав высшей школы, – он проинформировал этого чиновника о том, что подозревает Штаудингера в политической неблагонадежности. Ферле сразу же распорядился о начале расследования: следовало спешить, ибо в соответствии с «Законом о восстановлении профессионального чиновничества» срок возбуждения следствия по подобным делам истекал 30 сентября 1933 года. Уже летом Хайдеггер начал собирать порочащие сведения о Штаудингере. Претензии к Штаудингеру касались периода Первой мировой войны. Штаудингер с 1912 года был профессором Высшей технической школы в Цюрихе, но при этом сохранял германское гражданство. Поначалу его не призвали на военную службу из-за состояния здоровья. В годы войны он публиковал пацифистские статьи, в которых призывал к новому политическому мышлению, ссылаясь на то, что дальнейшее развитие военной техники представляет угрозу для всего человечества. В 1917 году он обратился к швейцарским властям с просьбой предоставить ему швейцарское гражданство. Тогда же в Германии на него было заведено дело: Штаудингера подозревали в передаче важных с военной точки зрения сведений (из области химии) враждебным державам. Правда, эти подозрения не подтвердились, однако в мае 1919 года в деле появилась новая отметка: во время войны Штаудингер-де занимал позицию, которая «могла нанести тяжкий ущерб авторитету Германии за границей». Когда в 1925 году Штаудингер получил приглашение во Фрайбург, это обвинение вновь стало предметом обсуждения, но к тому времени даже профессора, настроенные в националистически-консервативном духе, не находили в былом поведении Штаудингера (уже успевшего стать мировой знаменитостью) ничего предосудительного.
И вот теперь Хайдеггер добился возбуждения нового расследования, чтобы иметь основания для увольнения Штаудингера. Гестапо собрало необходимые документы и 6 февраля 1934 года представило их Хайдеггеру, который должен был составить по ним свой отзыв. Ректор систематизировал обвинения: Штаудингер подозревался в том, что выдавал враждебной державе секреты германского химического производства; он просил предоставить ему швейцарское гражданство «в период тяжелейших бедствий отечества» – и в итоге получил это гражданство, не испросив согласия у немецкой стороны; наконец, он публично заявлял, что «никогда не будет поддерживать свое отечество с оружием в руках или выполняя иные должностные обязанности». Обвинения были достаточно серьезными. Хайдеггер написал, что, по его мнению, «речь может идти скорее об увольнении, нежели о [добровольном] уходе на пенсию». Принять «решительные меры» тем более необходимо, что Штаудингер «сегодня выдает себя за 110-процентного сторонника национального возрождения».
Как и в случае с Баумгартеном, Хайдеггер руководствовался прежде всего стремлением разоблачить так называемых оппортунистов. На этот раз он проявил особое рвение, поскольку ему не нравилась идея прагматического союза между государством и специальными науками. Он считал, что «преобразование всего немецкого бытия» обречено на провал, если «не имеющие корней» специальные науки вновь вьщвинутся на передний план из-за своей сиюминутной политической полезности. Такова была подоплека кампании, которую он развернул против Штаудингера; последний же, со своей стороны, прилагал все усилия, чтобы показать, насколько важны его исследования для дела национального возрождения. В ту самую неделю, когда он подвергался мучительным допросам, Штаудингер опубликовал статью, в которой подчеркивал значение химии для стремящейся к автаркии новой Германии и выражал «огромную радость» в связи с «началом национальной революции». Поскольку высокопоставленные партийные функционеры вмешались в дело и вступились за Штаудингера, он не был уволен. Хайдеггер также пошел на попятный и 5 марта 1934 года рекомендовал – «учитывая тот высокий престиж, каким упомянутое лицо пользуется, как представитель своей науки, за границей», – заменить увольнение отправкой на пенсию. Однако и это предложение не прошло. Штаудингер, в результате сложных переговоров, все-таки остался на своей должности.
Эта история имела продолжение. Когда Хайдеггер в 1938 году выступил с докладом «Основание новоевропейской картины мира метафизикой», в котором критиковал техницизм современной науки, партийная газета «Дер Алеманне» опубликовала статью, где Хайдеггер как пример бесполезности (философ, «не понимаемый никем и преподающий… Ничто») противопоставлялся представителям специальных наук, занимающимся действительно «жизненно важной» работой. Что под этим подразумевалось, ясно показывало объявление, помещенное непосредственно под статьей: оно содержало информацию о докладе профессора Штаудингера на тему «Четырехлетний план и химия».
Хайдеггер упомянул о деле Штаудингера, когда оправдывался перед Комиссией по чистке 15 декабря 1945 года. Но о том, что дело началось с написанного им доноса, умолчал.
Возможно, Хайдеггер не рассказал о своем доносительстве не только потому, что не хотел навлекать на себя лишние неприятности. Вероятно, то, что он тогда делал, вовсе и не представлялось ему доносительством. Он ощущал свою принадлежность к революционному движению и стремился не подпускать к делу революции оппортунистов. По его мнению, нельзя было позволять, чтобы такие люди проникали в движение и потом использовали его к своей выгоде. В глазах Хайдеггера Штаудингер был одним из тех ученых, которые готовы служить кому угодно, если только это полезно лично для них, и которые не ищут ничего, кроме «спокойного удовлетворения, приносимого безопасной деятельностью».
Однако, по иронии судьбы, в действительности важнейшие услуги национал-социалистскому режиму оказали не философы вроде Хайдеггера, а «аполитичные» представители специальных наук. Именно они придали практическую «пробивную силу» той системе, которой Хайдеггер какое-то время так искренне хотел служить – на свой революционно-фантастический лад.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Где мы пребываем, когда мыслим? Тодтнауберг в Берлине: Хайдеггеровский проект Академии доцентов. Прощание с политикой. «Я буду говорить о логике…» Хайдеггер выбирает своих героев – от Гитлера к Гёльдерлину. «Помрачение мира» и реальный национал-социализм.
Где, собственно, мы пребываем, когда мыслим?
Ксенофонт[303] рассказывает замечательный анекдот о Сократе. Сократ участвовал как простой солдат в Пелопоннесской войне и храбро сражался; но однажды, во время долгого перехода, он вдруг остановился, задумавшись о чем-то, и так простоял целый день – забыв о себе, о том, в каком месте и в какой ситуации находится. Сократу пришла в голову какая-то мысль или он заметил нечто, что навело его на размышления, – и он как бы выпал из окружающей действительности. Он оказался во власти мышления, которое привело его в Нигде, – но это Нигде, как ни странно, казалось ему родным. Это Нигде мышления представляет собой значимый разрыв в ходе повседневности, влекущее «в другом месте». Судя по тому, что мы знаем о Сократе, опыт переживания этого «в другом месте» духа как раз и был предпосылкой его триумфа над страхом смерти. Сократ, захваченный мыслью, уже не подвластен насилию. Могут убить его тело, но дух его будет жить. В подобные моменты Сократ освобождался от борьбы вот-бытия. Об этом-то Сократе, который стоит, недвижный и погруженный в свои мысли, в то время как вокруг него продолжается круговорот жизни, вероятно, и думал Аристотель, когда восхвалял философию за ее способность пребывать одновременно повсюду и нигде; занятия философией не требуют «ни специального снаряжения, ни определенных мест… в какой бы точке земли человек ни посвятил себя мышлению, он доберется до истины, как если бы она находилась именно там».
Однако Сократ оставался вместе с тем и философом конкретного полиса, философом рыночной площади Афин. Он, несмотря на свое «в другом месте» и свои философские выпадения из действительности, хотел постоянно присутствовать именно там. Потому что философия одновременно вне-пространственна и пространственно обусловлена.
Хайдеггер как философ был особенно тесно связан с определенным местом и в пору своей политической активности не жалел бранных слов, чтобы заклеймить, как он выражался, «бессильное и беспочвенное» мышление. Но потом вдруг заметил, что почва новой революционной действительности, на которую он хотел было ступить, колеблется. В период переговоров по поводу приглашения в Берлин Хайдеггер написал Элизабет Блохман: «Целое оказалось бы беспочвенным. Я испытал облегчение, когда покинул Берлин» (19.9.1933, BwHB, 74).
В том же письме Хайдеггер выразил свое ощущение внутреннего разлада. С одной стороны: «Я… как мне кажется, знаю только одно – что мы должны подготовить себя к великим духовным преобразованиям и сами принять участие в их осуществлении». С другой: «От моей самой подлинной работы… я в настоящее время далеко отошел, хотя каждый день чувствую, как повседневная деятельность… пытается протиснуться к ней».
Ему хотелось вернуться назад, но куда?
Пространства его мышления поддаются четкому определению. Таких пространств было два, воображаемое и действительное: Греция (как родина философии) и немецкая провинция, точнее, Тодтнауберг.
Что касается мечты о Греции, мечты, которую Хайдеггер надеялся осуществить при посредстве национал-социалистской революции, то о ней все необходимое сказал еще Ницше – за полвека до описываемых событий:
«Немецкая философия как целое… представляет собой наиболее основательный вид… тоски по родине, какой только до сих пор был… Нигде больше уж не чувствуют себя дома, стремятся вернуться туда, где можно было бы хоть отчасти зажить как дома, потому что только там тебе и хотелось бы обрести себе родину: а это – греческий мир. Но как раз все мосты, ведущие туда, разрушены, за исключением радуг понятий… Разумеется, нужно быть очень легким и тонким, чтобы ходить по таким мостам! Но какое счастье в этом тяготении к духовности и почти к миру призраков! …Стремятся назад, через отцов церкви к грекам… В этом отношении немецкая философия представляет собой… волю к ренессансу, волю продолжить открытие древности и раскопки античной философии, преимущественно предшественников Сократа, этих наиболее засыпанных греческих храмов! …мы становимся с каждым днем все более и более греками, вначале, конечно, в понятиях и оценках, словно грецизирующие призраки, но в надежде когда-нибудь сделаться греками также и телом!»[304]
Хайдеггер, как мы уже знаем, хотел вернуть греческий дух в общественное тело: он видел в национал-социалистской революции возрождение той «силы начала», которая, по его мнению, была изначально присуща греческой философии (Ректорская речь).
Вторым пространством была немецкая провинция, Тодтнауберг. Хайдеггер всегда чувствовал, что здесь, в шварцвальдских горах, он более, чем в любом другом месте, приближен к своей мечте о Греции; отсюда он спускался на равнину политической жизни, где мог чего-то добиться именно потому, что на ней бушевал мятеж, – «Все великое способно выстоять в бурю!»
За несколько месяцев своей политической активности Хайдеггер приобрел болезненный опыт, осознав, что два мира – тот, в котором он живет, и тот, в котором мыслит, – невозможно объединить так, как ему бы хотелось. В свое время много ругали выступление Хайдеггера по радио в марте 1934 года, которое называлось «Творческий ландшафт. Почему мы остаемся в провинции?» и в котором философ публично отрекся от Берлина. В этом докладе часто усматривали лишь приправленный идеологическим соусом романтический идеал любви к родине и крестьянской жизни. На самом деле Хайдеггер рассказал здесь (на свой особый лад) о простом, но очень важном для него личном опыте: «Всю мою работу… поддерживает и направляет мир этих гор и этих крестьян. Иногда – в последнее время – работа, которая делается там, наверху, на долгое время прерывается из-за того, что приходится вести переговоры, разъезжать с докладами, участвовать в обсуждениях и заниматься преподавательской деятельностью здесь, внизу. Но стоит мне вернуться наверх, как в первые же часы вот-бытия в хижине весь мир более ранних вопросов вновь со всех сторон обступает меня, причем совершенно в том же виде, в каком я его оставил. Я попросту оказываюсь перенесенным в особый ритм работы – хотя, в сущности, не умею управлять ее сокровенным законом» (D, 11).
Хайдеггер наконец заметил (и признался себе в том), что мир его жизни и мир его мышления совмещаются в тодтнаубергской «хижине» – и, собственно, только в ней одной. Лишь в периоды «вот-бытия в хижине» «весь мир более ранних вопросов», это повторение греческого начала, превращается в живую реальность; только там, в Тодтнауберге, эта реальность, как любил говорить Хайдеггер, присутствует. Поэтому философ испытал облегчение, когда смог, потерпев неудачу в качестве ректора, вернуться в этот поселок своего мышления. «Ну как, господин Хайдеггер, вернулись из Сиракуз?» – язвительно спросил его, случайно встретив на улице, Вольфганг Шадевальдт. В Сиракузах, как известно, Платон хотел построить свое утопическое государство – и кончилось это тем, что он лишь чудом избежал рабства.
Когда 23 апреля 1934 года Хайдеггер ушел в отставку с поста ректора, он отказался от значимого в политическом отношении места, но не оставил своего намерения подготовить в новой революционной действительности «надлежащее место» (Ясперсу, 3.04.1933, Переписка, 220) для философии. Однако поскольку он больше не хотел покидать вновь обретенный поселок своего мышления, ему не оставалось ничего иного, кроме как попытаться «пересадить» этот поселок на новое место, уподобиться улитке и просто унести с собой эту раковину своей философии. Он не принял приглашения в Берлин, в город, который казался ему беспочвенным, но летом 1934 года упорядочил свои идеи относительно Академии доцентов в Берлине и дал знать соответствующим инстанциям о своей готовности приехать туда – при условии, что ему будет предоставлена возможность осуществления этих идей. Он планировал создать посреди Берлина своего рода философский монастырь, копию тодтнаубергского прибежища.
Уже с осени 1933 года Хайдеггер вел с Берлином переговоры по поводу своей возможной работы в Академии. Проект основания Академии доцентов возник в партийных кругах Берлина и в прусском министерстве науки и воспитания. Предполагалось, что это будет институт повышения политической квалификации и что его должны будут заканчивать все молодые ученые, будущие ординарные профессора; разумеется, цель заключалась в том, чтобы дать слушателям Академии правильную идеологическую ориентацию, воспитать их в духе националистического мировоззрения. По мысли авторов проекта, диплом об окончании Академии должен был стать обязательной предпосылкой для получения права преподавания в высшей школе, то есть они собирались изъять функцию предоставления такого права из ведения университетов. Тем самым они хотели устранить замеченный партийными инстанциями порок, который заключался в том, что «доставшиеся… от прошлого кадры» ученых, хотя эти ученые и пытаются приспособиться к новым условиям, «практически не содержат элементов, пригодных с национал-социалистской точки зрения», – и создать предпосылки для появления примерно через десять лет «безупречного в мировоззренческом отношении» научного пополнения. Хайдеггера прочили на роль руководителя этой Академии. Он детально изложил свои предложения и 28 августа 1934 года послал их в Берлин. По его замыслу, новое учебное заведение должно было стать не Академией, не клубом и не политическим народным университетом, а «воспитывающим жизненным сообществом». Он описывает будущую Академию как некий орден, имеющий «собственный дух» и формирующий особую традицию, которая и после окончания учебы будет сохранять для выпускников «обязательный характер». Решающее значение Хайдеггер придавал «невыразимому воздействию атмосферы». Поэтому он считал, что преподаватели должны влиять на учеников «главным образом посредством того, кем и чем они являются, а не посредством того, что и о чем они «говорят»». Преподаватели и ученики должны жить вместе, следуя режиму «естественной смены научной работы, отдыха, внутренней сосредоточенности, военных игр, физического труда, построений, спортивных занятий и праздников». Должна быть также обеспечена возможность «подлинного одиночества и внутреннего сосредоточения», поскольку то, что нужно для определенного сообщества, не может возникать только «через посредство этого сообщества». Этой необходимости чередования одиночества и жизни в коллективе должно соответствовать внешнее обустройство здания: следует предусмотреть наличие большой аудитории, столовой с пюпитром для чтения вслух, специальных помещений для празднеств и художественных занятий, общих спален. Но вместе с тем необходимы и кельи, где каждый сможет уединиться для духовной работы и внутреннего сосредоточения. Библиотека должна содержать достаточно скудный набор книг, только самое существенное, «однако без нее школа так же непредставимо, как крестьянин без плуга». Питомцы Академии сами будут участвовать в отборе необходимых книг и таким образом учиться тому, «что означает подлинная и основательная оценка литературного произведения». Завершая свою памятную записку, Хайдеггер резюмировал основную концепцию этого монастыря науки так: «Если необходимо преодолеть уже далеко зашедший процесс «американизации» в нынешней научной жизни и в будущем не допускать его возобновления, то следует обеспечить такие условия, при которых преобразование наук будет вырастать из их внутренних потребностей. Это еще никогда не удавалось и никогда не удастся осуществить иначе, чем через посредство определяющего влияния отдельных личностей».
Академия доцентов в том смысле, как ее представлял себе Хайдеггер, так и не была создана. Вокруг проекта плелись всяческие интриги. Ведомство Розенберга и министерство получали предостережения от других партийных инстанций. Крик 14 февраля 1934 года писал Йеншу: «Множатся слухи о том, что Хайдеггер, возглавив прусскую Академию доцентов, приберет к рукам все молодое поколение преподавателей прусской высшей школы. Я расценил бы такой поворот событий как роковой. Прошу Вас подготовить для высших партийных инстанций памятную записку об этом человеке, о его позиции, его философии и его немецком языке». Йенш, который пытался вмешаться еще тогда, когда велись переговоры по поводу возможной работы Хайдеггера в Мюнхене и в Берлине, представил такое заключение. В нем, среди прочего, говорилось: «Если Вам угодно… чтобы я высказал свое мнение, то я хотел бы предпослать ему слова Адольфа Гитлера о том, что он всегда признает в качестве высшего авторитета над собой законы здравого рассудка. Спор с рассудком, когда речь идет о решающих шагах в жизни государства, неминуемо и неизменно приводит к катастрофе… Но это будет явным противоречием здравому рассудку, если на место, быть может, важнейшее для духовной жизни ближайшего будущего, назначат одного из самых больших путаников и самых странных чудаков, каких мы имеем в жизни нашей высшей школы… Назначение главным воспитателем нашего академического пополнения человека, который, как всем известно, обладает столь же чудаческим, сколь смутным, шизоформным, а отчасти уже и шизофреническим мышлением, окажет (как мы уже могли со всей очевидностью наблюдать здесь, в Марбурге) катастрофическое с воспитательной точки зрения воздействие на студентов». Министерство хотя и отвергло это заключение, но было заинтересовано, чтобы данное место занимал скорее чиновник, специализирующийся на мировоззренческих вопросах, нежели философ, и потому исключило Хайдеггера из круга приемлемых кандидатов. Однако Хайдеггер по-прежнему оставался фигурой, которую идеологам режима было выгодно использовать в своих интересах. В мае 1934 года его пригласили в комитет по философии права при Академии германского права. Председатель комитета, имперский комиссар по вопросам юстиции Ганс Франк[305], в своей вступительной речи определил характер и задачи этого органа. Комитету предстояло заложить основы нового немецкого права, культивируя такие ценности, как «раса, государство, фюрер, кровь, авторитет, вера, почва, оборона, идеализм», и он должен был конституировать себя как «боевой комитет национал-социализма». В этом комитете, который заседал в здании Веймарского архива Ницше, Хайдеггер сотрудничал до 1936 года. Что он конкретно там делал, неизвестно. В 1935 году в состав комитета вошел Юлиус Штрейхер[306]. Новое назначение столь одиозной личности не могло остаться незамеченным, и в 1936 году, в Риме, Карл Лёвит даже рискнул спросить Хайдеггера, что он об этом думает. После некоторого колебания Хайдеггер ответил, что «о Штрейхере и говорить не стоит, а «Штюрмер» – просто порнография. Непонятно, почему Гитлер не отделается от этого субъекта, – возможно, просто боится его».
Если Хайдеггер и продолжал верить в Гитлера и в необходимость революции, то, во всяком случае, его отношение к политике постепенно менялось. Прежде его философия искала для себя героя, причем именно политического. Теперь Хайдеггер вновь склонялся к тому, чтобы признать необходимость разграничения разных сфер. Ведь философия располагается глубже, чем политика, – пусть же она опять станет основополагающим событием духа, которое хотя и обусловливает политику, но не растворяется в ней. В 1936 году, читая лекции о Шеллинге, Хайдеггер скажет: «Но очень скоро должна была обнаружиться глубокая неистинность тех слов, которые Наполеон в Эрфурте сказал Гёте: «Политика – это судьба». Нет, дух есть судьба и судьба есть дух. Сущность духа, однако, есть свобода[307]» (GA 42, 3).
Поворот от политики назад, к духу, дал знать о себе уже в лекционном курсе летнего семестра 1934 года. Заявленная тема звучала так: «Государство и наука». На первую лекцию собрался весь цвет местного общества: партийные боссы, именитые граждане, коллеги-профессора; собственно студенты оказались в меньшинстве. Всех чрезвычайно интересовало, каким будет первое выступление Хайдеггера после его ухода с поста ректора. Эта лекция должна была стать событием общественной жизни. Хайдеггер прошел через переполненную аудиторию (где преобладали коричневые рубашки) к кафедре и объявил, что изменил тему: «Я буду говорить о логике. Слово «логика» происходит от слова «логос». Гераклит как-то сказал…» В это мгновение все поняли, что Хайдеггер сейчас погрузится в привычные для него глубины, что он хотя и не намерен опровергать значимость политики, но хотел бы, как прежде, держаться от нее на некоторой дистанции. Уже в первых фразах он подверг критике как «непрофессиональную болтовню на мировоззренческие темы», так и ту «мешанину ненужных формул», которую буржуазная наука обычно выдает за «логику». «Логика в нашем понимании есть вопрошающее обследование основ бытия, место вопросительности» (L, 2). Уже ко второму часу лекции в аудитории остались только те, кого действительно интересовала философия.
Хайдеггеру было трудно начинать все заново, и он написал об этом Ясперсу год спустя, возвращаясь мыслями к своему первому семестру после ухода с поста ректора: «…у меня сейчас время утомительных поисков; всего несколько месяцев назад я смог возобновить работу, прерванную зимой 1932-1933 года (во время отпускного семестра), но все это – жалкий лепет; да и еще две занозы – полемика с верой в происхождение и неудача ректорства – вполне достаточно сложностей, какие вправду необходимо преодолеть» (1.7.1935, Переписка, 226).
В этой работе по переосмыслению собственных религиозных и политических взглядов ему помог другой герой – Гёльдерлин.
В зимний семестр 1934/35 года Хайдеггер прочитал свои первые лекции о Гёльдерлине. С этого момента Гёльдерлин становится постоянной отправной точкой его мышления. Хайдеггер обращался к Гёльдерлину, чтобы понять сущность «божественного», уже не присутствующего в современной жизни, и той «политики», которая возвышается над делами повседневности. Гёльдерлин, говорил Хайдеггер, – «сила в истории нашего народа»; но сила, которая по-настоящему еще не проявила себя. Это положение должно измениться, если немецкий народ хочет найти путь к самому себе. Содействие такого рода изменению, в представлении Хайдеггера, и есть ««политика» в высшем и подлинном смысле – так что тому, кто сможет здесь чего-то добиться, нет никакой надобности говорить о «политическом»» (GA 39, 214).
В то время, когда Хайдеггер увлекся Гёльдерлином, творческое наследие этого поэта переживало подлинный ренессанс. Гёльдерлина уже не рассматривали, как в начале века, в качестве лирика, интересного только для историков литературы, автора, который также написал странный роман в письмах («Гиперион») и, подобно многим другим немецким классикам, был филэллином. Ни Дильтей, ни Ницше, настойчиво пытавшиеся привлечь внимание к Гёльдерлину, так и не смогли «внедрить» его в сознание немецкой общественности. Сделать это удалось лишь накануне Первой мировой войны – членам кружка Георге и прежде всего одному из них, Норберту фон Хеллинграту, который разыскал поздние произведения Гёльдерлина, прокомментировал их и начал издание полного собрания сочинений. Кружок Георге видел в Гёльдерлине гениального предшественника «символизма» – не того символизма, в который играют художники и поэты, а экзистенциально необходимого. «Это как если бы вдруг подняли завесу, скрывавшую святая святых, и взгляду открылось нечто невыразимое» – примерно так в двадцатых – тридцатых годах воспринимали творчество Гёльдерлина его поклонники. Макс Коммерель относил Гёльдерлина к «поэтам-вождям» и утверждал, что, читая его произведения, мы соприкасаемся с «германским силовым потоком». В кругах, связанных с молодежным движением, Гёльдерлина считали гением сердца, разбившегося при столкновении с германской действительностью. Постоянно цитировалось такое высказывание из «Гипериона»: «Это жестокие слова, но я все же произношу их, потому что это правда: я не могу представить себе народ более разобщенный, чем немцы. Ты видишь ремесленников, но не людей; мыслителей, но не людей; священнослужителей, но не людей; господ и слуг, юнцов и степенных мужей, но не людей; разве это не похоже на поле битвы, где руки, ноги и все части тела, искромсанные, лежат вперемешку, а пролитая живая кровь уходит в песок?»[308]
Гёльдерлин с его мечтой о новой целостности жизни стал для образованных немцев, независимо от их политических взглядов, той фигурой, с которой они могли себя идентифицировать; однако совершенно особое влияние он оказывал на тех, кто искал возможности обрести – в поэтическом слове – новый опыт общения с сакральными силами. Рильке писал в своем стихотворении «К Гёльдерлину»: «О, повинуясь всевышним, возвел ты послушно / камень на камень, и зданье стояло. / Но рушилось зданье, – ты не смущался»[309].
Безумие, омрачившее вторую половину жизни Гёльдерлина[310], придало его поэзии дополнительную аутентичность; и не тем ли объяснялась сама эта душевная болезнь, что он продвинулся дальше других в опасные и таинственные зоны бытия?
Поэт немцев; поэт, который полностью овладел силой поэзии; акушер, помогавший рождению новых богов; дерзкий первопроходец, преодолевавший все границы, и одновременно великий неудачник – таким виделся Гёльдерлин в начале двадцатого столетия и на такую традицию его толкования опирался Хайдеггер.
В хайдеггеровской интерпретации поэзии Гёльдерлина можно выделить три тематических узла. Во-первых, Хайдеггера – после краха его собственной «силовой» политики – интересовала проблема сущности власти и иерархии главных сил бытия. Поэзия, мышление и политика – как они соотносятся друг с другом?
Во-вторых, Хайдеггер хотел с помощью Гёльдерлина найти язык для определения того, что у нас отсутствует. Он цитировал Гёльдерлина как свидетеля, – способного выразить свои ощущения в слове, – того обстоятельства, что мы испытываем нехватку бытия (живем в условиях «ночи богов»[311]), и как провозвестника возможного преодоления этой нашей ущербности. И, в-третьих, через посредство Гёльдерлина, «певца поэзии», Хайдеггер надеялся постичь смысл своего собственного дела – мышления о мысли. Он видел в судьбе Гёльдерлина – и прежде всего в его крушении – отражение собственной судьбы. Рассуждая о Гёльдерлине, Хайдеггер косвенным образом рассказывает и о себе – каким он сам себя видел и каким хотел, чтобы его видели другие.
В лекциях он прокомментировал два поздних гимна Гёльдерлина – «Германия» и «Рейн». В качестве основной идеи своей интерпретации Хайдеггер цитирует один из афоризмов Гёльдерлина: «Поэты, как правило, появлялись в начале или в конце какого-то периода мировой истории. С пением нисходят народы с небес своего детства в деятельную жизнь, на землю культуры. И с пением возвращаются назад, в свою исходную жизнь» (GA 39, 20).
Именно через слово поэта, говорит Хайдеггер, в каждый период истории народа и его культуры «впервые обнаруживает себя все то, что мы потом обсуждаем и разбираем на языке повседневности».
Это очень лестное для поэтов представление о силе поэтического слова. По мнению Хайдеггера, именно поэты сообщают каждому народу его идентичность. Они, подобно Гомеру и Гесиоду, учреждают для народа его богов, а значит, устанавливают «нравы и обычаи». Поэты являются подлинными творцами народной культуры. Гёльдерлин в своих стихотворениях тематизировал саму эту власть поэтического слова, почему Хайдеггер и назвал его «певцом поэзии».
Далее Хайдеггер связывает культуросозидающее деяние поэзии с двумя другими великими основополагающими деяниями – философским открытием мира и созданием государства. «Осново-настрой (Grundstimmung), то есть истина вот-бытия, того или иного народа изначально привносится поэтами. Однако раскрытое таким образом Бытиё[312] сущего осознается как Бытиё… мыслителями, и затем осознанное таким образом бытие… переносится в обу-строенную (bеstimmte) историческую реальность благодаря тому, что народ оказывается возвращенным к самому себе как к народу. Это происходит в результате создания… государства основоположниками государства» (GA 39, 144).
Поэзия, мышление и политика сходны тем, что все они способны порождать очень мощные по своему воздействию творения (Werke). Рассуждая о Гёльдерлине, Хайдеггер высказывает такую мысль: «Может случиться, что однажды нам придется отречься от своей повседневности и оказаться во власти поэзии; что мы никогда больше не вернемся в ту повседневность, которую оставили» (GA 39, 22).
Поэты, мыслители, государственные деятели становятся для других людей судьбой – потому что наделены творческим потенциалом, потому что благодаря их творчеству в мир приходит Нечто, создающее вокруг себя особое пространство (Ноf, «двор»), в котором возникают новые вот-бытийные отношения и обнаруживаются новые очевидности. Создание такого рода творений, подобных мощным волшебным замкам, которые доминируют над ландшафтом сущего, Хайдеггер иногда называл борьбой. В цикле лекций «Введение в метафизику», прочитанном год спустя, он описывает эту «творческую борьбу» так: «Борьба набрасывает и развивает лишь неслыханное, доселе не-сказанное и не помысленное. Эту борьбу взваливают себе на плечи те, кто творит: поэты, мыслители, государственные мужи. Они бросают сверхвластительному властвованию (dem uberwaltigenden Walten) слиток творений и заключают в их плен ими же раскрытый мир» (Введение в метафизику, 142).
Как Хайдеггер поддался околдовывающему воздействию творческого (заложившего основы нового государства) деяния Гитлера, мы уже видели. Теперь он попал в «сферу власти» поэзии Гёльдерлина, в его представлении принципиально не отличавшуюся по своему устройству от сферы власти национал-социалистской революции. В своем тюбингенском докладе «Университет в национал-социалистском государстве», прочитанном 30 ноября 1933 года, Хайдеггер предостерегал от попыток рассмотрения «революционной действительности» как чего-то наличного или просто фактичного. При таком подходе, говорил он, невозможно узнать, что собой представляет эта действительность. Человек, который на самом деле хочет ее познать, должен вступить в ее магический круг и измениться под ее воздействием. Тот же принцип действует и применительно к Гёльдерлину, и применительно ко всей великой поэзии. Поэзия требует от человека решимости – он может либо очертя голову броситься в ее водоворот, либо отойти от него на безопасное расстояние. Поэзия Гёльдерлина открывается только решившемуся; и для него она – точно так же, как для других политика или мышление, – может стать революционным событием, «переворотом всего бытия». Однако лишь немногие рискуют пуститься в подобную авантюру. Хайдеггер исследует различные тактики «отхода на безопасное расстояние», которые все преследуют одну цель – обеспечить защиту от мощного воздействия поэтического слова. Поэзию можно понимать, например, как выражение переживаний и фантазий автора, которое развлекает читателей и приносит им пользу в плане расширения их духовного горизонта. Или как идеологическую надстройку, проясняющую, либо, наоборот, затемняющую действительные обстоятельства. Бытует даже такое мнение (здесь Хайдеггер цитирует кого-то из национал-социалистских идеологов): «Поэзия является биологически необходимой функцией народа» (GA 39, 27). Пищеварение тоже, с иронией отмечает Хайдеггер, является «необходимой функцией народа». Такую позицию – стремление не попасть в сферу воздействия феномена, а наблюдать за этим феноменом извне – Хайдеггер называет либеральной установкой. «Если что-то можно и должно определить посредством понятия «либеральный», которое слишком часто употреблялось неправильно, то именно такой образ мышления. Ибо он [этот образ мышления] принципиально и изначально формируется из того, что сам подразумевает и мыслит, превращая это в простой предмет, по поводу коего он же и составляет мнения» (GA 39, 28).
Термин «либеральный» употреблен здесь в произвольно приписанном ему значении. Под ним подразумевается бездумное и бесчувственное – или, наоборот, методичное – уклонение от того, чтобы довериться собственному смыслу происходящего; желание быть «над» вещами, «под» ними или «позади», но в любом случае избежать втягивания «в» них. Эти критические рассуждения Хайдеггера внезапно переносят нас в ситуацию, которая, согласно Гёльдерлину, характерна для «ночи богов».
Мы, «сегодняшние люди», говорит Гёльдерлин, хотя и «многоопытны» во всем, что касается научного познания, но зато утратили способность воспринимать вещи, природу и человеческие отношения в их полноте и живости. Мы потеряли «божественное», а это значит, что дух покинул мир. Мы покорили природу, «зрительная труба» позволяет нам увидеть отдаленнейшие уголки вселенной, но при этом мы «в спешке не замечаем» «праздничного начала» являющего себя мира. Из «уз любви» между природой и человеком мы «сделали веревки», мы «надсмеялись» над границами между человеческим и природным. Мы стали «хитроумным племенем» и даже гордимся тем, что можем видеть вещи «нагими». А в результате люди больше не «видят» землю, не «слышат» птичьих голосов, да и язык, на котором они общаются друг с другом, «засох». Все это и означает, по Гёльдерлину, «ночь богов». То есть «ночь богов» есть не что иное, как исчезновение той значительности, которая прежде была имманентно присуща мирским, человеческим условиям существования, той «силы сияния», которой они обладали.
В понимании Гёльдерлина, поэт должен снова возвысить в слове весь этот некогда живой, но теперь погибший мир. Поскольку же поэт может лишь напоминать о погибшем, он является «поэтом оскудевшего времени».
Термин «божественное» у Гёльдерлина не относится к сфере потустороннего, а обозначает некую измененную действительность в самом человеке, в межчеловеческом общении и в отношении человека к природе. Он характеризует открытую навстречу миру, особо интенсивную, авантюрную, «бодрствующую» жизнь, которая может быть как индивидуальной, так и коллективной. Способность радоваться бытию-в-мире.
Это гёльдерлиновское «божественное» Хайдеггер в двадцатые годы именовал подлинностью, а теперь нашел для него новое определение – «отношение к Бытию». Присутствие, как объяснил Хайдеггер в «Бытии и времени», всегда находится в том или ином отношении к бытию. Даже бегство в неподлинность является одной из разновидностей такого отношения. «Отношение к бытию» (Bezug zum Sein) превращается в «отношение к Бытию» (Bezug zum Seyn), если захватывает человека целиком, то есть является для него подлинным переживанием. Отныне Хайдеггер будет писать слово Seyn («Бытиё») через ипсилон каждый раз, когда захочет обозначить подлинное отношение к бытию – то есть такое отношение, которое это бытие обожествляет (в гёльдерлиновском смысле). Открытость же присутствия навстречу божественному означает вот что: готовность открыто и смело исследовать как собственные бездонные глубины, так и чудо мира.
Напрашивается мысль, что такая «открытость» может быть достигнута только индивидуальным, решившимся на нее присутствием. Действительно, в «Бытии и времени», где излагается «философия подлинности», доминирует именно индивидуалистический аспект, и потом этот индивидуализм находит продолжение в хайдеггеровском рассуждении о героях – поэтах и мыслителях, – которые учреждают для всего народа богов и божественное. И все же теперь Хайдеггер сильнее подчеркивает исторический и коллективный аспект. Бывают исторические эпохи, которые благоприятствуют такому отношению к Бытию, и другие, которые его затрудняют или даже делают невозможным. «Ночь богов», или, как говорил Хайдеггер, «помрачение мира» (Weltverdusterung), погружает во тьму целые эпохи. Для Хайдеггера Гельдерлин столь велик именно потому, что на переломе эпох, когда старые боги исчезли, а новые еще не пришли, он оказался единственным, кому – как опоздавшему и одновременно пришедшему слишком рано – пришлось вынести всю боль утраты и сверх того испытать на себе силу будущего. «Мы же, друг, опоздали прийти. По-прежнему длится, / Но в пространствах иных вечное время богов /… / Ибо хрупкий сосуд не всегда их вынести может, / Только в избранный час бога вместит человек»[313], – говорится в одном позднем стихотворении Гёльдерлина, которое Хайдеггер сопоставил со строками из стихотворения «Как в праздник…»: «Но нам подобает, о поэты, / Под божьей грозой стоять с головой непокрытой, / И луч отца, его свет / Ловить и скрытый в песне / Народу небесный дар приносить…»[314] (GA 39, 30).
Образ стоящего под «божьей грозой» поэта Хайдеггер истолковывал как «подставленность сверхвластию Бытия» (GA 39, 35) и цитировал в этой связи письмо, которое Гельдерлин 4 декабря 1801 года, незадолго до поездки в Бордо, написал своему другу Бёлендорфу: «Некогда я был способен приходить в восторг от открывавшейся новой истины, от более верного представления о том, что есть над нами и вокруг нас; а теперь я боюсь, как бы мне в конце концов не попасть в положение Тантала, которому боги пожаловали столько яств, что старик уже не мог их переварить»[315]. Вернувшись же из Франции, Гельдерлин выразил свои ощущения путано и бессвязно: «Могучая стихия, небесный огонь и спокойствие людей… пленяли меня непрестанно, но, подобно тому, как говорят о древних героях, я и о себе могу сказать, что меня сразил Аполлон» (Бёлендорфу, ноябрь 1802 года)[316].
Гельдерлин, согласно интерпретации Хайдеггера, дерзнул зайти далеко – может быть, слишком далеко, – «в ту область, где ощутима опасность, угрожающая всему духовно-историческому вот-бытию» (GA 39, 113). В то время как народ вокруг него претерпевал «бедствие безбедственности» (Not der Notlosigkeit) и потому «не мог нуждаться в своем поэте», Гёльдердин должен был в одиночестве вынести все – и боль, и непосильное счастье. Тот «осново-настрой», которым Гёльдерлин жил и под воздействием которого писал, еще не находил отклика в народе. Чтобы такой отклик возник, народ следовало «перенастроить на другой лад». «Ради такой борьбы за перенастройку еще господствующих и существующих в силу инерции настроев всякий раз приходится приносить в жертву первенцев. Это те поэты, которые в своих речениях предсказывают будущее Бытиё народа в его истории и при этом неизбежно остаются неуслышанными» (GA 39, 146).
«Это те поэты…» – говорит Хайдеггер, подразумевая также: «Это те мыслители…» Так он приходит к своему автопортрету. Ибо очень скоро ему будет казаться, что и с ним произошло то же, что с Гёльдерлином. И он открылся навстречу «божьей грозе», и в него ударила молния Бытия, и ему пришлось мучительно переживать тот факт, что народ претерпевает «бедствие безбедственности», и он учредил нечто, что пока еще не было должным образом принято. «Но они не могут во мне нуждаться», – цитирует Хайдеггер Гёльдерлина (вкладывая в это высказывание двойной смысл) и продолжает, имея в виду уже нынешнюю революцию: «Как долго еще немцы будут оставаться глухими для этого ужасного слова? Если даже великий поворот их бытия не сделает их прозорливыми, то что вообще сможет открыть им уши, дабы они могли слышать?» (GA 39, 136).
Опять речь идет о нем, о «великом повороте», о метафизической революции национал-социалистского прорыва в будущее. Пришел миг, когда люди должны были наконец услышать Гёльдерлина, этого учредителя (Stifter) нового Бытия. Гёльдерлин опередил свой народ, решившись на дерзкое начинание: «отважиться еще раз вступить в контакт с богами, чтобы таким образом учредить некий исторический мир» (GA 39, 221).
Итак, Хайдеггер вновь славил великий прорыв. Если пришел всемирно-исторический час Гёльдерлина, то как мог он не быть и часом Хайдеггера! Однако после своего провала в качестве ректора Хайдеггер понимал, что непосредственное политическое действие, «организационная и административная работа» – все же не его дело. Его задача – способствовать прорыву в будущее «посредством другой метафизики, т. е. нового фундаментального опыта переживания Бытия» (GA 39, 195).
Полгода спустя в лекции «Введение в метафизику» Хайдеггер описал те важнейшие всемирно-исторические тенденции, которые, по его мнению, угрожали прорыву и могли бы его парализовать. Здесь он рискнул ступить в сферу актуальной философской диагностики. И сделал предметом своих рассуждений феномен, который сам называл «обессилением духа» (Entmachtung des Geistes) (Введение в метафизику, 126).
Сначала дух редуцируют, превращая его в инструментальный разум, или, как говорит Хайдеггер, в «интеллектуальную способность». Отныне речь идет лишь о «простой понятливости в осмыслении, оценке и рассматривании имеющихся вещей и их возможного изменения и дополняющего воссоздания» (там же, 127-128). Потом такую «интеллектуальную способность» ставят на службу тому или иному мировоззрению, той или иной идеологической доктрине. Хайдеггер называет в этой связи марксизм, одержимость техникой – и еще «народный» расизм. «Относится ли это служение интеллекта к урегулированию и овладению материальными производственными отношениями (как в марксизме) или вообще к разумному упорядочению и разъяснению всего… уже устоявшегося (как в позитивизме), или же оно осуществляется в управлении жизненной массой и расой какого-нибудь народа…» (там же, 128) – в любом случае «силы духовного развития» теряют свою свободную подвижность и свое достоинство, вытекающее из их способности самостоятельно выбирать для себя цели. А значит, они теряют и свое качество открытости навстречу взывающему к ним бытию. Тотальная мобилизация (экономическая, техническая и расистская) неизбежно приводит к «помрачению мира» – ситуации, которую Хайдеггер описывает в точных, как формулы, выражениях: «бегство богов, разрушение Земли, скучивание людей в массы, подозрение и ненависть ко всему творческому» (там же, 120).
В эту мрачную панораму Хайдеггер вписывает и немецкую действительность 1935 года. По его мнению, духу прорыва 1933 года угрожает опасность извне – со стороны Америки (= техническая мобилизация) и России (= экономическая мобилизация). «Европа, всегда готовая в неизлечимом ослеплении заколоть самое себя, находится сегодня в гигантских тисках между Россией, с одной стороны, и Америкой – с другой. Россия и Америка суть, с метафизической точки зрения, одно и то же; безысходное неистовство разнузданной техники и построенного на песке благополучия среднего человека. Если самый последний уголок земного шара завоеван техникой и разрабатывается экономически, если какое угодно происшествие в каком угодно месте и в какое угодно время становится доступным как угодно быстро… если время есть лишь быстрота, мгновенность и одновременность, время же как история исчезло из всякой сиюбытности всякого народа, если боксер почитается великим национальным героем, если массовые собрания, достигающие миллионных цифр, – это и есть триумф, – тогда, именно тогда всю эту блажь перекрывает призрак вопроса: зачем? – куда? – а дальше что?» (там же, 119-120).
Однако духу прорыва угрожает и внутренняя опасность, исходящая от расизма («управления жизненной массой и расой какого-нибудь народа»).
Хайдеггер видел в национал-социалистской революции силу, которая противостоит негативным тенденциям в развитии современного общества. В таком противостоянии, по мнению Хайдеггера, и заключались «внутренняя истина и величие этого движения» (там же, 296-297). Однако в 1935 году он уже чувствует угрозу того, что лучшие импульсы этого движения могут исчерпать себя, угаснуть в «безысходном неистовстве разнузданной техники и построенного на песке благополучия среднего человека» (там же, 119). В этой ситуации философ обязан охранять и защищать изначальную истину революционного прорыва. Но ему придется вооружиться терпением. «Философия не соразмерна времени по существу, ибо она принадлежит к тем немногим вещам, судьба которых в том, чтобы не уметь найти непосредственный отклик в сегодняшнем и никогда не позволить себе его найти» (там же, 93).
Хайдеггер, впрочем, ни словом не обмолвился о том, что сам он еще совсем недавно поддался искушению вызвать «непосредственный отклик». Как бы то ни было, после неудавшейся попытки облечь философию реальной властью Хайдеггер вновь вернулся к индивидуальному философствованию, чтобы, следуя примеру Гёльдерлина, в качестве одинокого борца попытаться предотвратить эпохальную «опасность помрачения мира». Но одно он твердо усвоил в результате краха своей политической авантюры: «подготовку истинного» невозможно осуществить, так сказать, за одну ночь. Правда, «обнаружение Бытия» (Offenbarwerdung des Seyns) и сейчас иногда случается в философии, в том числе и в его философии; однако прежде чем такое событие озарит своим сиянием все общество и коренным образом преобразует его, должно пройти «много времени», и значит, время – до наступления спасительного срока – будет сохранять свой характер «оскудевшего времени». «На таком месте метафизического бедствия» должны выстоять люди духа, подобные Гёльдерлину или Хайдеггеру, – выстоять, чтобы не дать угаснуть памяти о том, чему еще предстоит вернуться.
Итак, Хайдеггер продолжает верить в свою философскую фантазию, но уже начинает высвобождать ее из паутины национал-социалистской политики.
Реально существующий национал-социализм все в большей мере представляется ему системой, созданной предателями той революции, которую он по-прежнему оценивает как метафизическую революцию, «обнаружение Бытия» на почве народного сообщества. Поэтому подлинному национал-социалисту, каковым все еще ощущает себя Хайдеггер, не остается ничего иного, как стать мыслителем «оскудевшего времени».
Из краха своей ректорской деятельности Хайдеггер извлек лучшее, что мог: в историю бытия, какой она ему представлялась, он вписал себя как провозвестника, который пришел слишком рано и потому подвергался опасности быть уничтоженным и отброшенным своим временем. Как одного из братьев Гёльдерлина.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Время картины мира и тотальной мобилизации. Хайдеггер отступает. Об «устроении истины вовнутрь творения». Оптимистический прагматизм. Основоположники государства, художники и философы. Критика концепции «воли к власти». Ницше и Хайдеггер – кто шагнул дальше? О сооружении плотов в открытом море.
На последних свободных выборах в рейхстаг, 6 ноября 1932 года, национал-социалисты получили 33,5% голосов. На выборах 5 марта 1933 года, после поджога рейхстага, запрета КПГ и массированного запугивания остальных оппозиционных партий, НСДАЛ все еще не имела поддержки большинства. На выборах 12 ноября 1933 года, когда голосование шло по единому списку кандидатов и было связано с плебисцитом о выходе Германии из Лиги Наций, за НСДАП отдали свои голоса 92% избирателей. Этот результат, конечно, нельзя считать адекватным отражением настроений народа: в то время Гитлер еще не был столь популярен. Однако мы вправе предположить, что в конце тридцатых годов преобладающее большинство немецкого народа в общем и целом поддерживало политику Гитлера. И не только потому, что террор, гляйхшалтунг и запугивание недовольных оказались столь действенными средствами; важнее другое: к тому моменту политика Гитлера, по мнению подавляющего большинства, доказала свою успешность. 28 апреля 1939 года Гитлер в большой речи подвел итог этим достижениям: «Я преодолел хаос в Германии, восстановил порядок, добился неслыханного роста производства во всех сферах нашей национальной экономики… Мне удалось снова вернуть к полезному труду семь миллионов безработных, судьба которых так сильно тревожила всех нас… Я не только объединил немецкий народ в политическом отношении, но и вооружил его в военном смысле и попытался страницу за страницей аннулировать тот договор, который в своих 448 статьях предусматривает самые подлые насильственные меры из тех, что когда-либо применялись против народов и отдельных людей. Я снова присоединил к рейху провинции, отнятые у нас в 1919 году, я вернул на родину миллионы отторгнутых от нас, глубоко несчастных немцев, я восстановил тысячелетнее историческое единство германского жизненного пространства, и я… прилагал усилия, чтобы сделать все это, не проливая крови и не принося горестей войны моему или другим народам. Я осуществил все это… собственными силами, как простой рабочий и солдат моего народа, еще двадцать один год назад никому не ведомый».
С каждым пунктом этого перечня успехов мог согласиться и Хайдеггер. Он приветствовал внутреннее политическое единство народа, пусть и достигнутое диктаторскими методами. Презирая веймарскую демократию, он не был шокирован полным отстранением от власти политической оппозиции. Хайдеггер не имел возражений и против «принципа фюрерства», против понятия «персонал»[317]. Национал-социалистский режим предоставил работу многим людям и тем самым вновь сделал их «способными к присутствию» (выражение Хайдеггера из его доклада, прочитанного в феврале 1934 года). Выход из Лиги Наций и одностороннее аннулирование Версальского договора в глазах Хайдеггера были проявлением воли народа к самоутверждению, выполнением «изначального требования» всякого присутствия, состоящего в том, «что оно должно сохранить и спасти свою собственную сущность». Он поддерживал и аннексионистскую политику Гитлера, ибо воспринимал как скандал то обстоятельство, «что 18 миллионов немцев, хотя и являются частью германского народа, но, поскольку они живут вне имперских границ, не принадлежат к Рейху». И внутренняя, и внешняя политика нового режима соответствовала политическим представлениям Хайдеггера, которые он, впрочем, никогда ясно не формулировал.
Национал-социализм есть «путь, предначертанный для Германии», нужно только «продержаться достаточно долго», сказал он летом 1936 года, в Риме, Карлу Левиту. Но это его согласие с режимом теперь снова было не более чем политическим мнением. Былой метафизический пафос исчез. Осталось именно мнение, сводившееся к тому, что национал-социалисты проводят вполне добротную политику – политику преодоления безработицы, упрочения социального мира, пересмотра условий Версальского договора и т.д. Однако он уже успел убедиться в том, что видение метафизической революции, заманившее его на политическую арену, так и не стало реальностью. Хайдеггер, как он пишет Ясперсу 1 июля 1935 года, переживает «время утомительных поисков»; всего несколько месяцев назад он «смог возобновить работу, прерванную зимой 1932-1933 года» (Переписка, 226), и ему все труднее отгонять от себя мысль, что прорыв из Нового времени к новой эпохе еще какое-то время будет возможен только для индивидуального мышления – для мыслителя, который хочет разобраться в динамике «сверхвластительного» Нового времени и, значит, в глубинных причинах краха собственных политико-философских амбиций. Он, Хайдеггер, очевидно, недооценивал эту динамику, когда переживал национал-социалистскую революцию как прорыв в глубины времени. Годы с 1935-го по 1938-й были посвящены работе по переосмыслению прошлого. Еще в 1935 году, в лекционном курсе «Введение в метафизику», Хайдеггер утверждал, что национал-социализму присущи «внутренняя истина и величие», то есть отождествлял это движение со всем тем, что сопротивляется Новому времени. В последующие годы, когда он открыл для себя, что «проект современности» еще далек от завершения, его угол зрения изменился, и теперь национал-социализм представлялся ему уже не как прорыв из современности, а как наиболее последовательное ее выражение. Хайдеггер обнаружил, что национал-социализм сам является той проблемой, за решение которой он его ранее принимал. И разглядел в нем недуги Нового времени: «неистовство разнузданной техники», господство и «построенное на песке благополучие среднего человека», то есть неподлинность как «тотальную мобилизацию».
Примечательно, что Хайдегтер не стеснялся «корректировать» в духе этих новых представлений свои более ранние высказывания о национал-социалистском движении. Он это сделал, например, в 1953 году, когда готовил к публикации лекции «Введение в метафизику», прочитанные в 1935-м. К замечанию о «внутренней истине и величии» национал-социалистского движения он присовокупил пояснение в скобках, в котором утверждал, что имеется в виду величие ужасного, а именно, «встреча планетарной техники и современного человека». Как мы вскоре увидим, это толкование Хайдеггер разработал уже после «Введения в метафизику» – в лекциях о Ницше, в своих не предназначавшихся для публикации заметках «К делу философии» и в докладе «Основание новоевропейской картины мира метафизикой», который вышел после войны под названием «Время картины мира» (и стал одной из самых значимых работ Хайдеггера).
Итак, с 1935 по 1938 год Хайдеггер осмысливал свое разочарование тем, что метафизическая революция не состоялась как революция политическая, пытался постичь «сверхвластительную» силу Нового времени, понять, чем же она так «захватила» его самого и как ему теперь высвободиться из этой хватки.
Так что же это за Молох – то «Новое время», которое уничтожило политико-философские надежды Хайдеггера и заставило его вновь искать убежища в затворнической жизни и индивидуальном мышлении?
Во «Времени картины мира» Хайдеггер описывает Новое время (современность) в категориях «тотальной мобилизации». При этом он явно имеет в виду концепцию Эрнста Юнгера, хотя и не ссылается на нее прямо. Машинная техника, наука и исследование[318] соединились в мощную систему, систему труда и удовлетворения потребностей. Техническое мышление не только управляет исследованием и производством в узком смысле, но и определяет отношение человека к себе самому, к другим людям и к природе. Человек интерпретирует самого себя с технической точки зрения. То же можно сказать и относительно искусства, которое, как «художественная продукция», остается включенным в производственный универсум Нового времени. Культура в целом рассматривается как некий фонд «ценностей», которые можно распределять, исчислять, использовать, учитывать при составлении всякого рода планов. К числу этих культурных ценностей относятся также религиозные переживания и традиции, которые тоже девальвируются, становясь просто одним из средств для поддержания целостности общего культурного фонда. Посредством такой инструментализации трансцендентного достигается состояние полного обезбожения (Время картины мира, 42). Итак, Новое время, по Хайдеггеру, – это машинная техника, инструментальная наука, культурная политика[319] и обезбожение. Но перечисленные феномены – всего лишь самые очевидные симптомы, в первую очередь бросающиеся в глаза. Они базируются на «основополагающей метафизической установке» (там же, 57), то есть на таком взгляде на сущее в целом, который имеет определяющее значение для всех сфер человеческой жизни и всех видов человеческой деятельности. Базируются на решении о том, что вообще следует считать сущим и на что должно ориентироваться любое деяние или недеяние. По мнению Хайдеггера, основополагающая установка Нового времени характеризуется превращением человека в «субъекта», для которого мир становится совокупностью «объектов», то есть просто предметов, действительных или возможных, и этими предметами владеют и пользуются, их потребляют, отвергают или уничтожают. Человек как бы распрямляет спину, он больше не ощущает себя впущенным в мир, но воспринимает этот мир «как нечто противостоящее» (там же, 50) и фиксирует его в «картине мира». «Человек становится точкой отсчета для сущего как такового» (там же, 48).
Но разве человек не всегда был таким? Нет, говорит Хайдеггер, когда-то все было иначе и настанет время, когда, под угрозой гибели, человек опять станет иным.
Он был иным – в Древней Греции. В этом докладе Хайдеггер вкратце излагает свое представление о начальном способе жительствования в мире. Для Древней Греции характерна (как будет характерна и для нашего будущего, если мы вообще хотим иметь таковое) совершенно другая метафизическая установка: «Сущее есть то возникающее и самораскрывающееся, что своим присутствием захватывает человека как присутствующего при нем, т.е. такого, который сам открывается присутствующему, выслушивая его. Сущее становится сущим не оттого, что человек его наблюдает в смысле представления рода субъективной апперцепции. Скорее сущее глядит на человека, раскрывая себя и собирая его для пребывания в себе. Быть под взглядом сущего захваченным и поглощенным его открытостью и тем зависеть от него, быть в вихре его противоречий и носить печать его раскола – вот существо человека в великое греческое время» (там же, 50).
Это сжатое объяснение не столь понятно, чтобы его можно было оставить без комментариев. С точки зрения греческого мышления мир представляет собой сцену, на которую человек выходит – и сразу же оказывается среди себе подобных и среди вещей – не только для того, чтобы действовать и видеть, но и чтобы на него воздействовали, его видели. Место человека есть место видимости, причем в двойном смысле: он показывает себя (и только показывая себя, живет действительной жизнью, в противном же случае, так сказать, пребывает в пещере приватного существования и является «идиотом»[320]); и он же – то существо, которому может показать себя остальное сущее. «Казаться» – для греческого мышления это вовсе не какой-то ущербный модус бытия. Напротив, греки считали, что бытие есть «кажимость» и ничто иное. Лишь то, что кажется (кажет себя), действительно существует. Поэтому, по Платону, даже высшее бытие – как идея – уступает зрению. В греческом понимании человек есть существо, которому, как и остальному миру, свойственны способность видеть и способность показывать себя. Быть увиденным хочет не только человек, но и мир в целом; мир – не нечто пассивное, не просто материал, который мы рассматриваем и на который можем воздействовать. В соответствии с греческим мышлением, мир тоже смотрит на нас. Однако человек с особенной чистотой реализует фундаментальный космический принцип, побуждающий все в мире показывать себя, и, значит, является точкой наивысшей видимости – в активном и в пассивном смыслах. Потому-то греческий человек и изобрел театр, это воспроизведение мировой сцены. Ведь для него весь космос обладал свойствами театральных подмостков. Человек – открытое место бытия.
По убеждению Хайдеггера, при таком отношении к бытию само бытие было более богатым и интенсивным, предполагало наличие открытого пространства. В отличие от греческого человека, человек Нового времени находится в плену своих проектов и воспринимает все, что им противоречит, как отклонение от нормы, или несчастье, или случайность. В результате из мира исчезают тайна, полнота бытия, бездна, судьба, благодать. «Только там, где сущее стало предметом представления, сущее известным образом лишается бытия» (там же, 55).
По Хайдеггеру, история бытия делится на следующие периоды: в древнегреческую эпоху все происходило на открытой сцене, где человек и мир показывали себя и вместе разыгрывали свои трагедии и комедии, причем человек сознавал всевластие и избыточную полноту бытия, которое оставалось для него таинственным и сокровенным. В христианское время бытие считалось сокрытым в Боге, к Которому человек относился с благоговейным страхом, но все же с любопытством высматривал черты подобия и соответствия между Творцом и Его творением, а в конце концов даже поддался тщеславному желанию повторить богосотворенное в творениях собственных рук. Что касается Нового времени, то оно полностью перешло к «наступательному продвижению» (там же, 58). «В планетарном империализме технически организованного человека человеческий субъективизм достигает наивысшего заострения, откуда он опустится на плоскость организованного единообразия и будет устраиваться на ней. Это единообразие станет надежнейшим инструментом полного, а именно технического господства над землей» (там же, 61).
Восприняв и перевернув мысль Макса Вебера о «расколдованности» современного мира, Хайдеггер говорит о том, что современный человек заколдован миром техники. История Нового времени движется, пребывая под колдовскими чарами. Может ли она сбросить с себя это заклятие?
В 1933 году Хайдеггер верил, что коллективный прорыв на свободу из-под стальной скорлупы Нового времени уже стал исторической реальностью. Пять лет спустя он констатирует, что такого шанса принципиального поворота – в политической сфере – тогда вообще не было и в ближайшем будущем не предвидится. Теперь он понимает революцию и ее последствия как процесс, полностью укладывающийся в рамки тотальной мобилизации Нового времени, но еще не готов подвергнуть критической оценке собственную политическую ангажированность в начальный период этой революции.
Диагноз Хайдеггера: Новое время вступает в стадию жесточайшей конфронтации между конкурирующими проектами овладения миром – американизмом, коммунизмом и национал-социализмом. «Основополагающие установки» трех мировоззрений четко разграничены и решительно защищаются их сторонниками, однако все это происходит на общей почве (околдованного техникой) Нового времени. «Ради этой борьбы… человек вводит в действие неограниченную мощь всеобщего расчета, планирования и организации» (там же, 52).
Расчет характерен для американизма, планирование – для коммунизма, организация – для национал-социализма.
Если смотреть на вещи в глобальной перспективе, как предлагает Хайдеггер, который считал себя критиком Нового времени и в своих лекциях о Ницше назвал современность «эпохой завершенного обессмысливания» (N II, 9), то за всем этим угадывается единая «роковая взаимосвязь», если воспользоваться словами Адорно[321], употреблявшего иную терминологию.
Когда долго вглядываешься в темноту, в ней всегда можно что-то разглядеть. Хайдеггер тоже пытался обнаружить различия в окружавшей его сплошной тьме. Хотя Новое время в целом характеризуется тем, что «человек вообще и по существу стал субъектом», однако далеко не безразлично, «хочет ли и должен ли человек быть субъектом, – каковым в качестве новоевропейского существа он уже является, – как ограниченное своей прихотью и отпущенное на собственный произвол Я или как общественное Мы, как индивид или как общность, как лицо внутри социума или как рядовой член в организации, как государство и нация и народ или как общечеловеческий тип новоевропейского человека» (Время картины мира, 51).
Что предпочитает сам Хайдеггер, очевидно. Он выразил это достаточно ясно, упомянув чуть дальше об «уродстве субъективизма в смысле индивидуализма». «Мы», «лицо внутри социума» и «народ» – таковы наименее безответственные формы бытия субъекта в Новое время. Подчеркивая это, Хайдеггер косвенным образом санкционирует собственную (былую) политическую активность – правда, он уже не оправдывает ее, как раньше, отсылкой на метафизическую революцию, но все же представляет как наилучший выбор в условиях всеобщего уродства, свойственного Новому времени. Однако, разумеется, и такой путь теперь уже не является в его глазах безусловно правильным или настоятельно необходимым.
Хайдеггер хочет, чтобы его правильно поняли. Речь не идет о «голом отрицании эпохи» (там же, 52). Мышление, которое закоснело в своем стремлении поставить во главу угла отрицание, остается привязанным к отрицаемому и потому теряет свою раскрывающую силу. Речь не идет и о вне-историчной мистике. Бытие сущего, навстречу которому открывается мышление, – вовсе не пребывающий за пределами мира Бог. Совсем наоборот: такое мышление хочет вернуть перспективу, в которой мир снова станет пространством, где, как говорил Хайдеггер в лекционном курсе «Введение в метафизику» 1935 года, «каждая вещь – дерево, гора, дом, птичий крик – совершенно утратит свою нейтральность и привычность» (ЕМ, 20). Насколько близко мышление такого рода к искусству, Хайдеггер объяснил в докладе «Исток художественного творения», впервые прочитанном в 1935 году. Там он описывает на примере картины Ван Гога, изображающей стоптанные башмаки художника (которые Хайдеггер ошибочно принял за башмаки крестьянки), как искусству удается представлять вещи таким образом, что они перестают быть чем-то «привычным и безразличным» (Исток…, 310). Искусство не отображает, а делает видимым. Все то, что присутствует в конкретном творении, соединяется в собственный мир, который остается прозрачным для мира в целом, но так, что при этом сохраняет свою доступность для восприятия и миротворящий акт искусства как таковой[322]. То есть творение одновременно показывает и мир в целом, и себя самое как смыслополагающую силу, которая тоже бытийствует (Исток…, 284) и благодаря которой сущее становится «более сущим». Поэтому Хайдеггер и мог сказать: сущность искусства заключается в том, что оно «раскидывает посреди сущего открытое место, и в этой открытости все является совсем иным, необычным» (Исток…, 305).
Художественное творение есть вместе с тем и нечто сделанное. Как Хайдеггер отграничивает создание творений искусства от технического производства, которое он проанализировал в работе «Время картины мира»?
Чтобы охарактеризовать различие между тем и другим, Хайдеггер вводит понятие земли. Земля – это непроницаемая, самодостаточная природа. «Земля есть земля сущностно замыкающаяся» (Исток…, 286). Научно-техническая «установка на опредмечивание сущего» (Время картины мира, 47) представляет собой стремление вторгнуться в природу, вырвать у нее тайну ее функционирования. Но на этом пути мы никогда не поймем, что есть природа. Потому что природа существует сама в себе и знает способы, как уклоняться от нашего любопытства. Понять эту ее «уклончивость», собственно, и означает открыться для восприятия дразнящей замкнутости природы, ее «земности». Именно это пытается сделать искусство. Мы можем определить вес камня, разложить на число колебаний цвет; однако подобные измерения не дадут нам почувствовать тяжесть каменной глыбы или увидеть свечение красочного полотна. «Земля такова, что всякое стремление внедриться в нее разбивается о нее же самое» (Исток…, 286). Однако искусство делает видимым «не размыкаемое» (там же) земли, восставляя нечто такое, до чего нам не помогли бы добраться никакие представления; оно размыкает пространство, в котором может явить себя именно самозамкнутость земли. Оно открывает тайну, не прикасаясь к ней. Искусство не только изображает мир, но и формирует чувства удивления, ужаса, радости, равнодушия по отношению к миру. Искусство соединяет все, что имеет к нему касательство, в особый, его собственный мир, или, как говорит Хайдеггер, восставляет мир, – и этот особый мир в течение какого-то времени способен противостоять «изъятию [творений искусства] из мира и распадению мира» (Исток…, 282). Хайдеггера прежде всего интересует именно этот миросозидающий аспект искусства, присущая искусству особая сила. Вот, к примеру, греческий храм. Сегодня он для нас всего лишь один из памятников истории искусства, а когда-то был центром, вокруг которого строилась жизнь некоего сообщества, центром, наполнявшим эту жизнь смыслом и значением. «Творение храма слагает и собирает вокруг себя единство путей и связей, на которых и в которых рождение и смерть, проклятие и благословение, победа и поражение, стойкость и падение создают облик судьбы человеческого племени. … Стоя на своем месте, храм впервые придает вещам их вид, а людям впервые дарует взгляд на самих себя» (Исток… 282-283). Посредством этой мощной манифестации художественное творение дарует сообществу бога[323], то есть высшую смыслоудостоверяющую и смыслополагающую инстанцию. Поэтому Хайдеггер называет искусство «устроением истины вовнутрь творения» (Исток…, 297). Такая точка зрения предполагает признание (которое Хайдеггер выразил уже в лекциях о Гёльдерлине) параллелизма между искусством, мышлением и «деянием, закладывающим основы государства».
Здесь мы имеем дело с оптимистическим прагматизмом, который, во-первых, обосновывает историчность сотворенных «истин», обладающих, по Хайдеггеру, ограниченным во времени сроком существования. А во-вторых, показывает, что эти «истины» нельзя обнаружить нигде, кроме как в самих художественных творениях: «Устроение истины вовнутрь творения есть произведение на свет такого сущего, какого до сих пор еще не было и какого никогда не будет впредь» (Исток…, 297).
Когда Хайдеггер описывает силу первоначала, заключенную в сотворенных истинах, можно заметить, что возбуждение, которое охватило его в 1933 году и под влиянием которого он переживал национал-социалистскую революцию как коллективное художественное творение тех, кто совершал «деяния, закладывающие основы государства», еще не вполне улеглось. «Истина, творящаяся в творении, расталкивает небывалую огромность и вместе с тем опрокидывает всякую «бывалость» и все, что принимается за таковую. Истину, разверзающуюся в творении, никогда нельзя поверить бывшим ранее, никогда не вывести из бывалого. Все, что было прежде, опровергается творением в своих притязаниях на исключительную действительность» (Исток…, 307). Это утверждение, с точки зрения Хайдеггера, равно применимо как к политическому коллективному художественному творению – революции, – так и, скажем, к греческому храму, трагедии Софокла, фрагменту из Гераклита или стихотворению Гёльдерлина. Во всех перечисленных и подобных им случаях речь идет о творческом деянии, которое коренным образом меняет отношение человека к действительности: человек обретает новое свободное пространство, начинает по-новому относиться к бытию. Однако каждый такой основополагающий акт подчиняется закону старения и постепенно превращается в обыденное. Однажды открытое через какое-то время вновь закрывается. Хайдеггеру довелось испытать это на примере политической революции. «Начало есть самое неуютное и самое властное. Что наступает затем, есть не развитие, а выравнивание как простое расширение, есть невозможность начала удержаться в самом себе, есть выхолащивание и раздувание…» (Введение в метафизику, 231). Прорыв из мира Нового времени, начавшись было, так и не состоялся, и теперь только мышление в союзе с поэзией способны сохранять открытым «свободное пространство» (Время картины мира, 61) для совсем иного отношения к бытию. Формулу этого «совсем иного» отношения Хайдеггер предлагает во «Времени картины мира», когда говорит о необходимости преодоления субъективности, а точнее, о преобразующей силе мысли, сводящейся к тому, «что субъективность и никогда не была единственной возможностью для начального существа исторического человека, и никогда такой не станет» (там же).
Но здесь Хайдеггер сталкивается со значительными трудностями: ведь путь к преодолению субъективности должен быть открыт поэзией и мышлением, которые проистекают из воли к творчеству. Творчество же является выражением в высшей степени активистского настроя. Ибо что делают поэт и мыслитель? «Они бросают сверхвластительному властвованию слиток творений и заключают в их плен ими же раскрытый мир» (Введение в метафизику, 142). Разве хайдеггеровская «воля к творчеству» не есть одно из наиболее ярких проявлений притязаний субъекта на особую «полномочность»! Разве не напрашивается мысль о тождестве «воли к творчеству» с ницшеанской «волей к власти», которая тоже может быть понята как притязание субъекта на особые полномочия? Разве в обоих случаях речь не идет о субъективном протесте против свирепствующей в Новое время эпидемии нигилизма, которую диагностировали как Ницше, так и Хайдеггер?
Хайдеггер, в ректорской речи четко выразивший согласие с диагнозом Ницше – «Бог умер», – вполне сознавал, как много у него общего с этим философом. Во «Времени картины мира» он говорит о Ницше как о мыслителе, которому почти удалось – но именно что «почти» – преодоление Нового времени. В этом докладе Хайдеггер резюмирует главную идею своих лекций о Ницше, которые он читал начиная с 1936 года: мысль Ницше остается скованной новоевропейским представлением о ценностях. Эпоха, которую Ницше стремился преодолеть, в конце концов одержала над ним победу и испортила лучшие его мысли. Хайдеггер хочет понять Ницше глубже, чем тот сам себя понимал. Хочет опередить его на пути к новому мышлению о бытии. При этом он не может обойти вопрос о «присвоении» философии Ницше национал-социалистскими идеологами вроде Альфреда Бойм-лера. Правда, целесообразность такого присвоения вызывала сомнения как раз у самых «жестких» нацистских идеологов. Например, Эрнст Крик саркастически предостерегал от попыток адаптации идей Ницше: «В общем и целом: Ницше был противником социализма, противником национализма и противником расовой идеи. Если отвлечься от этих трех аспектов духовного развития, то, вероятно, можно согласиться с тем, что из него получился бы выдающийся «наци»».
Артур Древc, профессор философии в Карлсруэ, в 1934 году открыто возмущался «ницшеанским ренессансом». Ницше, по его словам, был «врагом всего немецкого», возлагал свои надежды на «хорошего европейца» и даже отводил евреям «главную роль в процессе слияния всех наций». Ницше – законченный индивидуалист, и ничто не могло быть для него более чуждым, «чем основополагающий национал-социалистский принцип: «Общее благо превыше личного блага»». Как утверждал Древc, «в свете всего этого должно показаться просто невероятным, что Ницше возводят в ранг философа национал-социализма, ибо, чего ни коснись, он проповедует вещи… прямо противоположные национал-социализму». Главная причина того, что подобные попытки возвеличивания Ницше повторяются вновь и вновь, «видимо, заключается в следующем… сегодня большинство людей, высказывающихся о Ницше, выхватывают лишь «изюминки» из его «философского» пирога и из-за присущей ему афористичной манеры письма вообще не имеют сколько-нибудь ясного представления о системе его мышления».
Однако Альфреду Боймлеру, чья книга «Ницше, философ и политик» (1931) пользовалась большим успехом, удалось совершить хитрый трюк – извлечь «изюминки» и одновременно в определенной мере удержать в поле зрения «систему мышления». Боймлер разрабатывал такие темы, как философия «воли к власти» и экспериментирование Ницше с биологизмом его времени. Дарвинистская концепция «жизненных сил»; идея «расы господ» и рассуждения о творческом инстинкте, предлагающие воспринимать человеческий конгломерат как пластичный и податливый материал; замена морали виталистским децизионизмом – из таких элементов Боймлер построил свой вариант ницшеанской философии, в котором, правда, не нашел места для теории «вечного возвращения». «В действительности эта идея, даже если взглянуть на нее изнутри самой ницшеанской системы, не имеет никакой значимости», – писал Боймлер. Зато он соглашался с Ницше в том, что следует отвергнуть традиционную метафизику: ибо не существует никакого сверхчувственного мира ценностей и идей и, естественно, нет никакого Бога; миром правят только инстинкты. Боймлеру оставалось лишь слегка радикализировать свою «физиологическую» интерпретацию Ницше, чтобы вывести из нее философию «расы» и «крови».
Однако и в самом деле мистика крови и расы является одним из возможных следствий концепции «воли к власти» (понимаемой в физиологическом смысле). Так полагал и Хайдеггер, но он, в отличие от Боймлера, оценивал это следствие негативно: «Для Ницше субъективность безусловна как субъективность тела, т.е. влечений и аффектов, т. е. воли к власти… Безусловное существо субъективности развертывается поэтому с необходимостью как brutalitas животной bestialitas. В конце метафизики стоит тезис: Homo est brutum bestiale[324]. Слово Ницше о «белокурой бестии» – не случайное преувеличение, а обозначение и признак ситуации, в которой он сознательно находился, не будучи в состоянии обозреть ее бытийно-исторические связи» (Европейский нигилизм, 147-148).
Прославление «белокурой бестии», по Хайдеггеру, является нигилистическим следствием «выдвижения «субъекта»» (там же, 118).
Самому Хайдеггеру тоже пришлось выслушивать от нацистских идеологов упреки в «нигилизме». Мы уже цитировали высказывание Крика, который в 1934 году писал: «Смысл этой [хайдеггеровской] философии – откровенный атеизм и метафизический нигилизм, представленный у нас преимущественно еврейскими литераторами, то есть фермент, способствующий разложению и распаду немецкого народа». В лекциях о Ницше Хайдеггер, так сказать, повернул копье другим концом и попытался доказать, что идея «воли к власти», которую взяли на вооружение нацистские идеологи, является не преодолением, а, наоборот, завершением нигилизма, хотя адепты Ницше и не отдают себе в этом отчета. Так лекции о Ницше превратились во фронтальное наступление на деградировавшую метафизику расизма и биологизма. Хайдеггер соглашается с тем, что идеи Ницше отчасти могут быть использованы господствующей идеологией, от которой сам он отстраняется. С другой стороны, он тоже пытается опереться на Ницше, но при этом представляет собственное мышление как преодоление Ницше – на ницшеанском же пути.
Ницше хотел разрушить традиционную метафизику, исходя из вполне метафизического постулата, в шеллинговской формулировке звучавшего так: «Воление есть прабытие»[325]. Однако ницшеанское понимание воли отличалось от традиционного, просуществовавшего вплоть до Шопенгауэра. В представлении Ницше воля была не желанием, не смутным инстинктом, а способностью повелевать («Воля предполагает, что нечто повелевается»[326]), силой, позволяющей бытию расти. «Иметь… волю вообще – это то же самое, что желать стать сильнее, желать расти…»[327]
Воля – это воля к накоплению жизненной силы. По Ницше, сохранить себя можно только одним способом – следуя логике накопления. Все то, что имеет лишь силу, потребную для самосохранения, гибнет. Сохраняет себя то, что увеличивается, становится более интенсивным, расширяется. У живого нет никакой трансцендентной цели, но ему имманентно присуще ощущение правильного направления: оно стремится к наращиванию интенсивности и к успеху. И пытается интегрировать все чуждое ему в сферу своей власти, в свой образ мировосприятия (гештальт). Живое упрочивает и расширяет свою власть, подминая под себя то, над чем оно властвует. Речь идет об энергетическом процессе, который, будучи таковым, «бессмыслен», ибо не соотнесен ни с какой целью более высокого порядка. Значит ли это, что идеи Ницше нигилистичны? Сам Ницше характеризовал свое учение как преодоление нигилизма посредством его полного исчерпания.
Он хотел полностью исчерпать нигилизм, и потому раскрывал тайное присутствие нигилизма в долгой истории метафизического смыслополагания. Люди, по мнению Ницше, всегда считали «ценностями» то, что способствовало сохранению и увеличению их собственной воли к власти или могло защитить их от каких-то чужеродных сверхмощных сил. Следовательно, за каждым ценностным суждением скрывается воля к власти. Это касается и «высших ценностей» – Бога, идей, сверхчувственного. Однако воля к власти долгое время оставалась «непрозрачной» для самой себя. Она приписывала сверхъестественное происхождение тому, что на самом деле было ее созданием. Люди верили, что нашли некие самостоятельные сущности, тогда как в действительности эти сущности были их же изобретениями, порождениями их воли к власти. Люди не сознавали, что обладают энергией, способной формировать ценности. Они охотнее становились жертвами и получателями даров, нежели преступниками и дарителями – межет быть, потому, что боялись собственной свободы. Этот очень важный процесс – обесценивание заложенной в людях способности формировать ценности – еще более форсировался из-за наличия общепризнанных трансцендентных ценностей. Ибо в сравнении с последними все посюстороннее, телесное и бренное девальвировалось. Очевидно, людям не хватало мужества, чтобы смириться со своей бренностью. А в результате трансцендентные ценности, изобретенные для защиты от ничтожения и бренности, сами стали силой, направленной на нигилистическое обесценение жизни. Пребывая под «небом идей», люди в принципе не могут правильно относиться к миру. Ницше хочет окончательно разрушить «небо идей» (это и было бы полным исчерпанием нигилизма); тогда люди, наконец, научились бы тому, что значит «хранить верность земле», – и тем самым преодолели бы нигилизм.
Бог умер, но, согласно поставленному философом диагнозу, осталась закоснелость смирения, и «неслыханное», к которому призывает Ницше, должно заключаться в избавлении от этой закоснелости, в прорыве к опьяняющему, эйфорическому принятию дионисийской жизни. Главное дли Ницше – придать статус святости земному существованию. Именно в этом видит он отличие своего учения от обычного, «трезвого» нигилизма. Современный нигилизм утрачивает потусторонний мир, не обретая мира посюстороннего. Ницше же хочет показать на примере искусства, что можно приобретать, даже когда теряешь. Все виды экстаза, восторга, небесного упоения, все особо интенсивные чувства, которые ранее сопрягались исключительно с потусторонним миром, отныне должны сконцентрироваться на земной жизни. Нужно сохранить силы, потребные для трансцендирования, но перевести их в плоскость имманентного. Уметь преодолевать любые барьеры и при этом «хранить верность земле» – вот чего ожидает Ницше от своего «сверхчеловека», человека будущего. Сверхчеловек, каким он видится Ницше, свободен от религии, но не от сознания того, что он ее потерял; он как бы вобрал религию в себя. Поэтому и учение Ницше о «вечном возвращении того же самого» не отмечено печатью пессимизма, усталости от мира. Время, движущееся по кругу, не опустошает жизнь, показывая бессмысленность и тщету человеческих деяний; напротив, по Ницше, мысль о «вечном возвращении того же самого» делает земное существование еще более насыщенным; Ницше предлагает человеку свой императив: ты должен проживать каждый миг так, чтобы без боязни желать его повторения. Da capo![328]
Однако вернемся к Хайдеггеру. Он следует за Ницше, когда тот критикует идеализм и даже когда призывает «хранить верность земле». Но дальше их пути расходятся. Хайдеггер полагает, что Ницше со своей философией «воли к власти» как раз и не смог остаться верным земле. Для Хайдеггера «хранить верность земле» значит: будучи вовлеченным в сущее, не забывать о бытии. Ницше же, по мнению Хайдеггера, исходя из принципа воли к власти, собирает весь мир вокруг оценивающего этот мир человека. Бытие, с которым человек имеет дело и к которому сам принадлежит, в своей совокупности рассматривается как «ценность». Человек каждый раз ошибочно принимает бытие за нечто такое, что в данный момент имеет для него ценность. Ницше хотел, чтобы человек осмелился, наконец, быть самим собой, «распрямился». Хайдеггер говорит: человек не просто распрямился, но и «выдвинулся «поверх» себя»; произошло «выдвижение «поверх» себя» техники и масс, ибо только овладев техникой, массы смогут полностью превратиться в тех «последних людей», о которых писал Ницше; «моргая»[329], эти люди заползут в свои скорлупки, устроят свое маленькое счастье и будут крайне жестоко обороняться против всего, что сочтут угрозой для своей безопасности и собственности. «Человек, – продолжает свою мысль Хайдеггер, теперь уже имея в виду современное ему немецкое общество, – выдвигается «поверх» себя, мир становится предметом… Сама земля отныне может показываться только как предмет для захвата… Природа предстает повсюду… как объект технического освоения». По Хайдеггеру, основу для всего этого заложил уже Ницше, поскольку рассматривал бытие только с точки зрения эстетической, теоретической, этической и практической оценки, а значит, подходил к нему с неправильной установкой. В свете концепции «воли к власти» мир есть не более чем совокупность «условий, влияющих на самосохранение и увеличение [жизненной силы]».
«Но можно ли вообще, – спрашивает Хайдеггер, – ценить бытие выше, чем это делается, когда оно специально возводится в ранг ценности?» И отвечает: «Уже из-за одного того, что бытие признается ценностью, оно низводится до уровня условия, установленного волей к власти», и в результате «путь к познанию бытия как такового делается непроходимым».
Под «познанием бытия», как мы уже знаем, имеется в виду не познание какого-то высшего мира, а осознание неисчерпаемости действительности и изумление от того, что в ее средоточии с появлением человека разомкнулось «открытое место», где природа открывает глаза и замечает, что она есть. Познавая бытие, человек открывает самого себя как свободное пространство. Открывает, что он не пленен сущим, не «увяз» в нем. Что, находясь среди вещей, он имеет «люфт» – как колесо на ступице, которое без «люфта» не могло бы двигаться. Проблема бытия, говорит Хайдеггер, в конечном счете есть «проблема свободы».
Познание бытия становится невозможным повсюду, где индивид или целые культуры застывают, окостеневают в своих ритуалах обращения с действительностью – в теоретическом, практическом или нравственном смысле; если они оказываются пленниками собственных проектов, а значит, утрачивают сознание относительности своего отношения к бытию и силу, потребную, чтобы изменить это отношение. Речь идет об относительности того, что мы делаем, с точки зрения «великого сокровенного потока» (Хайдеггер) времени, по которому движутся, как утлые плоты, наши истины и культуры.
Выходит, что бытие вовсе не есть спасительное Нечто; бытие, если говорить без ложного пафоса, это пограничное понятие, обозначающее совокупность всех уже имевших место в действительности, только мыслимых и еще не мыслимых способов отношения к бытию. Соответственно, история бытия для Хайдеггера является исторической последовательностью основополагающих способов отношения к бытию. Во «Времени картины мира» Хайдеггер дал краткий очерк этой последовательности способов отношения к бытию – их можно также назвать культурными парадигмами. Последовательность как таковая не реализует никакого внеположного ей «высшего смысла». По мнению Хайдеггера, она скорее обусловливается игрой разных возможностей. По этому поводу в одной его более поздней работе говорится: «Бытие… не имеет под собой никакой твердой основы, оно [играет] как бездна… Один прыжок – и мышление оказывается втянутым в эту игру, где на кон поставлена наша человеческая сущность».
Мышление о бытии было в представлении Хайдеггера таким «игровым» движением самораскрытия навстречу необъятному горизонту возможных способов отношения к бытию. Поэтому бесполезно искать у Хайдеггера ответа на вопрос, что же такое бытие: это значило бы требовать от него определения чего-то такого, что само по себе является горизонтом всех возможных определений. А поскольку вопрошание о бытии есть не что иное, как открытие такого горизонта, смысл вопрошания заключается вовсе не в том, что на него может быть получен ответ. Одна из хайдегтеровских формул, опровергающих предположение, что люди в конце концов все-таки найдут ответ на вопрос о бытии, приводится в лекциях о Ницше: «Бытие есть отказ… (Mit dem Sein ist es nichts…)» (Европейский нигилизм, 174). Это означает: бытие не есть Нечто, за которое можно было бы «держаться». В отличие от фиксирующих какие-то взгляды и дающих ощущение надежности мировоззрений, оно способно растворить в себе, сделать текучим и неопределенным абсолютно всё. Вопрошание о бытии должно помешать миру превратиться в застывшую «картину мира». Когда Хайдеггер заметил, что само понятие «бытие» может быть воспринято в качестве одной из картин мира, он завел привычку писать это слово через ипсилон (Seyn, «Бытиё»), а если иногда и писал нормально, то непременно подчеркивал его (Sein).
По мнению Хайдеггера, даже Ницше был одним из философов «времени картины мира».
И действительно, мышление Ницше кажется образцом закрытости – особенно в той его части, что связана с доктриной «вечного возвращения того же самого». Эта доктрина упраздняет временное измерение, потому что предполагает замыкание времени в круг; а между тем сам Ницше, следуя Гераклитовой концепции «становления», намеревался мыслить в категориях времени. В этом, может быть, и состоит суть противоположности между учениями обоих философов: Ницше мыслит время в связи с динамикой воли к власти, но в учении о «вечном возвращении» «закругляет» временной вектор, вновь обращая его к бытию. Хайдеггер же пытается до конца продумать мысль о том, что смысл бытия есть время. Ницше выводит бытие из времени; Хайдеггер же, напротив, выводит время из бытия.
Японскому философу Нисиде[330] принадлежит красивая метафора: все религии, смысловые системы, культуры суть всего лишь непрочные плоты, которые люди сооружают прямо в открытом море и потом в течение какого-то недолгого срока плывут на них сквозь время. Ницше, как думал о нем Хайдеггер, опьяненный своей новаторской исследовательской работой и торжествовавший, потому что ему удалось-таки соорудить плот, как-то упустил из виду вздымавшиеся в открытом море волны. Это было забвением бытия. Сам же Хайдеггер не хотел совершать подобной ошибки и потому, вопрошая о бытии, тем самым постоянно напоминал себе о переменчивости судьбы.
Однако на самом деле, как заметил Карл Лёвит в одной критической статье по поводу хайдеггеровских лекций о Ницше, это еще большой вопрос, кто из них двоих, Хайдеггер или Ницше, мыслил более радикально и открыто, а кто пытался укрыться под «перекрытиями» общих понятий. Ведь все-таки для Ницше его всеохватная концепция «дионисийской» жизни была отнюдь не прочным арочным перекрытием, не «несущей опорой», а, напротив, той бездной, что грозит поглотить все наши «аполлоновские» постройки, возводимые с целью самозащиты. Может быть, именно Ницше мог бы предъявить Хайдеггеру упрек в том, что тот недостаточно радикально преодолевал свою потребность в надежном укрытии. Может, хайдеггеровское «бытие» показалось бы ему всего лишь декорацией в духе Платона – большим миром на заднем плане, само присутствие которого защищает и укрывает в потаенности наш маленький мир.
Анализируя доктрину «вечного возвращения того же самого», Хайдеггер внезапно заговаривает о том, что Ницше утаил лучшие свои прозрения, поскольку не нашел «места для [их] развертывания» (N I, 264). И цитирует слова Ницше: «Едва поделившись с кем-то своими познаниями, человек перестает любить их так, как любил прежде».
Хайдеггер с таким пониманием комментирует молчание Ницше, что мы сразу же догадываемся – он говорит здесь и о себе самом: «Если бы мы знали только то, что опубликовал сам Ницше, то не имели бы ни малейшего представления об идеях, к которым он уже пришел, которые разрабатывал и о которых постоянно думал, но которые до поры придерживал. Только ознакомление с его рукописным наследием впервые дало возможность составить отчетливую картину» (N I, 266).
Когда Хайдеггер писал эти строки, сам он работал над рукописью, которую «до поры придерживал», продумывал мысли, время для обнародования которых, как он полагал, еще не пришло. Рукопись называлась «К делу философии» и имела подзаголовок: «О событии».
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Философский дневник Хайдеггера: «К делу философии». Хайдеггер перебирает философские четки. Большая шарманка. Малые небесные странствия. Словообилъное немотствование.
«Официальная» версия хайдеггеровской концепции бытия около 1938 года сводилась к следующему: «Бытие есть отказ…» Бытие ускользает, если мы хотим непосредственно его ухватить. Ибо все, что мы «ухватываем», именно из-за этого «ухватывания» превращается в нечто сущее. В предметы, которые мы можем ввести в систему нашего знания или систему наших ценностей, можем распределить по неким рубрикам, расчленить на составные части, использовать в качестве масштаба, сделать именами нарицательными и пустить в дальнейший оборот. Все это не есть бытие, но все это существует потому, что мы находимся в определенном отношении к бытию. Это отношение – открытый горизонт, в котором нам встречается все сущее. И смысл вопроса о бытии вовсе не в поисках Высшего Сущего, некогда именовавшегося Богом, а в том, что вопрос этот должен создать дистанцию, которая позволяла бы нам осознавать наше отношение к бытию. Однако характер этого осознания меняется. Человек замечает, что по отношению к миру он «свободен», что в нем самом открылось «свободное пространство».
В лекциях о Ницше имеется один темный намек, который наводит нас на след другой версии хайдеггеровского вопроса о бытии. «Как только человек, смотрящий на бытие, позволяет последнему захватить его, он оказывается выдвинутым «поверх» себя, то есть как бы распростертым между собой и бытием, пребывающим вне себя. Это состояние выдвинутости-поверх-себя и привлеченности-к-самому-бытию есть «эрос»» (N I, 226).
Заметки «К делу философии», которые писались между 1936 и 1938 годами и тогда не предназначались для публикации, – единственный документ, посвященный этому философскому эросу. Хайдеггер хочет оказаться «выдвинутым «поверх» себя». Выдвинутым какой силой? Силой собственных мыслительных упражнений. Выдвинутым, чтобы приблизиться к чему? На этот вопрос трудно ответить, если не впутывать в игру представления о Боге христианского Запада. И все же в заметках постоянно идет речь о Боге – правда, о таком, какого христианская традиция еще не знает. Этот Бог возникает из бытийного мышления. Бог, Который, согласно представлениям верующих, сотворил бытие из Ничто, у Хайдеггера Сам сотворен из Ничто. Его вызывает экстатическое мышление.
Читая «К делу философии», мы словно становимся свидетелями того, как Хайдеггер посредством горячечных понятий и литании из отрывочных фраз переводит себя в «иное состояние». Эти заметки – лаборатория, где изобретается новый способ говорения о Боге. Хайдеггер ставит эксперименты над самим собой, чтобы выяснить, возможно ли создать религию, не имеющую положительного учения.
Сначала Хайдеггер действует, следуя классическим образцам учреждения новых религий: «изобретение» Бога начинается с инсценировки «сумерек богов». Ложные боги должны исчезнуть, ибо нужно прежде всего освободить место для истинного Бога. С этой целью Хайдеггер повторяет свою (уже известную нам) критику мышления Нового времени. Суть его критики сводится к тому, что Бог тоже стал одним из предметов, доступных для рассудка или воображения. Но поскольку такого рода представления о Боге в Новое время поблекли, их место заняли эрзац-представления – о высшем благе, «первопричине» или о смысле истории. Все это должно исчезнуть, ибо относится к сущему, Бытиё же сможет показать себя лишь после того, как сущее будет «повержено и опрокинуто».
Итак, хайдеггеровские упражнения в мышлении о бытии начинаются с опустошения. Таким же образом надеялись познать своего Бога Мастер Экхарт и Якоб Бёме: они полагали, что Он наполняет Своей действительностью только опустошенные сердца.
Какой же Бог приходит в опустошенное мышление Хайдеггера? Философ очень осторожно приоткрывает свою тайну. «Отважимся на непосредственное слово…», – пишет он; и далее: «Бытиё есть трепет перед божествованием (die Erzitterung des Gotterns)» (GA 65, 239).
Слова… Мог ли Хайдеггер думать о чем-то, когда писал подобные фразы? Он пытался – и изложил свои мысли на многих сотнях страниц. Однако Богу или Бытию (с ипсилоном или без) очень трудно показать себя, когда они не могут показать себя в качестве «нечто». Ведь, как известно, любое мышление в представлениях начинается с вопроса: «чем является то-то или то-то?», а как раз мышление о бытии, по Хайдеггеру, не должно задавать подобных вопросов. В иудейской религии, запрещающей изображать Бога, Бог все-таки является чем-то, ибо может сказать о Себе «Я»: «Я тот, кто Я есмь». Но хайдеггеровское бытие не есть трансцендентная «я-сущность», «я-образность» (Ichartigkeit). Оно – не то, что противостоит присутствию, а то, что с ним, присутствием, происходит. Чтобы избежать представления о Боге как о субстанции, Хайдеггер говорит о божествовании, понимая под этим некое событие, которое заставляет нас трепетать. То есть нет Бога или богов, а есть – божествование. Сталкиваясь с божествованием, мы не только трепещем, но переживаем целый регистр различных настроений: «страх, настороженность, растроганность, восторг, робость». Из этой «руды» «осново-настроев» (Grundstimmungen) «существенное мышление» добывает свои идеи и положения. «Если же осново-настрой отсутствует, то все превращается в натужный перестук понятий и словесных оболочек» (GA 65, 21).
Хайдеггер заполняет страницу за страницей своими мыслями о бытии, однако поскольку «осново-настрои», как он сам подчеркивает, посещают его редко и лишь на какие-то мгновения, его записи чаще всего не вытекают из настроений, а, наоборот, делаются для того, чтобы спровоцировать нужный настрой. На подобное провоцирование, по сути, и нацелена литания, о чем не мог не знать отпавший от католицизма Хайдеггер. Составление заметок «К делу философии» имело для Хайдеггера такое же значение, какое для человека верующего может иметь чтение молитв с перебиранием четок. Отсюда и формализованные повторения, напоминающие звуки шарманки, которые кажутся монотонными только тому, кого они не трогают и, соответственно, не «заставляют измениться». А Хайдеггеру важно было найти силу, способную изменить человека, и здесь шарманочная монотонность высказываний могла бы сыграть весьма существенную роль. Ведь что такое монотонные высказывания, как не высказывания, которые уже не говорят ничего нового и в которых поэтому может угнездиться немотствование? А «погружение в немотствование» (Erschweigung) Хайдеггер называет ««логикой» философии», насколько она хочет приблизиться к Бытию (GA 65, 78). Значит, не стоит удивляться тому, что Хайдеггер в одной из своих лекций о Ницше на примере Заратустры объясняет: люди, не захваченные бытием, могут воспринимать учение только под монотонные звуки арфы или шарманки (N I, 310). Говоря это, он, очевидно, имел в виду и самого себя. Он видел в наигрышах шарманки метод словообильного немотствования.
Во введении к заметкам Хайдеггер предупреждал: «Здесь ничего не описывается и ничего не объясняется; здесь говорение не противостоит тому, о чем говорится, но само есть сутепроявление Бытия (die Wesung des Seyns)» (GA 65, 4). У Хайдеггера говорит Бытиё – как прежде, у Гегеля, говорил Мировой Дух. Это смелое утверждение, и так откровенно Хайдеггер высказывал его только в своих тайных записях.
Но как именно говорит Бытиё? Вся эта торжественная литания говорения, это невнятное бормотание о «фуге истины Бытия», и о «трепетании его сущности», и о «высвободившейся мягкости, обусловленной непосредственной близостью божествования Бога богов» (GA 65, 4) – весь этот метафизический дадаизм, с точки зрения семантического содержания, не дает ничего. Что, впрочем, уже само по себе является немаловажной информацией о Боге, который все время ускользает и за которым мысль хочет последовать (которого хочет мыслить) именно в этом ускользании (Entzug). «Заметки» Хайдеггера, поскольку они напрямую обращаются к бытию, представляют собой выражение такого мышления, которое страдает от ускользания Бога. У последователей Хайдеггера этой проблемы уже не будет. Они предпочтут мыслить суше и трезвее.
Пока Хайдеггер занимается деструкцией философской традиции, его мысли остаются (даже и в дневниковых заметках) точными и ухватистыми – что, в общем, неудивительно, поскольку здесь у них есть предмет, который можно схватить. Но вот пустота, которая возникает и должна возникнуть после подобной деструкции, так ничем и не заполняется. События нового наполнения не происходит.
Это было бы еще полбеды, если бы Хайдеггер мог вернуться к вере. Однако он хочет, чтобы «событие наполнения» было произведено мыслью. Он более не занимает ту позицию, которую изложил в своем марбургском докладе «Феноменология и теология» 1927 года. Тогда Хайдеггер – вполне в духе Лютера – проводил строгое разграничение между мышлением и верой. И говорил, что вера – это не подвластное человеку событие, при котором Бог вторгается в жизнь. Мышление способно лишь зафиксировать место такого вторжения. Само же божественное событие не входит в его сферу.
И, тем не менее, в своем философском дневнике Хайдеггер берется за этот честолюбивый проект: он хочет пережить реальное присутствие Божественного исключительно посредством своего мышления. А так как в мышлении Божественное не желает принимать никакого отчетливого образа, Хайдеггеру приходится утешать себя лаконичной максимой: «Близость к последнему Богу – это уход в немоту (die Verschweigung)» (GA 65, 12). Он, подобно Иоанну Крестителю, указывает на грядущего Бога, себя же считает Его провозвестником. Ожидание Годо началось уже в философском дневнике Хайдеггера.
Подзаголовок к дневнику звучит так: «О событии». Но если быть точным, речь там идет о двух событиях. Первое – это событие Нового времени, времени «картины мира», техники, организованности, устроенности[331], короче говоря, «эпохи господства «бессмысленности»» (Европейский нигилизм, 79). Роковая взаимосвязь перечисленных феноменов свидетельствует о забвении бытия – забвении, истоки которого восходят к Платону. Второе событие – окончание Нового времени, поворот – пока только готовится в хайдеггеровском бытийном мышлении. Первое событие – это то, о чем Хайдеггер говорит (ибо верит, что, по крайней мере отчасти, уже выпутался из него). Второе событие – то, исходя из чего он говорит; событие, которое приуготовляет новую эпоху, но пока непосредственно касается только одного одинокого мыслителя; поэтому Хайдеггер и пытается создать для себя посох-подспорье, цепочку аллитераций, начинающуюся со слова «событие» и заканчивающуюся словом «одиночество»: «Событие всегда означает событие как о-своение, раз-решение, воз-ражение, от-странение, отступление, опрощение, оединствление, одиночество»[332] (GA 65, 471). Хайдеггер со своим одиноким мышлением о бытии выходит на охоту, надеясь поймать Бога. «Co-бытие, это у-своение, и его у-строение в бездонность времени-пространства есть та сеть, в которой сам зависнет [sich selbst hangt] (или: в которую сам поймается [sich selbst fangt] – почерк рукописи здесь неразборчив и допускает оба прочтения) последний Бог: чтобы разодрать ее в клочья и чтобы все закончилось его единственностью, божественной и странной, и самой чужеродной во всем сущем» (GA 65, 263).
Хайдеггер, конечно, отдавал себе отчет в странности, а то и бессмысленности такого рода высказываний. В свои лучшие мгновения он мог даже относиться к этому с иронией.
Карл Фридрих фон Вейцзеккер[333] однажды рассказал ему забавный еврейский анекдот о мужчине, который безвылазно сидит в трактире и когда его спрашивают, почему он не идет домой, отвечает: «Так ведь там моя жена!» – «Ну и что?» – «Она болтает, болтает, болтает, болтает…» – «А о чем болтает?» – «Как раз этого-то она и не говорит!» Услышав эту историю, Хайдеггер сказал: «Так оно и бывает».
Так получилось и с его философскими заметками. В них строго выдерживается членение на большие главы, но внутри этих глав преобладают разрозненные афористичные фрагменты. Сам Хайдеггер предпочитал говорить не о членении, а о «фуге». Он хотел, чтобы целое воспринималось как фуга. Фуга для двух ведущих голосов (имеются в виду оба «события»), которые звучат то одновременно, то поочередно и в конце концов затихают, растворяясь в унисоне просветленного бытия. Каждая глава отмечает определенный этап на пути приближения к новому бытию. В главе «Взгляд вперед» (Vorblick) как бы заранее мысленно обозревается весь предстоящий путь через лесную чащу к просеке, или «просвету». В главе «Отзвук» (Anklang) тематизируется бытие в стадии забвения бытия, то есть современности. В «Подачах» (Zuspiel) рассказывается, как в западной метафизике постоянно возникали предчувствия бытия, звучали его отголоски. В «Прыжке» (Sprung) содержатся размышления о том, какие самоочевидности и мыслительные штампы должны быть отброшены, прежде чем удастся сделать решающий шаг, который на самом деле будет вовсе не шагом, а именно рискованным прыжком. В главе «Основание» (Grundung) Хайдеггер возвращается к аналитике присутствия, изложенной в «Бытии и времени»; он утверждает, что в книге идет речь о том моменте, когда человек уже прыгнул и, находясь в воздухе, высматривает место, где ему лучше приземлиться. В главах «Стремящиеся к будущему» (Die Zu-kunftigen) и «Последний Бог» (Der letzte Gott) происходит что-то вроде небесного странствия. В последней главе, «Бытиё» (Das Seyn), автор еще раз – теперь уже сверху – обозревает Целое, чтобы увидеть, как далеко он выдвинулся «поверх» себя. «На какую вершину должны мы взойти, чтобы свободно обозревать человека в его сущностном бедствии?» (GA 65, 491).
Для Хайдеггера уже стало очевидно: национал-социализм не смог ничего изменить в этом «сущностном бедствии». Напротив, он сам является частью устроенности и «тотальной мобилизации» Нового времени. А «от себя» предлагает только «банальнейший сентиментализм» и «опьянение переживанием» (GА 65, 491). Однако критика Хайдеггера касается всей эпохи. Он рассматривает ее в перспективе мышления о бытии и отбрасывает даже те духовные и практические тенденции, которые противостоят национал-социализму. Целое неистинно. Делают ли те или иные мировоззрения ставку на «я», на «мы», на пролетариат, на народ; хотят ли они сохранить как ценность просветительский гуманизм или христианскую традицию; объявляют ли себя националистическими, интернационалистскими, революционными или консервативными течениями – все эти различия ничтожны, ибо в любом случае все сводится к тому, что ««субъект» (человек)» корчит из себя «центр сущего» (GA 65, 491). Это «освобождение человека к новой свободе как к уверенному в самом себе самозаконодательству» (Европейский нигилизм, 120) Хайдеггер называет либерализмом, а националистический биологизм и расизм – соответственно, «биологическим либерализмом». Если смотреть на вещи с политической точки зрения, то в ночи мышления о бытии все кошки серы. Просвет имеется только вокруг самого Хайдеггера. Хайдеггер против остального мира – таким видит он себя и таким предстает в порожденном его одиночеством двухголосье дневника.
Нельзя не заметить того обстоятельства, что Хайдеггер философствует не только «изнутри» события мышления о бытии, но и – едва ли не чаще – «о» себе самом как о факте истории бытия. На своей воображаемой сцене он видит себя в роли «искателя, хранителя, стража» (GA 65, 17). Он причисляет себя к кругу тех, кто «несет с собой высшее мужество к одиночеству, чтобы мыслить о благородстве бытия» (GA 65, 11).
Он тешится фантазиями о том, как мышление о бытии, благодаря созданию некоего союза, постепенно распространится по всему общественному организму. Ведь уже имеются – и образуют самый внутренний круг избранных – «те немногие индивиды», которые «заранее готовят среди сущего такие места и мгновения для существа бытия, в которых оно говорило бы о себе и о своем пребывании». К следующему, расширенному кругу относятся «те более многочисленные члены союза», которые захвачены харизмой великих индивидов и ставят себя на службу «преобразованию сущего». И, наконец, существуют те «многочисленные врученные друг другу (jene vielen Zueinanderverwiesenen)», которые, будучи объединены общим историческим происхождением, с готовностью позволяют вводить себя в новый порядок вещей. Это преобразование должно происходить в тиши, в стороне от «шума «всемирно-исторических» переворотов», с точки зрения Хайдеггера, вовсе не заслуживающих такого наименования (GA 65, 96). Хайдеггер рисует в своем воображении «подлинную» историю, свершающуюся потаенно, свидетелем и одновременно творцом которой является он сам.
Мы напрасно стали бы искать в философском дневнике изложения каких-то конкретных представлений о новом порядке. Хайдеггер прибегает к метафорам. «Великие философы», которые предоставляют народу духовное прибежище, подобны «высящимся горам». Именно они «дают своей стране ее высочайшие вершины и указывают на ее первичную породу. Они стоят как ориентиры и каждый из них открывает особую перспективу видения» (GA 65, 187).
Если Хайдеггер мечтает о том, чтобы, вместе со своей философией, «стоять как гора меж других гор»; если хочет привести «существенное к статичности», чтобы народ, живущий на равнине, мог ориентироваться на вершины философии, значит, и после того, как философствование Хайдеггера освободилось от опьянения политической властью, оно оставалось инфицированным идеями власти. Отсюда и образы, связанные с окаменением. В двадцатые годы Хайдеггер предпочитал метафоры совершенно иного рода. Тогда он хотел verftussigen («обратить в жидкое состояние, растопить») окаменевшее здание мышления. Теперь он желает, чтобы оно вздымалось высоко вверх, да и для собственной философии отводит место среди «гор Бытия».
Все это, собственно, противоречит той идее философии, которую Хайдеггер развивал до 1933 года. Тогда он говорил о свободной, но конечной в себе подвижности мышления, которое рождается из факта бытия-в-мире, чтобы какое-то время освещать присутствие, а потом вместе с присутствием исчезнуть. Мышление было для него событием, столь же ограниченным во времени, сколь ограничено само присутствие. Однако горные метафоры явно указывают на то, что теперь Хайдеггер хочет вписаться, вместе со своей философией, в более прочный мир. Хочет приобщиться к чему-то такому, что «выдвигается поверх» его собственного случайного существования и актуальной исторической ситуации. Это влечение к «вершинам» противоречит его философии временности. Событие возникновения просвета превращается в эпифанию, в момент свершения которой оказывается задействованной сфера, ранее именовавшаяся «вечным» или «трансцендентным». Размышляющий в одиночестве философ, который день за днем набрасывает свои заметки, уже не хочет оставаться один на один с собственными мыслями. Он пытается присоединиться – правда, уже не к политическому движению, но к грозному духу истории бытия или судьбы бытия. На воображаемой арене бытия возникают великие и неподвластные времени феномены – и он, Хайдеггер, видит себя среди них.
Итак, взгляд Хайдеггера устремлен на Великое Целое, в коем он видит и собственное отражение, – неудивительно, что его личные жизненные обстоятельства и те действительные поступки, которые он совершал в последние годы, остаются вне сферы его философского внимания. Он не подвергает себя самоанализу (который когда-то считался особой и весьма уважаемой философской дисциплиной) – или, по крайней мере, не делает этого в философском дневнике. Он обдумывает масштабную проблему кощунственного «забвения бытия» – и спокойно абстрагируется, даже не замечая этого, от собственного, малозначимого в такой перспективе, существования. Он как бы остается для самого себя в слепом пятне. Посредством своего вопрошания о бытии он надеется пролить свет на внутримирные взаимоотношения – но его собственное отношение к самому себе так и остается непроясненным.
Хайдеггер и раньше не ставил вопрос о бытии применительно к собственному вот-бытию. Правда, в письме Ясперсу от 1 июля 1935 года он упоминает о «двух занозах», которые мучают его и мешают ему работать, – «полемике с унаследованной верой[334] и неудаче ректорства», однако заметки «К делу философии» могут служить примером того, как хорошо он умел, выступая в качестве главного актера в драме истории бытия, не выставлять на обозрение себя как конкретного человека. Хабермас[335] назвал этот фокус «абстрагированием посредством приведения к сущности» (Abstraktion durch Verwesentlichung) – и в его словах содержится некая правда. В философском дневнике утрата унаследованной веры истолковывается как судьба целой эпохи, а неудача ректорства – как почетное поражение в борьбе против неистовства Нового времени.
Нравственная самооценка – может быть, для мыслителя, который видит себя на сцене истории бытия, подобные вещи представляются слишком малозначимыми, не стоящими его внимания? Или, может, унаследованный католицизм как раз и повлиял на него в том плане, что свойственное протестантам качество – предрасположенность к тому, чтобы постоянно мучить себя угрызениями совести, – осталось для него чуждым? Ясно одно: Хайдеггер, желая полностью сосредоточиться на Целом и на собственном мышлении, тщательно отделял то и другое от всего чисто личного. Потому он и мог со странным безразличием наблюдать, как воодушевившее его движение приводило, даже в его непосредственном окружении, к очень дурным последствиям, к таким вещам, которым он, собственно, не должен был бы попустительствовать: вспомним хотя бы о том, что произошло с Ханной Арендт, Элизабет Блохман или Эдмундом Гуссерлем…
Уже после 1945 года Ханна Арендт и Карл Ясперс в своей переписке пришли к выводу, что нравственная чуткость Хайдеггера, очевидно, не соответствовала уровню его страстной мысли. Ясперс пишет: «Можно ли, будучи нечистой душой – т.е. душой, которая не ощущает своей нечистоты и не предпринимает постоянных попыток вырваться из нее, а продолжает бездумно жить в грязи, – в своей неправоте созерцать чистейшее?[…] Странно, что он знает нечто такое, о чем сегодня вряд ли кто-то догадывается» (1.9.1949). Ханна Арендт отвечает: «То, что Вы называете нечистотой, я бы назвала бесхарактерностью, но в том смысле, что у него нет буквально никакого характера и определенно нет никаких особо плохих качеств. При этом он живет с такой глубиной и страстностью, которые нелегко забыть» (29.9.1949).
Однако отсутствие у Хайдеггера нравственной рефлексии – не только особенность характера, но и философская проблема. Ведь у мышления, лишенного этой способности, отсутствует и та вдумчивость, без которой невозможно действительно всерьез отнестись к «конечности» (бренности, ограниченности во времени – Endlichkeit) всего сущего, так часто заклинаемой Хайдеггером. Вдумчивость, о которой идет речь, предполагает допущение того факта, что человек может оказаться виновным – и тогда должен принять эту случайную вину как вызов для своего мышления. Но для такой старой и почтенной философской дисциплины, как размышления о себе, оценивание себя, в философских заметках не находится места. А значит, они не соответствуют идеалу «подлинной экзистенции», то есть прозрачности присутствия для него самого. Знаменитое «молчание Хайдеггера» есть внутренний уход в немоту, чуть ли не душевная черствость по отношению к самому себе. Тоже своего рода забвение бытия.
Сила мышления Хайдеггера «выдвинута поверх» его самого в двойном смысле: во-первых, она абстрагируется от совершенно заурядной личности мыслителя и, во-вторых, она его «пересиливает».
Хайдеггер, вспоминает Георг Пихт, был полон «сознания», что он «как бы разбит» непосильной для него ношей мышления. Иногда он чувствовал: «то, о чем ему приходится думать», представляет «угрозу» для него самого. Другой свидетель, Ганс А. Фишер-Барниколь, который познакомился с Хайдеггером уже после войны, пишет: «Мне казалось, что мышление овладевало этим пожилым человеком подобно тому, как это происходит с медиумами. Оно словно вещало через него». Сын философа Герман Хайдеггер подтвердил это впечатление. Отец, рассказывал он, иногда говорил ему: «Во мне думается. Я не могу этому противостоять».
Подобные высказывания можно обнаружить и в письмах Хайдеггера Элизабет Блохман. 12 апреля 1938 года он писал ей о своем одиночестве. Хайдеггер не жаловался, а принимал одиночество как неизбежное внешнее следствие того обстоятельства, что он наделен – а следовательно, и отделен от других людей – особой «способностью мыслить». «Одиночество возникает и выражается не в отсутствии к-тебе-относящегося (des Zugehorigen), а в приходе другой истины, в извержении изобилия только-отчуждающего (des Nur-Befremdlichen) и единственного в своем роде» (BwHB, 91).
В момент, когда он писал это, Хайдеггер заносил в свой философский дневник такие, например, строки: «Бытиё – это бедство-вание (Not-schaft) бога, в котором он впервые находит себя. Но почему бог? Откуда это бедствование? Потому ли, что бездна, без-основность (Ab-grund), сокрыта? Ибо есть некое пре-восходящее (eine Uber-treffung), а значит, и пре-взойден-ные (Uber-troffenen) как, тем не менее, высочайшие. Откуда же это превосходящее, без-основность, основание, бытие? В чем состоит божественность богов? Почему Бытиё? Потому, что боги? Почему боги? Потому, что Бытиё?» (GA 65, 508).
Хайдеггер помогал себе справляться с отчуждающим в собственных мыслях, приближаясь к постижению ранее не привлекавших к себе внимания «отчуждающих странностей» в произведениях великих мыслителей прошлого, например Ницше: «Вообще я только сейчас учусь именно в самом отчуждающе-странном у каждого из великих мыслителей находить опору для подлинного сближения с ними. Это помогает разглядеть пугающе-странное также в себе самом и дать ему раскрыть свою значимость, ибо очевидно, что как раз оно-то и является первоистоком того существенного, что удается – если удается» (к Элизабет Блохман, 14.4.1937, BwHB, 90).
В другом письме к Элизабет Блохман Хайдеггер рассказывает о том, что ему приходится чередовать официальную преподавательскую деятельность, вынуждающую его при изложении своих мыслей идти на определенные уступки (без которых эти мысли остались бы непонятными) и, значит, двигаться по чужой колее, и «возвраты в собственное и подлинное» (20.12.1935, BwHB, 87). Философский дневник в его представлении наверняка относился к самому средоточию этой сферы собственного. Однако, как уже мог понять читатель, эти заметки отражают вовсе не воображаемый диалог философа с самим собой, а нечто совсем иное: мышление бытия. Словосочетание «мышление бытия» в данном случае следует понимать как Genitivus subjectivus (родительный субъекта): то есть не автор дневника мыслит о бытии, а само бытие «овладевает» автором дневника и мыслит через его посредство. Человек присутствует здесь лишь как посредник, медиум.
Такое существование мучительно, но в игре задействовано и счастье. Бросается в глаза, что в заметках гораздо чаще, чем в других произведениях Хайдеггера, заходит речь о радости. Бытие предстает перед нами и в радости. Страх, скука и радость – из этих основорасположений складывается, согласно заметкам, триединый священный опыт познания бытия. Благодаря радости вот-бытие превращается в то небо, на котором мир и все вещи могут воссиять как достойные удивления «Что».
Чтобы сохранить в неприкосновенности это «открытое место» вот-бытия, мышление должно отступить, податься назад и лишь следить за тем, чтобы чудная прогалина не оказалась загроможденной всякого рода предвзятыми представлениями. Мышление должно оставить все сущее в покое и само успокоиться. Однако пока Хайдеггер не находит выхода из парадокса словообильного немотствования. А кроме того, ведь существует еще и традиция великих мыслителей. Целый горный массив вдается в этот Просвет. Не следует ли прежде всего снести горные вершины? Занявшись этой работой, Хайдеггер замечает, что в горах его ждут богатейшие залежи сокровищ, которые никогда прежде не извлекались на поверхность. Так происходит каждый раз, когда он пытается приблизиться к одному из «великих». Например, после двух десятилетий упорного изучения Платона Хайдеггер, в конце тридцатых годов, сказал Георгу Пихту: «Я должен Вам кое в чем признаться: структура платоновского мышления до сих пор остается для меня совершенно темной».
В письме к Элизабет Блохман от 27 июня 1936 года Хайдеггер описал стоявшую перед ним дилемму: «Кажется, что борьба за сохранение доставшегося нам культурного наследия требует от нас полнейшей отдачи; создавать что-то свое и сохранять великое – делать то и другое одновременно выше человеческих сил. И, тем не менее, такое сохранение не может быть достаточно надежным, если не опирается на новое, критическое осмысление наследия прошлого. Из этого круга нет выхода, потому-то и получается так, что собственная работа временами воспринимается как нечто важное, а потом опять вызывает полное равнодушие и представляется просто дилетантством» (BwHB, 89).
В письмах Хайдеггера Ясперсу тоже иногда проскальзывает это ощущение своего дилетантизма. Так, 16 мая 1936 года, в последнем письме, перед тем как общение между ними прервалось на добрых десять лет, Хайдеггер писал, что в сравнении с достижениями великой философии «собственные немощные потуги становятся совершенно безразличными и служат всего-навсего подспорьем» (Переписка, 231).
Однако в письмах к Элизабет Блохман и прежде всего в заметках «К делу философии» Хайдеггер выражал и совсем другое настроение – ощущение (порой даже эйфорическое) успешности и высокой значимости своего труда. В лучшие свои мгновения он верил: в нем самом совершается событие «прихода другой истины».
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Хайдеггер под наблюдением. Парижский философский конгресс 1937 года. Хайдеггер раздосадован. Мысли о возможностях достижения германо-французского взаимопонимания. «Планета охвачена огнем». Мышление и «немецкость».
«Давление внешних обстоятельств ослабевает», – писал Хайдеггер Элизабет Блохман 14 апреля 1937 года (BwHB, 90).
Обстоятельства были таковы: освободилась кафедра в Гёттингене – после того, как занимавшего ее Георга Миша, зятя Дильтея, вынудили уйти на пенсию. В июле 1935 года философский факультет Гёттингенского университета поставил имя Мартина Хайдеггера на первое место в списке кандидатов на замещение вакантной должности. В его лице, говорилось в заключении, подписанном деканом, «мы могли бы обрести одного из ведущих представителей современной немецкой философии… к тому же такого мыслителя, который готов работать в духе национал-социалистского мировоззрения».
Однако к тому времени в министерстве уже знали, что хотя Хайдеггер и продолжает поддерживать национал-социализм во всех важных политических вопросах (связанных с внешней политикой, экономикой, трудовой повинностью, «принципом фюрерства»), он отнюдь не разделяет национал-социалистское мировоззрение в целом. Поэтому министерство известило факультетское начальство о том, что собирается назначить преемником Миша профессора Хейзе из Кенигсберга. Факультет поспешно изменил первоначально предложенный список кандидатов в пользу Хейзе. Хайдеггер, хотя и не особенно заинтересованный в том, чтобы перебраться в Гёттинген, тем не менее, почувствовал себя несправедливо обойденным. В философском отношении Хейзе был его эпигоном. Ему принадлежало, например, следующее высказывание: «Итак, в философии и науке вновь встают изначальные вопросы существования. Эти вопросы возникают из-за того, что человеческое существование отдано во власть первобытных сил бытия»; вместе с тем Хейзе успел приобрести репутацию убежденного национал-социалиста, весьма искушенного во всех политико-организационных тонкостях. По назначению «сверху» он стал председателем «Кантовского общества» – крупнейшего в мире и очень авторитетного объединения философов. Именно Хейзе будет руководителем немецкой делегации на Международном философском конгрессе в Париже, в 1937 году. Но об этом мы поговорим чуть позже.
Неудача с гёттингенской кафедрой укрепила Хайдеггера во мнении, что он больше не пользуется расположением влиятельных политических кругов. И, тем не менее, в политических властных структурах кое-кто продолжал ему покровительствовать (вплоть до самого конца нацистского режима) – иначе не объяснить, как могло получиться, что в том же году берлинское министерство хотело назначить Хайдеггера деканом философского факультета во Фрайбурге. Правда, до этого дело не дошло – воспротивился новый ректор Фрайбургского университета. «Профессор Хайдеггер, – заявил он, – за время своего ректорства в значительной мере утратил доверие фрайбургских коллег. У баденского министерства образования тоже имелись с ним трудности».
Государственные инстанции хотели использовать к своей выгоде международный престиж Хайдеггера, хотя и относились к его философии все с большей настороженностью. В октябре 1935 года Хайдеггера ввели в состав комиссии, которая должна была подготовить новое издание собрания сочинений Ницше. Хайдеггера приглашали для чтения докладов за границу, и немецкие власти не чинили ему в этом плане никаких препятствий. В начале 1936 года он выступал в Цюрихе, в том же году – в Риме; в начале сороковых годов его приглашали в Испанию, Португалию и Италию. Он принял приглашения и даже сообщил темы своих предполагаемых выступлений, но так много раз переносил сроки приезда, что в конце концов, когда война перешла в заключительную стадию, осуществление этих поездок стало делом нереальным.
В начале апреля 1936 года по приглашению Итальянского института германистики Хайдеггер приехал в Рим. Первоначально планировалось, что он прочтет несколько докладов в Риме, Падуе и Милане. Однако Хайдеггер решил ограничиться Римом, пробыл там десять дней и выступил перед большой аудиторией с докладом на тему «Гёльдерлин и существо поэзии». На докладе присутствовал и Карл Лёвит, который, несмотря на свое положение эмигранта, получил приглашение от итальянской стороны. В своей автобиографии Лёвит описал эту встречу с бывшим учителем.
После доклада Хайдеггер проводил супругов Лёвит до их маленькой квартирки и был «явно смущен бедностью… обстановки». На следующее утро обе семьи отправились на прогулку во Фраскати и Тускул. Стоял солнечный день, но в общении то и дело возникали какие-то заминки и трудности. Особенно «болезненной» эта встреча, как кажется, была для Эльфриды. У Хайдеггера на груди красовался партийный значок. Лёвит: «… ему (Хайдеггеру. – Т.Б.), очевидно, и в голову не пришло, что эта свастика была неуместна, когда он проводил день в моем обществе». Хайдеггер вел себя по-дружески, но старался избегать любого намека на нынешнюю ситуацию в Германии. Лёвит же, которому именно из-за этой ситуации пришлось уехать за границу, постоянно возвращался к неприятным для Хайдеггера темам. В конце концов он заговорил о дискуссии в швейцарских журналах, которая разгорелась за несколько недель до того в связи с цюрихским докладом Хайдеггера.
Генрих Барт, брат знаменитого теолога, опубликовал в «Нойе Цюрихер Цайтунг» обзор доклада «Исток художественного творения», прочитанного Хайдеггером 20 января 1936 года, и начал свою рецензию следующим замечанием: «Мы, очевидно, должны почитать за честь тот факт, что Хайдеггер берет слово в демократическом государстве, ведь он – по крайней мере, некоторое время – считался одним из философских лидеров новой Германии. Правда, многим еще памятно, что книгу «Бытие и время» Хайдеггер «в почитании и дружбе» посвятил еврею Эдмунду Гуссерлю, а свое толкование Канта навсегда связал с памятью полуеврея Макса Шелера. Первая работа вышла в 1927 году, вторая – в 1929-м. Люди, как правило, никакие не герои – это относится и к философам, хотя, конечно, бывают исключения. Поэтому едва ли можно требовать, чтобы человек плыл против течения; и все же определенная ответственность перед собственным прошлым повышает престиж философии, которая ведь не просто наука, а когда-то слыла мудростью».
Эмиль Штайгер[336], тогда еще приват-доцент, с возмущением ответил на этот выпад: Барт, видимо, не будучи в состоянии на равных полемизировать с Хайдеггером, состряпал «политический донос», чтобы раз и навсегда опорочить его философию. Но Хайдеггер как мыслитель стоит «в одном ряду с Гегелем, Кантом, Аристотелем и Гераклитом. И осознав это, люди будут жалеть, что ему вообще приходилось заниматься повседневными проблемами, потому что всегда трагично, когда происходит смешение разных сфер; восхищаясь им, люди не позволят сбить себя с толку – точно так же, как образ прусского реакционера не мешает им испытывать благоговение перед «Феноменологией духа»». На это Генрих Барт ответил, что нельзя «разделять непроходимой пропастью философское и человеческое, мышление и бытие».
Беседуя с Хайдеггером, Лёвит объяснил, что не может согласиться ни с политическими нападками Барта, ни с защитой со стороны Штайгера; лично он считает, что причина хайдеггеровского «перехода на сторону национал-социализма заключена в самом существе его философии». Хайдеггер «безоговорочно» согласился с ним и сказал, «что основанием для его «вовлечения» в политику явилось выдвинутое им понятие «историчности»».
Историчность, по Хайдеггеру, открывает горизонт – всякий раз ограниченный – возможностей действия; в этом горизонте вынуждена двигаться и философия, если она хочет «владеть своим временем». Хайдеггер, как мы уже знаем, видел в революции 1933 года шанс, чтобы вырваться из роковой устроенности (Machenschaft) Нового времени. И даже если ко времени поездки в Рим бывший фрайбургский ректор уже начал смотреть на вещи по-другому, в разговоре с Левитом он упорно отстаивал ту точку зрения, что шанс «нового начала» еще не окончательно упущен – нужно только «продержаться достаточно долго». Тем не менее, Хайдеггер признался, что в определенной мере разочарован ходом политического развития в последние годы, и сразу же возложил на «интеллектуалов» с их вечными колебаниями ответственность за то, что перелом и прорыв в новую действительность пока не дали результатов, которых от них ждали. «Не будь эти господа слишком щепетильными, чтобы самим взяться за дело, все пошло бы по-другому, но я оказался в полном одиночестве».
Хайдеггер был по-прежнему очарован Гитлером. Он, как и многие другие, сталкиваясь с чем-то плохим, обычно думал: «Если бы об этом узнал фюрер!» Карла Левита позиция Хайдеггера разочаровала, но в то же время показалась вполне типичной: «Для немцев нет ничего легче, чем радикально поддерживать какую-то идею, а ко всему фактичному относиться индифферентно. Они готовы игнорировать все отдельные факты, чтобы тем решительнее держаться за свое восприятие целого и отделять «дело» от «личности»».
Однако по мере того, как Хайдеггер все более дистанцировался от повседневной политики, его «восприятие целого» утрачивало связь с конкретной историей. Это можно заметить и по его римскому докладу, где Гёльдерлин изображается как человек, выброшенный в пространство между «намеками богов» и «голосом народа», в то «Между, что между богами и людьми» (ЕН, 47). На земле сейчас «ночь богов», то есть боги бежали с земли и пока не вернулись. Мы живем в «оскудевшее время» и должны – так заканчивает Хайдеггер свой доклад – выстоять, бок о бок с Гёльдерлином, в «Ничто этой ночи», ибо, как говорит поэт, «… хрупкий сосуд не всегда их вынести может, / Только в избранный час бога вместит человек. / Сон о них отныне есть жизнь»[337].
Письмо Карлу Ясперсу, написанное вскоре после поездки в Рим, позволяет отчасти представить себе тогдашнее настроение Хайдеггера и, в частности, показывает, что Хайдег-гер-философ ощущал свою близость к Гёльдерлину как «поэту оскудевшего времени»: «По правде говоря, мы вправе считать, что философия, не имея авторитета, находится в превосходной ситуации, ведь теперь необходимо бороться за нее незаметно» (16.5.1936, Переписка, 232).
Хайдеггер почувствовал, что уже не пользуется, как раньше, расположением сильных мира сего, по реакции немецкой общественности на тот самый доклад о Гёльдерлине, которому с таким благоговением внимала римская публика. В журнале «Воля и власть», органе гитлерюгенда, некий д-р Кёницер позволил себе заметить, что молодежь знает Гёльдерлина «во всем его своеобразии лучше… чем профессор Хайдеггер». Хайдеггера эти слова задели больше, чем можно было ожидать от человека, внутренне настроившегося на гёльдерлиновскую «ночь богов». Он с возмущением писал одному из сотрудников другого национал-социалистского журнала: «Если, как утверждает в «Воле и власти» некий известный Вам господин, моя статья о Гёльдерлине по сути своей чужда гитлерюгендовцам, мы вряд ли можем многого ожидать от такого рода «немцев». Впрочем, один фюрер СС с большим стажем, который хорошо знает ситуацию в Марбурге, сообщил мне, что вышеупомянутый господин д-р К. еще летом 1933 года разгуливал по Марбургу как социал-демократ, зато теперь стал большой шишкой в ФБ»[338].
Не столь безобидным, как критические нападки в журнале гитлерюгенда, был другой неприятный процесс, начавшийся вскоре после возвращения Хайдеггера из Рима. 14 мая 1936 года ведомство Розенберга направило в мюнхенский филиал Национал-социалистского союза доцентов запрос относительно того, как там «оценивают личность профессора д-ра Мартина Хайдеггера».
Хуго Отт уже в наше время исследовал подоплеку этого события. Оказалось, что в ведомстве Розенберга постепенно росло недоверие к Хайдеггеру – отзывы Йенша и Крика сделали свое дело. Одним из поводов для запроса послужили слухи о лекциях, которые Хайдеггер якобы регулярно читал в монастыре Бойрон. Его подозревали в «иезуитской» подрывной работе. В письме ведомства Розенберга Союзу доцентов говорилось: «Его [Хайдеггера] философия проникнута схоластицизмом, поэтому странно было бы не предположить, что Хайдеггер может в некоторых местах оказывать немалое негативное влияние и на национал-социалистов».
Это подозрение в тайном клерикализме зародилось именно тогда, когда Хайдеггер в отзывах на магистерские и докторские диссертации (например, Макса Мюллера) несколько раз документально зафиксировал свое убеждение в том, что «христианская» философия по большому счету есть не что иное, как ««деревянное железо», явная нелепица».
Как бы то ни было, информация, предоставленная Союзом доцентов, носила, видимо, столь неблагоприятный характер, что ведомство Розенберга сочло себя обязанным 29 мая 1936 года передать досье Хайдеггера в отдел науки Главного управления имперской безопасности. В итоге Служба безопасности (СД) установила за Хайдеггером наблюдение. В «Фактах и мыслях» Хайдеггер рассказывает о том, как во время летнего семестра 1937 года в его семинаре объявился некий д-р Ханке из Берлина, который показал себя «очень одаренным и заинтересованным» человеком, а через некоторое время попросил профессора о личной беседе. В ходе этой беседы, вспоминает Хайдеггер, «он признался, что не может долее от меня скрывать: он работает по заданию д-ра Шееля[339], тогдашнего руководителя сектора СД «Юго-запад»»[340] (R, 41).
Выходит, Хайдеггер знал, что находится под наблюдением, когда в лекциях о Ницше критиковал биологизм и расизм, а значит, нельзя не согласиться с тем, что в этом случае он проявил личное мужество. Именно так воспринимали его критические высказывания и тогдашние слушатели лекций. Тем более их удивляло, что Хайдеггер, в отличие от других профессоров, всегда соблюдал гитлеровский церемониал приветствия.
В «Фактах и мыслях» Хайдеггер пишет, что с середины тридцатых годов высшие партийные инстанции всячески препятствовали его философской работе и даже пытались исключить его из научной жизни. Например, все было сделано для того, чтобы он не принимал участия в международном Декартовском конгрессе в Париже, в 1937 году. Только благодаря вмешательству французского оргкомитета конгресса ему в самый последний момент предложили присоединиться к немецкой делегации. «Все было проделано в такой форме, что для меня оказалось невозможным поехать в Париж с немецкой делегацией» (R, 43).
Однако Виктор Фариас обнаружил в Берлинском центре документации и в Потсдамском архиве документы, из которых следует, что Хайдеггер посетил Париж уже летом 1935 года, чтобы подготовить участие немецких ученых в конгрессе. Хайдеггер придавал этому мероприятию большое значение: ведь он считал Декарта основоположником философского модернизма, то есть того течения, против которого была направлена его собственная философия. Хайдеггер рассматривал будущий Парижский конгресс как арену столкновения великих сил современности, и ему очень хотелось лично ответить на этот вызов. Хайдеггер намеревался развить на конгрессе те идеи, которые несколько позже, 9 июня 1938 г., он изложил во Фрайбурге, в докладе «Основание новоевропейской картины мира метафизикой» (опубликован под названием «Время картины мира»).
Итак, Хайдеггер хотел поехать в Париж и ждал – долгое время напрасно, – что немецкая сторона пошлет его туда официально. Приглашение от соответствующей немецкой инстанции пришло слишком поздно. Фариас обнаружил письмо, которое Хайдеггер 14 июля 1937 года отправил ректору Фрайбургского университета и в котором объяснял, почему он теперь не может спешно присоединиться к немецкой делегации: «О приглашении от председателя конгресса, поступившем на мое имя полтора года назад, я еще тогда сообщил в имперское министерство воспитания[341], присовокупив указание на то, что этот конгресс, задуманный и как празднование юбилея Декарта, будет сознательно превращен в наступление приверженцев господствующего либерально-демократического представления о науке и что поэтому следует заблаговременно подумать о составе соответствующим образом подготовленной и способной к эффективному противодействию немецкой делегации. Поскольку это мое предложение осталось без ответа, я более не сообщал о многократно поступавших ко мне с тех пор повторных приглашениях из Парижа. Ведь во всем этом деле для меня важно вовсе не желание французского оргкомитета конгресса. Решающее значение для меня имеет только изначальная воля компетентных немецких ведомств – хотят ли они видеть меня в составе немецкой делегации или нет». Очевидно, Хайдеггер чувствовал себя обиженным тем, что соответствующие учреждения не связались с ним сразу, как только встал вопрос о стратегической подготовке конгресса и о составе немецкой делегации. Вероятно, он рассчитывал на то, что его пошлют в Париж в качестве руководителя делегации. Однако правительственные и партийные инстанции в середине 1936 года назначили руководителем делегации Хейзе, который в своей памятной записке, составленной в августе 1936 года, охарактеризовал предполагаемые задачи организаторов конгресса так: видимо, декартовский рационализм будет идентифицирован с понятием философии вообще. Тем самым «сегодняшние германские философские устремления» будут отграничены от аналогичных устремлений других наций и представлены как «отрицание великих европейских традиций, как выражение натуралистического партикуляризма, как предательство по отношению к духу». Обеспечить «духовную изоляцию» Германии и «духовное лидерство» Франции – такова, по мнению Хейзе, стратегическая цель планируемого мероприятия. Этому следует противопоставить нечто действенное. Немецкая делегация должна не только «представлять национал-социалистские германские духовные устремления и показывать их истинное значение», то есть не только оборонять свои позиции, но и переходить в атаку. Речь идет, писал Хейзе, о «попытке немецкого духовного наступления в европейском пространстве». Но пока, к сожалению, в новой Германии имеется очень мало философов, способных вести борьбу за «международный престиж» немецкой философии. В списке кандидатов, предложенном Хейзе, значились, в частности, Хайдеггер, Карл Шмитт и Альфред Боймлер.
Эти предложения были приняты, и весной 1937 года Хейзе обратился к Хайдегтеру, который теперь отказался участвовать в конгрессе, тем самым избавив себя от некоторых неприятных моментов. Дело в том, что делегацию составляли с учетом не только идеологических, но и расовых факторов. Гуссерлю, которого парижский оргкомитет конгресса хотел бы видеть в качестве основного докладчика, немецкие власти не позволили принять приглашение как «неарийцу». Немецкие официальные лица не без основания полагали, что выступление Гуссерля может «совершенно отодвинуть на задний план официальных членов делегации»; опасались также, что за докладом Гуссерля последуют «чрезмерные овации», которые будут истолкованы как демонстрация против немецкой делегации.
В Париж немецкая делегация приехала с воинственным настроем, многие профессора носили партийную форму. Обозреватель одной из французских газет с удивлением отмечал, что, в отличие от того, что наблюдалось на прежних международных философских конгрессах, на сей раз немецкие делегаты казались не «индивидами», а представителями некоего коллективного духа. Тот факт, что философы страны, всегда славившейся своими поэтами и мыслителями, вдруг выступили как сплоченный военизированный отряд, вызывал некоторую тревогу.
Итак, Хайдеггер остался дома и спокойно работал, желая внести собственный вклад в достижение германо-французского взаимопонимания. «Пути к разговору» – так назвал он свою статью о взаимоотношениях германского и французского духа, которая была опубликована в 1937 году в сборнике «Страна алеманнов. Книга о народе и его миссии».
Этот сборник, изданный Францем Кербером, обер-бургомистром Фрайбурга и бывшим секретарем редакции национал-социалистской газеты «Дер алеманне», появился как раз в тот момент, когда (после вступления немецких войск в демилитаризованную Рейнскую область) Гитлер пытался достичь компромисса с Францией. Однако статья Хайдеггера не предназначалась для решения актуальных пропагандистских задач. Хайдеггер, как рассказывает Петцет, охотно читал этот текст, «который казался ему чрезвычайно важным», в кругу своих друзей, а позднее включил в книгу «Опыты мышления» (D).
В этой работе идет речь о взаимопонимании между французским и немецким народами. Хайдеггер не задерживается на геополитических, экономических или военных конфликтах и противоречиях. По его мнению, «момент, переживаемый миром сейчас» поставил перед «созидающими историю западными народами» куда более ответственную задачу: задачу «спасения Запада». Такое спасение не удастся осуществить, если народы с разными стилями мышления и культуры просто будут соглашаться на компромиссы, сглаживать разделяющие их особенности и смешиваться друг с другом; каждый народ должен осмыслить свои характерные свойства и уже на этой основе внести свой особый вклад в спасение общеевропейской идентичности. Во Франции доминирует картезианство, то есть представление о том, что человек может рационально распоряжаться res extensa, «протяженной вещью» (внешним миром). В Германии, напротив, всегда в большей мере проявляло себя историческое мышление. Само по себе это противопоставление не особенно оригинально, но примечательно, что Хайдеггер рассматривает его как дифференциацию тенденций, которые на изначальной – греческой – сцене западной культуры еще не разделялись и не имели решающего значения. Платоново «бытие» и Гераклитово «становление», то есть рационализм и историчность, тогда полемически взаимодействовали в общем для них пространстве полиса, в своей совокупности образуя ту духовную идентичность, которая могла противостоять натиску азиатской стихии, окружавшей со всех сторон остров греческой цивилизации. А что такое «азиатское» «в момент, переживаемый миром сейчас»? Хайдеггер не говорит об этом прямо, но из логики его рассуждений следует, что «азиатское» наших дней – это не какая-то разновидность «варварства», а, наоборот, модернизм в той его наиболее развитой форме, которая распространилась в Северной Америке и России. Но поскольку французское картезианство как раз и является новейшим истоком этого модернизма, франко-германское сотрудничество ради спасения Запада будет отличаться характерной асимметрией. Французскому рационализму придется пройти школу немецкой историчности, точнее, школу хайдеггеровского «мышления о бытии». Ведь только приняв точку зрения этого мышления, рационализм сможет преодолеть свою иллюзию объективности и раскрыться для восприятия всего богатства истории бытия. Отсюда следует: германский дух нуждается во французском духе не в той же мере, в какой французский дух нуждается в германском. Попутно Хайдеггер дружелюбно отмечает, что французский дух ныне уже сам осознает, чего ему не хватает: а не хватает ему Гегеля, Шеллинга, Гёльдерлина… Следовательно, ему можно помочь.
У нас нет данных о том, что Хайдеггер знал философский памфлет французского неокантианца Жюльена Бенда[342] «Предательство клерков» («La trahision des clercs»). Эта книга, имевшая сенсационный успех во Франции сразу же поcле своей публикации в 1927 году, ныне читается как «опережающий ответ» французов на то приглашение к диалогу, с которым выступил Хайдеггер. По мнению Бенда, предательство интеллектуалов начинается именно в тот момент, когда они решаются вверить свою судьбу зыбучим пескам истории и пожертвовать универсальными духовными ценностями – истиной, справедливостью, свободой – ради таких иррациональных сил, как инстинкт, «народный дух», интуиция и т.п. Долг «клерков», то есть интеллектуалов (философов и литераторов), которых Бенда называет «светскими клириками», состоит в том, чтобы охранять универсальные ценности человечества от посягательств со стороны политизированного «духа времени». Кроме «клерков» никто не в состоянии это делать, ибо «миряне» волей-неволей погрязают в мирских делах и страстях. Строгий гуманистический рационализм должен устоять против пения сирен – романтических восхвалений «народного духа». Немецкий дух, говорит Бенда, со времени смерти Канта уже ничему не может нас научить; наоборот, следует предостерегать людей от контактов с ним. Бенда цитирует слова Ренана, которые звучат как опровержение Хайдеггера: «Человек не принадлежит ни своему языку, ни своему народу; он принадлежит лишь самому себе, ибо он есть свободное, а значит, нравственное существо». Жюльен Бенда убежден в том, что всякий, кто изгоняет человеческий дух с его универсальной родины и превращает в объект спора между народами, тотчас оказывается на стороне тех, кто призывает к «войне культур». Но Хайдеггер, конечно, ничего подобного не желает. Он хочет, на свой лад, выявить факторы, которые способствуют плодотворному добрососедскому сосуществованию народов. И приходит к выводу, что к таким факторам относятся «долговременная воля к друг-друга-слышанию (Aufeinanderhoren) и сдержанная мужественная приверженность собственному предназначению» (D, 21). И все же, несмотря на все его благие намерения, он уверен: «пути к разговору» неизбежно пересекутся в точке, где надо будет решать, какое отношение к бытию больше соответствует открытости самого бытия – картезианско-рационалистическое или историческое. «Уклонение от труднейшей задачи: подготовки той области, где можно будет принимать решения (eines Bereichs der Entscheidbarkeit)» (D, 20), по мнению Хайдеггера, недопустимо. И совершенно ясно, что Хайдеггер считает именно свое мышление в наибольшей степени соответствующим этой задаче. Чтобы договориться о взаимопонимании в философских вопросах, германская и французская стороны должны будут встретиться не где-то на полпути между Берлином и Парижем, а в горах Тодтнауберга…
Три года спустя после только что описанных событий развязанная Гитлером мировая война была в полном разгаре. Летом 1940 года Франция потерпела поражение. В летний семестр того же года Хайдеггер в своих лекциях о Ницше, которые назывались «Европейский нигилизм», заговорил о капитуляции Франции и сделал в этой связи ошеломляющий вывод: «В эти дни мы стали свидетелями того таинственного закона истории, что народ оказывается однажды не на уровне метафизики, выросшей из его собственной истории, причем как раз в тот момент, когда эта метафизика достигает безусловного господства. […] Недостаточно обладать танками, самолетами и аппаратурой связи; недостаточно и располагать людьми, способными такие вещи обслуживать… Требуется такое человечество, которое в самой своей основе сообразно уникальному существу новоевропейской техники и ее метафизической истине, т. е. которое дает существу техники целиком овладеть собой, чтобы так непосредственно самому направлять и использовать все отдельные технические процессы и возможности. Безусловной «механической экономике» соразмерен, в смысле ницшевской метафизики, только сверхчеловек, и наоборот: такой человек нуждается в машине для учреждения безусловного господства над Землей» (Европейский нигилизм, 130).
Это означает: Германия оказалась «более картезианской», чем родина картезианства Франция. Германии лучше, чем Франции, удалось осуществить мечту Декарта о господстве над res extensa, о покорении природы техническими средствами. «Тотальной мобилизации» (N II, 21), то есть технического и организационного овладения всем обществом и каждым отдельным индивидом, впервые удалось добиться в Германии. Именно здесь были сделаны все выводы из новоевропейской метафизики, в соответствии с которой бытие есть всего лишь пред-ставленность (Vorgestelltheit), а в конечном итоге – вы-ставленность (Hergestelltheit), или, иначе говоря, то, что «до-ставлено как имеющееся в распоряжении»[343] (Европейский нигилизм, 123). Германия победила потому, что, совершив сверхчеловеческие усилия, полностью реализовала чудовищные тенденции Нового времени. Французы же, подобно ученику чародея, хотя и начали у себя тот же процесс, но сами «не доросли» до него и потому не сумели с ним справиться. Только в тоталитарной гитлеровской Германии сформировалось «такое человечество, которое в самой своей основе сообразно уникальному существу новоевропейской техники» (там же, 130). Очевидно, имеется в виду, что здесь, в Германии, сами люди стали расходным материалом, «пушечным мясом». Во всяком случае, позже Хайдеггер со смешанным чувством ужаса и восхищения будет рассказывать о том, как один из его японских студентов записался в подразделение летчиков-камикадзе.
Еще в 1935 году, во «Введении в метафизику», Хайдеггер писал, что авангардными силами «безысходного неистовства разнузданной техники» являются Россия и Америка; теперь он считает, что Германия вырвалась на первое место и далеко их обогнала. Трудно не почувствовать по его тону, что этот факт доставляет ему определенное удовлетворение. И не вспомнить в этой связи о Дидерихе Геслинге, персонаже романа Генриха Манна «Верноподданный». Геслинг, хотя его глубоко оскорбил некий бравый лейтенант, все-таки находит нечто достойное похвалы в самой дерзости своего обидчика: «В этом нам [немцам] нет равных!» Также и Хайдеггер: Германия, по его мнению, побеждает потому, что она более последовательно, чем другие страны, реализовала чудовищные тенденции развития современной техники; и все-таки он гордится тем, что немцы достигли столь несгибаемой мощи – пусть и благодаря «забвению бытия» – и что в этом им «нет равных»!
Сыновья Хайдеггера, Йорг и Герман, были призваны в армию и с 1940 года сражались на фронте. В университетских аудиториях и помещениях для семинарских занятий теперь преобладали молодые инвалиды войны, солдаты, получавшие отпуска после госпиталей, студенты старших курсов. Росла доля студенток. Все чаще приходили похоронки и извещения о пропавших без вести.
26 сентября 1941 года Хайдеггер писал матери своего бывшего студента, погибшего на фронте: «Нам, оставшимся, трудно дается шаг к осознанию того, что каждый из многих молодых немцев, которые сегодня, движимые подлинным духом и исполненным благоговения сердцем, жертвуют своей жизнью, возможно, обретает самую прекрасную судьбу».
Но в чем заключается эта «самая прекрасная судьба», выпадающая на долю погибших? Уж не в том ли, что о них помнит Хайдеггер? Большинство убитых при жизни общались лишь с немногими друзьями; зато, как утверждает Хайдегrep, сохраненные в памяти философа, они смогут «вновь пробуждать» в грядущих поколениях «глубочайшую приверженность немцев духу и верность сердца». Но значит ли это, что война имеет какой-то смысл? Разве сам Хайдеггер не говорил в своих лекциях о Ницше, что нынешняя война есть выражение забывшей о бытии «воли к власти»?
Действительно, он постоянно повторял это в своих лекциях, как говорил и о том, что в данный исторический момент, когда происходит «свободное от каких бы то ни было иллюзий использование «человеческого материала» для нужд безоговорочно присвоившей себе все полномочия воли к власти» (N II, 333), философии грозит опасность стать совершенно излишней. Будучи «порождением культуры», философия исчезнет из общественной жизни, ибо она представляет собой не что иное, как «востребованность (Angesprochensein) самого бытия» (GA, 54, 179). Но ведь сейчас уже не осталось времени для такого рода интереса к бытию. Одно из следствий войны как раз и заключается в том, что люди в Германии теперь полагают, будто их «принадлежность к народу поэтов и мыслителей» (GA 54, 179) уже не имеет никакого значения, осталась в прошлом. Но тогда как можно считать оправданными жертвы, приносимые ради такой войны?
По мнению Хайдеггера, на этот вопрос существуют два ответа. Первый, давно известный: подлинность свершившейся человеческой жизни зависит не от нравственности или безнравственности общей ситуации, а лишь от той позиции, которую занимал человек. Это, по большому счету, и имел в виду Хайдеггер, когда в письме к матери погибшего студента восхвалял такие его качества, как «внутренний пыл» и «благоговение перед существенным», – какой бы конкретный смысл он ни вкладывал в данные выражения. Впрочем, Хайдеггер вряд ли мог думать о чем-то конкретном – ведь он даже не знал обстоятельств гибели молодого человека.
Второй ответ: жертва осмысленна в той мере, в какой осмысленна сама война. Но здесь суждения Хайдеггера теряют свою логичность и становятся шаткими. С одной стороны, он понимает войну как выражение эпохальной воли к власти (отказываясь признавать, что ответственность за развязывание войны лежит исключительно на гитлеровской Германии), а значит – в целом – как событие лишенной смысла тотальной мобилизации, характерное для Нового времени. С этой точки зрения каждая жертва должна была бы казаться ему бессмысленной. Однако после вступления в войну Америки ситуация, в представлении Хайдеггера, кардинальным образом изменилась. В лекциях о Гёльдерлине, прочитанных летом 1942 года, он сказал: «Сегодня мы знаем, что англо-саксонский мир американизма полон решимости уничтожить Европу, а значит, и нашу родину, а значит, и западное начало» (GA 53, 68).
Но где еще живо это «западное начало»? Официальная Германия явно не может быть его пристанищем, ибо в ней, как неустанно повторял Хайдеггер, победила «машинная экономика» и человек был низведен до уровня «человеческого материала».
Зато существует другая – «неофициальная», воображаемая – Германия, та, в которую верил Гёльдерлин! И язык этой другой Германии сумел сохранить дух философии в такой чистоте и неприкосновенности, как это удалось, пожалуй, только греческому языку. В лекциях о Гераклите, прочитанных в 1943 году, Мартин Хайдеггер заявил: «Планета охвачена огнем. Сущность человека под угрозой. Только от немцев – при условии, что они найдут и сберегут свою «немецкость», – может прийти всемирно-историческое сознание» (GA 55, 123). Уж не думал ли он, что эта подлинная Германия, носительница западной культуры, которую все предали, в настоящее время живет только в его собственной философии?
Видимо, так оно и было – несмотря на все заверения в том, что он не желает иметь ничего общего с «кичливым сознанием собственной призванности» (GA 54, 114). В последние месяцы войны философствование Хайдеггера вдохновляется исключительно «вспоминающей мыслью» (Andenken) о великих основоположниках: Гёльдерлине, Пармениде, Гераклите. Расхождение между его мышлением и внешними обстоятельствами увеличивается. В то время как события движутся к своему катастрофическому завершению, а преступления гитлеровского режима достигают ужасной кульминации в массовом истреблении евреев, Хайдеггер все глубже погружается в Изначальное. «Сокровенный дух Изначального в западной культуре (Der verborgene Geist des Anfanglichen im Abendland) не удостоит даже презрительным взглядом этот процесс самоопустошения Безначального, но, пребывая в отрешенности изначального покоя, будет дожидаться своего звездного часа» (GA 53, 68).
Если в 1933 году Хайдеггер связывал свои надежды на раскрытие Изначального с неким великим общественно-политическим событием, то теперь у него уже выработался иммунитет против подобных ожиданий. Под «звездным часом» он понимает взлет поэтической или философской мысли. А такая мысль до поры не имеет и не ищет опоры в тех или иных политических и общественных движениях. «Бытийное мышление чутко к неспешным знамениям неподрасчетного», – пишет Хайдеггер в 1943 году, в новом послесловии к работе «Что такое метафизика?» (ВиБ, 40). Такая мысль «не добивается никаких успехов». Она поддерживает себя лишь упованием на то, что, может быть, в одном, в другом, в третьем месте «загорится ей подобное» – и постепенно сформируется тайное братство тех, кто вышел из нынешней «мировой игры». «Мировая игра» – это выражение Хайдеггер впервые употребил в лекционном курсе 1941 года, чтобы обозначить обрушившуюся на всех великую беду. Современная «мировая игра» знает только «рабочих и солдат». Существует два способа, чтобы избежать этой «нормальной» ситуации. Один из них Хайдеггер, намекая на Эрнста Юнгера, называет «авантюризмом»: «Кого удивило бы, что в такое время, когда прежний мир трещит по всем швам, пробуждается мысль о том, что теперь единственным доступным для человека способом обрести уверенность в реальности может быть только удовольствие от опасности, «авантюра»?» (Основные понятия, GA 51, 36). Авантюрист приукрашивает забвение бытия яркими красками, собственной витальной энергией. Он очертя голову бросается в машину современности, рискуя тем, что она переломает ему кости, перемелет его в муку. Он повышает свои ставки, чтобы сделать игру более азартной.
Другим способом противостояния «мировой игре», понимаемой как роковое стечение обстоятельств, является, с точки зрения Хайдеггера, неотступность вдумчивой мысли. Раньше это называли медитированием или vita contemplati-va, «созерцательной жизнью», – но Хайдеггер не хотел использовать такого рода выражения применительно к тому, чем занимался он сам. Слово неотступность показывает, что Хайдеггер не отделял мышление от обычной, «простой» жизни. В лекциях о Гераклите 1943 года он говорит: отберите у современного человека все то, что его развлекает и поддерживает – «кино, радио, газеты, театр, концерты, бокс, путешествия» (GA 55, 84), – и он умрет от образовавшейся пустоты, потому что «простые вещи» для него уже ничего не значат. Однако для того, кто способен к вдумчивому мышлению, пустота становится возможностью «вспомнить о бытии» (GA 55, 84). Выходит, еще в разгар войны, когда планета была «охвачена огнем», Хайдеггер настраивался на главную тему своего послевоенного философствования: тему отрешенности.
Чтобы достичь состояния отрешенности посреди военной разрухи, нужно было владеть особым искусством абстрагирования от гнетущей действительности. В уже цитировавшемся послесловии (1943 года) к четвертому изданию работы «Что такое метафизика?» имеется одна темная фраза: «… бытие, возможно, бытийствует без сущего» (WM 46). В год, когда жизнь в Германии начала превращаться в ад, мысль Хайдеггера «выдвинулась» далеко за пределы сущего – так далеко, что бытие стало для него тем, чем не было никогда прежде: системой координат, не зависимой от сущего. Из следующего издания того же текста (1949 года) Хайдеггер исключит эти ненароком вырвавшиеся у него безумные слова; точнее, он просто заменит «возможно» на «никогда не», и фраза уже не будет вызывать головокружения: «… бытие никогда не бытийствует без сущего» (ВиБ, 38).
В статье о Гёльдерлине, написанной в последние годы войны, Хайдеггер, наконец, нашел адекватное определение для способа бытийствования бытия в это тяжелое время: «хаос зияния» (GA 4, 62). Тогда он уже понимал, что разверзлась бездна, чувствовал, как содрогается земля.
И в тот же период, наперекор всему, он, следуя примеру Гёльдерлина, набросал свой гимн швабской родине: «Швабка, если она мать, всегда остается «до-ома, у оча-ага». Очаг хранит бережно сберегаемый жар огня, который, вспыхивая, отмыкает воздух и свет для радости… Поэтому тот, кому приходится покидать такой дом, делает это с тяжелым сердцем» (GA 4, 23).
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Хайдеггер в «фольксштурме». Фрайбург разрушен. «Паническая идиллия»: замок Вильденштейн. Хайдеггер перед Комиссией по чистке. Ясперс о стиле мышления Хайдеггера: «несвободный, диктаторский, некоммуникативный». Отстранение от преподавательской деятельности. Франция открывает Хайдеггера. Кожев, Сартр и Ничто. Хайдеггер читает Сартра. Несостоявшаяся встреча. Визит к архиепископу. Кризис и последующее исцеление в зимнем лесу.
В ночь на 27 ноября 1944 года Фрайбург сильно пострадал в результате налета англо-американской авиации. Мартин Хайдеггер незадолго до того отошел с отрядом «фольксштурма»[344] в Эльзас: немецкое командование стягивало туда силы, чтобы воспрепятствовать переправе французской армии на правый берег Рейна. Но оказалось, что уже поздно что-либо предпринимать. «Фольксштурмисты», а с ними и Хайдеггер, вернулись домой. Хайдеггера призвали в «фольксштурм» на основании приказа фюрера от 18 октября 1944 года, в соответствии с которым призыву подлежали все мужчины в возрасте от шестнадцати до шестидесяти лет. Никакие причины для освобождения от армии не принимались во внимание, и единственным критерием годности считалась способность к физическому труду. Хайдеггер работать мог, и его признали годным к военной службе. Однако далеко не всех его коллег постигла такая же участь. Мобилизацией занимались местные партийные органы. Царила страшная неразбериха. И преподаватели с философского факультета попытались выручить Хайдеггера. По их поручению Ойген Фишер, который когда-то снискал себе дурную славу на посту руководителя берлинского Института евгеники имени кайзера Вильгельма, а потом вышел на пенсию и поселился во Фрайбурге, написал письмо фюреру имперского Союза доцентов Шеелю. Свое ходатайство об освобождении Хайдеггера от военной службы он закончил словами: «Если мы в тяжелейшее время, когда врага, находящегося в немецком Эльзасе, отделяют от нашего города какие-то пятьдесят километров, обращаемся к Вам с такой просьбой, то это – свидетельство нашей веры в будущее немецкой науки». Через три недели пришел ответ от Шееля: «Ввиду неясности ситуации я не могу ничего сделать для Хайдеггера», – но к тому времени все уже разрешилось само собой. Когда Хайдеггер вернулся после неудачной экспедиции «фольксштурмистов», в университете ему дали отпуск, чтобы он мог привести в порядок свои рукописи и укрыть их в надежном месте в окрестностях Мескирха. Однако прежде чем покинуть разбомбленный Фрайбург, уже живший ожиданием скорого прихода союзников, Хайдеггер посетил философа Георга Пихта и его жену, впоследствии известную пианистку Эдит Пихт-Аксенфельд. Хайдеггер хотел, чтобы она напоследок что-нибудь ему сыграла. Госпожа Пихт выбрала сонату Си-бемоль мажор Шуберта. Когда она закончила, Хайдеггер, обращаясь к Пихту, сказал: «Мы с нашей философией на такое не способны». Той же декабрьской ночью 1944 года он записал в гостевую книгу супругов Пихт: «Околеть и погибнуть – не одно и то же. Каждая гибель – закат (Untergang), скрыто присутствующий в восходе (Aufgang)».
Было ли околеванием или гибелью то, что происходило вокруг и от чего бежал Хайдеггер? Запись в книге для гостей оставляет этот вопрос открытым. Но полгода спустя, 20 июля 1945 года, Хайдеггер ответит на него в письме Рудольфу Штадельману, который когда-то, в «лагере науки», был его «верным оруженосцем», а потом стал деканом философского факультета в Тюбингене: «Все сейчас думают о гибели. Мы, немцы, не можем погибнуть потому, что восход нам еще только предстоит и сперва мы должны пройти через ночь».
В эти полгода, с момента бегства из Фрайбурга и вплоть до возвращения в тот же город, но уже занятый французами, Хайдеггер жил в состоянии «панической идиллии». Зимой в Мескирхе, вместе с братом Фрицем, он приводил в порядок свои рукописи. А когда наступила весна, вслед за ней в его родные края потянулся и весь философский факультет – или то, что от него еще оставалось. Дело в том, что во Фрайбурге решили эвакуировать из города некоторые подразделения университета и выбрали в качестве надежного убежища замок Вильденштейн, находившийся в горах выше Бойрона, поблизости от Мескирха. В марте 1945 года десять профессоров и тридцать студентов (в основном женщины), тяжело нагрузившись книгами, отправились – кто пешком, а кто и на велосипедах – в Шварцвальд, к истокам Дуная, и остановились в этом самом замке, который когда-то принадлежал Фюрстенбергам, а также в близлежащем Лайбертингене. От Мескирха к замку Вильденштейн – в юности Хайдеггер частенько проделывал этот путь; и вот теперь он вновь идет знакомой дорогой, чтобы в трактире у стен замка провести небольшой семинар, в то время как внизу, в долине, французские войска наступают на Зигмаринген, куда бежали остатки коллаборационистского правительства Виши… В конце мая начался сенокос. Профессора и студенты помогали крестьянам и за это получали продукты. Из Фрайбурга почти никаких вестей не было. Все знали только, что город оккупирован. К счастью, до битвы за Фрайбург дело не дошло. Внизу в долине, около монастыря Бойрон, устроили лазарет; туда ежедневно поступали раненые. А вверху, на скалах, где когда-то жили рыцари-разбойники, в свободное от уборки урожая время профессора и студенты обсуждали кантовскую «Критику чистого разума», историю Средних веков и Гёльдерлина. Гёльдерлина прежде всего. В своем гимне «Истр» Гёльдерлин воспел Верхний Дунай: «Но его зовут Истром. / Хороша его жизнь; кроны колонн лесных пламенеют / и колышутся…» Хайдеггер уже несколько раз интерпретировал это стихотворение и сейчас предложил еще одно толкование. Гёльдерлин давно стал частью его личного генеалогического древа. В лекциях 1942 года о гёльдерлиновском гимне «Истр» присутствовала такая фраза (не вошедшая в печатное издание), которую мы уже цитировали: «Может быть, Гёльдерлину, поэту, суждено было стать определяющей судьбой, побуждением к противостоянию, для некоего мыслителя, дед которого родился – в то самое время, когда создавался гимн «Истр»… – in ovili, как сказано в документе, то есть в овчарне одной крестьянской усадьбы в долине Верхнего Дуная, недалеко от берега реки, под скалами. Сокровенная история сказы-вания не знает случайностей. Все есть рок».
Из окон замка Вильденштейн можно увидеть старый Донаухаус, частью которого была та овчарня, где родился прадед Хайдеггера.
Этот странный летний семестр завершился праздником в замке, 24 июня. Окрестные жители, которых тоже пригласили, принесли с собой угощение. Во дворе замка был разыгран театральный спектакль, потом устроили танцы. Через три дня в расположенном неподалеку охотничьем домике принца Бернхарда фон Заксен-Майнинген состоялось еще одно публичное выступление Хайдеггера – последнее перед многолетним перерывом. Докладу предшествовал небольшой фортепьянный концерт. В тот раз Хайдеггер посвятил свое выступление толкованию одной фразы Гёльдерлина: «У нас все сосредоточено на духовном; мы стали бедными, чтобы быть богатыми».
Между тем в оккупированном Фрайбурге французские военные власти уже начали проводить реквизиции квартир. «Хайдеггер считается в городе нацистом (из-за его ректорства)» – этой краткой пометки в бумагах чиновника, временно исполнявшего обязанности обер-бургомистра, оказалось достаточно, чтобы уже в середине мая дом Хайдеггеров (Буковая аллея, 47) попал в «черный список». Еще не было решено, идет ли речь только о вселении в этот дом военнослужащих, или Хайдеггерам придется полностью его освободить. Им даже грозила реквизиция библиотеки. Эльфрида Хайдеггер, которой в первые недели пришлось одной вести трудные переговоры с властями, подала кассационную жалобу и просила не предпринимать никаких мер, пока не вернется ее муж.
Еще до возвращения Хайдеггера она получила от временного обер-бургомистра уведомление о том, что по распоряжению военной администрации в виду острейшей нехватки жилья «подлежат конфискации в первую очередь квартиры членов [национал-социалистской] партии», Хайдеггер же, как все знали, был членом НСДАП.
Когда Хайдеггер в начале июля возвратился из Вильденштейна домой, его положение изменилось самым драматичным образом. Всего несколько дней назад, в замке и потом в охотничьем домике, все благоговейно внимали его выступлениям – и вот теперь, вернувшись во Фрайбург, он вдруг превратился в обвиняемого. Чиновники дали ему понять, что он вполне может обойтись без библиотеки, поскольку заниматься своей профессией ему уже не придется. 16 июля Хайдеггер написал письмо обер-бургомистру – первый набросок своих самооправданий в последующие годы. «Я самым решительным образом протестую против этой дискриминации моей личности и моей работы. Почему именно я должен быть не только наказан конфискацией излишков жилой площади, но и полностью лишен моего рабочего места и подвергнут диффамации перед всем городом – я бы даже сказал, перед мировой общественностью? Я никогда не занимал никаких должностей в партии и никогда не занимался никакой деятельностью ни в ней самой, ни в каком-либо из ее подразделений. Если же в моем ректорстве хотят усмотреть некую политическую вину, то я вынужден потребовать, чтобы мне предоставили возможность оправдаться, какие бы упреки и обвинения против меня ни выдвигались и кто бы их ни выдвигал, а это значит, что я прежде всего должен получить информацию о том, что конкретно выдвигается против меня и моей общественной деятельности».
Поначалу речь шла только о доме и библиотеке. Хайдеггер пока сохранял свою должность. Но французские военные власти уже начали проводить политическую чистку. Университет, который стремился вновь обеспечить себе положение независимой корпорации, всячески пытался доказать, что способен найти в себе силы для самоочищения. 8 мая 1945 года ученый совет решил распространить внутри университета анкету и разработал набор критериев для оценки политического прошлого сотрудников. При этом должны были учитываться только самые «заметные» виды активности. Предусматривались три категории: работа на Службу безопасности, то есть доносительство; административная работа; исполнение высших руководящих и представительских функций (ректоры, деканы). Таким образом, даже само университетское начальство не сомневалось в том, что Хайдеггер должен быть привлечен к ответственности.
Однако французская военная администрация еще не признала университет самостоятельной корпорацией и потому не была готова допустить, чтобы процессом чистки занимался университетский ученый совет. Французский офицер, отвечавший за связи с немецкой общественностью, сформировал комиссию, которая должна была представлять интересы университета при военной администрации и проводить персональные расследования. В эту «Комиссию по чистке», как она теперь называлась, вошли профессора Константин фон Дитце, Герхард Риггер и Адольф Лампе. Все трое были причастны к заговору 20 июля, но почти сразу же после ареста освобождены из заключения. Кроме них, в комиссии работали теолог Алгайер и ботаник Фридрих Элькерс (друг Карла Ясперса, женатый, как и тот, на еврейке, из-за чего в последние годы жил под постоянной угрозой). Перед этой-то комиссией Хайдеггеру и пришлось держать ответ – в первый раз его вызвали 23 июля 1945 года. Комиссия была настроена по отношению к нему довольно доброжелательно. Например, Герхард Риттер попросил занести в протокол, что из доверительных бесед с Хайдеггером он знает: со времени путча Рема тот занял позицию внутренней враждебности национал-социализму. Только один из членов комиссии, Адольф Лампе, показал себя решительным противником реабилитации Хайдеггера. Экономист Лампе пострадал в период ректорства Хайдеггера: Хайдеггер тогда воспротивился продлению срока его работы на кафедре – под предлогом политической неблагонадежности.
Уже 23 июля, когда он в первый раз отвечал на вопросы комиссии, Хайдеггер понял, что, защищаясь, ему следует ориентироваться прежде всего на Лампе. Поэтому через два дня он попросил Лампе о личной беседе. Лампе потом представил комиссии подробный отчет об их встрече. Как следует из этого документа, Лампе, чтобы избежать «неприятной ситуации» и отвести от себя подозрение в пристрастности, сразу же заявил, что инцидент 1934 года, касавшийся его лично, никак не повлиял на его нынешнюю позицию. Затем Лампе повторил те претензии в адрес Хайдеггера, которые уже высказывались членами комиссии: во-первых, ректорские обращения к студентам, целиком выдержанные в духе национал-социалистской пропаганды; во-вторых, бескомпромиссное проведение Хайдеггером «принципа фюрерства»; и, в-третьих, циркулярные письма ректора к преподавательскому составу, которые, по выражению Лампе, нельзя расценить иначе как «чувствительное посягательство на ту самостоятельность, которая требуется от преподавателей и которую они должны сохранять». Международный авторитет Хайдеггера только усиливает тяжесть его проступков, потому что именно благодаря этому авторитету Хайдеггер оказал «существенную поддержку особенно опасным в то время тенденциям развития национал-социализма». В разговоре с Лампе Хайдеггер впервые выстроил ту линию самозащиты, которой будет придерживаться и в последующие годы, вплоть до интервью для еженедельника «Шпигель». Он, по его словам, поддерживал национал-социализм потому, что ожидал от этого движения примирения социальных противоречий на почве обновленного чувства национальной общности. Кроме того, ему казалось, что необходимо положить конец наступлению коммунизма. На должность ректора он позволил избрать себя лишь «с величайшим сопротивлением» и в первый год не сложил своих полномочий только потому, что хотел воспрепятствовать худшему (например, избранию ректором партийного бонзы Али). Но коллеги тогда этого не поняли и не поддержали его должным образом. С середины тридцатых годов он – прежде всего в лекциях о Ницше – публично высказывал критические замечания по поводу мышления национал-социалистов, проникнутого стремлением к власти. Партия реагировала на это соответствующим образом: засылала на его семинары осведомителей и всячески препятствовала публикации его трудов.
Лампе был возмущен отсутствием у Хайдеггера какого бы то ни было сознания собственной вины и потребовал от него «персональной ответственности». Тот, кто, подобно Хайдеггеру, проводил «принцип фюрерства», не вправе теперь выгораживать себя, ссылаясь на «происки» своих коллег и отсутствие поддержки с их стороны. Что касается позднейшей критики Хайдеггера в адрес системы, то он, Лампе, не расценивает ее как «компенсацию»; такой компенсацией могло бы быть только «публичное критическое выступление, по своей жесткости соответствующее его деятельности на посту ректора, – с принятием на себя вытекающего отсюда личного риска».
Попытка Хайдеггера оправдаться была порождена страхом. Некоторые его коллеги, скомпрометированные в той же степени, что и он сам, и, среди прочих, фрайбургский романист Хуго Фридрих, были уже арестованы французскими властями. Хайдеггер боялся, что нечто подобное может случиться и с ним. Он тревожился за свой дом, за свою библиотеку. Он заглянул в бездну – но не в бездну собственной политической вины, а в пропасть грозившей ему утраты стабильного социального положения и возможностей работы.
Отвечая Лампе, он сказал: негативное решение комиссии поставит его, Хайдеггера, «вне закона». Поэтому он и старается сделать все возможное, чтобы защитить себя и оправдаться.
Итак, Хайдеггер не продемонстрировал никакого чувства вины. Но у него и в самом деле не было этого чувства. Ибо, с его точки зрения, ситуация выглядела так: он в течение короткого времени поддерживал национал-социалистскую революцию, потому что принял ее за метафизическую революцию. Когда же она не оправдала надежд, которые он на нее возлагал, – а что это были за надежды, Хайдеггер никогда не мог точно объяснить, – он отстранился от текущих событий и стал заниматься своей философской работой, не обращая внимания на то, одобряет ли ее партия или не одобряет. Он не скрывал своего критического отношения к режиму, а выражал его в своих лекциях, и потому в меньшей степени несет ответственность за этот режим, чем подавляющее большинство его ученых коллег, которые приспособились к господствовавшей системе, но из которых никто впоследствии не был привлечен к ответственности. Что общего между ним, Хайдеггером, и преступлениями режима? Хайдеггер был искренне удивлен тем, что его вообще привлекли к ответственности. Правда, он позже признался Ясперсу (8.4.1950), что испытывал «стыд» из-за своего недолгого сотрудничества с нацизмом[345]. Но он стыдился потому, что запутался, увлекся. С его точки зрения, то, к чему стремился он сам, – прорыв, обновление – не имело почти никакой связи с тем, что в конце концов из всего этого получилось в сфере реальной политики. Тот факт, что после краткого периода своей философски мотивированной политической активности он вновь разграничил сферы политики и философии, теперь представлялся ему восстановлением чистоты его философских воззрений. Путь самостоятельного мышления, на который он вернулся и который отстаивал в своих публичных выступлениях, как ему казалось, полностью его реабилитировал. Потому-то он и не ощущал за собой никакой вины – ни в юридическом, ни в нравственном смысле.
В августе 1945 года Комиссия по чистке, вопреки мнению Лампе, дала очень мягкую оценку политическому поведению Хайдеггера. В заключении говорилось, что хотя поначалу он выразил готовность служить национал-социалистской революции и тем оправдал ее «в глазах немецкой образованной общественности», а значит, затруднил процесс «самоутверждения немецкой науки в ситуации политического перелома», с 1934 года он уже не был «наци». Рекомендации комиссии сводились к следующему: Хайдеггер должен быть досрочно отправлен на пенсию, но не снят с должности. Он сохранит право на преподавание, но его следует отстранить от участия в коллегиальных органах.
Однако ученый совет университета (пока еще не французская военная администрация) выступил против этого мягкого решения, сославшись на то, что если Хайдеггер отделается столь легким наказанием, университет не сможет принимать более строгие меры по отношению к другим скомпрометировавшим себя преподавателям. Поэтому комиссии было поручено возобновить расследование по делу Хайдеггера.
До сих пор Хайдеггер, защищая себя, надеялся на полную реабилитацию. Он хотел и в дальнейшем принадлежать к преподавательскому корпусу, иметь соответствующие права и обязанности. Но теперь он понял, что университет, чтобы не потерять доверия военной администрации, очевидно, готов превратить именно его – Хайдеггера – случай в наглядный урок для всех тех, кто сотрудничал с национал-социалистами. Его положение явно ухудшилось. И потому он сообщил о своей готовности уйти на пенсию. Он хотел только отстоять свое право на преподавание и, конечно, на получение пенсии за выслугу лет. Он предложил, чтобы комиссия запросила у Карла Ясперса отзыв о его поведении в период ректорства, и рассчитывал, что это приведет к снятию с него всех обвинений. Однако отзыв, написанный Ясперсом в рождественские каникулы 1945 года (и вновь обнаруженный, уже в наши дни, Хуго Оттом), возымел как раз обратное действие.
Ясперс сначала намеревался отказаться, но потом почувствовал, что обязан выполнить обращенную к нему просьбу, тем более что в тот зимний семестр он читал лекцию о необходимости осмысления собственной вины[346]. Если бы Хайдеггер знал содержание этой лекции, он бы наверняка не стал просить Ясперса о таком заключении. Ибо Ясперс, конечно, имел в виду и Хайдеггера, когда говорил: «Многие интеллектуалы, которые в 1933 году присоединились к новой власти, стремились обеспечить себе решающее влияние и публично выступали с заявлениями мировоззренческого характера в ее поддержку, а позднее, когда их лично оттеснили в сторону, перешли в лагерь недовольных… теперь испытывают такое чувство, будто они пострадали при нацистах и потому призваны участвовать в том, что будет дальше. Они сами считают себя антифашистами. Все эти годы существовала особая идеология таких интеллектуальных нацистов: мол, в том, что касалось духовных вопросов, они говорили объективную правду – они сохраняли традицию немецкого духа – они предотвращали разрушение – в отдельных случаях они способствовали прогрессивному развитию… Тот, кто, будучи уже зрелым человеком, в 1933 году имел внутреннюю убежденность [в правильности дела Гитлера], коренившуюся не только в политическом заблуждении, но и в особом, усиленном национал-социализмом, ощущении вот-бытия, не очистится иначе как в результате особой переплавки, которая, возможно, должна проникать глубже, чем все другие».
Связь между Ясперсом и Хайдеггером оборвалась летом 1936 года. В своем последнем письме от 16 мая 1936 года – которое, вероятно, он так и не отправил, – Ясперс благодарит Хайдеггера, только что приславшего ему свою статью о Гёльдерлине, и затем у него проскальзывает такое замечание: «Надеюсь, Вы поймете и простите, что тем не менее я молчу. Душа моя онемела, ибо в этом мире я остаюсь не с философией «без авторитета», как Вы пишете о себе, а делаюсь… но я не нахожу слова» (Переписка, 232-233).
В 1937 году Ясперса уволили из университета, запретили ему преподавать и публиковать свои работы. Хайдеггер не отреагировал на это ни единым словом. В последующие годы еврейке Гертруде Ясперс приходилось постоянно жить под угрозой депортации. На такой случай супруги всегда имели при себе ампулы с ядом.
В первые годы нацистской власти Ясперс упрекал себя в том, что не был достаточно откровенен с Хайдеггером и не вызвал его на разговор по поводу эволюции его – Хайдеггера – политических взглядов. Почему так произошло, Ясперс объясняет в письме от 1 марта 1948 года, которое осталось неотправленным: «… Я этого не сделал – из недоверия ко всякому, кто в государстве террора конкретно не выказал себя настоящим другом. Я последовал caute Спинозы[347] и совету Платона: в такие времена следует укрыться, как во время урагана[348]… Разлука с Вами терзала меня с 1933 года, но со временем, как обычно бывает, еще в тридцатые годы, эта боль почти исчезла под напором куда более чудовищных событий. Осталось лишь далекое воспоминание да изредка, снова и снова, удивление» (Переписка, 237-238).
Тот факт, что Хайдеггер обратился к нему – да и то через третьих лиц – лишь в конце 1945 года, когда сам попал в затруднительное положение, разочаровал Ясперса, ожидавшего от него разъясняющих слов непосредственно после освобождения[349]. Но ничего подобного не произошло, даже после того, как осенью 1945 года Ясперс послал Хайдеггеру номер журнала «Вандлунг», одним из издателей которого он был.
В неотправленном письме 1948 года Ясперс так комментирует свой отзыв о Хайдеггере, написанный в 1945 году: «Трезвая сдержанность этих слов не позволит Вам ощутить, что у меня на сердце. Письмо было написано с намерением высказать неизбежное и в опасной для Вас ситуации сделать все возможное, чтобы Вы могли продолжить работу» (Переписка, 237-238).
«Неизбежное», которое хотел высказать Ясперс, заключалось в следующем: в своем отзыве он сообщал, что Хайдеггер написал донос на Эдуарда Баумгартена, но, с другой стороны, посредством хороших рекомендаций и личного ходатайства помог сделать карьеру в Англии своему ассистенту д-ру Броку, еврею. Что касается антисемитизма Хайдеггера – а комиссия прямо поставила перед Ясперсом этот вопрос, – то Ясперс пришел к такому выводу: «в двадцатые годы Хайдеггер антисемитом не был», но в 1933 году он, как показывает дело Баумгартена, «в определенных рамках стал антисемитом»[350].
Решающее влияние на окончательное решение университетского ученого совета оказали следующие строки из отзыва Ясперса: «В нашей ситуации к воспитанию молодежи следует подходить с величайшей ответственностью. Нужно стремиться к полной свободе преподавания, но нельзя устанавливать ее сразу. Стиль мышления Хайдеггера, который кажется мне по сути несвободным, диктаторским, некоммуникативным, будет ныне роковым в его преподавательском воздействии. Стиль мышления представляется мне куда более важным, чем содержание политических суждений, агрессивность которых способна легко менять свое направление. Пока в преподавателе не произойдет подлинного возрождения, которое будет заметно в творчестве, его, на мой взгляд, нельзя допускать к молодежи, ныне почти беззащитной внутренне. Сначала молодежь должна прийти к самостоятельному мышлению»[351].
Итак, Ясперс в своем отзыве не ограничился оценкой внешних проявлений приверженности Хайдеггера национал-социализму, но заявил, что сам стиль философского мышления Хайдеггера может нанести вред необходимому процессу политико-нравственного возрождения Германии.
Основываясь на этом заключении, ученый совет 19 января 1946 года порекомендовал французской военной администрации лишить Хайдеггера права преподавания и уволить его из университета, сохранив за ним уменьшенную пенсию. Военная администрация в конце 1946 года согласилась с этим решением и даже еще более его ужесточила, вообще отменив с 1947 года пенсионные выплаты Хайдеггеру[352]. Правда, уже в мае 1947 года последняя мера была аннулирована.
Этому жесткому решению, как уже упоминалось, предшествовало изменение отношения к Хайдеггеру в университете и в военной администрации. Еще в начале осени Хайдеггер мог надеяться, что разбирательство закончится для него благополучно. Ведь даже французские власти, хотя уже приняли решение о конфискации его квартиры, в тот момент были настроены к нему довольно доброжелательно; он был отнесен к категории «находящихся в резерве» (disponibel), то есть считался человеком, скомпрометировавшим себя в незначительной степени, который скоро может быть вновь восстановлен в своей должности.
Но противников реабилитации Хайдеггера тревожили прежде всего сообщения и слухи о том, что Фрайбург и Тодтнауберг стали настоящими местами паломничества для французских интеллектуалов. Поговаривали даже, что на октябрь 1945 года намечена встреча между Хайдеггером и Сартром. Утверждали, будто Хайдеггеру уже предложили – с официальной стороны – прокомментировать для французских газет нынешнее положение в Германии. Так ли это было в реальности, мы скоро увидим; но уже одних слухов хватило, чтобы изменить ситуацию. Воспользовавшись ими, противники Хайдеггера, и прежде всего Адольф Лампе, в ноябре добились возобновления расследования и потребовали более жесткого решения. Аргументы Лампе сводились к следующему: если Хайдеггер полагает, что именно он призван «сказать разъясняющие и указующие путь слова», значит, этот человек либо безответственно отрицает свою вину, заключающуюся в том, что в свое время он «посредством брутального властного вмешательства поставил наш университет на путь национал-социализма», либо остается «в поистине ужасающей степени оторванным от действительности». В том и в другом случае этого философа следует, наконец, лишить возможности оказывать воздействие на умы.
Так и получилось, что университет и французская военная администрация заняли более жесткую позицию в отношении Хайдеггера именно в тот момент, когда начинался второй великий взлет его популярности – теперь уже на французской культурной сцене.
Влияние идей Хайдеггера во Франции впервые стало прослеживаться в начале тридцатых годов в связи с тем духовным течением, которому уже в конце двадцатых Жан Валь[353] и Габриэль Марсель[354] дали название «экзистенциализм». В 1929 году во Франции был опубликован новый перевод сочинений Кьеркегора, и Жан Валь, высказываясь по поводу этого издания, определил понятие «экзистенции» так: «Экзистировать значит: совершать выбор; не проявлять равнодушия; находиться в становлении; быть единичным и субъективным; бесконечно заботиться о себе самом; сознавать себя грешником; стоять перед Богом».
«Новое мышление» во Франции тридцатых годов определялось двумя идеями, которые резко контрастировали с картезианством. Одной из них была идея «экзистенции», понимаемой как телесное, конечное, расщепленное бытие, которое не имеет никакого несущего основания. Согласно этой идее, ни картезианский рационализм, ни бергсоновская интуиция не могут указать путь к обретению подлинной защищенности. Действительность утратила свой «компактный», гарантированный смысл, и человек ощущает себя брошенным среди разных возможностей, между которыми он должен делать выбор. А значит, он может стать виновным. Таким образом, идея экзистенции кладет конец фантазиям о панлогизме мира. Идея экзистенции была связана с идеей непредрешенности (Kontingenz). Согласно этой второй идее, отдельный человек осознает себя как воплощение выпавшей ему на долю случайности – в буквальном смысле. Ему «выпало на долю» определенное тело и вместе с этим телом – определенное положение в пространстве и времени. Человеку не подвластны такие вещи, а значит, он не властен изменить и большую часть прочих вещей. С человеком всегда что-то «делается» – и он не властен здесь что-то изменить – еще прежде, чем он получает возможность сделать что-то с самим собой. Идея непредрешенности означает: того, что имеется, могло бы и не быть. Человек более не может быть уверен в существовании какого бы то ни было высшего замысла, а если он все-таки уверует в таковой, ему придется перепрыгнуть через кьеркегоровскую бездну.
Идея непредрешенной экзистенции с самого начала подразумевала и идею радикально понимаемой свободы. Для христианского направления в экзистенциализме свобода означает заложенную в человеке возможность сделать выбор против Бога и Абсолюта. То есть порвать все связи между собой и Богом, собой и абсолютными ценностями. Для нехристианского же экзистенциализма свобода означает «вытолкнутость» человека в пустоту.
На формирование той французской экзистенциалистской среды (против нее, кстати, боролся уже цитировавшийся нами Жюльен Бенда), в которой мистические интерпретации вот-бытия, децизионизм с упором на идею Божественного милосердия, абсурдизм и нигилизм встречались на общей почве антикартезианства, оказало влияние еще одно духовное течение – феноменология. В двадцатые годы во Франции открыли Гуссерля и Шелера.
Если экзистенциализм сомневается в том, что в человеческой жизни и культуре имеется некая a priori гарантированная осмысленность, внутренняя согласованность, то феноменологический метод дополняет эту идеологию, помогая ее приверженцам выработать у себя особого рода «осчастливливающее» внимание к разрозненным феноменам мира. Феноменология стала во Франции искусством извлекать удовольствие из самого внимания, которое целительно уже потому, что разрушает представление об осмысленности целого. А кроме того, феноменология позволяет даже в абсурдном мире насладиться счастьем познания. Камю объяснил эту взаимосвязь между страстью к феноменологии и страданием от абсурдности мира в «Мифе о Сизифе»: лично для него мышление Гуссерля так притягательно именно потому, что отказывается от единого объясняющего принципа и описывает мир в его беспорядочном разнообразии. «Мыслить – означает заново научиться смотреть, направлять сознание на предметы, ставить каждый очередной образ, на манер Пруста, в привилегированное положение»[355]. Когда Реймон Арон[356], который учился в Германии и познакомился там с феноменологией, в начале тридцатых годов рассказал своему другу Сартру о своих феноменологических «опытах», Сартр мгновенно увлекся новой идеей. Так значит, спросил он, есть некая философия, позволяющая философствовать обо всем – вот об этой чашке, о ложке, которой я помешиваю чай, о стуле, об официанте, ждущем моего заказа? Слухи о феноменологии – а поначалу ничего кроме слухов о ней до Франции не доходило – побудили Сартра зимой 1933 года отправиться в Берлин, чтобы там изучать Гуссерля. Позже он скажет о феноменологии: «Уже много столетий в философии не было и следа столь реалистического течения. Феноменологи вновь окунули человека в мир, вернули всю весомость его страхам и горестям, как и его бунтам».
В этой экзистенциалистско-феноменологической среде с начала тридцатых годов начинает оказывать свое влияние и философия Хайдеггера.
В 1931 году во французских философских журналах появились доклады Хайдеггера «О существе основания» и «Что такое метафизика?». Это были первые переводы его работ. В 1938 году за ними последовал сборник избранных произведений Хайдеггера, в который вошли две главы из «Бытия и времени» (о заботе и о смерти), одна глава из книги «Кант и проблема метафизики» и статья «Гёльдерлин и сущность поэзии».
Однако своей популярностью у парижской интеллигенции Хайдеггер был обязан не столько этим немногочисленным переводам, сколько легендарным лекциям о Гегеле, которые читал в 1934-1938 годах русский эмигрант Александр Кожев[357].
Роже Каюа[358] позже говорил об «абсолютно необычном интеллектуальном господстве» Кожева «над целым поколением». Батай[359] вспоминал, что каждая встреча с Кожевым оставляла его «сломленным, перемолотым, убитым десять раз подряд: подавленным и прижатым к земле». Реймон Арон включал Кожева в число трех истинно великих умов (наряду с Сартром и Эриком Вейлем), с которыми ему довелось встретиться в своей жизни.
Александр Владимирович Кожевников – таково было его подлинное имя – происходил из родовитой дворянской семьи и после Октябрьской революции в 1920 году бежал в Германию. Он жил продажей контрабандно вывезенных из России остатков семейных драгоценностей. Он также владел несколькими картинами своего дяди Василия Кандинского, под залог которых брал ссуды. Он учился и написал габилитационную работу у Ясперса в Гейдельберге – и все эти годы вел философский дневник на тему «Философия несуществующего». Друг Кожева Александр Койре, тоже русский эмигрант, в начале тридцатых годов уговорил его переехать в Париж. Кожев познакомился с ним, когда вступил в любовную связь с женой его брата, после чего молодая женщина бросила своего мужа. Родня поручила Александру Койре добиться возвращения беглянки домой. Но на него первая же встреча с «обидчиком» произвела столь сильное впечатление, что он заявил родственникам: «Девочка права. Кожев куда лучше моего брата».
Кожев впал в нужду – во время биржевого кризиса он потерял все свое состояние, вложенное в акции плавленого сыра «Корова, которая смеется», – и потому предложение прочитать лекции о Гегеле в Практической школе высшего образования пришлось для него как нельзя более кстати.
Кожев, этот Набоков европейской философии, представил Гегеля таким, каким его прежде не знали: Гегель, о котором он говорил, был неотличимо схож с Хайдеггером.
Каждому знакомы слова Гегеля: «Все действительное – разумно». Гегеля считали рационалистом. Теперь же Кожев показал: все, чем занимался Гегель, было направлено на то, чтобы выявить неразумный исток разума – чтобы обнаружить этот исток в борьбе за признание. Каждое «я» стремится к тому, чтобы другой признал его в его бытии таким, каково оно есть. Кожев подхватил хайдеггеровское понятие забота и, соединив его с концепцией Гегеля, превратил в «заботу о признании». Историческая реальность, возникающая из этой заботы о признании, есть кровопролитная борьба людей, которая порой ведется из-за смехотворных поводов: люди ставят на кон свою жизнь, чтобы, например, передвинуть границу, защитить то или иное знамя, получить сатисфакцию за нанесенное оскорбление и т. д. Гегель не нуждается в том, чтобы его ставили с головы на ноги[360]: он уже стоит на ногах и идет через грязь истории. В сердцевине разума скрывается непредрешенность, и именно «непредрешеннос-ти» столь часто вступают друг с другом в кровавые столкновения. Это и есть история.
Вслед за Гегелем и, как он сам говорит, вместе с Хайдеггером Кожев задает вопрос: в чем смысл всего бытия? И вместе с Хайдеггером отвечает: во времени. Однако действительность времени проявляется не таким способом, каким проявляется действительность преходящих вещей, которые тоже стареют и имеют свое время существования. Только человек способен пережить, понять, как нечто существующее чуть позже перестает существовать, а то, чего только что не существовало, вдруг вступает в бытие. Человек есть открытое место в бытии, то «видное место», где бытие опрокидывается в Ничто, а Ничто – в бытие.
Самые волнующие пассажи лекций Кожева – те, где идет речь о смерти и Ничто. Кожев утверждал: тотальность действительности включает в себя «человеческую, или говорящую, действительность», что означает: «Без человека бытие оставалось бы немым; оно было бы здесь, но не было бы правдой». Однако необходимой предпосылкой этой «открывающей действительное речи» (Кожев) является то, что человек хотя и имеет отношение к компактной всеобщей связи бытия – но вместе с тем оторван, отрезан от нее. Только потому он и может – заблуждаться. Кожев формулирует тезис в духе Гегеля: человек есть «заблуждение, которое удерживает себя в вот-бытии, длящемся в действительности» (151); и затем интерпретирует это положение в соответствии с Хайдеггером: «…поэтому можно также сказать, что человек, который заблуждается, есть ничтожащее в бытии Ничто». Основание и источник человеческой действительности есть «Ничто»; оно манифестирует и открывает себя «как отрицающее или творческое, но свободное и осознающее самое себя деяние» (267).
В заключение Кожев еще раз цитирует Гегеля: «Человек есть эта ночь, это пустое ничто, которое содержит все в своей простоте, богатство бесконечно многих представлений… Это – ночь, внутреннее природы, здесь существующее – чистая самость… Эта ночь видна, если заглянуть человеку в глаза – в глубь ночи, которая становится страшной; навстречу тебе нависает мировая ночь»[361] (268).
Эти положения обозначили переход от «Бытия и времени» к «Бытию и ничто».
Сартр не слышал лекций Кожева, но раздобыл их конспекты. Зимой 1933/34 года он изучал в Берлине Гуссерля и Хайдеггера и так углубился в это занятие, что едва ли вообще замечал приметы нового национал-социалистского режима.
То, что завораживало Сартра в феноменологии, было, во-первых, ее внимание к плотному, обольстительному и в то же время пугающему присутствию вещей. Феноменология вновь привлекла внимание к упорно не поддающейся решению загадке бытия-в-себе. Во-вторых, по контрасту с этим, она обострила чувствительность к внутреннему богатству сознания, снова выявляла целый мир бытия-для-себя. И в-третьих она, как казалось, пусть смутно, но обещала каким-то образом снять внутреннее напряжение этой двойной онтологии – напряжение между бытием-в-себе и бытием-для-себя.
Это бытие-в-себе природных вещей, которое, если взглянуть на него с феноменологической точки зрения, раскрывается в своем «сверхвластительном», отрицающем всякий смысл присутствии, Сартр в конце тридцатых годов превосходно охарактеризовал в романе «Тошнота» (в отрывке, вскоре причисленном к классическим образцам описания опыта переживания непредрешенности): «Итак, только что я был в парке. Под скамьей, как раз там, где я сидел, в землю уходил корень каштана. Но я уже не помнил, что это корень. Слова исчезли, а с ними смысл вещей, их назначение, бледные метки, нанесенные людьми на их поверхность. Я сидел ссутулившись, опустив голову, наедине с этой темной узловатой массой в ее первозданном виде, которая пугала меня. И вдруг меня осенило»[362]. Рассказчик, Рокантен, был поражен тем, что увидел вещи без связи и значения, которые навязывает им сознание, – они просто стояли, «голые бесстыдной и жуткой наготой»[363]. На его глазах они «выставляли себя напоказ друг другу, поверяя друг другу гнусность своего существования»[364]. Существование («экзистенция») означает здесь просто наличность и непредрешенность. «Суть его (существования. – Т. Б.) – случайность… ни одно необходимое существо не может помочь объяснить существование: случайность – это не нечто кажущееся, не видимость, которую можно развеять; это нечто абсолютное, а стало быть, некая совершенная беспричинность. Беспричинно все – этот парк, этот город и я сам. Когда это до тебя доходит, тебя начинает мутить и все плывет…»[365] То, что Рокантен пережил в парке, резко контрастирует с бытием, проникнутым разумной речью. Вся сцена представляет собой литературную композицию, наглядно демонстрирующую утверждение Кожева: «Без человека бытие оставалось бы немым; оно было бы здесь, но не было бы правдой». Рассказчик ощущает себя вещью среди вещей, ему кажется, что он вдруг оказался отброшенным к вегетативному бытию-в-себе: «… я был корнем каштана». Всем своим телом он чувствует бытие – тяжелое, непроницаемое Нечто; и это заставляет его в страхе броситься назад, в мир сознания, бытия-для-себя, чтобы там ощутить странную нехватку бытия. «Человек есть бытие, посредством которого ничто приходит в мир»[366], – говорит Сартр в «Бытии и ничто», опираясь на идеи Кожева и Хайдеггера.
Сартр рассматривал этот свой большой философский труд, опубликованный в 1943 году, как продолжение фундаментальной онтологии, начатой Хайдеггером. То, что Хайдеггер называет присутствием, у Сартра, который пользовался гегелевско-кожевской терминологией, именуется бытием-для-себя. Человек – это такое существо, которое не покоится в бытии как несомненная данность, но пребывает в неудобном, сомнительном положении, ибо ему всегда приходится самому и заново устанавливать, проектировать, избирать свое отношение к бытию. Человек реален, и все же всегда должен сперва удостоверить свою реальность, реализовать себя. Он пришел в мир, но должен сам и каждый раз заново приносить себя в мир. Сознание, это осознанное бытие, всегда является и нехваткой бытия, говорит Сартр. Человек никогда не сможет покоиться в себе так, как покоятся в себе какой-нибудь бог или камень. Отличительный признак человека – трансцендентность. Говоря здесь о «трансцендентности», Сартр, конечно, имеет в виду не царство сверхчувственных идей. Речь идет о самотрансцендировании, о том движении, в процессе которого «я» постоянно ускользает от самого себя, всегда оказывается впереди себя – озабочиваясь чем-то, размышляя, вбирая в себя взгляды других. В этой части сартровского анализа нетрудно распознать учение Хайдеггера о таких экзистенциалах, как бро-шенность, проект и забота. Отличие лишь в том, что Сартр владеет еще более впечатляющим искусством описания этих феноменов. Сартр следует за Хайдеггером и там, где описывает временность человеческого бытия. Человеческое бытие обладает особым, «привилегированным» доступом ко времени, и именно это обстоятельство не позволяет ему оставаться таким, каково оно есть. «Привилегированный доступ» означает: человек не плавает во времени так, как, скажем, рыба в воде, а сам реализует время, «временит» его. Это время сознания, говорит Сартр, «есть ничто, проникающее в целостность как фермент распадения последней»[367].
Книга Сартра действительно представляет собой творческое продолжение феноменологического анализа присутствия, предпринятого в «Бытии и времени», причем в центре внимания на этот раз оказывается недостаточно освещенная у Хайдеггера сфера Для-другого (хайдеггеровского со-бытия, Mit-Sein). Правда, Сартр использовал несколько иную терминологию, что привело к серьезным недоразумениям и бурным дискуссиям, а Хайдеггеру, вначале одобрительно отозвавшемуся об идеях Сартра, впоследствии дало повод отмежеваться от них. Сартр, например, употребляет термин «экзистенция» в традиционно-картезианском смысле. «Экзистенция» означает для него эмпирическое наличие чего-то, в противоположность такому образу, который существует только в сознании. То есть Сартр применяет это понятие в том значении, в каком Хайдеггер использует термин наличное. Соответственно, утверждая, что человек «экзистирует», Сартр имеет в виду следующее: человек замечает, что он прежде всего просто наличествует и что, далее, частью его судьбы является необходимость как-то относиться к собственному наличествованию. Он должен в связи с этим что-то предпринять, составить для себя проект и т.п. В этом смысле и надо понимать сартровскую фразу из доклада «Экзистенциализм это гуманизм», прочитанного в 1946 году: «… экзистенция предшествует «эссенции», сущности»[368]. Но хайдеггеровское понятие «экзистенция» в «Бытии и времени» как раз не подразумевает эту чистую наличность, фактичность, а обозначает транзитивный смысл экзистирования, то есть отношение к самому себе: то, что человек не просто живет, а должен «вести» свою жизнь. Сартр, естественно, тоже учитывал это отношение к самому себе, которое Хайдеггер называл экзистенцией, только называл данный феномен по-другому – бытием-для-себя. Сартр, как и Хайдеггер, рассуждая о человеке, пытался преодолеть метафизику наличности, но использовал другую терминологию. Как и Хайдеггер, Сартр подчеркивал, что речь о человеке всегда подвергается опасности самоопредмечивания. Человек же не заключен в замкнутый шар бытия, а является эк-статическим существом. Поэтому Сартр понимал свою философию и как феноменологию свободы. Подобно Хайдеггеру, Сартр полагал, что способность человека стремиться к истине укоренена в его свободе. Истина, говорил Хайдеггер во «Введении в метафизику» 1935 года, есть свобода – и ничто иное. Книга Сартра «Бытие и ничто» была написана и издана в оккупированной нацистами Франции. В тончайшей вязи своих рассуждений Сартр разворачивает целую философию антитоталитаризма. Для тоталитарного мышления человек есть не более чем вещь. Фашист, говорит Сартр в эссе «Размышления о еврейском вопросе», – это тот, кто «хочет быть непроницаемой скалой, неистовым потоком, испепеляющей молнией, всем, чем угодно – только не человеком»[369]. Философия Сартра возвращает людям их достоинство, потому что благодаря ей человек открывает для себя свою свободу как такой элемент, в котором «размораживается», переходит в текучее состояние всякое застывшее бытие. В этом смысле книга является апофеозом ничто, но «ничто» понимается здесь как творческая сила ничтожения. Все дело в том, чтобы суметь сказать «нет» тому, что отрицает тебя самого.
К осени 1945 года слава Сартра успела распространиться далеко за пределы Франции, а слава Хайдеггера уже добралась до порога этой страны. В ту осень Хайдеггер принимал у себя французских гостей: юного Алена Рене[370], будущего кинорежиссера, и Фредерика де Товарницки.
Товарницки, молодой солдат из Рейнской дивизии и уполномоченный по вопросам культуры во французской военной администрации, прочитал хайдеггеровский доклад «Что такое метафизика?» и решил посетить Хайдеггера во Фрайбурге. У него созрел дерзкий план: организовать встречу между Хайдеггером и Сартром. Товарницки поговорил с людьми из окружения Хайдеггера, и те уверили его, что в период своего ректорства Хайдеггер защищал преподавателей-евреев. Товарницки рассказал об этом Сартру, тем самым разрушив те мотивы, которые ранее мешали французскому философу согласиться на подобную встречу. Хайдеггер, со своей стороны, попросил Товарницки помочь ему восстановить контакты с французскими коллегами (его письмо профессору философии из Сорбонны Эмилю Брие осталось без ответа) и признался, что с работами Сартра не знаком, разве только по нескольким небольшим статьям о его творчестве. Товарницки на время одолжил Хайдеггеру французский экземпляр «Бытия и ничто». Хайдеггер сразу же погрузился в чтение этой книги. Товарницки потом вспоминал, что из разговоров с Хайдеггером понял, какое сильное впечатление
произвело на его собеседника сартровское искусство описания. Хайдеггер, например, пришел в восторг от того пассажа, где Сартр философствует о лыжных прогулках. Сартр выбрал эту тему, чтобы показать, как конкретные «средства»[371], или «техники», становятся основаниями, определяющими то или иное восприятие мира. Например, савоец, который бегает на лыжах французским способом, воспринимает горные склоны по-другому, чем норвежец: «… будут использовать или норвежский способ, более пригодный для покатых склонов, или французский, более пригодный для крутых склонов. Один и тот же склон окажется или более крутым, или более покатым…»[372] Пофилософствовать о катании на лыжах – такая мысль приходила в голову и самому Хайдеггеру (по свидетельству Германа Мёрхена, относящемуся к марбургскому периоду), но он не решился на это, – во всяком случае, в его опубликованных работах ничего подобного нет.
Хайдеггер был заинтересован во встрече с Сартром. Конечно, он, помимо прочего, надеялся, что эта встреча будет косвенно способствовать снятию с него обвинений (как раз в то время в Комиссии по чистке рассматривалось его дело).
Итак, Товарницки заручился согласием как Хайдеггера, так и Сартра. Он даже хотел пригласить на эту встречу Камю, но тот отказался, сославшись на пресловутое ректорство Хайдеггера.
В конечном итоге встреча все-таки не состоялась. Сначала вышла заминка с получением въездных документов, потом не нашлось места в поезде – так, во всяком случае, объясняет тогдашние обстоятельства Товарницки, который в 1993 году опубликовал (в переводе на французский) письмо Хайдеггера Сартру, написанное 28 октября 1945 года, то есть уже после упущенной возможности. Теперь мы располагаем и немецкоязычной копией этого письма, обнаруженной Хуго Оттом.
Хайдеггер пишет о том, какое впечатление произвела на него книга Сартра: «Здесь мне впервые встретился самостоятельный мыслитель, который от самого основания постиг ту сферу, изнутри которой я мыслю. Ваша работа проникнута таким непосредственным пониманием моей философии, какого мне еще нигде не доводилось встречать». Хайдеггер прямо говорит, что принимает сартровское «акцентирование бытия «Для-другого» (Fur-einandersein)», и даже соглашается с критикой Сартра по поводу «экспликации смерти» в «Бытии и времени» (Сартр отмечал, что хайдеггеровская идея бытия-к-смерти прикрывает скандал смерти, ее абсурдность и абсолютную случайность; по словам Сартра, смерть «может лишь отнять у жизни всякое значение»[373]). Но и различия во взглядах не поколебали желание Хайдеггера «вместе с Вами», как он пишет Сартру, «вновь привести мышление к такой точке, начиная с которой оно, как таковое, будет восприниматься в качестве основополагающего события истории и поставит современного человека в изначальное отношение к бытию». Хайдеггер далее пишет, что заранее очень радовался предстоящей встрече в Баден-Бадене и сожалеет, что она не состоялась. Возможно, им обоим следовало проявить больше энергии и настойчивости. «Было бы хорошо, если бы ближайшей зимой Вы смогли хоть раз приехать сюда. Мы бы вместе философствовали в нашей маленькой лыжной хижине и из нее отправлялись на лыжные прогулки по Шварцвальду». Хайдеггер закончил свое письмо патетическим образом двух братьев-Диоскуров, занимающихся мышлением о бытии: один из них берется за дело со стороны ничто, другой – со стороны бытия. «Необходимо с величайшей серьезностью осознать миг, ныне переживаемый миром, и выразить его в слове, перекрыв все чисто партийные разногласия, модные течения, научные направления, чтобы наконец пробудилось решающее понимание того, как бездонно-глубоко в сущностном Ничто скрывает себя богатство бытия».
О серьезности хайдеггеровского отношения к Сартру, отношения, в котором смешивались признание идей французского коллеги, чуть ли не восхищение им и даже надежда на совместную работу, свидетельствует личная запись Хайдеггера от 5 октября 1945 года (она опубликована в приложении к книге «Кант и проблема метафизики»). Ее стоит процитировать – тем более что до сих пор ей почти не придавали значения: «Воздействие на Сартра имеет решающее значение; только здесь «Бытие и время» впервые понято» (К, 251).
Сартр так и не приехал в «лыжную хижину». Оба философа встретились только в 1952 году, во Фрайбурге. Но прежде Хайдеггер публично выступил с критикой сартровского экзистенциализма, сформулировав ее в «Письме о гуманизме». Об этом речь пойдет позже.
Обмен философскими идеями через границу между Германией и Францией поначалу никак не улучшил положение Хайдеггера; скорее, как мы уже говорили, слухи об этом общении напугали противников немедленной реабилитации бывшего фрайбургского ректора.
В конце 1945 года, когда Хайдеггер понял, что дела его обстоят неважно, но еще надеялся, что будет освобожден от обвинений благодаря отзыву Ясперса, он разыскал и другого близкого знакомого из прежних времен – фрайбургского архиепископа Конрада Грёбера, духовного наставника своих юных лет. В начале периода нацистского господства Грёбер был в числе самых ревностных сторонников «национального возрождения» и принимал деятельное участие в подготовке конкордата с Ватиканом. Но позже он изменил свою позицию консервативного католика и стал противником политического и идеологического приспособления к режиму. Поэтому после 1945 года Грёбер пользовался авторитетом у чиновников из французской военной администрации. Хайдеггер подумал, что архиепископ мог бы ему помочь, и в декабре 1945 года отправился с визитом в его официальную резиденцию. В приемной, как рассказывает Макс Мюллер, разыгралась такая сцена. Вошла сестра архиепископа и, увидав Хайдеггера, воскликнула: «Ах, Мартин снова у нас! А ведь уж годков десять как не приходил». Хайдеггер смущенно ответил: «Мари, я за это тяжко поплатился. Со мной теперь все кончено». Грёбер сразу же, еще до окончания рождественских праздников, написал письмо французским властям. Письмо это до сих пор не обнаружено, но тот факт, что архиепископ действительно ходатайствовал о возвращении Хайдеггера в университет, подтверждается ответным письмом сотрудника военной администрации, где, в частности, говорится: «… вернуть Хайдеггера в университет будет трудно, если нынешний ректор выскажется против. Но, в любом случае, я сделаю все, что в моих силах, поскольку Вы (Грёбер. – Р. С.) ручаетесь за этого человека». Вмешательство Грёбера не могло преодолеть сопротивление университета. Но самому архиепископу визит Хайдеггера доставил чувство глубокого удовлетворения. 8 марта 1946 года, в отчете о политической ситуации в Германии, подготовленном для одного из сотрудников папы Пия XII, Грёбер писал: «Философ Мартин Хайдеггер, мой бывший ученик и земляк, ныне уволен на пенсию и лишен права преподавания. В настоящее время он находится в санатории Баден под Баденвейлером и, как я слышал вчера от профессора Гебзаттеля, совершенно замкнулся в себе. Для меня было большим утешением, когда он, едва на него обрушилось несчастье, пришел ко мне и явил своим поведением поистине назидательный пример. Я сказал ему правду, и он принял ее со слезами на глазах. Я не прерываю с ним отношений, так как уповаю на то, что в нем произойдет духовный перелом».
Хайдеггер действительно весной 1946 года переживал полный упадок физических и духовных сил и проходил курс психосоматического лечения у барона Виктора фон Гебзаттеля, врача и психолога, который принадлежал к школе «Dasein-анализа»[374], основанной Л. Бинсвангером, – к одному из психоаналитических направлений, инспирированных философией Хайдеггера. Последователем этой школы был, кстати, и позднее подружившийся с Хайдеггером Медард Босс.
Собственные свидетельства Хайдеггера о пережитом им кризисе и пребывании в санатории довольно невнятны. Петцету он говорил, что ему стало плохо во время «инквизиторского допроса» в декабре 1945 года (на самом деле это, скорее всего, случилось в феврале 1946-го). Затем появился декан медицинского факультета Берингер и отвез его в Баденвейлер к Гебзаттелю. «И что же тот сделал? Для начала просто поднялся со мной через заснеженный зимний лес к синеве неба. Больше он ничего не делал. Но он по-человечески мне помог. И через три недели я вернулся домой здоровым».
Хайдеггер снова был здоров, однако на какое-то время вокруг него образовалась полоса отчуждения. Многие из тех, кто заботился о своей политической репутации, сочли за лучшее по возможности с ним не общаться. Роберт Хайс[375], благожелательно настроенный к Хайдеггеру коллега по факультету, в июле 1946 года писал Ясперсу: теперь уже для всех очевидно, «что г-н Хайдеггер отправляется в своего рода изгнание; можно сказать, он пожинает то, что посеял».
Какие же плоды он пожинал? Ему пришлось горько расплачиваться за свою политическую активность в 1933 году. Но тем философским семенам, которые он посеял, предстояло еще раз мощно взойти.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Что мы делаем, когда мыслим? Ответ Сартру. «Письмо о гуманизме». Ренессанс гуманизма. Неверная нота – чересчур высокий тон. Жизненные обстоятельства в послевоенной Германии. От «заместителя Ничто» к «пастуху бытия». Хайдеггер интерпретирует собственный путь: «поворот». «Не делайте себе кумиров»: запрет на образы человека и Бога.
Что, собственно, мы делаем, когда мыслим?
Мы мыслим, чтобы подготовить наше действие и чтобы потом его проконтролировать. В этом двойном смысле мы и мыслим о нем. Хотя мышление в обоих случаях относится к действию, само оно представляет нечто отличное от него. Но поскольку мышление все-таки относится к действию, значит, именно в действии оно обретает свой смысл, реализует себя, иначе зачем вообще понадобилось бы мыслить?
Однако разве нельзя помыслить такое мышление, цель которого заключалась бы в нем самом? Мышление, не нацеленное на внеположный ему результат? Мышление, которое реализует себя посредством себя самого? Которое «захватывает» человека таким образом, что тому становится как-то не по себе, и потом, когда все заканчивается, человек этот с недоумением протирает глаза и возвращается – может быть, неохотно, а может, и с облегчением – на почву так называемых фактов. У Э.Т.А. Гофмана есть история о некоем помешанном на «реальности» педанте, который, прослушав симфонию, спросил восторгавшегося ею соседа: «И что же, сударь, это нам дает…?» Так существует ли мышление, по отношению к коему этот вопрос был бы столь же неуместен?
Хайдеггер убежден, что к такого рода мышлению можно отнести его собственное: оно, «в отличие от наук», не ведет «ни к какому знанию», не приносит «никакой полезной жизненной мудрости», не разгадывает «никаких мировых загадок», не дает, «в непосредственном смысле, никаких сил для действия» (WHD, 161).
Так что же это за особая склонность, побуждающая использовать способность к мышлению как-то иначе, нежели просто применяя ее для познания и действия?
В «Письме о гуманизме» Хайдеггер пересказывает записанный Аристотелем анекдот о Гераклите. Чужеземцы захотели посетить Гераклита, чтобы увидеть, как живут мыслители и как они выглядят, когда мыслят. Но они застали его греющимся у печи. Они остановились в растерянности, и прежде всего потому, что он их, колеблющихся, еще и подбадривал, веля им войти со словами: «Здесь ведь тоже присутствуют боги!» (Письмо о гуманизме, 215).
Хайдеггер прочитывает этот анекдот как справку о том, что представляет собой «дело мысли». Имеется некое «обыденное и незаманчивое обстоятельство»: кто-то продрог и греется у печи. То, что «и здесь тоже» присутствуют боги, означает: они присутствуют не только в особых местах и там, где совершаются особые действия, но и в повседневном. Однако только там, где это повседневное подлинно осмысливается. Осмыслить что-то – значит вернуть этому «что-то» его достоинство. Боги присутствуют в кухне постольку и столь долго, поскольку и на сколько времени Гераклит дает им слово. По Хайдеггеру, «давать слово» сущему – это и значит мыслить. Сущее извлекается из своей замкнутости и в открывающем пространстве речи превращается в «это есть». Таков первый аспект мышления. Гераклит, греющийся у печи, согревает себя и чужеземцев еще и по-другому – словом. Слово открывает нечто и приглашает чужеземцев войти. Второй аспект мышления: оно есть сообщение, предназначенное для того, чтобы открытую словом ситуацию разделить – с другими.
Когда Хайдеггер в «Письме о гуманизме» (написанном в 1946 году) пытался осмыслить, что же представляет собой мышление, сам он находился в ситуации человека, подвергающегося гонениям. Анекдот о Гераклите, возможно, вспомнился ему и потому, что напоминал о его собственных жизненных обстоятельствах. Теперь он тоже довольствовался малым, жил в бедности. И, вероятно, тоже пользовался для обогрева печкой. Во Фрайбурге топливо исчезло, а «хижина» в Тодтнауберге, поблизости от которой всегда можно было нарубить дров, нуждалась в серьезном ремонте. Для зимы она уже не годилась; стройматериалы же, чтобы привести ее в порядок, взять было неоткуда. И все же Хайдеггер жил там с весны до поздней осени. Уж больно тесно стало во фрайбургской квартире после подселения новых жильцов. Да и с продовольствием наверху, в Шварцвальде, было легче. Помогали окрестные крестьяне.
Многое угнетало Хайдеггера. Позорное изгнание из университета, ожидание обоих сыновей, все еще не вернувшихся из русского плена… Но, несмотря на гнетущие обстоятельства, философская мысль Хайдеггера по-прежнему сохраняла тот странный отрешенный настрой, который стал ее отличительной особенностью в последние военные годы.
Реакция Хайдеггера на принятые против него дискриминационные меры была совершенно иной, чем, например, реакция Карла Шмитта. Правда, «главный юрист» Третьего рейха, в свое время несравненно глубже, чем Хайдеггер, вовлеченный в преступную деятельность системы, соответственно и пострадал потом гораздо сильнее. И он тоже потерял свое место, и его библиотека была конфискована, но он сверх того был в течение года (с сентября 1945-го по октябрь 1946-го) интернирован, а во время Нюрнбергского процесса находился в предварительном заключении (апрель-май 1947-го). В конце концов формальное обвинение Шмитту предъявлять не стали и он смог уехать в родной Плеттенберг. Когда он уже покидал следственную тюрьму, между ним и Робертом Кемпнером, представителем обвинения, состоялся примечательный диалог. Кемпнер: «Ну и что же Вы теперь собираетесь делать?» Карл Шмитт: «Уйду в безопасность молчания». Но это молчание не было отрешенным. Как свидетельствуют его записи 1947-1951 годов («Глоссарий»), Карл Шмитт неустанно занимался самооправданиями, многословно жаловался на свою судьбу «загнанного зверя». Он видел себя пророком Ионой, извергнутым из чрева Левиафана. Он с гневом обрушивался на «нюрнбергских обличителей» и с издевкой писал: «Преступления против человечности совершались немцами. Преступления во имя человечности – в отношении немцев. Вот и вся разница». Более всего Шмитт презирал тех, кто участвовал в «показных стычках между проповедниками покаяния». Свое неприятие процесса денацификации он обосновывал так: «Кто хочет исповедаться, пусть сходит к священнику». Для общественности он избрал позу героического молчания, а в своих записках жаловался на то, что лишен пространства, где его слово могло бы обрести резонанс, и вынужден кричать «с сорванным голосом». И все же лучше, писал он, принадлежать к истязаемым, а не к «самоистязателям».
Хайдеггера, впрочем, тоже не назовешь «самоистязателем». Он, скорее, вживался в роль «мудреца с гор», который в широкой перспективе описывает безобразия Нового времени, попутно включая в эту панораму и преступления национал-социализма, но не выделяя их как особый предмет исследования. В этом смысле реакция Хайдеггера отличалась и от реакции, скажем, Альфреда Боймлера, который хоть и писал (в своем дневнике): «Публично объявлять меня «виновным» это, как я считаю, недостойно и бессмысленно», – но тем более строго судил себя судом своей совести. Боймлер поставил себе диагноз: склонность уклоняться от трудностей запутанной и противоречивой истории, прибегая к «абсолютным» идеям народа, фюрера, расы, исторической миссии. Вместо того чтобы искать подлинной «близости к вещам», он увлекался «далекими перспективами», которые были насилием над действительностью. В такой позиции нашла выражение немецкая «отсталость от Запада (оторванность от мира)» (160), которую Боймлер в другом месте называет «абстрагированием в неопределенное (Abstraktion ins Unbestimmte)» (160). В политических делах, утверждает он, следовало бы сдерживать стремления к возвышенному. Боймлер предписывает себе курс отрезвляющего лечения и в конце концов приходит к тому, что начинает ценить достоинства демократии. Демократия, по его мнению, есть «противоположность возвышенного». Она не вдохновляется грандиозными перспективами на будущее, но зато «целиком совпадает с настоящим»; она не уверена ни в каких исторических задачах и обходится в своей жизни одними «вероятностями» (174). Под впечатлением катастрофы, в том числе и личной, Боймлер приступил к усвоению трудного для него урока: он учился мыслить о политическом, не прибегая к метафизике.
Хайдеггер, в отличие от Карла Шмитта, мыслил без жалости к себе и без агрессивного сознания собственной правоты; с другой стороны, его мышление не было и таким политически-ориентированным и самокритичным, как у Альфреда Боймлера.
Первый опубликованный документ, который дает представление о его размышлениях после 1945 года, – эссе «Письмо о гуманизме», написанное в 1946 году как открытое письмо Жану Бофре, главному пропагандисту идей Хайдеггера на французской философской сцене послевоенного времени. Бофре, как он сам рассказывает, 4 июня 1944 года, то есть в тот самый день, когда по радио сообщили о высадке союзников в Нормандии, испытал сильнейшее переживание, связанное с Хайдеггером: он впервые его понял! И этот миг принес ему такое счастье, в сравнении с которым померкла даже радость по поводу приближающегося освобождения Франции. Когда французы вошли во Фрайбург, Бофре через одного офицера передал Хайдеггеру безмерно восторженное письмо: «… Да, вместе с Вами сама философия решительно освобождается от всех банальностей и облекает существенное своим достоинством…» В ответ Хайдеггер пригласил Бофре в гости. Визит состоялся в сентябре 1946 года, и этот день стал для обоих началом прочной, продолжавшейся до конца их жизни дружбы. Первым следствием этих только что завязавшихся отношений было «Письмо о гуманизме». Бофре задал Хайдеггеру вопрос: «Каким способом можно вернуть смысл слову «гуманизм»?»
Хайдеггер охотно подхватил вопрос, поскольку воспринял его как возможность ответить на эссе Сартра «Экзистенциализм это гуманизм», которое было опубликовано несколько месяцев назад и теперь повсеместно обсуждалось не только во Франции, но и в Германии. Хайдеггер и после того, как его план личной встречи с Сартром не осуществился, искал случая вступить в полемику с французским философом. После доклада Сартра, который был прочитан 29 октября 1945 года и позже лег в основу только что упомянутого эссе, сартровский экзистенциализм чуть ли не за одну ночь стал европейским культовым течением. На этот доклад в «Зале Сантро» собралось множество людей: все ждали, что нынче же вечером услышат нечто вроде экзистенциалистской энциклики. Так оно и случилось. Толкотня, рукоприкладство, штурмующие кассу поклонники, сломанные стулья… Сартру потребовалась четверть часа, чтобы проложить себе дорогу к подиуму. Затем в перегревшемся, переполненном, перевозбужденном зале он, небрежно сунув руки в карманы, начал излагать свои объяснения, которые – предложение за предложением – сразу производили впечатление законченных, более того, окончательных формулировок. У тесно прижатых друг к другу, толкавшихся, полузадохнувшихся слушателей возникало такое ощущение, что вот сейчас они слышат фразы, которые отныне будут непрестанно цитироваться. Действительно, после этого доклада – не только во Франции, но и в других странах – не проходило почти ни одного дня, в который не поминали бы Сартра или не цитировали его высказывания об экзистенциализме. Еще за несколько месяцев до того Сартр заявлял: «Экзистенциализм? Я не знаю, что это такое. Моя философия – это философия экзистенции». А уже в декабре 1945-го по рукам ходили первые популярные катехизисы экзистенциализма. В них, в частности, говорилось: экзистенциализм – что это такое? Ответ: «Будь ангажированным, увлекай человечество за собой, постоянно заново создавай самого себя, исключительно своими собственными поступками».
Предложенная Сартром чеканная формулировка – «…экзистенция предшествует «эссенции», сущности» – именно в разрушенной Германии не могла не найти отклика в мироощущении тех, кто после катастрофы оказался среди руин, но при этом сознавал, что ему все-таки удалось спастись. Тот, кто спас свою экзистенцию, что бы с ним ни случилось, мог начать все заново. И прежде всего именно в этом смысле фраза Сартра, чрезвычайно сложная с философской точки зрения, была понята и обрела популярность в послевоенной Германии. Когда Эрих Кёстнер[376], освободившись из плена, вернулся в разрушенный Дрезден, он, как рассказывается в одном из его репортажей, почувствовал, что большая часть вещей утратила всякую значимость. «В сумеречной Германии ты ощущаешь, что эссенция – это и есть экзистенция».
Своим легендарным докладом, прочитанным 29 октября 1945 года, Сартр ответил на вопрос о судьбе гуманизма в эпоху, которая только что пережила самые дикие проявления варварства. Ответ Сартра: гуманистических ценностей, на которые мы могли бы положиться уже потому, что они, как предполагается, прочно встроены в нашу цивилизацию, не существует. Чтобы они были, мы должны каждый раз в ситуации принятия решения заново их изобретать и воплощать в реальность. Экзистенциализм ставит человека перед этой свободой и связанной с ней ответственностью. Поэтому экзистенциализм – это не философия бегства от действительности, пессимизма, квиетизма, эгоизма или отчаяния. Это философия ангажированности. Сартр пустил в обращение выразительные формулировки, которые вскоре стали известны во всей Европе: «Экзистенциализм определяет человека через его действия»; «Экзистенциализм говорит человеку, что надежда заключена только в действии и что поступок – единственное, что позволяет человеку жить»; «Человек в своей жизни ангажирует себя [выбирает ту или иную позицию], он рисует себе лицо, и вне этого лица ничего нет»; «Мы покинуты, и прощения нам нет. Это я и имею в виду, когда говорю, что человек обречен на свободу».
Во Франции, как и в Германии, после 1945 года вновь стала актуальной проблема гуманизма – то есть проблема его возрождения или обновления после многих лет варварства и предательства; поэтому Сартр, а чуть позднее и Хайдеггер, сочли необходимым обратиться к ней.
Сартру приходилось защищаться от упрека в том, что именно в нынешний исторический момент, когда стало очевидно, насколько хрупки ценности цивилизации – солидарность, истина, свобода; что именно в этой опасной ситуации он еще более ослабляет этические нормы тем, что передает индивиду право самому принимать решения об их значимости. На это Сартр отвечал: раз уж мы исключили Бога, должен же быть кто-то, способный изобретать ценности. Вещи следует принимать такими, каковы они есть. Просвещение покончило со всякого рода наивностями. Мы очнулись от сна: и увидели, что находимся под пустым небом и даже не можем более полагаться на человеческое сообщество. Поэтому нам не остается ничего иного, кроме как самим, каждому в отдельности, посредством нашей деятельности привносить в этот мир ценности и защищать их значимость без благословения сверху, без того, чтобы они были легитимизированы патетическими отсылками на Бога, «народный дух» или универсальную идею человечности. Тот факт, что каждый вынужден заново изобретать для себя «человечность», означает: «Жизнь a priori не имеет никакого смысла». От каждого индивида зависит, придаст ли он жизни какой-то смысл, сделав – своими поступками – выбор в пользу определенных ценностей. На этом экзистенциальном выборе отдельного человека основывается сама возможность существования «человеческого сообщества». Каждый такой выбор является «проектом», актом преодоления некоего рубежа. Или, как говорит Сартр, «трансцендированием» (35). Человек не покоится в себе как в готовой реальности, он изгоняется из самого себя и должен каждый раз заново себя реализовывать. То, что он реализовывает, и есть его трансцендентность. Под которой следует понимать не нечто потустороннее, а совокупность всех имеющихся у человека возможностей преодоления самого себя. Трансцендентность – не что-то такое, в чем человек мог бы обрести покой; напротив, она сама есть средоточие того беспокойства, которое непрестанно подгоняет человека, не давая ему остановиться. Итак, экзистенциализм – это гуманизм, потому что «мы напоминаем человеку о том, что кроме него нет никакого иного законодателя и что он в своей заброшенности сам принимает решения о себе самом; и потому, что мы показываем: не посредством обращения к самому себе, а всегда только посредством поиска внешней по отношению к себе цели, которая может быть тем или иным освобождением, тем или иным конкретным свершением, – только таким путем человек, как гуманное существо, реализует себя» (35).
Полемизируя с этой концепцией, Габриэль Марсель – христианский гуманист, воспринявший экзистенциалистские мотивы, чьи идеи получили известность в Германии одновременно с сартровскими, – напоминал о том, что «трансцендентность» Сартра остается пустой. И это не просто философская проблема; это означает, что человек беззащитен перед лицом общественно-политических катастроф. В эссе «Что такое свободный человек?», написанном для журнала «Монат» (сентябрь 1950 года), Марсель ставит вопрос: почему несвобода смогла утвердиться в тоталитарных системах фашизма и сталинизма? Его ответ: несвобода смогла восторжествовать потому, что секуляризация не оставила человеку никаких иных устремлений, кроме стремления к осуществлению внутримирных целей. Потому-то человек не находит покоя и безоговорочно «выдан» миру, так что он со своими избыточными интенциями, трансцендирующими мир в целом, не может предпринять ничего лучшего, как только объявить мирские цели безусловно значимыми и сделать из них своих кумиров. Бог, открывавший перед нами свободное пространство выбора по отношению к действительности, превратился в кумира, которого сотворили мы сами и который теперь порабощает нас. Марсель говорит о «поклонении идолам расы и класса». Сформулированный им принцип, в соответствии с которым «человек может быть и оставаться свободным только в той мере, в какой он остается связанным с трансцендентностью» (502), вводит в игру такую трансцендентность, которая постигается в миг экстатического переживания своей отчужденности от мира. «Созидательная творческая сила», о которой Марсель говорит с не меньшим энтузиазмом, чем Сартр, порождает не только человеческую цивилизацию; она замахивается на большее, хочет не просто жить, но – больше чем жить. Только если мы останемся гражданами двух миров, мы сможем сохранить человеческий мир в его человечности.
Собственно, Габриэль Марсель напоминает о фундаментальном смысле религии. Трансцендентность – это тот ориентир, который освобождает людей от необходимости быть друг для друга всем. Ориентир, благодаря которому они могут прекратить взваливать друг на друга ответственность за «нехватку бытия» и попеременно обвинять друг друга в том, что чувствуют себя в этом мире чужими. Им также не нужно будет с таким страхом бороться за собственную идентичность, если они смогут поверить, что по-настоящему их знает только Бог. Вместе с тем понимаемая таким образом трансцендентность помогает человеку правильно подходить к миру, потому что поддерживает и даже освящает в людях сознание их чуждости этому миру. Она мешает человеку с головой погрузиться в мирские дела, напоминая ему, что на земле он всего лишь гость с ограниченным сроком пребывания. Тем самым она дает человеку мужество, потребное для осознания его бессилия, его бренности, его способности ошибаться и быть виновным. Но она также дает силы, чтобы жить с подобным сознанием, и в этом смысле представляет собой духовный ответ на вопрос о пределах того, что способен осуществить человек.
Марсель не соглашается с утверждением Сартра: «Нет никакой иной целостности, кроме целостности человеческого «я»» (35). Будь это так, мир превратился бы в ад. Недостаточно, чтобы человек переступал через самого себя, – он должен и может сделать шаг навстречу тому, чем сам он не является и чем никогда не сможет стать. Человек вправе хотеть не только самореализации; ему надо помочь вновь открыть то измерение, в котором он сможет по собственному желанию – выпасть из реальности.
В Германии первых послевоенных лет христианский гуманизм, представленный, например, такими именами, как Рейнхольд Шнайдер[377] или Романо Гвардини, прибегал к аргументации, подобной той, которой пользовался Габриэль Марсель.
Рейнхольд Шнайдер с 1938 года жил во Фрайбурге. В конце периода национал-социалистского господства он был обвинен в государственной измене. Его религиозные размышления, сонеты, рассказы переписывались от руки и расходились в тысячах экземпляров, попадали даже на фронт к солдатам. В этих произведениях Шнайдер взывал к религиозной совести, считая ее наиболее эффективным оружием в борьбе против варварства. Этому основополагающему принципу своего мышления он остался верен и после 1945 года. Действительно ли дело обстоит так, спрашивал Шнайдер в своем эссе «Неразрушимое», опубликованном в 1945 году, что ответственность за коллективные преступления ни на кого конкретно возложить нельзя? Его ответ: мы не должны допускать, чтобы политические лидеры уклонялись от ответственности, но и не должны взваливать всю вину на них одних, тем самым освобождая обыкновенных людей от необходимости какой бы то ни было самопроверки. Однако такая самопроверка может привести нас не только к комфортному сознанию, что все мы как один – грешники; если заняться ею всерьез, станет очевидно, как сильно мы нуждаемся в опыте греха. Ибо во что превращается вина перед людьми, когда все людское сообщество идет преступным путем? Тогда этой вины больше нет. Но если вина в условиях обобществления преступлений исчезает, то грех перед Богом остается. Только ориентируясь на Бога, человек может спастись от себя самого. К этому выводу Рейнхольд Шнайдер приходит на основе опыта катастрофы национал-социализма. Однако не в наших силах «установить» такого рода отношение с Богом. Бог не является нашим «проектом». Рейнхольд Шнайдер не предлагает никакого решения этой проблемы, у него нет никаких готовых политических рецептов; ему остается только одно – верить в историю, которая, может быть, обойдется с нами милосердно. «История – это мосты, которые Бог воздвигает над немыслимыми безднами. Мы должны пройти по мосту. Но каждый день мост чуть-чуть удлиняется, может быть, всего лишь на один шаг… Мы идем в иной, совершенно чуждый нам мир… История не обрывается, и все же ее преображения представляются нам крушениями…»
Как и Рейнхольд Шнайдер, Романо Гвардини хотел разглядеть проблески света в самом крушении.
Романо Гвардини (между прочим, в 1946 году в нем некоторое время видели возможного преемника Хайдеггера на кафедре философии Фрайбургского университета) опубликовал в 1950 году свою – сразу ставшую популярной – книгу «Конец Нового времени», которая базировалась на его тюбингенских лекциях, прочитанных в зимний семестр 1947/48 года.
Новое время, говорил Гвардини, развивалось в результате взаимодействия трех факторов: понимания природы как спасительной силы, понимания человеческой субъективности как автономии личности и понимания культуры как промежуточной между природой и человеком сферы, имеющей собственные законы. Все получало свой смысл от природы, культуры и субъективности. Однако с приближением конца Нового времени, то есть того процесса, свидетелями которого нам довелось быть, эти идеи начинают девальвироваться. Природа утрачивает свою спасительную силу, становится ненадежной и опасной. «Массовый» человек постепенно вытесняет человека-личность, а былое преклонение перед культурой отмирает, уступая место чувству глубокой неудовлетворенности ею. Тоталитарные системы суть не что иное, как выражение этого кризиса и ответ на него; однако вместе с тем сам кризис предоставляет нам шанс нового начала. Очевидно, человек должен сперва потерять свои природные и культурные богатства, чтобы благодаря этой «бедности» он смог снова открыть себя самого как «нагую» личность, стоящую перед Богом. Может быть, «туман секуляризации» рассеется и начнется новый день истории.
Таким образом, нельзя утверждать, что в первые годы после катастрофы немецкий гуманизм недостаточно громко заявлял о себе. Правда, ощущалась и растерянность, было много споров относительно частностей, особенно по конкретным вопросам политического переустройства, но зато широко распространилась тяга к общеевропейскому культурному наследию, из которого надеялись почерпнуть пафос нового начала. В редакционной статье, открывавшей первый номер журнала «Вандлунг» («Изменение»), Карл Ясперс в ноябре 1945 года писал: «… но уже одно то, что мы остались живы, должно иметь некий смысл. Мы собираемся с силами перед лицом Ничто… Мы потеряли далеко не все, если не промотаем, впав в ярость отчаяния, еще и то, что может стать нашим неотъемлемым достоянием: историческую почву, которой для нас является прежде всего тысячелетняя немецкая история, затем западноевропейская история и наконец история человечества в целом. Раскрывшись для восприятия человека как человека, мы сможем углубиться в эту почву, в ближайшие и в самые отдаленные воспоминания».
Уже тогда многим скептически настроенным современникам эти слова показались чересчур высокопарными, были оценены как поздний рецидив свойственного немцам «экзальтированного убожества» – феномена, о котором еще в 1935 году писал в своем эссе «Судьба немецкого духа на исходе его буржуазной эпохи» (в 1959 году оно было переиздано под названием «Опоздавшая нация») эмигрировавший в Гронинген Хельмут Плеснер. Однако как и откуда в этой Германии, которая до последнего часа хранила верность своему фюреру, на место политики ставила послушание, а теперь оказалась разделенной на оккупационные зоны, управлялась союзниками и, в общем, не особо настаивала на том, чтобы самой нести бремя политической ответственности, – как и откуда здесь могло появиться такое политическое мышление, которое не уклонилось бы тотчас же в сферу сверхграндиозных задач, но служило бы противовесом пресловутому немецкому духу, слишком часто устремляющемуся либо к горним высям, либо к самым глубинам, либо к Ничто, либо к Богу, либо к гибели, либо к возрождению?
Дольф Штернбергер[378], который вместе с Карлом Ясперсом издавал журнал «Вандлунг», очень скоро высказал свое недовольство по поводу чересчур «высокого» тона, взятого представителями духовно-политической элиты. Он видел опасность в дальнейшем сохранении нелепой привычки немецкого духа кичиться своим превосходством над политикой. И считал, что вообще неправильно рассматривать культуру и дух как некую обособленную сферу, отграниченную от политики, экономики, техники и повседневной жизни. О каких бы жизненных вещах ни шла речь, всегда следует тщательно следить за тем, чтобы к ним подходили с позиций духовности и культуры. В такого рода заботе о будничных человеческих проблемах, в попытках добиться наилучшего их решения как раз и выражается гуманизм. «Я бы, – сказал Штернбергер в 1950 году на Конгрессе в защиту культурной свободы, – со спокойной душой пожертвовал в Германии кое-чем из так называемой культуры, если бы взамен мы получили немного цивилизованности». Пусть бы стало меньше «чада и угара от бесчисленных идеалов и высших ценностей», но зато больше понимания того, что совершается у нас на глазах, больше гражданского сознания. «Не позволим завлечь себя в тупики культуры: если мы хотим защищать свободу, то должны защищать ее во всей ее определенности, целостности и неделимости, как политическую, личную и духовную свободу. Давайте культивировать свободу! Тогда все остальное само приложится» (379).
Разумеется – и Дольф Штернбергер тоже это знал – именно вокруг вопроса о культуре свободы на немецкой земле неизбежно должен был разгореться ожесточенный спор между сторонниками различных мнений и программ. Нужно ли ориентироваться на либерально-демократические принципы; следует ли выбрать социалистический, капиталистический или какой-то третий путь; что лучше – христианские ценности или радикальный плюрализм?.. Вновь и вновь Штернбергеру приходилось доказывать то, что в Германии отнюдь еще не было для всех очевидным: что подобные споры являются необходимой частью культуры, а не просто свидетельствуют о межпартийных дрязгах или о закате западной цивилизации. И что проблема заключается вовсе не в самих этих спорах, а в том, что «дух» снова хочет возвыситься над схваткой и уже готов предаться своему гностическому отчаянию, своим апокалиптическим навязчивым идеям и своим фантазиям о «сумерках человечества», за которыми должен последовать то ли закат, то ли новый рассвет.
Ситуация в Германии и в самом деле была чрезвычайно трудной для того мышления, которое, так сказать, только что спустилось на землю с горы глобальных рассуждений и теперь пыталось разобраться в запутанных конкретных проблемах. Следует ли, например, смириться с тем Судным днем, который устроили Германии победившие союзные державы, когда организовали Нюрнбергский процесс и начали проводить различные меры по денацификации? Не приведет ли это к тому, что немцы переложат ответственность за собственную историю на плечи других? Но кто в самой Германии имеет право выступать в роли судьи? С другой стороны, не должен ли эксперимент по нравственному очищению германской нации закончиться крахом, если в нем участвует Советский Союз, такая же преступная тоталитарная держава, как и бывшая нацистская Германия? Как после поражения фашизма нужно относиться к новой угрозе со стороны коммунизма? Война отодвинулась в прошлое, но на горизонте уже маячит новый военный конфликт. Освобождение и катастрофа – где начинается одно и заканчивается другое? Как можно осуществлять демократическое строительство силами народа, который в своем подавляющем большинстве приветствовал приход к власти фюрера? Капиталистическая экономическая элита, научная элита – все они поддерживали нацистский режим. Жива ли еще традиция демократического гражданского сознания? Поможет ли возрождение немецкого просветительского идеализма? «Назад к Гёте», как предлагает Мейнеке[379], – станет ли это панацеей от всех бед? Не лучше ли сделать ставку на цивилизующее воздействие рыночного хозяйства? Оправдана ли надежда, что, если товаров и вправду опять станет много, это решит проблему нравственного очищения и жизни по истине? Зачем нужна работа по осмыслению национальной вины, если она отвлекает от производительного труда? А что, если представление о том, что народ обязан проделать такую работу, является не только аполитичной фантазией, но и недопустимым перенесением нормы поведения индивида на коллективного субъекта?
Повседневная реальная политика тех лет не позволяла сбить себя с толку бесчисленными вопросами, а двигалась – в западных зонах – своим успешным с практической точки зрения путем, и вехами на этом пути были денежная реформа, объединение западных зон, основание Федеративной Республики и ее интеграция в западное сообщество – событие, отмеченное знаком уже стоявшей на пороге «холодной войны». Западная Германия превратилась в открытое общество, управляемое патриархальными методами. Так в ситуации всеобщей духовной растерянности началась история процветающего государства Аденауэра.
Многое в тогдашних обстоятельствах проясняют наблюдения Ханны Арендт, относящиеся к 1950 году, к ее первому после войны посещению Германии. Она описывает людей, которые живут среди развалин и посылают друг другу открытки с видами уже не существующих церквей и рыночных площадей, общественных зданий и мостов. Настроение немцев колеблется между апатией и нерассуждающей деловитостью, между усердием в мелочах и равнодушием к политической судьбе всего общества. «Реальность разрушения, окружающая каждого немца, разрешается у них в умозрительной, но едва ли глубоко укорененной жалости к самим себе; однако это настроение быстро улетучивается, стоит только [местным властям] застроить несколько широких улиц уродливыми малоэтажными домами, которые вполне могли бы располагаться на главной улице какого-нибудь американского городка». Что сталось с любовью немцев к их стране, спрашивает Ханна Арендт. Они выползают из своих развалин, жалуются на подлое устройство мира и, если им голодно и холодно, ворчат: вот она, ваша демократия, которую вы хотите нам навязать! И с «интеллектуалами» дело обстоит не лучше. Они точно так же отмахиваются от реальной действительности. «Интеллектуальная атмосфера проникнута расплывчатыми банальностями, воззрениями, которые сформировались задолго до нынешних событий и лишь внешне приспособлены к ним; гнетущее впечатление производит все шире распространяющаяся политическая глупость» (50). К проявлениям этой «глупости» Ханна Арендт относит, среди прочего, и особого рода немецкое «глубокоумие» – склонность искать причины войны, разрушения Германии или убийства евреев не в действиях нацистского режима, а «в тех событиях, которые привели к изгнанию из рая Адама и Евы» (45).
В контексте ситуации, сложившейся непосредственно после войны, хайдеггеровское «Письмо о гуманизме» воспринимается как документальное свидетельство тогдашней всеобщей растерянности. В нем, безусловно, прослеживается и подмеченная Ханной Арендт «глупость», которая выражается в «придании (тому или иному феномену) существенности» (Verwesentlichung). Ведь и Хайдеггер ищет первопричину «плохого конца» пусть не у Адама и Евы, пусть не у Одиссея (как Адорно и Хоркхаймер в своей книге «Диалектика Просвещения»[380], опубликованной одновременно с «Письмом о гуманизме»), но все-таки тоже в седой древности – у Платона и его последователей.
С политической точки зрения этот текст – образец глупости. Но ведь Хайдеггер и не претендовал больше на то, что может указать конкретный политический путь. Не претендовал со времени своего фиаско на посту ректора.
В политике Хайдеггер чувствовал себя таким же беспомощным, как, скажем, Томас Манн, который в 1949 году, в своей речи по поводу гётевского юбилея, недвусмысленно отказался от роли всезнающего наставника, сделав обезоруживающее признание: «Если бы не было прибежища фантазии, если бы не было их, тех игр и развлечений сочинительства, творчества, искусства, которые каждый раз, когда что-то завершено, манят к новым авантюрам и азартным экспериментам, соблазняют возможностью делать то же самое, но все лучше и лучше, – я бы не знал, как мне жить, не говоря уже о том, чтобы давать советы или учить чему-то хорошему других».
Подобно Томасу Манну, сказавшему о себе: «Я только поэт», – Хайдеггер объяснял: «Я только философ»; точнее, он хотел быть даже не философом, а «только» мыслящим человеком. Его манили «авантюры и азартные эксперименты» мышления, которые тоже соблазняли «возможностью делать то же самое, но все лучше и лучше». Если бы Хайдеггер не мог посвятить себя этому делу мышления, он оказался бы в положении, о котором упомянул Томас Манн: «… я бы не знал, как мне жить, не говоря уже о том, чтобы давать советы или учить чему-то хорошему других».
«Письмо о гуманизме» – документ, свидетельствующий о том, что Хайдеггер продолжал «делать то же самое, но все лучше и лучше»; и одновременно это подведение итогов его деятельности. Если расценивать «Письмо» как вмешательство в споры послевоенного времени, в тогдашние поиски политических ориентиров, оно не может не производить впечатления беспомощности. Однако если мы посмотрим на него как на попытку Хайдеггера обобщить результаты собственного мышления и определить его место в современности; как на открытие некоего горизонта, в котором становятся зримыми определенные жизненные проблемы нашей цивилизации, – тогда мы увидим в этом тексте большую и значимую веху на пути Хайдеггера как мыслителя. Кроме того, здесь уже присутствует in nuce вся поздняя философия Хайдеггера.
Итак, письмо Хайдеггера – это пусть и не прямой, но ответ Сартру, ответ экзистенциализму, уже ставшему своего рода модой, и ответ на столь же актуальный феномен возрождения гуманизма. Напомним: Бофре спрашивал Хайдеггера о том, «каким способом можно вернуть смысл слову «гуманизм»».
Сартр декларировал свой экзистенциализм в качестве нового гуманизма, предполагающего личную ответственность и «ангажированность» человека в ситуации метафизической бездомности. Хайдеггер же попытался показать, почему сам гуманизм представляет собой проблему (хотя и претендует на то, что является ее решением), почему мышление должно выйти за рамки гуманизма и почему для мышления вполне достаточно, если оно будет «ангажировано» («захвачено») только самим собой, то есть будет заниматься своим собственным делом, делом мышления.
Хайдеггер начинает свои размышления с последнего из перечисленных пунктов, с «дела мышления» и с проблемы «ангажированности», чтобы потом перейти к вопросу о гуманизме.
Так что же такое – мышление? Первое, что в этой связи приходит на ум, – расхожие представления о разнице между теорией и практикой и об отношении между ними. Сначала – рассуждение, модель, гипотеза, теоретический проект; затем – их «претворение» в практику. Понимаемая таким образом практика и есть собственно действие, теория же, в противоположность практике, в лучшем случае истолковывается как своего рода пробное действие. В рамках этой схемы мышление, которое не связано с действием как с чем-то внешним по отношению к нему, теряет всякое достоинство и ценность, становится ничтожным. Такое привязывание мышления к действию тождественно господству принципа полезности. Когда требуют, чтобы мышление было ангажированным, под этим имеют в виду его полезность для осуществления определенных практических задач в политике, экономике или общественной жизни. Указания на практическую полезность и на похвальную «ангажированность» мышления служат для доказательства оправданности его существования с точки зрения общества.
Это представление Хайдеггер сразу же отметает. И называет его ««технической» интерпретацией мысли» (Письмо о гуманизме, 193). Оно возникло еще в седой древности и уже со времени Платона было большим соблазном для мышления. Оно есть следствие робости, испуга перед практическими требованиями жизни и приводит к тому, что мышление теряет веру в себя, потому что начинает относиться к себе как к «процессу обдумывания на службе у действия и делания» (там же). На философию такое запугивание «заповедью», требующей связи с практикой, оказало катастрофическое воздействие. Конкурируя с успешными в практическом плане науками, философия оказалась в таком положении, что вынуждена доказывать свою полезность. Она желала подражать наукам, которые отделились от нее. Желала «поднять саму себя до ранга науки» (там же), не отдавая себе отчета в том, что может только потерять себя в науках, «упасть» в них. И это вовсе не потому, что философия есть нечто «более высокое», возвышенное, а потому, что она, собственно, имеет дело с близким, с таким опытом, который предшествует любой научной установке. Когда мышление отдаляется от этой своей родной стихии, с ним происходит то же, что с выброшенной на сушу рыбой. «Давно уже, слишком давно мысль сидит на сухой отмели» (там же), – говорит Хайдеггер. Но где же это подлинное место мышления и что для мышления является «близким»?
Хайдеггеру удобнее начать с вопроса о близости, и чтобы ответить на него, он обращается к своей книге «Бытие и время». Там он уже пытался выяснить, что для вот-бытия, которое всегда находит себя в мире, является ближайшим, изначальным. Результаты этого исследования вкратце можно изложить так: изначально мы познаем себя и свой мир отнюдь не с квазинаучной позиции. И в этом смысле мир не становится нашим «представлением», ибо прежде всего мы познаем свое бытие-в-мире. «Бытие-в» имеет решающее и первичное значение. И оно, это «бытие-в», уже изначально каким-то образом настроено – оно бывает испуганным, скучающим, озабоченным, деловитым, инертным, самоотверженным, экстатичным… Только на этом фоне изначального «бытия-в» может случиться такое, что мы начнем размышлять, формировать у себя определенные пред-ставления, «вырезать» из континуума нашей озабоченности и наших отношений с окружающим некие «предметы». То, что имеется «субъект», которому противостоит «объект», – вовсе не базовый опыт познания; такое разделение возникает лишь в результате вторичной процедуры абстрагирования. Но если изначальное «бытие-в» как раз и является «ближайшим», если в этой близости вещи жизни еще могут открываться во всем своем богатстве и если задача мышления состоит в том, чтобы осмысливать это «близкое», то возникает парадоксальная ситуация. Поскольку мы утрачиваем непосредственность восприятия не в последнюю очередь именно благодаря мышлению, получается, что мышление, которое хочет обратиться к «ближайшему», взваливает на себя задачу мыслить вопреки собственной тенденции к отдалению и дистанцированию. Мышление, которое «у себя дома», когда занимается опосредованиями, должно приблизиться к непосредственному. Но не окажется ли оно именно в результате такого приближения «на сухой отмели»? Не получится ли так, что мышление будет пытаться аннулировать результаты своего же развития? Не возродится ли гегелевская «опосредованная непосредственность»? Возможно ли вообще – вернуться мыслью назад к этой близости? Хайдеггер отвечает лаконично: мысль лишь тогда занимается своим делом, когда рискует «разбиться однажды о трудность своего дела» (там же, 209). ««Философствование» о провале», столь модное в нынешние времена, «целой пропастью отделено» от того, что сейчас действительно необходимо, – «от провала мысли» (там же). От «провала мысли» никакой беды бы не произошло – просто мыслящий заметил бы, что он на верном пути. И куда ведет этот путь? В ближайшее. Но что мышление ищет в этом «ближайшем», о котором мы уже знаем, что оно представляет собой элементарное и первичное «бытие-в»? А что если это место так привлекательно только потому, что наука всегда спешит «пройти мимо» него? Наука ведь не столь значима, чтобы то, что она игнорирует, облагораживалось уже благодаря одному факту этого игнорирования. Не одержим ли Хайдеггер, ведущий жизнь кабинетного ученого, навязчивой идеей конкурентной борьбы с наукой? А что, если «онтологическое различие», вокруг которого он поднял столько шума, есть всего лишь выражение его нарциссизма, упорного желания отмежеваться от той философии, что стала наукообразной и позволила превратить себя в своего рода производственное предприятие?
Мы, конечно, уже давно поняли, что в этой «близости» таится великое обещание, обет, действительно выводящий далеко за пределы того, что может поместиться в научной сфере. Речь идет об осмыслении истины бытия.
Когда Хайдеггер работал над «Бытием и временем», он уже был на пути к тому, чтобы «вникнуть в истину бытия» и сформулировать ее, но ему «не удалось» пройти этот путь до конца. «Неуместная ориентация на «науку» и «исследование»» (Письмо о гуманизме, 216) в тот раз помешала ему и ввела «в заблуждение». Правда, уже тогда он не намеревался внести свой вклад в научную антропологию; для него важно было помыслить нечто, более всего нуждающееся в осмыслении: бытие-вот человека как просвет, который открылся в сущем. Бытие-вот, понимаемое как такое «место», где мысль дает слово сущему и где именно поэтому сущее становится бытием, что означает: оно становится высветленным, «выступающим навстречу (begegnend)», «раскрывающимся (eroffnend)» – даже в своей непроницаемости и в своем ускользании[381].
На самом деле Хайдеггер предпринял свой анализ вот-бытия, надеясь приблизиться к пониманию бытия как такового; просто вот-бытие было в его представлении тем единственным сущим, которое озабочено собственным бытием (возможностью собственного бытия). Но тогда Хайдеггер, вопреки своему первоначальному намерению, позволил себе слишком углубиться в исследование вот-бытия. В конечном итоге все его внимание сосредоточилось на вот-бытии, а бытие оказалось упущенным из поля зрения. Это можно продемонстрировать на примере понятия «экзистенция». Если Хайдеггер пишет в «Бытии и времени», что «Само бытие, к которому присутствие может так или так относиться и всегда как-то отнеслось, мы именуем экзистенцией» (Бытие и время, 12), то «бытие» понимается здесь в определенном, узком смысле: как собственное бытие человека, которому еще только предстоит осуществиться. Поэтому Хайдеггер и говорит о «бытии-к», подразумевая под этим словом намерение или проект. В этом смысле следует понимать и фразу ««сущность» присутствия лежит в его экзистенции» (Бытие и время, 42), которую Сартр, перенеся акцент на проективный характер присутствия, переформулировал (имея на это некоторые основания) так: «… экзистенция предшествует «эссенции», сущности» (Письмо о гуманизме, 200).
Однако теперь, когда Хайдеггер захотел, освободившись из плена научной философии, осуществить свое первоначальное намерение, он придал понятию «экзистенция» другой смысл. Это понятие более не обозначает только способ существования некоего существа, озабоченного собственным бытием (возможностью собственного бытия). Теперь Хайдеггер пишет его через дефис и дает ему такую дефиницию: «Стояние в просвете бытия я называю эк-зистенцией человека. Только человеку присущ этот род бытия» (Письмо о гуманизме, 198). Эк-зистенция означает «выступание в истину Бытия» (там же, 199), но также и «экстатическое отношение к просвету Бытия» (там же, 200). Мы уже знаем, как часто и как охотно Хайдеггер (начиная с тридцатых годов) цитировал письмо Гёльдерлина, в котором тот рассказывает своему другу Бёлендорфу, как его сразила молния Аполлона.
«Экзистенция» в лучшем случае приводила к решимости, экзистенция же означает: быть открытым для духовных переживаний самого различного рода. Знаменитую хайдеггеровскую метафору поворота, вызвавшую, как известно, целую лавину интерпретаций, следует понимать так же просто, как понимал ее сам Хайдеггер. На первом отрезке пути (вплоть до окончания «Бытия и времени») Хайдеггер не смог продвинуться дальше вот-бытия, то есть того бытия, которое хочет реализовать экзистенция; на втором отрезке пути – то есть после того, как он совершил поворот и двинулся в обратном направлении, – он хочет выступить (в буквальном смысле) из того бытия, на которое претендует индивидуальное вот-бытие, и быть захваченным бытием как таковым. Это влечет за собой целый ряд пере-интерпретаций, смысл которых в том, что «активистские» возможности отношения к бытию, спроектированные изнутри индивидуального вот-бытия, как бы меняют свой знак на противоположный и становятся скорее пассивными, ничего не навязывающими, «страдательными» модальностями поведения. Так, брошенность вот-бытия превращается в его судьбу (или: посыл бытия – Geschick); забота о собственных делах человека – в сбережение того, что ему вверено и доверено. Подпадение (Verfalien) человека под власть мира сменяется наступлением, давлением (Andrang) мира на человека. И оказывается, что ««проект», набросок смысла, в своей сути «брошен» человеку», то есть ««бросающее» в «проекте», выбрасывании смысла – не человек, а само Бытие» (там же, 205).
Мышление о бытии, которое хочет «оказаться вблизи бытия», находит там нечто такое, что еще Ницше естественно и незащищенно назвал «мгновением истинного чувства».
Ответил ли Хайдеггер на вопрос о том, что представляет собой дело мышления, если оно не должно быть только служением действию? Да, ответил. Мышление есть некое внутреннее действие, иное состояние, которое открывается внутри вот-бытия – посредством мышления и на то время, пока мышление длится. Мысль – это измененный способ пребывания в мире, или, если воспользоваться словами Хайдеггера: «… эта мысль не относится ни к теории, ни к практике. Она имеет место прежде их различения. Эта мысль есть – поскольку она есть – память о бытии и сверх того ничего. … Такая мысль не выдает никакого результата. Она не вызывает воздействий. Она удовлетворяет своему существу постольку, поскольку она есть» (Письмо о гуманизме, 217). И затем следует фраза, на которую нам следует обратить особое внимание, потому что в ней заключена вся поздняя философия Хайдеггера. Такого рода мысль – что она делает? «… она допускает Бытию – быть» (там же).
А как обстоит дело с гуманизмом?
Несмотря на тот факт, что еще совсем недавно гуманизм был катастрофически девальвирован национал-социализмом, Хайдеггер теперь вознамерился резко повысить его нынешнюю цену. «Гуманистические определения человеческого существа», независимо от того, формулируются ли они представителями теистического или атеистического гуманизма, «еще не достигают собственного достоинства человека» (там же, 201). Мысль Хайдеггера идет «против» гуманизма не потому, что он уверен в «животной органике» (Bestialitat) человека, а потому, что гуманизм «ставит humanitas человека еще недостаточно высоко» (там же). Как же высоко следует ставить человечность? Так высоко, что на это место когда-то мог претендовать один лишь Бог. Человек как «пастух бытия» есть такая сущность, которую мы не должны пытаться ухватить в каком бы то ни было застывшем образе, «кумире». Как «не установившийся животный тип» (Ницше)[382], как не поддающееся опредмечиванию, но живущее во всем богатстве своих отношений существо, человек пока еще нуждается в нравственных нормах, «пусть даже они лишь кое-как и до поры до времени удерживают человеческое существо от распада» (214); однако на самом деле эти нормы – лишь вспомогательные средства, сами по себе малозначимые[383], и мы не должны думать, будто на них всякая мысль останавливается. Мысль движется дальше, до тех пор, пока в своем вдохновенном полете она не обретет подлинный «опыт надежной уместности поведения». «Уместность всякому поведению дарит истина бытия» (там же, 218).
В этом пункте Хайдеггер в буквальном смысле далек от Сартра как небо от земли. По словам Сартра, «человек должен обрести себя и убедиться, что ничто не может спасти его от него самого, даже и достоверное доказательство существования Бога».
Правда, и Хайдеггер объясняет, что ««Бытие» – это не Бог и не основа мира» (Письмо о гуманизме, 202); однако данное утверждение ничего не меняет в том, что хайдеггеровский опыт переживания бытия настраивает на такое отношение к бытию, которое исполнено благочестия: то есть на отношение, характеризующееся сосредоточенной внимательностью, медитативностью, чувством благодарности, благоговением, отрешенностью. Здесь присутствует вся совокупность ощущений, которые распространяет вокруг себя любое божество, – но только Хайдеггер вводит такой жесткий запрет на создание «образов» этого Бога, какого не знает ни одна из существующих религий. К хайдеггеровскому «Богу» относится просвет. Но Бог еще не познается в том сущем, которое встречается человеку в просвете. Человек впервые встречает Бога лишь тогда, когда узнает – и с благодарностью принимает – этот просвет как саму возможность зримости.
Можно сколь угодно долго рассматривать эту идею с разных сторон, но в конце концов ты все равно убеждаешься, что она повторяет удивительную мысль Шеллинга: именно в человеке природа открывает глаза и впервые замечает, что она существует. Человек – это место, где бытие прозрачно для самого себя. «Без человека бытие оставалось бы немым; оно было бы здесь, но не было бы правдой» (Кожев).
Что из этого следует? Как мы уже слышали, ничего. «И все это происходит так, как если бы из мыслящего слова ничего не выходило» (Письмо о гуманизме, 219). Однако на самом деле изменилось все отношение к миру. Обстоятельства нахождения в мире стали иными, и бросаемый на него взгляд – тоже. Все последующие годы своей жизни Хайдег-гер посвятит тому, чтобы опробовать этот новый взгляд – на технике, на строительстве и жилище, на языке и, несмотря на рискованность таких попыток, на Боге. Его мышление, которое он больше не хочет называть «философией», отныне будет озабочено только одним: как допустить быть тому, что допускает человеку – быть.
«Поскольку этой мыслью продумывается что-то простое, она так трудно дается представлению, какое традиционно выдает себя за философию. Трудность, однако, состоит тут не в том, чтобы тонуть в особом глубокомыслии и конструировать путаные понятия: она заключается в том шаге назад, который заставит мысль опуститься до испытующего вопроша-ния и отбросить заученные философские мнения» (там же, 208).
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Мартин Хайдеггер, Ханна Арендт и Карл Ясперс после войны. История личных и философских взаимоотношений.
«Передергивание невыносимо, а уже одно то, что он теперь все пытается представить так, будто это интерпретация «Бытия и времени», наводит на мысль, что опять получатся передергивания. Я прочла письмо против гуманизма, тоже очень спорное и во многом двусмысленное, но все-таки это первая его работа, которая достигает прежнего уровня». Так Ханна Арендт оценила первую послевоенную публикацию Хайдеггера в письме Карлу Ясперсу (29.09.1949). Связь с Ясперсом она восстановила поздней осенью 1945 года, с помощью Мелвина Ласки. С 1938 года Ясперс и Арендт ничего не слышали друг о друге. У него почти не оставалось надежды, что она жива, написал Карл Ясперс в своем первом после войны письме. А Ханна ответила: «С тех пор, как я узнала, что вы оба невредимыми прошли через весь этот адский спектакль, мир снова кажется мне чуть-чуть более родным» (58). Каждый тогда постоянно жил с ощущением, что беда в очередной раз обошла его стороной. Ханна писала, что еще не получила никакого гражданства и «никоим образом не стала респектабельной дамой»; что она по-прежнему считает: «сегодня можно обеспечить себе достойное человека существование, только оставаясь на обочине общества» (65). Она слегка сгущала краски: на самом деле к тому времени ей уже удалось сделать себе в Америке имя, работая в сфере политической публицистики. Но в Нью-Йорке она жила в довольно стесненных материальных условиях, хотя и отправляла ежемесячно Ясперсам по три продовольственные посылки.
Зато Карл Ясперс после войны неожиданно сделался очень «респектабельной» фигурой. Вспомнив о гонениях, которым он подвергался в нацистские времена, все чуть ли не в одночасье заговорили о нем как о «совести нации», что сам он поначалу воспринимал лишь как наглые и лицемерные попытки использовать его имя в чужих интересах. Он не доверял своей внезапной славе, которая казалась ему «фиктивной жизнью» (70), и, поскольку хотел от всего этого избавиться, летом 1948 года принял приглашение в Базельский университет.
Итак, Ханна возобновила переписку и дружеские отношения с Ясперсом сразу же после окончания войны. С Хайдеггером дело обстояло иначе. Еще перед своим бегством из Германии она почувствовала, что ректор Хайдеггер стал приверженцем нацистской системы. Судя по слухам о нем, которые доходили до нее позже, в Америке, он таким и остался. В годы изгнания для Ханны было почти невозможно держаться за то «неразрушимое», что связывало ее с Хайдеггером. Как могла бы она оставаться верной Хайдеггеру, которого – в политическом смысле – причисляла к своим преследователям, и при этом не утратить душевного равновесия, согласия с самой собой? Она, как могла, пыталась от него оторваться, покончить с ним все счеты – но после их первой послевоенной встречи с облегчением написала: «Этот вечер и это утро – оправдание всей моей жизни».
Однако прежде, чем они снова встретились, счет Хайдеггеру все-таки был предъявлен.
В начале 1946 года Ханна Арендт опубликовала в «Партизан ревю» эссе «Что такое философия экзистенции?». Той зимой экзистенциализм впервые стал «модным» в Америке. Сартр тогда как раз совершал турне по Соединенным Штатам, и Ханна имела возможность с ним познакомиться. Она решила написать для широкой публики солидную статью с обзором философского контекста нового духовного течения, прежде известного здесь только по модным лозунгам. Сартр в своих американских лекциях постоянно подчеркивал общественную ангажированность экзистенциализма. Ханна Арендт же, со своей стороны, утверждала, что в немецком варианте экзистенциализма, от Шеллинга до Ницше и далее вплоть до Хайдеггера, все более усиливалась тенденция к противопоставлению индивидуального человеческого «я», как «места истины», «неистинному» общественному целому. Эту тенденцию преодолел только Ясперс. В творчестве же Хайдеггера, по мнению Ханны Арендт, экзистенциальный солипсизм достигает своей кульминации. У Хайдеггера подлинное «я» становится наследником Бога. А обычное бытие-в-мире интерпретируется как утрата изначальной чистоты. «Хайдеггеру, в соответствии с такой точкой зрения, представляются чем-то «побочным» (Abfall) все способы человеческого бытия, которые обусловлены тем, что человек – не Бог, что он живет в одном мире с себе подобными». Иными словами, точка зрения Хайдеггера противоречит conditio humana. Реальный человек, вероятно, может быть всем, чем угодно, но только не «подлинным «я»». Тот, говорит Ханна Арендт, кто отвергает обычный мир Man (хайдеггеровского «обезличенного человека»), тем самым жертвует почвой, в которой укоренено человеческое существо. И тогда остается одно – кокетничать собственной «ничтожностью» (37); а такого рода кокетничанье, по мнению Ханны Арендт, как раз и сделало Хайдеггера предрасположенным к варварству. Ибо разве философское отрицание понятия «человечество» не превратилось в конце концов в практическое отрицание человечности?
Ханна Арендт послала это эссе Карлу Ясперсу, все еще испытывая «старый детский страх» перед строгими суждениями своего бывшего преподавателя философии. Но Карл Ясперс, обнаруживший рукопись в посылочном ящике между банками тушенки, пакетами сухого молока и плитками шоколада, прочел ее «с восторгом». У него возникло только одно возражение: в одной из сносок Ханна Арендт упомянула, что Хайдеггер, по слухам, запретил Гуссерлю появляться на факультете. «То, о чем Вы рассказываете, по сути, конечно, верно, но изложение внешних обстоятельств может оказаться не совсем точным» (79). Ясперс предположил, что Хайдеггер, как делали и другие ректоры, лишь подписал соответствующую служебную инструкцию. (Но и это предположение, как мы уже знаем, не соответствует действительности. Хайдеггер ничем бы не рисковал, если бы лично сообщил Гуссерлю об отмене его «временного отпуска», поскольку «Закон о восстановлении профессионального чиновничества» на Гуссерля не распространялся.) Ханна написала, что остается при своем мнении: она видит в Хайдеггере «потенциального убийцу» (89), так как он своим поведением разбил сердце Гуссерля. Ясперс на это ответил: «Я вполне разделяю Вашу оценку Хайдеггера» (99).
Несмотря на такие высказывания, Ханна Арендт и Карл Ясперс на этом не закончили «расчет» с Хайдеггером. Правда, Ханна и два года спустя воспротивилась намерению своего друга Дольфа Штернбергера опубликовать в «Нойе рунд-шау» хайдеггеровское «Письмо о гуманизме», и все же когда Ясперс 1 сентября 1949 года сообщил ей, что снова время от времени обменивается с Хайдеггером письмами, она восприняла это как нечто естественное: «… поскольку люди, как известно, непоследовательны – во всяком случае, я, – меня это обрадовало» (178).
Карл Ясперс начал опять переписываться с Хайдеггером именно в тот момент, когда пытался добиться снятия с него запрета на преподавание. В этой связи Ясперс в начале 1949 года писал фрайбургскому ректору Герду Телленбаху: «Благодаря своим заслугам в философии г-н проф. Мартин Хайдеггер признан во всем мире как один из крупнейших философов современности. В Германии нет никого, кто бы его превосходил. Его философствование, почти сокрытое, связанное с глубочайшими вопросами, лишь косвенно распознаваемое в его трудах, делает его сегодня в философски скудном мире, пожалуй, единственной в своем роде фигурой»[384]. Ясперс предлагал обеспечить Хайдеггеру такие условия, чтобы он мог спокойно работать, а если захочет, и преподавать[385].
После того как в марте 1949 года процедура денацификации закончилась для Хайдеггера вердиктом: «Попутчик. Карательные меры не требуются», во Фрайбургском университете снова стал обсуждаться вопрос о снятии с него запрета на преподавание. В мае 1949 года ученый совет проголосовал (незначительным большинством голосов) за то, чтобы рекомендовать министерству восстановить Хайдеггера в правах пенсионера-профессора, тем самым сняв с него запрет на преподавание. В министерстве этот вопрос обсуждался довольно долго. Только в зимний семестр 1951/52 года Хайдеггер смог, наконец, прочитать свой первый после войны лекционный курс.
В своем первом письме Хайдеггеру от 6 февраля 1949 года Ясперс впервые осторожно пытался навести мосты, положить конец тому состоянию, когда «мы оба отмалчивались». Конечно, он понимал, что это будет нелегко. «Бесконечное горе начиная с 1933 года и нынешнее состояние, в котором моя немецкая душа лишь все больше страдает, не соединили нас, а, наоборот, безмолвно разделили». Но даже если между ними останется «непроясненность», они могли бы все же попробовать «в философствовании, а может быть, и в личном плане» «изредка обмениваться словечком-другим». Ясперс закончил письмо словами: «Шлю Вам привет как бы из далекого прошлого, через бездну времен, цепляясь за что-то, что было и что не может быть ничем» (Переписка, 239-242).
Это письмо не дошло до адресата. Однако в июне Хайдеггер узнал от Роберта Хайса, что Ясперс послал ему письмо. Не зная содержания этого письма, Хайдеггер, в свою очередь, написал Ясперсу короткую записку, высокопарный тон которой с очевидностью выдавал его неуверенность. «Через все недоразумения, и путаницы, и временный разлад отношение к Вам… осталось в неприкосновенности». На какой почве может быть продолжено это отношение или каким образом возобновлено? Пока Хайдеггер делает выбор в пользу их общности в сфере возвышенного. «Стражей мысли в растущей мировой беде осталось совсем немного, и все же они должны противостоять догматизму всякого рода, не рассчитывая на результат. Мировая общественность и ее организации отнюдь не то место, где решается судьба человеческого бытия. Не стоит говорить об одиночестве. Хотя это единственный край, где мыслитель и поэт в меру своих человеческих способностей защищают бытие. Из этого края я шлю Вам сердечный привет» (22.06.1949, Переписка, 242-243).
Ясперс ответил лаконично и с едва скрытым недоверием: «Мне так до сих пор и не ясно, что Вы называете явленно-стью бытия. А «тот край», откуда Вы шлете мне привет, – может быть, я ни разу «там» не бывал, но охотно принимаю, удивленный и заинтригованный, этот привет» (10.7.1949, Переписка, 247-248).
В письме к Ханне Арендт Ясперс с неудовольствием комментирует это послание Хайдеггера: «Он всецело погружен в спекуляции о бытии, он пишет «Бытиё» (Seyn) через ипсилон. Два с половиной десятилетия назад он поставил на «экзистенцию» и передернул это дело в самой его основе. Теперь он сделал еще более существенную ставку… Надеюсь, на сей раз он не передернет. Но я в этом не уверен. Можно ли, будучи нечистой душой… в своей неправоте созерцать чистейшее?» Но Ясперс сразу же смягчает жесткость своей оценки, добавляя: «Странно, что он знает нечто такое, о чем сегодня вряд ли кто-то догадывается, и ведет себя так, будто исполнен предчувствий».
Ханна Арендт тоже колебалась в своих оценках. Она радуется тому, что Ясперс восстановил связь с Хайдеггером, и тут же дает понять, что не отказалась от своего негативного мнения: «Эта жизнь в Тодтнауберге, с брюзжанием в адрес цивилизации и писанием слова «бытие» через ипсилон, в действительности есть лишь мышиная нора, в которую он заполз, ибо не без основания полагает, что там ему не придется видеть никого, кроме восхищенных паломников; ведь не так-то легко подняться на 1200 м лишь затем, чтобы устраивать ему сцены» (178).
В ноябре 1949 года Ханна Арендт приехала на четыре месяца в Европу, чтобы по поручению «Комиссии по восстановлению еврейской культуры в Европе» осмотреть и инвентаризировать остатки награбленных нацистами еврейских культурных ценностей. Во время этой поездки она прежде всего, в декабре 1949 года, навестила в Базеле Карла и Гертруду Ясперс. Ясперс, по-отечески привязанный к Ханне, лишь теперь, как пишет Эттингер, впервые узнал о ее романе с Хайдеггером. «Это очень трогательно», – только и сказал он. Ханна вздохнула с облегчением. Она бы не удивилась, если бы Ясперс отреагировал по-другому: начал критиковать ее с моральной точки зрения или даже проявил ревность. В тот раз они оба так много говорили о Хайдеггере, что деликатному Ясперсу стало не по себе: «Бедный Хайдеггер, вот мы сидим здесь, два самых лучших друга, которые у него остались, и видим его насквозь».
Когда Хильда Френкель, подруга Ханны, незадолго до отъезда спросила ее, какой из предстоящих встреч – с Базелем или с Фрайбургом – она радуется больше, та ответила: «Дорогая, чтобы «радоваться» Фрайбургу, нужно обладать чертовским мужеством – а у меня его нет».
Еще 3 января 1950 года, за несколько дней до своей поездки во Фрайбург, она писала Генриху Блюхеру: «Увижу ли Хайдеггера, еще не знаю… Пусть все решает случай».
Последние письма Хайдеггера, которые Ясперс показал Ханне, ей очень не понравились: «… все та же смесь подлинности и лживости или, лучше сказать, малодушия». То, что произошло потом, когда Ханна 7 февраля приехала во Фрайбург, Эттингер реконструировала на основании ее писем: Ханна из гостиницы послала записку Хайдеггеру, после чего тот сразу же зашел в эту гостиницу. И оставил для нее письмо. В письме он приглашал Ханну вечером прийти к нему домой и мимоходом упоминал о том, что Эльфрида уже давно в курсе их любовной истории. Видимо, и у Хайдеггера душа была не на месте, ведь сначала он хотел оттянуть момент встречи. Но, уже отдав письмо, вдруг передумал и попросил коридорного сообщить Ханне о его приходе. Два дня спустя Ханна писала Хайдеггеру: «Когда коридорный назвал твое имя… мне показалось, будто время внезапно остановилось. Затем я молниеносно осознала то, в чем раньше не призналась бы ни самой себе, ни тебе и никому другому: что сила безотчетного побуждения… милостиво уберегла меня от совершения единственной непростительной измены, которая загубила бы мою жизнь. Но ты должен знать одно (так как мы общались друг с другом не много и не чересчур часто): если бы я сделала это, то только из гордости, т. е. по чистой глупости и в порыве безумия. А не по каким-то причинам». Под «причинами», по мнению Эттингер, Ханна имела в виду нацистское прошлое Хайдеггера, которое, очевидно, само по себе не заставило бы ее отказаться от встречи с ним. То же, что Ханна понимала под «гордостью», скорее всего было страхом снова подпасть под чары Хайдеггера. И действительно, как показывает письмо Ханны Хайдеггеру от 9 февраля 1950 года, эти чары сразу же начали снова на нее воздействовать. Ведь встреча, которую, обращаясь к Мартину, Ханна называет «оправданием всей моей жизни», в письме Хильде Френкель, написанном чуть позже, когда Ханна уже смотрела на происшедшее с некоторой дистанции, изображается как трагикомедия: «Он совершенно не понимает, что все это было 25 лет назад, что он не видел меня больше 17 лет». Хайдеггер стоял в ее комнате «как побитая собака».
Потом Хайдеггер вернулся домой и ждал Ханну, которая обещала прийти в тот же вечер, – этот вечер они провели вдвоем. Ханна опишет их встречу Блюхеру: «Кажется, мы впервые в жизни разговаривали друг с другом». Ханна больше не чувствовала себя в роли школьницы. Она приехала из большого мира, успела многое пережить[386], уцелела в катастрофе, стала политическим философом, только что закончила книгу «Истоки тоталитаризма», которая чуть позже будет иметь успех во всем мире[387]. Но об этом они не говорили.
Хайдеггер, пишет Эттингер, рассказывал, как он впутался в политику, как в ту пору его «оседлал дьявол», жаловался на гонения, которым подвергался после войны. Ханна видела перед собой деспотичного, но вконец подавленного и ожесточившегося человека; ей казалось, что он нуждается в ее помощи. И она хотела ему помочь. Вернувшись в Америку, она возьмет на себя ведение переговоров с тамошними издателями его работ, будет обсуждать условия договоров, просматривать переводы его текстов, отправлять ему посылки с продуктами, книгами, пластинками. А он будет писать ей нежные письма, иногда вкладывая между страниц стебель трясунки, будет рассказывать о своей работе, описывать вид из окна, напоминать ей о зеленом костюме, который она когда-то носила в Марбурге. И каждый раз передавать привет от Эльфриды.
В ту первую встречу Хайдеггер предложил основать своего рода тройственный союз. Он, если верить Эттингер, признался Ханне, что именно Эльфрида укрепила в нем мужество, необходимое для возобновления этой дружбы. На следующий день после приезда Ханны Хайдеггер организовал встречу втроем. Через два дня Ханна писала Хайдеггеру. «Я была потрясена – и потрясена до сих пор – честностью и настойчивостью этой попытки сближения (предпринятой Эльфридой. – Р. С.)». Ее, Ханну, охватило «внезапное чувство солидарности». Совсем по-другому представлена та же ситуация в письме Блюхеру: «Сегодня утром мне пришлось вступить в дискуссию с его женой – которая, очевидно, уже 25 лет или, может, только с тех пор, как каким-то образом узнала о неприятной для нее истории, устраивает ему ад на земле. А он – и это столь же очевидно, то есть с очевидностью следует из нашего запутанного разговора втроем, – он, человек, который, как всем известно, лжет всегда и везде, где только может, на протяжении всех этих 25 лет ни разу даже не пытался отрицать, что я была единственной страстью его жизни. Боюсь, пока я жива, эта женщина будет мечтать об одном – перетопить всех евреев как котят. Она, к сожалению, непроходимо глупа». Хайдеггер, согласно интерпретации Эттингер, воспринял эту сцену по-иному. Он увидел в ней не борьбу, а примирение. И был растроган, когда на прощание обе женщины обнялись. Он тут же пожелал принять в их дружеский союз также Генриха Блюхера и попросил Ханну передать ему сердечный привет. Ханна попыталась немного охладить восторженное настроение Хайдеггера, напомнив ему, что только ради него согласилась на встречу с Эльфридой. Сама же она придерживается своего старого принципа: «Не делать ничего еще более трудным, чем оно должно быть. Из Марбурга я уехала исключительно ради тебя».
Через два дня после этой инсценировки «дружбы втроем» Ханна написала Эльфриде письмо – в первый и последний раз. Она сумела осуществить сложный трюк: воспользоваться правом на откровенность, вытекавшим из новой ситуации «сближения» с женой Хайдеггера, и одновременно восстановить необходимую для нее самой дистанцию. «Вы сломали лед, – признает Ханна, – и за это я Вам от души благодарна». Но чувства вины за те тайны, которые были у нее в прошлом, она не испытывает. Из-за той любовной истории, пишет Ханна, у нее было много неприятностей. «Видите ли, уезжая из Марбурга, я твердо решила никогда больше не любить мужчину, а потом вышла замуж (за Гюнтера Андерса. – Р. С.), за кого попало и без любви». Она уже достаточно наказана и потому просит избавить ее от попреков за прошлое. По поводу же настоящего Ханна рассуждает так, будто никаких объятий два дня назад и в помине не было. «Вы никогда не скрывали своих взглядов, не скрываете их и теперь, даже в моем присутствии. Но эти взгляды таковы, что делают любой разговор почти невозможным, поскольку все то, что другой мог бы сказать, уже заранее определенным образом характеризуется и (Вы уж извините) каталогизируется – как еврейское, немецкое или китайское».
К тому времени, когда Ханна Арендт два года спустя, 19 мая 1952 года, снова посетила Хайдеггеров, от надуманной идиллии «тройственного союза» не осталось и следа. Ханна Генриху Блюхеру: «Его жена совсем ополоумела от ревности, только усилившейся за те годы, когда она, очевидно, жила надеждой, что он меня попросту забудет. Это выразилось по отношению ко мне в полуантисемитской сцене, разыгравшейся в его отсутствие. Вообще политические убеждения этой дамы… не замутнены никаким опытом и отличаются такой тупой, злобной и обремененной затаенными обидами глупостью, что можно понять все преследования, которым он подвергался… Короче говоря, дело кончилось тем, что я устроила ему настоящий скандал, и с тех пор все значительно улучшилось». Теперь Ханна Арендт нисколько не сомневалась, что во всем виновата Эльфрида. То, что Ханна и Карл Ясперс в своей переписке о Хайдеггере называли его «нечистотой», в ее представлении было не чем иным, как загрязнением в результате общения с этой женщиной.
Но Ханна ошибалась, думая, что Эльфрида играла в жизни Хайдеггера только роль злого демона. В действительности Эльфрида была хорошей женой и верной спутницей жизни. Она вышла замуж за Хайдеггера, когда ничто еще не предвещало его будущей славы. В годы его приват-доцентуры Эльфрида сама содержала семью, работая учительницей в школе. Она была эмансипированной, уверенной в себе женщиной, получившей (что в то время случалось нечасто) высшее экономическое образование. Она всегда оставалась для Хайдеггера надежной опорой – и когда он порвал с Католической Церковью, и когда к нему пришла слава, и после войны, когда его отстранили от преподавания. Она всегда заботилась о создании таких условий, которые позволили бы Хайдеггеру спокойно работать. По ее инициативе была построена «хижина» в Тодтнауберге. Это правда, что она раньше, чем Хайдеггер, приняла сторону национал-социализма. Но у Хайдеггера имелись свои мотивы, побудившие его поддаться «опьянению властью». Для нее же важную роль играли идеи женской эмансипации. Она связывала надежды на прогресс с национал-социалистской революцией. В отличие от Хайдеггера, который в этом не следовал ее примеру, она также разделяла расистскую и антисемитскую идеологию нацистского движения. И дольше, чем ее муж, сохраняла приверженность национал-социализму. Многие соседи боялись ее и в ее присутствии не позволяли себе ни единого критического замечания по поводу «режима». Осенью 1944 года она навлекла на себя всеобщую ненависть тем, что в качестве районной активистки «самым зверским образом обращалась с женщинами Церингена[388]» и «отправляла на рытье окопов даже больных и беременных» (так, во всяком случае, говорилось в письме Фридриха Элькерса, члена «Комиссии по чистке», Карлу Ясперсу). Конечно, когда дело Хайдеггера обсуждалось в «Комиссии по чистке» и потом, когда он проходил процедуру денацификации, его брак с Эльфридой наверняка рассматривался как дополнительное отягчающее обстоятельство. Однако сам он нуждался в своей жене как в защите от враждебного ему (по его представлениям) мира. И Эльфрида с готовностью приняла на себя эту роль. Она не идеализировала своего мужа, но понимала его страсть к «делу мышления» и делала все от нее зависевшее, чтобы он мог заниматься своим любимым делом. Хайдеггер это понимал и всю жизнь был ей за это благодарен. Более всего он ценил в ней то, что она считалась с его потребностью в одиночестве и в то же время умела создать атмосферу домашнего уюта. Бремя повседневных забот и воспитания детей несла в основном она. Его такое разделение труда вполне устраивало. В ранние годы их брака он несколько раз давал ей повод для ревности, ибо принадлежал к типу мужчин, в которых женщины охотно влюбляются. Короткие любовные увлечения были для него как бы в порядке вещей. Но никогда, даже в период его близости с Ханной Арендт, Хайдеггер не думал о разводе с Эльфридой. Во всяком случае, как отмечает Эттингер, сохранившиеся письма не дают ни малейших оснований для иного вывода. Теперь же, когда Ханна вновь вошла в его жизнь, он вдруг стал мечтать о «тройственном союзе», который позволил бы ему и сохранить Эльфриду, и вернуть себе Ханну – пусть не как возлюбленную, но как любимую подругу. Однако такой союз был невозможен: его не хотели ни Ханна, ни Эльфрида. Ревность, так сказать, мобилизовала в Эльфриде все ее антисемитские предрассудки. Ханна же видела в семейной жизни Хайдеггеров наглядный пример «союза между толпой и элитой».
Как рассказывает Эттингер, в те немногие часы, которые Ханна в мае 1952 года (когда приехала в Германию во второй раз) провела наедине с Хайдеггером, она снова подпала под чары своего философа, обсуждавшего с ней некоторые пассажи из лекции «Что значит мыслить?». Ханна писала Блюхеру: «[В такие мгновения я] совершенно уверена в его (Хайдеггера. – Т. Б.) фундаментальной порядочности, в его вновь и вновь потрясающей меня доверчивости (назвать это по-другому я вряд ли сумею), в полной незначимости, когда он рядом со мной, всех тех вещей, которые в иное время, возможно, легко выдвигаются на первый план, в его подлинной беспомощности и беззащитности. Пока у него сохраняется работоспособность, никакой опасности нет; я боюсь только все чаще повторяющихся депрессий. Я сейчас пытаюсь их как-то предотвратить. Может быть, он об этом вспомнит, когда меня уже здесь не будет».
Ханна видела себя в роли ангела-хранителя, оберегающего «лучшего» Хайдеггера. Она хотела помочь ему, поддержать его работоспособность, и Генрих Блюхер укреплял ее в этом намерении: ««Что значит мыслить?» – великий вопрос к Богу. Помоги же ему в этом вопрошании».
Но Ханна Арендт не просто помогала Хайдеггеру в вопрошании, она также – в философском плане – отвечала ему.
Когда в 1960 году вышло в свет немецкое издание ее главного философского труда «Vita activa», она послала Хайдеггеру экземпляр книги; в сопроводительном письме говорилось, что эта работа не могла бы возникнуть – далее я цитирую по монографии Эттингер – «без того, чему я в молодости научилась от тебя… Она происходит непосредственно из первых марбургских дней и во всех отношениях обязана тебе почти всем».
На отдельном листке, который она так и не вложила в письмо (и который потом обнаружила Эттингер), Ханна написала: «De Vita activa. / Посвящения в этой книге нет. / Да и как я посмела бы посвятить ее тебе – / столь близкому мне человеку, / которому я хранила / и не хранила верность, / но то и другое с любовью?»
В чем же Ханна Арендт, как философ, сохранила «верность» своему учителю?
Она вместе с Хайдеггером по-революционному порвала все связи с философской традицией и потом всегда твердо придерживалась той точки зрения, что первичное отношение человека к миру является не познавательно-теоретическим, а озабоченно-деятельным и что такого рода деяние представляет собой открывающее событие, событие истины. Для Хайдеггера, как и для Ханны Арендт, «открытое» – то, что Хайдеггер называл просветом, – было внутренним решением и свершением (τέλος) присутствия. Но Хайдеггер, в отличие от Ханны Арендт, отличал такую открытость (Offenheit) от публичности (Offentlichkeit). Хайдеггер в «Бытии и времени» объяснял, что «Публичность замутняет все и выдает так скрытое за известное и каждому доступное» (127). В публичности присутствие, как правило, подпадает под влияние обезличенных людей (Man): «Каждый оказывается другой и никто он сам» (128). Как известно, публичности Хайдеггер противопоставлял подлинность.
Как и Хайдеггер, Ханна Арендт ориентировалась на идею открытости, но была готова признать, что потенциально эта идея осуществима и в публичности. Ханна надеялась, что открытость возникнет не из измененного отношения индивида к себе самому, то есть не из хайдеггеровской подлинности, а из плюралистического сознания, то есть понимания того, что наше бытие-в-мире означает: мы должны уметь делить этот мир со «многими» (другими) и уметь его формировать. Открытость существует только там, где опыт осознания факта человеческого плюрализма воспринимается всерьез. Но так называемое «аутентичное» мышление, дискредитирующее понятие «многие», не желает считаться с тем вызовом, каким для него является плюрализм, этот неустранимый аспект conditio humana. Такое мышление говорит о человеке не во множественном, а в единственном числе, тем самым, по мнению Ханны Арендт, предавая философию во имя политики. Как и Хайдеггер, Ханна Арендт тоже искала в античной Греции сцену, на которой изначально свершилось то, что теперь происходило в современности и о чем хотела задуматься она, Ханна. Для Хайдеггера такой «сценической площадкой» стала платоновская притча о пещере, для Ханны Арендт – ее представление о греческой демократии, сложившееся на основе «Истории» Фукидида[389]: «В своих постоянно разгоравшихся спорах греки открыли, что общий для всех нас мир, как правило, одновременно рассматривается с разных позиций, которых бесконечно много и которым соответствуют разнообразнейшие точки зрения… Греки учились понимать – не просто понимать друг друга как отдельных индивидов, но смотреть на тот же мир с точки зрения другого и подмечать одинаковое, даже если оно обнаруживает себя в очень различных, а часто и прямо противоположных аспектах. Речи, которые Фукидид включал в свой текст для того, чтобы объяснить точки зрения и интересы противоборствующих партий, еще и сегодня остаются живым свидетельством высокой степени объективности тогдашних споров». Можно сказать, что Ханна Арендт реабилитирует «пещерную болтовню» (Хайдеггер) узников из платоновской притчи. Света совершенной истины, о котором говорил Платон, как и хайдеггеровского восхождения от сущего к «еще более сущему» для нее не существует. Существуют только различные точки зрения на общий для всех мир и разные степени умения обращаться с этим многообразием. Отталкиваясь от хайдеггеровской негативной интерпретации толков (Gerede), этого характерного аспекта публичности, Ханна Арендт в своей речи о Лессинге (1959) сказала, что мир так и остался бы нечеловеческим, бесчеловечным (unmenschlich), «если бы люди (Menschen) постоянно не обсуждали его».
Не подлинность, а только «виртуозность взаимодействия с другими» дает миру ту открытость, о которой мечтал и Хайдеггер.
Что касается проблемы истины, то и здесь Ханна Арендт училась у Хайдеггера, но продвинулась на шаг дальше. Она опирается на хайдеггеровскую концепцию истины как непотаенности, но вместо того, чтобы, следуя за своим учителем, искать событие истины прежде всего в отношении человека к вещам, открывает его в пространстве между людьми. Только применительно к этому «между», к трагедиям и комедиям совместной человеческой жизни, концепция истины как непотаенности кажется ей достоверной. Исходной сценой, на которой свершается событие истины, Ханна Арендт считает арену социального: «Действуя и говоря, люди всякий раз обнаруживают, кто они суть, активно показывают личную неповторимость своего существа, как бы выступают на сцене мира…»[390]
Именно потому, что общение людей друг с другом имеет характерные свойства сценической постановки, весь являющий себя мир тоже может стать для них сценой. Только потому, что сами люди «выступают вперед» и могут «показать себя», у них создается впечатление, что и с природой дело обстоит так же, что и она тоже хочет «показать себя». Даже платоновская мысль о восхождении к чистым идеям все еще остается привязанной к общественной игре «появлений» и «выступаний вперед»: ведь эти идеи, согласно Платону, должны быть увиденными – увиденными на «внутренней сцене», существующей в сознании философа.
«Мир», о котором говорит Ханна Арендт, представляет собой некое подобное сцене общественное пространство, не существующее изначально и всегда, но открывающееся. Мир открывается между людьми, поэтому его следует понимать не как сумму всех вещей, людей и происшествий, но как такое место, где люди встречаются друг другу и где вещи могут показываться людям; и где, наконец, люди производят нечто такое, что превышает простую совокупность результатов деятельности отдельных индивидов. Об этом «между» Ханна Арендт упоминает и в том письме Хайдеггеру, которым она сопроводила отправленный ему экземпляр «Vita activa»: «Если бы между нами все было правильно – я имею в виду именно «между», а не тебя и меня, – то я бы тебя спросила, могу ли я посвятить эту книгу тебе». У Ханны всегда было такое ощущение, будто в ее отношениях с Хайдеггером для нее возможны только две позиции: она должна либо всем для него жертвовать, подчиняться его воле, либо утверждать свою самостоятельность вопреки ему. При отношениях подобного рода промежуточное пространство мира, если можно так выразиться, сгорает дотла[391]. Для свободной встречи, для общения на равных не остается никакого места, потому что слишком многое осталось несделанным, невысказанным, незамеченным.
В своей книге «Vita activa» Ханна Арендт исследует вопрос о том, как сохранить этот «мир» промежутка и почему он может оказаться разрушенным – и в рамках индивидуальной жизни, и в историческом масштабе. Она разграничивает понятия «труд» («работа»), «создание» («изготовление») и «действие». И здесь тоже она опирается на идеи Хайдеггера, но рассматривает бытие-в-мире как иерархическую последовательность различных видов деятельности, посредством которых люди в определенном смысле открывают себе выход на свободный простор и тем самым создают предпосылки для возникновения «открытости».
«Труд», в понимании Ханны Арендт, служит исключительно биологическому поддержанию жизни. Труд – это форма организации «обмена веществ» между человеком и природой. Труд и покой, труд и потребление ритмически сменяют друг друга; строго говоря, они не имеют ни начала, ни конца[392] и, подобно жизни и смерти, суть лишь звенья в круговращении жизни человеческого вида. В труде человек потребляет природу и в труде же расходует свою жизнь. Труд не оставляет долговечных результатов[393]; он, собственно, не имеет «миросозидающей» функции.
Иное дело – «создание», «изготовление». В процессе создания, ремесленного или художественного, возникают продукты, выходящие за пределы простого обслуживания жизненных потребностей: предметы, которые не могут быть непосредственно потреблены[394]. Утварь, здания, мебель, произведения искусства, которым предстоит пережить поколения. Чем в большей мере предмет рассчитан на длительное использование, тем более «мирственна» (welthaft) деятельность, направленная на его изготовление[395]. Процесс создания носит линейный характер, ибо ориентируется на внешнюю цель. В ходе этого процесса воздвигается, устанавливается, производится нечто такое, что потом занимает свое место в мире и далее уже является частью тех прочных рамок, которые создают для себя люди, чтобы обрести в них опору, прибежище и ориентир для своего жизненного пути. Побуждают к созданию подобных предметов не только «теснящие жизненные нужды», но и ощущаемая человеком потребность придать своему вот-бытию, этому отрезку времени между рождением и смертью, некий элемент длительности, возможность трансцендировать время[396].
«Деяние» еще резче, чем «создание», выделяет человека из естественного круговращения жизни. Действие (по-гречески πράξις) отличается, как установил еще Аристотель, от изготовления (по-гречески ποίησις) тем, что оно есть «вы-ступание-в-явленность» и форма выражения человеческой свободы. В действии люди «выставляют себя», они показывают, кто они суть и что хотят сделать с собой и из себя. Действие – это все, что происходит между людьми, но не служит непосредственно для труда или для создания[397]. Действие – это и есть театр мира, и потому на подмостках мировой сцены разыгрываются драмы любви, ревности, политики, войны, разговоров, воспитания, дружбы. Только потому, что люди свободны, они способны действовать. Многообразие перекрещивающихся и переплетающихся действий образует хаос человеческой действительности, и потому существует человеческая история, неподвластная никакой поддающейся расчету логике. История не «создается» и не представляет собой «трудовой процесс»; она вообще не процесс, а дискретное событие, порожденное чреватой конфликтами плюральностью действующих людей. Люди производят механизмы и используют их в своей работе, но ни индивидуальная, ни коллективная история не является механизмом, хотя и не было недостатка в попытках превратить ее в таковой. Хайдеггер, одержимый идеей «истории бытия», тоже поддался этому искушению, попытался открыть подлинную логику за хаосом времени – такое предположение Ханна выскажет во втором томе своей (лишь посмертно опубликованной) книги «Жизнь разума». В этой работе она сближает Хайдеггера с теми «профессиональными мыслителями», которые не желают считаться со свободой и ее «неизбежным следствием – непредрешенностью», которые не хотят «расплачиваться за сомнительное благо спонтанности непредрешенностью [всего происходящего с ними]».
«С точки зрения естественных процессов» и «с точки зрения автоматических процессов, вроде бы однозначно определяющих мировой ход вещей, всякое деяние представляется каким-то курьезом или чудом»[398]. Действовать – значит уметь взять на себя инициативу. Слово же «инициатива» происходит от латинского initium, «начало».
Ханна Арендт, чудом избежавшая Холокоста, предлагает в «Vita activa» грандиозный набросок особой философии – философии умения начинать все заново. И именно эта философия несет на себе отпечаток ее любви к Хайдег-геру. Когда в Марбурге он поднимался к ней в мансарду, у него дома, на письменном столе, лежали наброски к книге о философии обретения подлинности через бытие-к-смерти. Она, женщина, избежавшая смерти, ответила ему, как делают любящие, дополнив его философию философией бытия-к-началу, бытия-к-умению-начинать. «Чудо, вновь и вновь прерывающее круговращение мира и ход человеческих вещей и спасающее их от гибели… есть в конечном счете факт натальности, рожденность… «Чудо» заключается в том, что вообще рождаются люди и с ними новое начало, которое они способны проводить в жизнь благодаря своей рожденности»[399].
Этой философии рожденности, которая представляет собой столь сильный ответ на хайдеггеровскую философию смертности, не чуждо настроение страха, но она умеет и радоваться приходу в мир нового человеческого существа. Из философии умения начинать Ханна Арендт вывела свое понятие демократии. Демократия обеспечивает такое положение вещей, когда в условиях совместного существования каждый имеет шанс что-то начать; демократия есть великая задача научиться жить в несогласии. Дело в том, что когда мы встречаемся в некоем общем мире и даже когда хотим о чем-то договориться, мы очень быстро осознаем, что каждый из нас пришел сюда от своего, отличного от других, начала и каждый перестанет жить, встретив свой, сугубо индивидуальный, конец. Демократия признает это; она готова вновь и вновь заново обсуждать вопросы, касающиеся совместного существования. Но такие новые начала, как индивидуальные, так и коллективные, возможны лишь потому, что имеются два феномена – обещание и извинение. Действуя, мы запускаем процессы, за которые никоим образом не можем нести ответственность; то, что мы привносим в мир, всегда оказывается чем-то неотменимым и необозримым. «Спасительное средство против неотменимости – против того, что содеянное невозможно вернуть назад, хотя человек не знал и не мог знать, что делал, – заключено в человеческой способности прощать. Спасительное же средство против необозримости – а значит, и против хаотической недостоверности всего будущего – заложено в способности давать и сдерживать обещания»[400].
Сама Ханна Арендт пообещала себе всегда оставаться верным другом Мартина Хайдеггера. Но она смогла выполнить это решение только потому, что нашла в себе силы простить своего бывшего возлюбленного.
Он же постоянно давал ей поводы для того, чтобы отступиться.
Когда Ханна в 1955 году снова посетила Германию, она не попыталась с ним встретиться. «То, что я не поеду, кажется мне результатом молчаливого уговора между Хайдеггером и мною», – писала она Генриху Блюхеру. Ханну Арендт пригласили на презентацию ее книги о тоталитаризме, только что вышедшей в ФРГ. К тому времени Ханна стала знаменитостью и понимала, что Хайдеггер сразу же с неудовольствием отметит: во всей этой шумихе она не уделяет ему, как прежде, безраздельное внимание. И действительно, поездка в Германию стала ее триумфом. Она вернулась на родину как уважающая себя еврейка, которая подвела итог тоталитаристским искушениям двадцатого столетия и предъявила свой счет представителям германской элиты. «Добровольное погружение в надчеловеческую стихию разрушения казалось спасением от автоматического отождествления с предустановленными функциями в обществе, с их полнейшей банальностью и одновременно казалось силой, помогающей изничтожить само это функционирование. Эти люди испытали влечение к широковещательному активизму тоталитарных движений, к их удивительному и только по видимости противоречивому настаиванию и на первенстве чистого действия, и на неодолимой силе чистой необходимости»[401].
Подобные фразы должны были больно задеть Хайдеггера. Правда, он, скорее всего, только заглянул в книгу; однако именно процитированный пассаж (где говорилось также о «временном союзе между толпой и элитой») привлек к себе столь большое внимание общественности, что никак не мог остаться для него неизвестным. С основным положением книги – тезисом о сходстве и сопоставимости разных тоталитарных систем – Хайдеггер (после своих лекций о Ницше), пожалуй, и согласился бы. И все же ему наверняка не понравилось бы такого рода напоминание о том, как сам он сразу после войны пытался оправдать свое участие в национал-социалистском движении стремлением спасти Запад от опасности коммунизма. Возможно, Ханна Арендт тогда не стала встречаться с Хайдеггером среди прочих причин и потому, что ожидала с его стороны раздраженной реакции на эту книгу.
Летом 1961 года, сразу после процесса Эйхмана[402], на котором она присутствовала в качестве специального корреспондента (ее репортажи вызвали в Америке большой скандал, поскольку в них вина за депортацию евреев отчасти возлагалась на еврейские же организации), Ханна Арендт снова посетила Германию. К тому времени ее главный философский труд, «Vita activa», был издан и здесь. Ханна заехала во Фрайбург. «Я написала Хайдеггеру, что буду тогда-то и тогда-то, он может со мной связаться. Он не ответил, но это меня не удивило, так как я даже не знала, в городе ли он». Как рассказывает Эттингер, Кайзер, фрайбургский профессор права, пригласил Ханну Арендт к себе в гости, на какой-то праздник; Ханна попросила его пригласить и Ойгена Финка, которого знала со студенческих времен и с которым хотела увидеться. Но Финк, когда к нему обратились, «бесцеремонно» отказался прийти. Ханна могла найти этому только одно объяснение: очевидно, тут не обошлось без Хайдеггера – он-то и убедил Финка отклонить приглашение, причем именно из-за нее.
Три месяца спустя она писала Ясперсу: «История с Хайдеггером крайне неприятна… Я объясняю все это… тем, что прошлой зимой впервые прислала ему одну из моих книг… Я знаю, для него невыносимо появление моего имени в печати, писание мною книги и т. д. Я как бы обманывала его на протяжении всей моей жизни, ведя себя так, словно ничего этого не существует и я, так сказать, не умею считать до трех, кроме как в толковании его собственных вещей; тут ему всегда было очень по душе, когда оказывалось, что я умею считать до трех и иногда даже до четырех. Теперь обманывать мне стало вдруг слишком скучно, и мне дали по носу. В какой-то момент я совершенно разъярилась, но сейчас уже все прошло. Наоборот, думаю, что неким образом это заслужила – то есть и за то, что обманывала, и за внезапность прекращения игры»[403].
Пройдет пять лет, прежде чем Хайдеггер снова напишет Ханне Арендт, поздравит ее с шестидесятилетием. К письму он приложит открытку с видом Тодтнауберга и стихотворение под названием «Осень».
Тогда, в начале 1966 года, в связи с публикацией книги Александра Швана «Политическая философия в мышлении Хайдеггера», в еженедельнике «Шпигель» появилась статья, посвященная национал-социалистскому прошлому Хайдеггера. Ханна Арендт и Карл Ясперс обсуждали эту статью в своих письмах. Ханна предположила, что «заводилами» были «люди Визенгрунда-Адорно» (670), а Ясперс опроверг высказанное в «Шпигеле» подозрение, будто Хайдеггер в годы нацистского режима не поддерживал с ним отношения из-за того, что он, Ясперс, был женат на еврейке. «На самом деле и Гертруда, и я просто становились для него все более безразличными» (665), – писал Ясперс Ханне Арендт 9 марта 1966 года. «Хайдеггер не планировал прекратить общение с нами. Так получилось само собой. Я после 1945 года тоже не принимал решения никогда больше с ним не видеться, но так получилось, без специального намерения с моей стороны. Однако, как мне кажется, некая аналогия между двумя этими «ненамеренностями» явно прослеживается» (666).
И все-таки: Карл Ясперс тоже тогда еще не покончил свои счеты с Хайдеггером. Это подтверждают личные заметки Ясперса, которые через три года, когда Ясперс умер, лежали на его письменном столе. Правда, после краткого периода возобновления отношений в 1949-1950 годах Ясперс уже не думал ни о постоянной переписке с Хайдеггером, ни о личной встрече.
Последний период их интенсивного общения закончился тем, что Ясперс вновь как бы отстранился – после получения письма Хайдеггера от 7 марта 1950 года. Это произошло вскоре после первого приезда Ханны в Германию. Именно Ханна посоветовала Хайдеггеру поговорить с Ясперсом начистоту, и Хайдеггер ему написал: «Я не приезжал в Ваш дом с 1933 года не потому, что там жила еврейская женщина, а потому, что мне просто было стыдно» (Переписка, 271). Ясперс в коротком ответном письме поблагодарил за «откровенное объяснение» (Переписка, 272), но затем молчал два года. А потом все-таки ответил – 24 июля 1952 года; и при чтении этого документа нельзя не почувствовать, как сильно насторожил его профетический тон, в котором было выдержано последнее письмо Хайдеггера. Хайдеггер писал, что «дело зла не завершилось» и что «в этой бесприютности… скрывается преддверие Рождества, чьи самые далекие знаки мы, вероятно, все же можем ощутить в легком дуновении и должны воспринять, чтобы сохранить их для будущего» (8.4.1950, Переписка, 277-278). Ясперс ответил: «…не является ли… философия, прозревающая и поэтизирующая в таких фразах Вашего письма, рождающая видения ужасного, опять-таки подготовкой победы тоталитарного – в силу того, что отрывается от действительности?» По поводу упомянутого Хайдеггером «Рождества» Ясперс заметил: «Это – насколько я понимаю – чистое мечтание в ряду многих, которые… обманывали нас на протяжении этого полувека» (24.7.1952, Переписка, 287).
После этого письма Ясперс и Хайдеггер обменивались только более или менее короткими поздравительными посланиями ко дням рождения. В 1956 году Ясперс прочитал в статье «К вопросу о бытии», написанной Хайдеггером в связи с юбилеем Эрнста Юнгера, такие слова: «Тому, кто сегодня полагает, что видит метафизический вопрос во всей целостности его характера и истории гораздо отчетливее, [чем это делалось раньше], и соответствующим образом себя ведет, надлежало бы, раз уж он с таким чувством собственного превосходства и так охотно двигается в светлых пространствах, однажды задуматься о том, откуда он позаимствовал этот свет, позволяющий ему ясно видеть» (W, 410). Ясперс по поводу этих строк отметил в своих личных записках: «Судя по выбранным речевым оборотам, не остается, к сожалению, никаких сомнений в том, что он имеет в виду меня… Здесь начинается та мерзость, с которой я более не желаю иметь ничего общего». В том же году, когда Ханна Арендт приехала в Германию, Ясперс втянул ее в «своего рода всестороннее обсуждение» Хайдеггера. Ясперс, сообщает она Генриху Блюхеру, предъявил ей «чуть ли не ультиматум». Он потребовал от нее полного прекращения отношений с Хайдеггером. «Я пришла в ярость и заявила, что не позволю ставить мне ультиматумы».
Хайдеггер не оставил никаких «заметок о Ясперсе». В отношениях между обоими стороной, к которой стремятся, был Хайдеггер. Ясперс ощущал философскую харизму Хайдеггера, вновь и вновь подпадал под его чары. Хайдеггер же никакой подобной зависимости от Ясперса не испытывал. И все-таки именно Хайдеггер в начале двадцатых годов первым заговорил об их «боевом содружестве», имея в виду бунт против «профессорской» философии во имя экзистенции. И он же впервые упомянул о связывавшей их дружбе, даже больше того – взаимной любви: «С 23 сентября живу с Вами, уповая, что Вы мой друг. Таково доверие, на котором зиждется все в любви» (17.4.1924, Переписка, 95). Они оба дорожили этой дружбой – и тем не менее ни один из них не интересовался всерьез работами другого. Единственной книгой Ясперса, которую Хайдеггер основательно проработал, чтобы написать на нее рецензию, была «Психология мировоззрений»[404]. Но Ясперс едва ли как-то отреагировал на эту рецензию. Для него беседы с Хайдеггером имели большее значение, чем хайдеггеровские работы. Часто, читая эти работы, он делал на полях пометку: «Я его не понимаю». Однажды, уже в пятидесятые годы, Ясперс записал для себя одно высказывание Левита, с которым, видимо, был согласен: «На самом деле никто не рискнет утверждать, будто разумом понял, что представляет из себя бытие, эта тайна, о которой говорит Хайдеггер».
В самом значительном своем произведении, «Философии» (1932), Ясперс, подобно Хайдеггеру, определил важнейшую задачу философии как «поиск бытия». Но, может быть, Ясперс искал иное бытие; или, точнее: искал его по-иному. Бытие для Ясперса – это «объемлющее», которое постигается только в движении свободы, в трансцендировании. «Объемлющее» не может быть непосредственно схвачено философской мыслью.
В одной заметке, датированной 1956 годом, Ясперс противопоставляет свою и хайдеггеровскую позиции. Это как бы краткое резюме диалога между двумя философами, длившегося всю жизнь: «X.: Сама мысль есть бытие – разговоры вокруг него и указания, так к нему и не приводящие. Я.: Мысль имеет экзистенциальную значимость – что подтверждается во внутренней деятельности размышляющего (подготавливающей что-то, дающей выражение чему-то) и реализуется в его жизненной практике, – в философской же работе ничего подобного происходить не может». Хайдеггер тоже заметил это различие в позициях – и сформулировал его суть в своих лекциях о Ницше, прочитанных в зимний семестр 1936/37 года (правда, соответствующие пассажи он не включил в книжное издание этих лекций, появившееся при жизни Ясперса). По Хайдеггеру, для Ясперса философия в принципе есть лишь «иллюзия, используемая в целях нравственного просветления человеческой личности». Ясперс, считает Хайдеггер, более «не воспринимает всерьез» философское знание как таковое. Философия становится для него «морализирующей психологией человеческой экзистенции» (GA 43, 26).
По предположению Ясперса, свойственная Хайдеггеру переоценка значимости мышления связана с тем, что Хайдеггер – несмотря на свою полемику с наукой – в действительности еще не отказался от идеи «научной философии». Это видно из того, что он слишком заботится о точности понятий, о стройности и соразмерности архитектурного построения – чисто умозрительного и искусственного – своей концепции. Ясперс воспринимал «Бытие и время» именно как такую «сконструированную» концепцию. Правда, в поздних работах Хайдеггера Ясперс отметил радикальный разрыв с научностью, но зато он увидел в них другую крайность – абсолютизацию языка. Язык начинает заботиться только о себе самом[405] и становится цирковым трюкачеством – или пытается выдавать себя за откровение бытия, тем самым превращаясь в магию. Ясперс всегда скептически относился к хайдеггеровской философии языка. Он не рассматривал язык как «дом бытия»[406], потому что считал, что бытие, это «объемлющее», вообще не может поместиться ни в каком «доме», даже таком просторном, как язык. В письме Хайдеггеру Ясперс писал: «Ведь в сообщении язык можно привести к снятию в самой действительности – за счет действия, присутствия, любви» (6.08.1949, Переписка, 251).
Ясперс, который был убежден, что философия достигла своей цели, если стала внутренней активностью экзистенции, явственно разглядел у Хайдеггера волю к философии как к «произведению». Каждое «произведение» подчеркнуто отграничивает себя от остальной жизни. Ясперс сознавал, что его собственная философия не замкнута рамками «произведения» – и именно это ее качество казалось ему полезным для философской мысли. В этой связи он в своих заметках высказался по поводу хайдеггеровского философствования так: «С самого начала это было специфически философское произведение, надежно хранившее его [Хайдеггера] языковой акт и его тему, отграниченное – как нечто особое – от остальной жизни и как бы вынутое из нее… Мой же способ в определенном смысле характеризуется отсутствием такой отграниченности… Этот способ мышления не признает никакого разделения между повседневным мышлением и философствованием, между докладом, читаемым с университетской кафедры, и обычным разговором».
И тем не менее, несмотря на свою критику Хайдеггера и свое размежевание с ним, Карл Ясперс всегда признавал, что в нашем «бедном философской мыслью мире» Хайдеггер является «уникальной фигурой».
В своей последней заметке о Хайдеггере Ясперс, тогда уже седой старик, писал: «На широком скалистом плоскогорье высоко в горах издавна встречались философы одного времени. Оттуда открывается вид на заснеженные вершины гор, а ниже видны долины, где живут люди; горизонт простирается до самого неба. Солнце и звезды там ярче, чем в других местах. Воздух так чист, что не содержит в себе никакой примеси, так прохладен, что в нем не может сгуститься никакая дымка, так прозрачен, что мысли в ее парении открываются необозримые дали. Попасть туда нетрудно. Наверх ведет множество тропок, и надо только решиться время от времени оставлять свое жилище, чтобы там, наверху, узнавать подлинное. Там философы вступают между собой в удивительную, беспощадную борьбу. Они захвачены силами, которые борются друг с другом посредством человеческих мыслей… Ныне на такой высоте уже, кажется, никого не встретишь. Мне показалось, что я, постоянно размышляя и тщетно пытаясь отыскать людей, которые сочли бы мои размышления важными, встретил там одного, всего одного. Но он оказался моим учтивым врагом. Ибо силы, которым служили мы, были непримиримы. Вскоре мы уже не могли говорить друг с другом. Радость превратилась в безутешную боль, как если бы была упущена возможность, бывшая где-то рядом. Так случилось у меня с Хайдеггером»[407].
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
«Другая публичность». Хайдеггеровская критика техники: «постав» и «отрешенность». На родине своих грез: Хайдеггер в Греции. Место, где родились новые грезы: семинары в Леторе (Прованс). Медард Босс. Цолликонские семинары: Dasein-анализ как терапевтический метод. Сон о выпускных экзаменах.
Когда в начале пятидесятых годов во Фрайбургском университете шли переговоры о возвращении Хайдеггеру статуса профессора-пенсионера (с правом преподавания), раздавались голоса, которые не только выражали сомнения политического характера, но и задавались вопросом, не является ли Хайдеггер просто модным философом, а то и шарлатаном. Сохранил ли он еще научную респектабельность, не утратил ли ее непременный атрибут – различимый за версту «запах академической конюшни»? Ведь ходят слухи, будто Хайдеггер выступает с докладами в дорогом санатории на Бюлерхёэ, перед дамами и господами из высшего общества, и еще в «Бременском клубе» – перед судовыми маклерами, коммерсантами, капитанами… Действительно, Хайдеггер, долгое время лишенный возможности выступать на университетском форуме, искал для себя «другую публичность». Связи с Бременом у него сохранились еще с начала тридцатых годов. А завязались они благодаря Генриху Виганду Петцету, выходцу из бременской буржуазной семьи, будущему культурологу, который учился у Хайдеггера и на всю жизнь остался его преданным почитателем. Все началось с того, что Хайдеггер прочитал в «Клубе», в неформальной обстановке, доклад «О сущности истины». Тогда и завязалась его дружба с семьей Петцетов. Отец Генриха Виганда Петцета был состоятельным судовым маклером, и Хайдеггер несколько раз гостил на летней вилле этой семьи, в баварском Икинге. В конце войны он даже отвез туда часть своих рукописей. Поздней осенью 1949 года Хайдеггеру предложили выступить с докладами в Бремене. Первый цикл под общим названием «Прозрение в то, что есть» (отдельные доклады назывались: «Вещь», «Постав», «Опасность», «Поворот») Хайдеггер прочитал 1 и 2 декабря 1949 года в каминном зале Новой ратуши. Собравшаяся публика была исполнена благоговейного внимания, а открывал это мероприятие сам бургомистр. Хайдеггер начал свое выступление так: «Именно здесь девятнадцать лет назад я прочитал доклад и высказал в нем вещи, которые только теперь постепенно начинают доходить до сознания и становиться действенными. Тогда я отважился на что-то – и сегодня тоже хочу на что-то отважиться!»
Почтенные бюргеры этого ганзейского города, пригласившие Хайдеггера, тоже испытывали гордость оттого, что кое на что «отважились». Ведь в отношении Хайдеггера все еще действовал официальный запрет на преподавание, потому они и сочли своим долгом поддержать философа, который пострадал в результате несправедливости и враждебных происков, – здесь на это смотрели именно так, – предоставив ему возможность свободно высказаться в их свободном городе. За первым циклом докладов последовали другие восемь, с которыми Хайдеггер выступал в Бремене в пятидесятые годы. Готфрид Бенн в 1953 году спросил своего друга, коммерсанта Ф. В. Эльце, что, по его мнению, так прочно связывает Хайдеггера с Бременом. Эльце, который принадлежал к бременскому высшему обществу и потому должен был быть в курсе подобных вещей, ответил: «Я объясняю его привязанность к Бремену тем, что здесь, и, может быть, только здесь он встречается с представителями того социального слоя, который в таком компактном большинстве просто не представлен ни в университетских, ни в чиновничьих городах, ни на Бюлерхёэ: с крупными коммерсантами, специалистами по заокеанской торговле, директорами пароходств и верфей – со всеми этими людьми, для которых любой знаменитый мыслитель является сказочным существом или полубогом».
Хайдеггеру нравилась эта среда крупной либерально-консервативной буржуазии. Эти деловые люди, получившие солидное, большей частью гуманитарное образование, ничего не знали о борьбе академических направлений; в их представлении философия была своего рода светской религией, которая, как они полагали, совершенно необходима в ситуации послевоенной разрухи, даже если и не совсем понятна в своих деталях. А может, необходима именно потому, что непонятна. Непонятность, внушающая благоговение, – разве не это всегда воспринималось как признак феноменов высшего порядка? Хайдеггера пригласили люди, которые хотели доказать свою «светскость» среди прочего и тем, что им не совсем чужд экзотический философский мир. Тот факт, что здесь Хайдеггера понимали не особенно хорошо, признавал даже Петцет, для которого было очень важно навести мосты между родной для него средой и почитаемым в этой среде философом. И, тем не менее, Хайдеггер избрал именно этот форум – где, как он чувствовал, у него был люфт, «свободный зазор», – чтобы опробовать на нем пилотный проект своей поздней философии. В Бремене он впервые изложил слушателям свои трудные и странные рассуждения о поставе, прозрении (Einblick) и (молниеносном) озарении (Einblitz), о «зеркальной взаимоотраженности четверицы неба и земли, смертного и божественного»[408]. В репортаже, который через несколько дней поcле первого доклада опубликовал Эгон Виетта, говорилось: Бремен может гордиться тем, что Хайдеггер приехал именно сюда, «чтобы отважиться на самое смелое до сей поры изложение своих мыслей».
Еще одним форумом стал для Хайдеггера курзал «Бюлер-хёэ», санатория, расположенного в горах Северного Шварцвальда, выше Баден-Бадена. Врач Герхард Штрооман открыл этот санаторий в начале двадцатых годов, в здании, построенном в стиле модерн, где раньше находилось казино. Штрооман был врачом того же типа, к которому принадлежал надворный советник Беренс, персонаж «Волшебной горы» Томаса Манна. Склонный к интригам, деспотичный, от природы наделенный харизмой, которой и должен обладать курортный врач, Штрооман предлагал своим состоятельным пациентам, съезжавшимся со всей Европы, курс лечения, при котором основное внимание уделялось терапевтическому воздействию «творческого духа». Творческих людей не только приглашали со стороны, их было немало и среди самих пациентов. Здесь, например, лечились Эрнст Толлер, Генрих Манн, Карл Кереньи, а приглашали в двадцатые – тридцатые годы всех, кто сделал себе имя и добился авторитетного положения в духовной сфере. После войны Штрооман сумел возобновить эту традицию. В 1949 году он ввел в обиход так называемые «вечера по средам», которые регулярно устраивались до 1957 года. На этих вечерах, собиравших все больше публики и вызывавших все больший интерес со стороны средств массовой информации, обсуждались «великие духовные проблемы современности». Ученые, деятели искусств, политики выступали с докладами и отвечали на вопросы присутствовавших, которые благодаря таким дискуссиям могли ощущать себя частью духовной элиты. В пятидесятые годы самым известным местом, где практиковался «жаргон подлинности», бесспорно был санаторий «Бюлерхёэ». Подтверждением тому не в последнюю очередь служат и личные записи Штроомана, касающиеся вечеров с участием Хайдеггера: «Хайдеггер… выступал в «Бюлерхёэ» четыре раза, и каждый раз его доклад, само его появление на кафедре вызывали совершенно исключительный ажиотаж – такой бурной реакцией слушателей не мог бы похвастаться никто другой из наших современников… Но кто способен остаться равнодушным к сметающей все преграды могучей силе его мышления и знания, силе, которая в каждом слове проявляет свой новаторский, творческий характер и свидетельствует о существовании еще неоткрытых источников?» Вечера с участием Хайдеггера воспринимались «как праздник, как насквозь прокаливающее пламя. Слово замирало на устах. Если же все-таки завязывалась дискуссия, это подразумевало величайшую ответственность, но и крайнюю опасность». Публика в «Бюлерхёэ» – та самая, что брала на себя «величайшую ответственность» и подвергалась «крайней опасности», – состояла из богатых баден-баденских рантье, промышленных воротил, банкиров, замужних дам, чиновников высокого ранга, политиков, зарубежных знаменитостей и немногих студентов, которых легко было отличить от других по их скромной одежде. Здесь-то и читал свои доклады Мартин Хайдеггер, иногда, сверх того, вступая в дискуссии, – например, с афганским министром культуры он как-то раз поспорил об абстрактном искусстве и о значении слова «уступать, допускать» (einraumen). В другой раз речь зашла о поэзии и ритме. Хайдеггер прокомментировал чьи-то слова, сказав, что ритм в жизни и поэзии есть «игра взаимодействия между Откуда и Куда» (Widerspiel des Woher und Wozu)[409]. Публика растерялась, Хайдеггера попросили пояснить свою мысль. Кто-то невежливо крикнул: «К чему вообще всегда все объяснять!» Хайдеггер на это ответил: «Вы заблуждаетесь – мы здесь хотим не объ-яснять, а про-яснять!» Дискуссия продолжалась еще некоторое время, потом стала затухать. И вдруг возглас: «Вы позволите теперь и даме кое-что сказать – чтобы разрядить обстановку?!» Все смущенно молчат. Секретарша Штроомана собирается с духом и цитирует индийскую пословицу: «Тот, кто понял тайну колебаний, понимает всё». Другая дама соглашается с ней и говорит, что поэт не в силах сам создать божественный образ, он лишь ткет покрывало, за которым этот образ угадывается. Теперь в зале снова воцаряется оживление, потому что дама, которая только что выступала, весьма привлекательна. «А возможно ли вообще существовать без произведений искусства?» – кричит кто-то; другой голос: «Лично я прекрасно обхожусь без них». Третий недовольно бурчит, что стремление «попасть в ритм и оставаться в нем», о котором здесь только что спорили, есть чистейшей воды дадаизм и для довершения картины не хватает лишь, чтобы мы, отказавшись от членораздельной речи, перешли на лепет. Поднимается гвалт, теперь все пререкаются еще громче и с большим раздражением. Но уже начинается следующий номер программы. На подиум выходят Густав Грюдгенс[410] и Элизабет Фликеншильдт, чтобы разыграть скетч на тему «Дух современной сцены». Хайдеггер покидает зал, не дождавшись конца представления…
В конце пятидесятых годов сложилась традиция завершать «вечера по средам» «утренниками», которые устраивались на следующий день. Однажды Хайдеггер уехал сразу после вечернего выступления, но его брат остался. Некая дама, видимо, приняв Фрица за Мартина, спросила его, что он думает о Мао Цзэдуне. Хитроумный Фриц ей ответил: Мао Цзы – постав Лао-Цзы[411].
К тому времени, когда состоялся этот разговор, хайдеггеровский термин постав как обозначение технического мира был уже известен во всей Германии. Впервые Хайдеггер использовал его в Бремене. Но знаменитым это слово стало только после доклада «Вопрос о технике», прочитанного Хайдеггером в 1953 году в Баварской академии изящных искусств.
С начала пятидесятых Баварская академия неоднократно приглашала Хайдеггера выступать с докладами. Поначалу в Мюнхене находилось много активных противников этих приглашений. По этому поводу были даже дебаты в ландтаге, в ходе которых министр Хундхаммер порицал Академию за то, что она предоставляет слово Хайдеггеру, «бывшему приспешнику нацистского режима». В то время как студенты из Вены, Франкфурта и Гамбурга специально приехали в Мюнхен, чтобы послушать впервые выступавшего там Хайдеггера, Кантовское общество, очевидно, заботясь о душевном здоровье своих членов, объявило на тот же вечер альтернативный доклад. Летом 1950-го Хайдеггер вообще едва не отказался читать этот свой первый мюнхенский доклад. Ему отправили телеграмму, в которой просили изменить название доклада. Но в текст телеграммы вкралась ошибка, и на месте слов «название доклада» (Vortragstitel) стояло «стиль доклада» (Vortragsstil). Хайдеггер решил, что на него оказывают давление, требуя от него некоего соответствующего общепринятым нормам «стиля». И с возмущением написал Петцету: «Это, в конце концов, переходит всякие границы… Не говоря уже обо всем прочем, о самой манере поведения этих людей, они даже не считают меня способным прочитать для их академии что-нибудь стоящее. Ничего подобного со мной не случалось за весь гитлеровский период». Когда недоразумение разъяснилось, Хайдеггер согласился приехать в Мюнхен, но Петцету сказал: «Все-таки ситуация остается двусмысленной, и это неизбежная дань поставу». Вечером того дня, когда должен был состояться доклад, публика в буквальном смысле штурмовала зал Академии. Приглашенных гостей теснили те, кого никто не приглашал и кто устраивался на принесенных с собою стульях, на ступеньках и подоконниках, в нишах и проходах. Доклад назывался «Вещь». Речь в нем опять шла о «единой четверице» мира, но когда Хайдеггер заговорил о «зеркальной игре едино-сложенности земли и неба, божеств и смертных» (Вещь, 324), присутствовавшему в зале статс-секретарю показалось, что это уже чересчур, и он, возмущенный, покинул аудиторию, с трудом прокладывая себе дорогу. Это произошло летом 1950-го, а три года спустя Хайдеггер там же читал свой доклад «Вопрос о технике». В тот вечер послушать его собралась вся культурная элита Мюнхена пятидесятых годов. В зале присутствовали Ханс Каросса[412], Фридрих Георг Юнгер, Вернер Гейзенберг, Эрнст Юнгер, Хосе Ортега-и-Гассет[413]. Пожалуй, это был самый большой публичный успех Хайдеггера в послевоенной Германии. Когда Хайдеггер закончил свое выступление словами (которые мгновенно стали знаменитыми) о том, что «вопрошание есть благочестие мысли» (Вопрос о технике, 238), благоговейного молчания не последовало – слушатели поднялись на ноги и раздался гром аплодисментов. Выступление Хайдеггера восприняли как философскую арию бельканто, и овации объяснялись тем, что он взял самые высокие ноты, столь любимые в пятидесятые годы.
Формулируя свои идеи о технике, Хайдеггер отчасти облекал в слова тайные – впрочем, тогда уже не совсем тайные – страхи своих современников. Он был не единственным, кто это делал. В эпоху «холодной войны», когда как бы сама собой напрашивалась мысль о том, что политика это и есть судьба, все чаще и громче раздавались голоса тех, кто критиковал такую чрезмерную сосредоточенность на политическом аспекте жизни, как самообман, и говорил, что в действительности нашей судьбой стала техника. Более того, мы уже не можем воздействовать на эту судьбу политическими средствами – прежде всего потому, что цепляемся за унаследованные от прошлого политические понятия, такие, как «плановая экономика» или «рынок». Конечно, в пятидесятые годы сказывалась «неспособность» немцев (на которую позже будет жаловаться Мичерлих[414]) к осмыслению своей общей ответственности за преступления национал-социализма, о тревожном и страшном прошлом старались забыть, однако вопреки «экономическому чуду» и азарту строительства нового благоустроенного общества люди все с большей тревогой думали о будушем нашего технизированного мира. Этой теме посвящались многочисленные заседания евангелических академий, она звучала в воскресных речах политиков, широко обсуждалась на страницах журналов. Ее непосредственным политическим выражением стало движение «Борьба против атомной смерти». Появился и целый ряд важных книг, так или иначе связанных с проблемой технизации. Первая после войны волна интереса к Кафке прокатилась под знаком метафизической критики техники и жестко управляемого мира. Гюнтер Андерс в 1951 году приобрел известность благодаря своему эссе «Кафка, за и против», где он изобразил Кафку как поэта, который пришел в ужас от «сверхвластия овеществленного мира» и превратил этот ужас в «священный» страх; как своего рода мистика технической эпохи. В 1953 году появилось немецкоязычное издание «Прекрасного нового мира» Олдоса Хаксли[415], бестселлера пятидесятых годов. Этот роман – кошмарное видение некоего мира, в котором людей создают в пробирках, заранее программируя их на ощущение счастья и на их будущую профессию; мира, судьба которого заключается в том, что он не может иметь никакой судьбы, и который складывается в тоталитарную систему – без всякого воздействия со стороны политики, только за счет технического развития. В том же году вышла книга Альфреда Вебера[416] «Третий или четвертый человек». Она вызвала большой интерес, так как в ней страшная картина будущей технической цивилизации людей-роботов описывалась языком научной социологии и философии культуры. Кроме того, книга давала читателю почувствовать, что он является современником эпохального перелома – третьего в истории человечества. Сначала были неандертальцы, потом их сменили первобытные (дикие) люди, объединявшиеся в орды и племена, и наконец появился человек высокоразвитой культуры (der Hochkultur[417]), который и стал создателем западной техники. Однако, как считает Альфред Вебер, нынешнему человечеству, уже достигшему ступени высокоос-нащенной технической цивилизации, опять грозит душевная и духовная деградация. Ибо происходящее сейчас с нами, по мнению Вебера, есть не что иное, как социогенез некоей мутации человеческого вида. В конце этого процесса останутся только два типа людей: «башковитые животные» (Gehirntiere), функционирующие подобно роботам, и новые дикари, которые будут бродить в искусственном мире как в джунглях, не умея сдерживать своих инстинктивных порывов, не понимая, что с ними происходит, и постоянно испытывая страх. От подобных прогнозов становилось жутко – и именно потому они отчасти воспринимались как развлекательная литература.
Опять-таки в 1953 году была опубликована книга Фридриха Георга Юнгера[418] «Завершенность техники» («Die Perfektion der Technik»). Юнгер разработал свою теорию еще в тридцатые годы, в ответ на большое эссе «Рабочий», написанное его братом в 1932 году. Эрнст Юнгер в этой работе утверждал, что технический мир до тех пор будет оставаться чуждой человеку и внешней по отношению к нему силой, пока мы не достигнем «завершенности техники»[419] посредством технизации внутреннего мира человека. Эрнст Юнгер мечтал о «новом человечестве», воплощение которого видел в «гештальте рабочего»[420]. Человеку нового типа, разумеется, соответствует ландшафт, характерные признаки которого – «ледяная геометрия света», «доведенный до белого каления металл»[421]. Такой человек отличается быстротой реакции, он хладнокровен, точен, мобилен, легко приспосабливается к техническим ритмам. Однако он остается господином машин, потому что обладает внутренней техничностью: то есть он обращается с самим собой как с техническим средством; он может, подобно «свободному человеку», который однажды пригрезился Ницше, использовать свои «добродетели» как «орудия», «выдвигать и снова прятать их» – по своему желанию и в соответствии со своими целями[422]. Такие люди, полагал Эрнст Юнгер, не будут воспринимать как катастрофу наступление ситуации, когда исчезнут «последние остатки комфорта» и в их жизненном пространстве появятся «участки, которые пересекаешь как окрестности вулкана или вымершие лунные ландшафты»[423]. Что ж, авантюрные сердца[424] не боятся холода…
Мы все погибнем в этом холоде, отвечал Фридрих Георг Юнгер своему брату (который, впрочем, и сам уже к тому времени перешел из лагеря апологетов техники в лагерь ее противников, «любителей лесных прогулок»). Главный тезис Фридриха Георга Юнгера: техника уже перестала быть только «средством», или инструментом, которым современный человек пользуется для достижения своих целей. Поскольку техника внутренне преобразила человека, те цели, которые он может перед собой ставить, уже технически детерминированы. К промышленному производству относится и производство потребностей. Зрение, слух, речь, поведение и способы реагирования, даже сам опыт восприятия времени и пространства коренным образом изменились после появления автомобилей, кино и радио. Собственная динамика этого процесса более не оставляет ничего «по ту сторону» техники. Основная черта технической цивилизации – не эксплуатация человека человеком, а принявшая гигантский размах эксплуатация Земли. Индустриализм повсюду выискивает энергетические ресурсы, которые накапливались на протяжении всей естественной истории нашей планеты, хищнически потребляет их и тем самым делает своей судьбой энтропию: «Техника в целом и обусловленный ею универсальный рабочий план, ориентированный на совершенную техничность, этот рабочий план, который связан с универсальной механизацией, подчиняются законам учения о теплоте и несут описанные этими законами потери ничуть не в меньшей степени, чем любой единичный механизм». Поскольку техника все делает доступным, не признавая неприкосновенности или святости чего бы то ни было, она разрушает тот планетарный фундамент, на котором сама же зиждется. Этот фундамент пока еще вьщерживает тяжесть несомой им конструкции, часть населения Земли еще наслаждается преимуществами обеспечиваемого цивилизацией комфорта, и потому цена, которую приходится платить за «завершенность техники», пока представляется приемлемой. Но, как известно, видимость обманчива. По словам Фридриха Георга Юнгера, «не началу, а концу приходится нести на себе тяжкое бремя». Эти Кассандровы крики обличителей технического прогресса кое-кому из современников казались смехотворными. «В кабинете ужасов техники» – так называлась статья, опубликованная в журнале «Монат», автор которой пытался доказать, что зло заключено не в самой технике, а в человеке. «Злыми» могут быть только цели, для достижения коих используется техника, к самой же технике понятие «злое» неприменимо. Следует остерегаться демонизации техники – и, значит, нужно внимательнее приглядываться к «технике демонизации». «В страхе перед техникой сегодня повторяется – на более высоком духовном уровне и в более сублимированной форме – средневековое безумное поветрие ведь-мобоязни». Те, кто критикует технику, утверждали «антикритики», не принимают всерьез вызов времени и уклоняются от разработки новой этики, соответствующей современной технике. А между тем, если бы мы уже располагали такой этикой, мы могли бы ничего не бояться. Одним из выразителей идей «антикритики» был Макс Бензе. «Мы построили мир, – говорил он, – и вся традиция, уходящая чрезвычайно далеко в глубь времен, свидетельствует о том, что он действительно порожден усилиями (даже самыми давними) нашего интеллекта. Однако сегодня мы уже не способны господствовать над этим миром посредством теоретического осмысления, духа, интеллекта и рационального мышления. Отсутствует теория мироустройства, а значит, и ясная «техническая» этика, то есть возможность иметь адекватные бытию этические суждения, находясь внутри этого мира… Мы, возможно, еще усовершенствуем этот мир, но мы не в состоянии усовершенствовать человека этого мира – для этого мира. Такова гнетущая ситуация нашего технического существования». Выявленное Бензе «несоответствие» между человеком и созданным им техническим миром Гюнтер Андерс (в своей вышедшей в 1956 году книге «Устарелость человека») назовет «стыдом Прометея». Человек «стыдится» своих произведений, которые более совершенны и способны оказывать большее влияние, чем он сам: если, скажем, обратиться к примеру атомной бомбы, то человек даже не способен в полной мере представить себе характер возможного воздействия этого своего создания. Итак, все тогдашние рассуждения о технике сосредоточивались вокруг одного вопроса: должен ли человек научиться быть адекватным технике, как предлагал Бензе, или, наоборот, технический прогресс следует притормозить, чтобы техника снова стала соразмерной человеку, чего хотели бы Фридрих Георг Юнгер и Гюнтер Андерc.
Так или иначе, из сказанного с очевидностью вытекает, что доклад Хайдеггера о технике (1953 года) не был единственной в своем роде попыткой философского углубления в эту сферу. Хайдеггер просто сказал свое слово в дискуссии, которая и до него уже шла полным ходом. Его отмежевание от «инструментального» представления о технике и его понимание техники как основополагающего – для эпохи Нового времени – признака бытия-в-мире не содержат в себе, если вспомнить о Фридрихе Георге Юнгере (и Гюнтере Андерсе, который сформулировал свои идеи немного позднее), ничего нового. Однако ни Юнгер, ни Андерс не затрагивали вопрос о происхождении того процесса, который превратил человеческий мир в технический универсум. Хайдеггер же хотел внести ясность именно в данный вопрос. Что он думал по этому поводу, нам уже в общих чертах известно по его философским работам тридцатых годов и в особенности по лекции «Время картины мира». Происхождение техники, как считает Хайдеггер, связано со способом нашего подхода к природе. Все дело в том, позволяем ли мы природе самой выступить из ее потаенности – как это предполагается древнегреческими представлениями об «алетейе»[425], – или заставляем ее раскрыться. Техника, говорит Хайдеггер, есть «вид раскрытия потаенности» (Вопрос о технике, ВиБ, 225). «Выведение из потаенности, которым захвачена современная техника, носит характер предоставления в смысле добывающего производства» (там же, 227). Вокруг центрального понятия производство (Herausforderung) Хайдеггер группирует и все остальные способы технического овладения миром[426]. Совершенно противоположный смысл имеет понятие про-из-веде-ние (Hervorbringen) (там же, 226), интерпретируемое Хайдеггером как «выведение к явленности (Hervorkommenlassen)». Ми-келанджело однажды сказал, что статуя уже заключена в камне, ее надо лишь высвободить оттуда. Примерно так же мы должны представлять себе то, что имел в виду Хайдеггер, когда рассуждал о про-из-веденш и «выведении к явленности».
Эти два способа отношения к природе – «производство» и «про-из-ведение» (выведение к явленности) – Хайдеггер образно охарактеризовал в лекционном курсе «Что значит мыслить?», прочитанном незадолго до доклада о технике. Там он привел пример с человеком, который стоит перед цветущим деревом. Только в тот миг, когда человек не имеет никаких связанных с этим деревом научных или практических интересов, он может подлинно пережить его цветение. Если же он посмотрит на то же дерево с научной точки зрения, то просто «опустит» свое переживание цветения как наивное ощущение, не имеющее отношения к делу. Однако Хайдеггер утверждает, что необходимо «прежде всего и в конце концов не «опускать» цветущее дерево, а позволить ему стоять там, где оно стоит. Почему мы говорим «в конце концов»? Потому что до сих пор мышление не позволяло ему стоять там, где оно стоит» (WHD, 18). Иными словами, мы не позволяем природе показать себя, а заставляем ее показаться, подходим к ней таким образом, что она вынуждена «представлять себя как расчетно предсказуемую систему сил» (Вопрос о технике, ВиБ, 230).
Наряду с производством, вторым центральным в этой Хайдеггеровской работе термином является поставление (Bestellen). Все то, что поставляется, становится состоящим-в-наличии (Bestand), то есть тем, чем человек может распоряжаться по своему усмотрению. Мост, соединяющий один берег с другим, аркой изгибается над рекой и самой этой «позой» как бы оказывает ей уважение. Позволяет реке – быть. Но гидроэлектростанция, ради которой русло реки отводят в другую сторону или спрямляют, превращает эту реку в состоящее-в-наличии. Получается, что не гидроэлектростанция встроена в реку, а, напротив, «река встроена в гидроэлектростанцию» (там же, 227). Чтобы продемонстрировать всю чудовищность того, что здесь происходит, Хайдеггер указывает на разницу между тем «Рейном», что встроен в гидроэлектростанцию, и тем, о котором идет речь в одноименном гимне Гёльдерлина. На это можно возразить, что Рейн и в первом случае все-таки остается рекой, существующей в определенном ландшафте. Может быть, и остается, говорит Хайдеггер, но каким образом эта река существует? «Только как объект, предоставляемый для осмотра экскурсионной компанией, развернувшей там индустрию туризма» (там же).
Техническое вмешательство превращает природу в действительное или потенциальное состоящее-в-наличии. И чтобы эта «наличная недвижимость», так сказать, не рухнула кому-нибудь на голову, необходимы «управление, организация и обеспечение» всего состоящего в наличии. Техника требует все больше техники. С последствиями применения техники можно справиться только с помощью технических же средств. Природе был брошен вызов, теперь она бросает человеку вызов, требуя, чтобы он продолжал…[427] – и угрожая ему в противном случае гибелью. Так круг замыкается, превращаясь в порочный круг забвения бытия. Производство, состоящее-в-наличии, обеспечение состоящего-в-наличии – все это вместе Хайдеггер называет поставом (Gestell)[428], определяя данным термином саму эпоху технической цивилизации, в которой каждый элемент связан со всеми другими своего рода кибернетической системой автоматической регулировки с эффектами обратной связи. Система индустриального общества «держится только тем, что поставлена на предоставление поставляемого ею» (там же, 227).
Постав есть нечто, что может осуществляться только людьми, но мы потеряли свою свободу по отношению к нему. Постав превратился в нашу судьбу (Geschick)[429]. Опасность этой ситуации заключается в том, что жизнь в поставе может стать одномерной, безальтернативной, что само воспоминание о другом способе встречи с миром и пребывания в нем угаснет. «Угроза человеку идет даже не от возможного губительного действия машин и технических аппаратов. Подлинная угроза уже подступила к человеку в самом его существе. Господство no-става грозит той опасностью, что человек окажется уже не в состоянии вернуться к более исходному раскрытию потаенного и услышать голос более ранней истины» (там же, 234).
Что подразумевал Хайдеггер под «более ранней истиной», мы уже знаем. Это истина свободного взгляда на вещи, взгляда, который позволяет сущему – быть. Позволяет дереву – цвести; и находит выход из Платоновой пещеры, чтобы под солнцем, в просвете бытия, сущее могло стать «еще более сущим». Речь идет о «послеполуденном отдыхе Пана», о часе истины. О надежде, что природа могла бы ответить и по-другому, если бы мы по-другому задали ей вопрос. Хайдеггер в «Письме о гуманизме»: «Может, наоборот, оказаться, что природа как раз утаивает свое существо в той своей стороне, которой она повертывается к технически овладевающему ею человеку» (ВиБ, 198).
Однако Хайдеггер не удовлетворился допущением того, что вдумчивое мышление может позволить цветущему дереву стоять, как оно стоит, и что вообще в сфере мышления время от времени случается иное бытие-в-мире; нет, он спроецировал изменение установки, возможное в мышлении, на «большую» историю. То есть, поскольку в его собственной голове уже совершился поворот, он предположил, что такой же поворот возможен в истории… Так Хайдеггер нашел превосходный (с драматургической точки зрения) конец для своего доклада – конец, который оставил у слушателей праздничное ощущение, что они выслушали нечто очень серьезное, и в то же время утешительное. Хайдеггер завершил свое выступление цитатой из Гёльдерлина: «Но где опасность, там вырастает / И спасительное…»[430]
Конечно, мысль, которая пытается осмыслить роковую систему постава, уже благодаря этой попытке выдвигается над собой, для нее открывается зазор, в котором только и можно разглядеть, что, собственно, происходит. В таком мышлении действительно свершается «поворот». Суть этого поворота – в новой позиции отрешенности, позиции, которую Хайдеггер (в своем мескирхском докладе 1955 года) описал так: «Мы впустим технические приспособления в нашу повседневную жизнь и в то же время оставим их снаружи, т. е. оставим их как вещи, которые не абсолютны, но зависят от чего-то высшего. Я бы назвал это отношение одновременно «да» и «нет» миру техники старым словом – «отрешенность от вещей»»[431]. Правда, такое объяснение «отрешенности от вещей», понимаемой как поворот мышления, заставляет усомниться в возможности реально-исторического поворота.
На упрек в недостаточном правдоподобии Хайдеггер, вероятно, ответил бы, что «правдоподобие» – это категория технически-просчитывающего мышления; что тот, кто думает о «правдоподобии», остается в рамках постава – даже если пытается из них вырваться. Для Хайдеггера просто не существует «осуществимого» решения проблемы техники. «Человеческие расчет и осуществление [расчета] сами по себе и только посредством самих себя не могут произвести поворот современного состояния мира; не могут хотя бы уже потому, что человеческая планирующе-реализующая деятельность (Machenschaft) подвластна этому состоянию мира и несет на себе его отпечаток. Как же тогда она могла бы подчинить его себе?» (24.12.1963, BwHK, 59). Поворот совершится как событие судьбы или не совершится вовсе. Но это событие, даже еще не свершившись, отбрасывает тень – и вдумчивое мышление его предчувствует. О подлинном повороте можно сказать то же, что апостол Павел сказал о грядущем возвращении Христа: он «придет, как тать ночью»[432]. «Поворот, превращающий опасность в спасение, совершится вдруг. При этом повороте внезапно высветлится свет бытийной сути. Внезапное просветление есть молниеносная озаренность» (Поворот, ВиБ, 256).
Но все это только грезы о грядущей судьбе… Другое дело, что Хайдеггер, всю жизнь вдохновлявшийся ими, в конце концов все-таки попал в то место, которое было их родиной – родиной пусть и бывшей, однако продолжавшей бытийствовать.
После долгих колебаний – Медард Босс, Эрхарт Кёстнер и Жан Бофре уже не один год уговаривали его решиться на это – Мартин Хайдеггер в 1962 году совершил путешествие в Грецию, вместе со своей женой, которая и сделала ему такой подарок. О том, что влекло его туда, Хайдеггер говорил много раз, в том числе и в докладе о технике: «В начале европейской истории в Греции искусства поднялись до крайней высоты осуществимого в них раскрытия тайны. Они светло являли присутствие богов, диалог божественной и человеческой судьбы» (Вопрос о технике, 237).
В первый раз Хайдеггер стал планировать поездку в Грецию еще в 1955 году – он хотел отправиться туда вместе с Эрхартом Кёстнером, с которым познакомился в Мюнхене, когда читал свой доклад о технике, и с которым с тех самых пор его связывала близкая дружба. Но в последний момент, когда им уже доставили билеты на пароход и на поезд, Хайдеггер отказался ехать. Пять лет спустя повторилось то же самое. Они вместе сидели над картами, разрабатывали маршрут, а потом вдруг Хайдеггер опять передумал. «Все останется так, – написал он Кёстнеру, – что я по-прежнему буду позволять себе кое-что думать о «Греции», не видя ее. Я сейчас должен думать о том, как удержать стоящее перед моим внутренним взором в подобающих словах. Добиться необходимой для этого сосредоточенности скорее всего будет легче в родных местах» (21.2.1960, BwHK, 43). И все-таки еще через два года, весной 1962-го, Мартин Хайдеггер наконец почувствовал себя готовым переступить через «порог грезы» (Эрхарт Кёстнер) и увидеть реальную Грецию. Записки об этом путешествии, которые он назвал «Остановки в пути» («Aufenthalte»), Хайдеггер посвятил своей жене, отметив таким образом ее семидесятилетие.
В дождливый, холодный день, в Венеции, когда он ждал посадки на пароход, его снова охватили сомнения: «… не может ли все то, что он примысливал стране бежавших богов, оказаться пустым вымыслом, и самый путь его мышления – ложным путем?» (А, 3). Хайдеггер понимал, что рискует многим. А вдруг Греция встретит его так же, как эта Венеция, давно превратившаяся в мертвый «объект истории», «отданный на разграбление индустрии туризма»? После двух ночей плавания рано утром показался остров Корфу, древняя Кефалления. Неужели это и есть страна феаков? Хайдеггер, сидя в шезлонге на верхней палубе, еще раз перечитал VI книгу «Одиссеи», но не нашел никакого сходства. То, что он надеялся увидеть, не показывалось. Все скорее походило на итальянский ландшафт… Его не тронула и Итака, родина Одиссея. Хайдеггер уже опять сомневался: поиски «изначально-греческого» – правильный ли это путь, чтобы открыть Грецию? А вдруг «непосредственное восприятие» (А, 5) только осквернит, погубит страну его грез? Корабль бросил якорь у берега, и солнечным весенним утром автобус повез их в Олимпию. Ничем не примечательное селение, недостроенные корпуса американской гостиницы вдоль шоссе… Хайдеггер приготовился к худшему. Что же – от его Греции не осталось ничего, кроме «произвольных представлений» (А, 8)? На руинах Олимпии в то утро пел соловей, «барабаны будто скошенных пулеметным огнем колонн» еще сохраняли «пеньки несущих конструкций». Этот мир мало-помалу входил в Хайдеггера. В полдень – отдых на траве под деревьями, ничем не нарушаемая тишина… Только теперь он почувствовал, что, быть может, приехал не зря: мелькнуло «слабое предощущение часа Пана». Следующая остановка, окрестности Микен. Это место показалось ему «единым стадионом, приглашающим к праздничным играм» (А, 12). На холме три колонны, оставшиеся от храма Зевса: «…в шири ландшафта, как три струны невидимой лиры, на которой, быть может, неслышно для смертных, ветры играют траурные песнопения – в память о покинувших эти места богах» (А, 12). Хайдеггер начал погружаться в родную для него стихию. Пароход между тем приблизился к греческим островам, разбросанным вдоль малоазийского побережья. Вот и Родос, «остров роз». Хайдеггер не пожелал сойти на берег, «сосредоточенность на некоей новой мысли предъявила свои права» (А, 16). Греческому духу – в те, давние времена – приходилось бороться с «азиатским духом», и он был всецело захвачен этим актуальным для него противостоянием. А нам, сегодняшним людям, бросает вызов техника. Учиться у греков – не тому ли должны мы у них учиться, как вынести вызов, который бросает нам наша современность? «Вспоминающе мыслить» (Andenken[433]) о греках – не значит ли это заниматься «чуждым миру делом», которое уже в силу этой чуждости есть предательство по отношению к греческому духу, всегда открытому для восприятия актуального? «Так, по крайней мере, кажется» (А, 16) – этими словами Хайдеггер закончил абзац. Пароход тем временем причалил к Делосу. Уже само название острова говорило о многом: «явный, ясный» (А, 19). Сияло солнце, на берегу дожидались покупателей местные женщины, разложив для продажи, прямо на земле, пестрые ткани и вышивки, – «радостный вид». Если не считать этих женщин, остров оставался почти безлюдным, но везде виднелись развалины храмов и других древних построек. «Отовсюду говорило сокровенное, сопряженное с давно минувшим великим началом». По заросшей травой каменистой тропке, заваленной какими-то обломками и обдуваемой свежим ветром, Хайдеггер поднялся к иссеченной трещинами вершине Кинфа. И тут для него наступил великий миг. Горы, небо, море, острова вокруг вдруг раскрылись, показали себя, вступив в освещенный круг. «Что же это – то, что таким образом проявилось в них? На что они намекают?» Они намекают на праздник зримости, ибо позволяют всему явленному «обнаружить себя в качестве собственно присутствующего таким-то и таким-то образом» (А, 21). На самой высокой горе Делоса, с которой, в какую сторону ни посмотри, видны море и рассыпанные по нему острова, Хайдеггер отпраздновал свое прибытие в обетованную страну грез. Но почему его так поразил именно Делос? Хайдеггеровские заметки не дают материала, чтобы судить о том, чем это место превосходило другие, похожие. Может, все дело в магии названия острова? Или Хайдеггер не умел точно выразить свои ощущения? Он сдержанно упоминает о присутствии божественного – и тут же обрывает себя, желая избежать «расплывчатого пантеизма». Потом обращается к своим формулам «события истины», уже нам знакомым; однако в новом контексте формулы не воспроизводят помыс-ленное когда-то раньше, а просто указывают на место, которому эти мысли обязаны своим возникновением. Хайдеггер отказывается от попыток «удержать увиденное в чисто описательном рассказе» (А, 5) и выбирает для выражения пережитого им экстатического ощущения счастья такие слова: «То, что казалось лишь пред-ставлением, ис-полнилось, на-полнилось присутствованием – тем самым, что когда-то, прояснившись, впервые даровало грекам их присутствие» (А, 21).
А путешествие между тем продолжалось: Хайдеггер с женой побывали в Афинах, на утреннем Акрополе, еще не успевшем заполниться толпами туристов; потом в Дельфах, где в пределах священного участка кишели люди, которые, вместо того чтобы справлять «праздник мысли» (А, 32), только непрестанно щелкали фотоаппаратами. Они утратили свою память, свою способность «вспоминающе мыслить».
Однако то, что Хайдеггер пережил на Делосе, осталось для него незабываемым апогеем греческих впечатлений. Полгода спустя он писал из Фрайбурга Эрхарту Кёстнеру: «Я часто «бываю» на острове». Но: «Уместное слово об этом едва ли существует». А потому остается одно: бережно хранить в памяти эту «ошеломительность чистого присутствия» (23.8.1962, BwHK, 51).
Так закончилось первое паломничество Хайдеггера на родину его грез; потом будут и другие – в 1964, 1966 и 1967 годах.
Примерно в те же годы Хайдеггер открыл для себя Прованс, свою вторую Грецию. Приехав в 1955 году на конференцию в Серизи-ля-Саль (в Нормандии), он через Жана Бофре познакомился с французским поэтом Рене Шаром[434]. Знакомство быстро переросло в дружбу с этим человеком, которого все знали не только как поэта, но и как партизанского командира времен Сопротивления. Стихи Шара, по его собственным словам, были «насильственным вторжением в несказанное», но, тем не менее, он вновь и вновь пытался сделать фронтом этого вторжения свою любимую родину, Прованс. Туда, в свой дом около Летора (в департаменте Воклюз), он пригласил Хайдеггера. Бофре договорился с Хайдеггером о том, что в связи с приездом последнего в Летор там будет организован небольшой семинар для немногих избранных друзей и ближайших учеников Бофре, в число которых входили, например, Федье и Вазен (который позже переведет «Бытие и время» на французский язык). Такие семинары проводились в 1966, 1968 и 1969 годах. Постепенно сложился устойчивый ритуал этих встреч. До полудня все сидели в саду под платанами и под стрекотание цикад обсуждали, скажем, изречения Гераклита; или слова Гегеля: «Разорванный чулок лучше заштопанного. Но с самосознанием дело обстоит не так»; или греческое понятие судьбы; или – в 1969 году – одиннадцатый тезис Маркса о Фейербахе[435]: «Философы лишь различным образом объясняли мир, задача же в том, чтобы его изменить». Во время этих утренних разговоров под колышущимися тенистыми кронами все единодушно сходились на том, что мир следует объяснять так, чтобы люди, наконец, снова научились обращаться с ним бережно. Беседы всегда протоколировались, хотя мистраль порою разбрасывал страницы. Что ж, тогда все присутствовавшие дружно собирали эти листки и приводили их в порядок. Один из таких протоколов начинается словами: «Здесь, рядом с масличными деревьями, которые жмутся к нашему склону и спускаются до самой равнины, на просторе которой, отсюда невидная, струится Рона, мы опять начинаем со второго фрагмента (Гераклита. – Р. С.). За нами – дельфийский горный массив. Это ландшафт Ребанка. Тот, кто найдет туда дорогу, побывает в гостях у богов» (VS, 13).
После полудня все выбирались на прогулки по окрестностям – в Авиньон, на виноградники Воклюза или, чаще всего, к прославленной Сезанном горе Сент-Виктуар. Хайдеггер любил дорогу до каменоломни Бибемюса – дорогу, после поворота которой взгляду внезапно открывался весь горный массив. По этой дороге когда-то ходил Сезанн, и Хайдеггер однажды сказал: этой дороге, «от ее начала и до конца, по-своему соответствует путь моего мышления». Хайдеггер подолгу сидел на одном большом камне, прямо напротив горы, и смотрел перед собой. Сезанн как-то раз, оказавшись на этом месте, упомянул о «миге равновесия мира». Конечно, друзья Хайдеггера вспоминали в этой связи и о Сократе, который, погрузившись в свои мысли, мог часами оставаться в полной неподвижности. По вечером все опять собирались в саду у Рене Шара; Хайдеггер говорил, что в словах и в манере поведения их хозяина, даже в самом облике его дома оживает Древняя Греция. Шар же был благодарен Хайдеггеру за то, что тот снова свободным взглядом проник в сущность поэзии и понял, что поэзия есть не что иное, как «мир в самом лучшем его месте». Каждый раз, когда наступал момент отъезда Хайдеггера, Шар давал ему охапку растений – лаванду и шалфей из своего сада, тимьян и другие дикие травы, – а также оливковое масло и мед.
«Совершенно невозможно передать словами неповторимую атмосферу тех сияющих дней, – писал один из тогдашних гостей Шара, – ненавязчивое уважение к Хайдеггеру, преклонение перед ним участников семинара, которые все были проникнуты глубоким пониманием исторической значимости его революционного мышления; и вместе с тем непринужденное, по-дружески близкое общение с нашим учителем – короче говоря: южный свет, отрешенный покой и радость тех незабвенных дней» (VS, 147).
На вторую половину шестидесятых годов пришлась также самая плодотворная и интенсивная фаза семинаров в Цолликоне, в доме Медарда Босса. В этих семинарах участвовали врачи и психотерапевты – ученики и коллеги Медарда Босса, который преподавал в цюрихской университетской психиатрической клинике «Бургхельцли», где раньше работал К. Г. Юнг[436]. Медард Босс во время войны был врачом в батальоне швейцарских горных стрелков. Не особенно обремененный работой, он, чтобы развеять скуку, занялся чтением «Бытия и времени». И постепенно понял, что в этой книге «обрело словесное выражение принципиально новое, неслыханное прозрение в человеческое существование и его мир» (ZS, VIII) – прозрение, которое можно было бы плодотворно использовать и в психотерапии. В 1947 году Босс написал свое первое письмо Хайдеггеру; тот дружелюбно ответил и попросил прислать «маленькую бандероль с шоколадом». В 1949-м Медард Босс впервые приехал в Тодтнауберг. Их переписка переросла в сердечную дружбу. Мартин Хайдеггер ожидал многого от общения с этим врачом, который, казалось, понимал его мышление. «Он надеялся, – рассказывает Медард Босс, – что его философские прозрения не останутся известными только в узком кругу философов, но смогут послужить на пользу гораздо большему числу людей, прежде всего тех, которые нуждаются в помощи» (ZS, X). Цикл «цолликонских семинаров» начался в 1959 году и закончился в 1969-м. Поначалу у их участников было такое ощущение, как будто «марсианин впервые встретился с группой землян и хочет найти с ними общий язык» (ZS, XII). Но Хайдеггер терпеливо, раз за разом начиная все сызнова, объяснял им свой «основополагающий принцип», в соответствии с которым присутствие (Dasein) означает: быть открытым миру. На первом семинаре он битый час рисовал на доске полукружия, символизировавшие первичное состояние открытости. На этих семинарах Хайдеггер впервые попытался объяснить психические отклонения в свете основных понятий аналитики присутствия, как она излагается в «Бытии и времени». Обсуждались истории болезней конкретных пациентов. При этом главным всегда оставался вопрос: нарушено ли у данного человека – и если да, то в какой мере – открытое отношение к миру. «Открытое отношение к миру» (offener Weltbezug) означает: умение вынести (ausstehen)[437] настоящее, не пытаясь укрыться от него в будущем или в прошлом. Хайдеггер критиковал фрейдистский психоанализ за то, что он своими сконструированными теориями о предыстории страдания не облегчает, а скорее затрудняет достижение такой открытости отношения к настоящему. «Открытое отношение к миру» означает, далее, умение сохранить то промежуточное пространство, в котором люди и вещи могут обнаруживаться, показывать себя. Например, человек, страдающий маниакально-депрессивным психозом, вообще не знает этого свободного, открытого напротив (Gegenuber): он не позволяет ни вещам, ни другим людям занимать то пространственно-временное положение, которое для них естественно; в его представлении они находятся либо слишком далеко от него, либо слишком близко: он их «пожирает» или «пожирается» ими, – либо они для него вообще не существуют, как бы растворяясь в великой пустоте, внутренней или внешней. Он больше не способен воспринимать и удерживать в своем сознании «зовы», доносящиеся к нему из мира. Для него невозможна та близость к вещам и людям, которая подразумевает сохранение определенной дистанции. Ему не хватает той отрешенности, обладая которой, он бы прежде всего допустил и себе самому, и другим людям – быть. Хайдеггер вновь и вновь возвращался к той мысли, что большинство душевных заболеваний можно понять – в самом буквальном смысле – как нарушение экзистирования: как результат того, что человеку не удается акт вы-ступания (Aus-stehen), самораскрытия навстречу миру. Хайдеггер полагал, что между болезнью и «нормальностью» не существует резкой границы, разрыва. Он, например, мог рассуждать о каком-нибудь пациенте, страдающем маниакально-депрессивным психозом, или о меланхолике – и тут же перевести разговор на Декарта, вообще на «помрачение мира» в Новое время. В поведении маньяка, воспринимающего весь мир как нечто такое, что нужно присвоить себе, покорить и «поглотить», Хайдеггер видел доведенную до патологической крайности волю к власти, которая сама по себе есть неотъемлемый признак Нового времени. На цолликонских семинарах речь всегда шла и о том, и о другом: о душевных болезнях индивидов и о патологии современной цивилизации как таковой. В безумии отдельного человека Хайдеггер видел отражение безумной ситуации Нового времени.
Хайдеггер дружил с Медардом Боссом, но к его психотерапевтическим услугам не прибегал. И, тем не менее, рассказал Боссу свой якобы единственный, но часто повторявшийся сон. Хайдеггеру снилось, будто он должен еще раз сдать экзамены на аттестат зрелости – тем же преподавателям, которые когда-то их у него принимали. «В конце концов, – отметил в своих записках Медард Босс, – этот стереотипный сон перестал ему сниться – после того, как он (Хайдеггер. – Р. С.), уже в бодрствующем мышлении, сумел осознать «бытие» в свете «события»» (ZS, 308).
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Перекликающиеся Кассандры. Адорно и Хайдеггер. Аморбах и «проселок». От «жаргона подлинности» к подлинному жаргону шестидесятых годов. Говорение и молчание об Освенциме. Интервью для еженедельника «Шпигель». Пауль Целан во Фрайбурге и в Тодтнауберге.
В 1965 году состоялась радиотрансляция (теперь уже легендарной) дискуссии двух собеседников, из которых один выступал в роли Великого Инквизитора, а другой – в роли «друга человечества». Великим Инквизитором был Гелен, его оппонентом – Адорно. Гелен: «Господин Адорно, вы, конечно, видите здесь «проблему совершеннолетия»[438]. Вы и в самом деле полагаете, что бремя фундаментальных проблем, связанных с ними рефлексивных усилий и имеющих глубокие последствия жизненных ошибок, через которые мы с вами прошли, потому что пытались «плавать самостоятельно», – что эту тяжелую ношу нужно было доверить всем людям?[439] Мне бы очень хотелось это узнать». Адорно: «На это я могу ответить совсем просто: да! Я имею некоторое представление об объективном счастье и объективном отчаянии, и я сказал бы, что до тех пор, пока людей будут освобождать от бремени и не признавать за ними права на полную ответственность и самоопределение – до тех самых пор их благосостояние и их счастье в этом мире останутся пустой видимостью, мыльным пузырем., Пузырем, который когда-нибудь лопнет. И когда он лопнет, это будет иметь ужасные последствия». Гелен возразил, что мысль эта хотя и красивая, но, к сожалению, годится лишь для утопической антропологии. Адорно ответил: потребность человека в освобождении от бремени не является, как утверждает Гелен, естественной антропологической константой, а представляет собой реакцию на тот тяжкий груз, который люди сами же на себя и взвалили – через посредство своих социальных институтов. Желая освободиться от неподъемного груза, люди обращаются за помощью именно к той силе, что причинила им «зло», от которого они страдают. Эта «идентификация с обидчиком» должна быть выявлена. Ответ Гелена, завершивший эту дискуссию, звучал так: «Господин Адорно… хотя, как я чувствую, глубинные исходные предпосылки у нас с вами одни и те же, у меня сложилось впечатление, что ваша позиция опасна и что вы имеете склонность внушать людям недовольство даже теми совсем немногими вещами, которые – в нынешней катастрофической ситуации – еще остаются у них в руках».
«Целое негативно»[440] – такую позицию занимали они оба. Такова была и позиция Хайдеггера. Самое лучшее, говорил Гелен, – помогать людям осознать, что они могут заниматься своими делами, «не обращая внимания на критику и обладая иммунитетом против возражений со стороны»; но при этом их следует освободить от чрезмерных рефлексивных усилий, из-за которых они, собственно, и сталкиваются впервые с проблемой катастрофического состояния целого. Нет, возражал Адорно, во имя освобождения мы должны поощрять людей к такого рода рефлексии, чтобы они заметили, как плохи их дела. Один философ, Гелен, по причинам в высшей степени рефлексивного свойства – а именно, потому, что не видел никакой реальной альтернативы существующему положению вещей, – хотел защитить людей от необходимости рефлексии; другой, Адорно, напротив, хотел побудить их к рефлексированию – хотя и не мог предложить им никаких радужных перспектив, кроме тех зыбких надежд на спасение, что еще сохраняются в воспоминаниях о детстве, в поэзии, в музыке и в «метафизике в миг ее крушения».
Примечательно, что такие разные философы, как Гелен, Адорно и даже Хайдеггер, сходились в одном: установка, при которой взгляд обращен на целое, катастрофична. Однако катастрофа, о которой идет речь, лишена аспекта тревожности. С ощущением такой катастрофы можно жить, причем вполне комфортно. Адорно видит в этом следствие двойного отчуждения человека: люди отчуждены – и сверх того утратили сознание своей отчужденности. В представлении Гелена цивилизация вообще является не чем иным, как катастрофой в том ее состоянии, которое еще допускает жизнь. А для Хайдеггера постав есть «посыл судьбы» (Geschick), изменить который человек не властен. Фундаментальные проблемы технического мира в принципе нельзя решить техническими средствами. «Только Бог еще может нас спасти», – говорил Хайдеггер.
Итак, три Кассандры философского мира, угнездившись на горных вершинах, откуда открывался вид на нехорошее будущее, перекликались друг с другом, делясь своими мрачными предчувствиями; а у подножия этих вершин, в низинах, жизнь шла своим чередом – люди усердно работали, подбадривая себя возгласами: «Давай поднажми!».
В пятидесятых и начале шестидесятых годов сформировался «дискурс катастрофы», мирно сосуществовавший с лихорадкой созидательного труда, удовлетворением от уже достигнутого благосостояния, оптимизмом в малых делах и на коротких дистанциях. Голоса критиков культуры вносили мрачный диссонанс в бодрую деловитость процветавшей Федеративной Республики. К хору недовольных принадлежали и голоса Адорно, Гелена, Хайдеггера…
Эти трое, каждый по-своему, участвовали в том безобразии, которое они же и критиковали. Гелен хотел защитить общество от интеллектуалов – с помощью интеллектуальных средств; Адорно рисовал пугающую картину капиталистического отчуждения – и в то же время, чтобы упрочить положение Института социальных исследований, по поручению руководства концерна Маннесман изучал нравственный климат на предприятиях этого концерна; Хайдеггер обличал велеречивые выступления против техники – в столь же велеречивых выступлениях.
С Хайдеггером, желавшим быть критиком своей эпохи, произошло нечто подобное тому, что случилось и с Адорно, – ему внимали как оракулу от искусства. Его расположения добивались не только академии наук, но и академии изящных искусств (позже та же ситуация повторится с Адорно). Фундаментальную критику, которая не хочет стать политической и деликатно обходит вопрос о своем отношении к религии, неизбежно воспринимают в эстетических категориях. Когда в 1957 году берлинская Академии изящных искусств обсуждала вопрос о принятии Хайдеггера в число своих членов, преобладающее большинство академиков согласились с Гертрудой фон ле Форт, сказавшей, что работы этого философа читаются как «великая поэзия». Вряд ли такой отзыв мог вызвать неудовольствие у самого Хайдеггера: ведь и в его представлении мышление и поэзия все более сближались – и в этой своей общности помогали ему отрешиться от суетных склок современности. «Пастухи живут невидимо и вне бесплодной опустошенной земли, от которой требуется теперь уже только полезность в целях обеспечения господства человека» (Преодоление метафизики[441], ВиБ, 191).
Сфера влияния Хайдеггера уже в двадцатые годы отнюдь не ограничивалась университетской средой, а теперь и подавно – хотя в пятидесятые появилось множество ординарных профессоров и претендентов на эту должность, которые профанировали его идеи. На немецких кафедрах усердно «хайдеггерствовали», кропотливо прорабатывали наброски Мастера, излагали свои неуклюжие соображения по поводу «броска» (Wurf) и «брошенности» (Geworfenheit)[442], превращали его грандиозную философию скуки в обыкновенную скучную философию (например, устраивая схоластические диспуты о порядке экзистенциалов). Но вовсе не эта шумиха сделала Хайдеггера подлинным «Мастером мышления» пятидесятых – начала шестидесятых годов. Когда молодой Хабермас в статье для «Франкфуртер альгемайне цайтунг», посвященной семидесятилетию Хайдеггера, описывал воздействие идей этого философа, он особо подчеркнул тот факт, что повсюду в стране, и прежде всего в сельской глуши, возникают «коллегии его преданных почитателей». Кружки благоговейно внимающих слову Хайдеггера… Несколько лет спустя Адорно в своем памфлете «Жаргон подлинности»[443] изобразит схему хайдеггеровского успеха в виде краткой формулы: «Иррациональность посреди рационального – вот тот климат, что царит на предприятии по производству подлинности». Суждению Адорно в данном случае можно доверять – климат на предприятиях он изучал профессионально. «В Германии говорят и еще больше пишут на жаргоне подлинности, этом опознавательном знаке приобретшей общественную значимость принадлежности к числу избранных, – наречии одновременно благородном и по-домашнему уютном; недо-язык как супер-язык (Untersprache als Obersprache)… Он проник в философию и теологию (не только ту, что пестуется в евангелических академиях), потом в педагогику, народные школы и молодежные союзы, а теперь определяет даже высокопарный стиль выступлений парламентских депутатов, то есть представителей нашей экономики и управленческого аппарата. Будучи преисполненным претензий на глубокую человеческую вовлеченность в происходящее, этот язык, тем не менее, стандартизирован точно так же, как и тот мир, который он публично отрицает» (9). В самом деле, фразеологические клише и терминологические компоненты философии Хайдеггера как нельзя лучше подходили для того, чтобы, позаимствовав некоторые из них, придать собственному выступлению патетический характер – без урона для своей академической репутации. Например, рассуждая о смерти, можно было, подобно Хайдеггеру, избрать средний путь между экзистенциальной серьезностью и той разновидностью философской эрудиции, которая склонна показывать, что ничто человеческое ей не чуждо. Те же, кому было трудно говорить о Боге, но кто не мог обойтись без упоминания анонимного духовного начала, охотно подхватывали хайдеггеровский термин «Бытиё», с ипсилоном или без такового. Хайдеггер был для людей старшего поколения (часто принимавших трудность для восприятия за признак особого глубокомыслия, «серьезности») такой же авторитетной фигурой, как для более молодых – Камю или Сартр.
Однако критический взгляд Адорно, направленный на «немецкую идеологию» тех лет, усматривал в «жаргоне подлинности» и в самом Мартине Хайдеггере, который первым пустил в обиход слово «подлинность», нечто гораздо более опасное: выражение одного из типов ментальности образованной части общества – той ментальности, что предрасполагает к фашизму. Адорно начинает свое эссе с анализа на первый взгляд безобидных хайдеггеровских терминов, таких, как «требование»[444], «вызов», «встреча», «подлинный сказ», «высказывание»[445], «послушность», «отношение»[446], – и показывает, что, тщательно подбирая эти слова, можно инсценировать «вознесение слова до небес» (13). Человек, дающий понять, что он принимает «вызов», решается на «встречу», «послушен» и не боится (ко многому обязывающего) «отношения» с бытием, претендует на то, что он призван для некоей высшей миссии, ибо способен мыслить о «высшем». Это «сверхчеловек» – пусть до поры до времени и не агрессивный, но сознающий свое превосходство над остальным, «управляемым» миром. «Жаргон подлинности» облагораживает качества, которые свидетельствуют лишь о профессиональной пригодности, превращая их в знак избранности. «Подлинный» всеми силами доказывает свою состоятельность, он играет на ««вурлицком органе»[447] духа» (18).
В «Жаргоне подлинности» Адорно сводил счеты с духом времени, время которого к моменту, когда была опубликована эта книга, то есть к середине шестидесятых годов, собственно, уже истекло. То были годы канцлерства Людвига Эрхарда[448]. А велеречивый жаргон процветал в патриархальную эпоху Аденауэра, и ко времени, когда появился памфлет Адорно, уже началось наступление «новой деловитости». «Клубы встреч» уступили место «залам многоцелевого назначения», пешеходные зоны заполонили города, в архитектуре торжествовал бункерно-тюремный стиль. Было открыто очарование «голого факта» – как в философии, так и в секс-шопах; пройдет еще совсем немного времени, и в мире дискурса возобладают разоблачения, «критическая критика», вопросы «с подковыркой»…
Техника жаргона характеризуется, среди прочего, и тем, что принадлежащие к жаргону слова звучат так, «как если бы подразумевали нечто более высокое, нежели то, что они непосредственно значат» (11). Но так звучат и некоторые пассажи адорновского текста – с той лишь разницей, что Адорно инсценирует не «вознесение до небес», а низвержение в адские бездны. «Избыточная» интенция Адорно – это его склонность повсюду выискивать проявления фашистской идеологии; склонность, заставляющая придавать излишнюю значимость фактам скорее комичным, нежели опасным. Так, например, он заметил по поводу тщательного разделения на параграфы главы о смерти в хайдеггеровском «Бытии и времени»: «Смерть все еще описывается с ориентацией на специальные руководства (по составлению эсесовских приказов и экзистенциальных философий); сивая кобыла бюрократизма используется в качестве Пегаса, а при необходимости – и в качестве апокалиптического коня» (74). В другом месте Адорно пытается представить Хайдеггера как философа, прославляющего второстепенные добродетели: «Во имя подлинности, соответствующей духу времени, и палач мог бы претендовать на онтологическое оправдание – если, конечно, он был настоящим палачом» (105). Но все это – лишь пролегомены к критике Хайдеггера. Адорно хотел выявить ростки фашизма внутри хайдеггеровской фундаментальной онтологии. Всякая онтология, и особенно хайдеггеровская, есть возведенная в систему «готовность санкционировать такой гетерономный порядок, который не нуждается в оправдании перед сознанием[449]», писал Адорно в «Негативной диалектике», своем главном философском произведении[450], близком в концептуальном отношении к «Жаргону подлинности».
Адорно в 1959 году объяснил свою позицию так: «Я рассматриваю сохранение пережитков национал-социализма внутри демократии как явление более опасное, чем сохранение фашистских тенденций вопреки демократии». И сослался прежде всего на тот факт, что антикоммунизм времен «холодной войны» обеспечивал инкогнито фашистскому духу. Приверженцам последнего достаточно было выставить себя в роли защитников Запада от «красного потопа», после чего они могли спокойно опираться на традицию национал-социалистского антибольшевизма. Антикоммунизм эры Аденауэра действительно ловил рыбку в мутной воде, используя «страх перед русскими», настроение, не лишенное расистской окраски, и апеллировал к авторитарным, подчас даже шовинистическим наклонностям и порывам. Чтобы укрепить фронт против Востока, правительство в пятидесятые годы ускорило процесс реабилитации представителей бывшей национал-социалистской элиты и их включения в государственные структуры. Аденауэр неоднократно повторял, что различие между «двумя классами людей» – политически безупречными и теми, кого нельзя причислить к таковым, – должно исчезнуть как можно скорее. Уже в мае 1951 года был принят закон, открывавший доступ к чиновничьей карьере людям, «скомпрометировавшим себя». Эта мера была дополнена «Законом о благонадежности» 1952 года, в соответствии с которым члены «Объединения жертв нацистского режима», если на них падало подозрение в симпатиях к коммунизму, подлежали увольнению с государственной службы. Оживился и антисемитизм. Адорно, который в 1949 году вместе с Хоркхаймером вернулся из эмиграции во Франкфуртский университет, ощущал это особенно болезненно. В 1953-м он получил назначение на «сверхштатную кафедру философии и социологии», которую чуть ли не официально называли «кафедрой для возмещения ущерба» – удобное обозначение для прикрытия диффамации. Надежда Адорно на то, что он получит должность ординарного профессора только благодаря своим научным заслугам, долгое время оставалась неосуществленной. Когда же в 1956 году на факультете, наконец, встал на повестку дня вопрос об этом назначении, профессор ориенталистики Хельмут Рихтер сразу же заговорил о том, что Адорно «проталкивают по блату». И что во Франкфурте, если хочешь сделать карьеру, достаточно заручиться протекцией Хоркхаймера и быть евреем. Это было далеко не единственное замечание подобного рода. Ситуация ухудшилась настолько, что даже Хоркхаймер, положение которого, как бывшего ректора и декана, было более прочным, из-за распространившейся «ненависти к евреям» в 1956 году подал прошение о досрочном увольнении на пенсию. Адорно и Хоркхаймеру пришлось еще раз повторить вечный путь еврейства: осознать на собственном опыте, что еврей, даже если он добился привилегированного положения, всегда останется в глазах общества как бы отмеченным неким позорным клеймом, легко уязвимым. «… и если он будет министр, то он будет министр-еврей, – отличие и печать неприкасаемого одновременно» – так подытожил этот опыт Сартр в своих «Размышлениях о еврейском вопросе»[451]. В пятидесятые годы и в начале шестидесятых Адорно был «уязвимым» также и из-за своих марксистских исходных позиций. Еженедельник «Цайт» в 1955 году охарактеризовал его как «пропагандиста бесклассового общества».
И все-таки: если Адорно так рьяно выискивал в философии Хайдеггера признаки преемственности с фашизмом, то объяснялось это не только тем, что он хотел в лице Хайдеггера поразить «духовную сердцевину» эры Аденауэра. Ставка в этой игре была куда более значимой: суть дела заключалась в опасной философской близости самого нападавшего к объекту его нападения. И еще Адорно не мог простить Хайдеггеру того, что он занимался «традиционной» философией – причем занимался так, будто не существовало ни социологии, ни психоанализа, этих великих оппонентов философского духа. Игнорирование Хайдеггером двух упомянутых духовных сил должно было особенно возмущать Адорно, который, со своей стороны, пытался сделать все, чтобы лишить их присущего им колдовского обаяния, – хотя при этом действовал вопреки собственному «философскому эросу»[452], в результате страдавшему. То обстоятельство, что Хайдеггер вообще не обращал внимания на эти дисциплины, вошедшие в «научный кодекс» современности, и даже их презирал, Адорно объяснял «провинциализмом» фрайбургского философа. Адорно, так хорошо знавший, что именно в истории и философии «более не работает», не позволял себе занимать какую бы то ни было жесткую философскую позицию. Поэтому его страсть к философствованию могла найти выход лишь в постоянной виртуозной рефлексии и, конечно, в размышлениях об искусстве. Это обращение к искусству как к прибежищу философии было одним из моментов, сближавших Адорно и Хайдеггера. Адорно не завидовал «твердой поступи» своего оппонента, ибо сам предпочитал танцующий легкий шаг; но, может быть, он завидовал Хайдеггеру в другом – в том, что тот не стыдится быть откровенно метафизичным. Сам Адорно однажды написал: «Стыд противится непосредственному выражению метафизических интенций; если же кто-то все-таки отважится их выразить, он будет жертвой торжествующего непонимания». Так Адор-но стал Мастером философского танца с покрывалами. Когда Герберт Маркузе в середине пятидесятых годов хотел издать свою книгу «Эрос и цивилизация» (которую издательство «Зуркамп» позже опубликовало под заманчивым названием «Структура инстинктов и общество») в виде отдельного выпуска «Журнала социальных исследований», Aдорно написал автору, что ему не нравятся «определенная прямолинейность и «непосредственность»», свойственные стилю этой работы. Адорно, всегда умевший избавляться от «назойливых» конкурентов, которые могли бы уменьшить его влияние на Хоркхаймера, не допустил публикации книги Маркузе в серии, издававшейся Институтом социальных исследований. «Непростительная» ошибка Маркузе заключалась в том, что он слишком откровенно выболтал главную тайну школы «критической теории» – идею возможности существования «удачной» культуры, в основу которой будет положена освобожденная сексуальность, эрос[453]. Адорно же если и выражал свои «метафизические интенции», то всегда только под прикрытием огромного количества всякого рода оговорок.
Тем не менее, как мы уже говорили, дело (или «послушание», если воспользоваться «жаргоном подлинности»), которым занимался Адорно, было очень похоже на то дело, которому посвятил себя Хайдеггер. И Адорно это знал. В 1949 году он настойчиво просил Хоркхаймера отрецензировать для журнала «Монат» только что вышедшую книгу Хайдеггера «Лесные тропы». В этой связи Адорно писал Хоркхаймеру, что Хайдеггер «за лесные тропы, и его позиция не так уж далека от нашей».
Адорно и Хайдеггер ставят современной эпохе похожие диагнозы. Хайдеггер говорит о характерном для Нового времени «выдвижении субъекта», для которого мир превращается в объект устроения (Machenschaften), причем этот процесс имеет негативные последствия для самого субъекта: тот уже не может воспринимать себя иначе, нежели как вещь среди вещей. В «Диалектике Просвещения» Адорно и Хоркхаймера выражена та же основополагающая мысль: насилие, которое человек Нового времени применяет к природе, обращается против внутренней природы самого человека. «Каждая попытка сломить принуждение со стороны природы, ломая природу, приводила к еще более глубокому увязанию в зависимости от природы. Так пролегала дорога европейской цивилизации». Хайдеггер утверждал, что мир превращается в подвластный человеку предмет, в картину, в представление для поставляющего производства. Адорно и Хоркхаймер говорили о «пробуждении субъекта», которое покупается ценой «признания силы как основного принципа всех отношений», и о том, что люди оплачивают «умножение своей власти» «отчуждением от того, над чем они властвуют» (15). По мнению Адорно, этот принцип власти отчужденного буржуазного мира приводит в конечном счете к мерзости индустриально организованного убийства евреев. Адорно: «Геноцид народов – это и есть абсолютная интеграция, подготовка к которой идет повсюду, где людей делают одинаковыми, шлифуют… до тех пор, пока их… в буквальном смысле не искоренят». Если Хайдеггер в своем бременском докладе 1949 года сказал: «Земледелие является сейчас моторизованной пищевой промышленностью, по сути тем же самым, что и производство трупов и газовых камер», – то этим высказыванием, когда позже о нем вспомнили, страшно возмущались именно те люди, которые не находили ничего предосудительного в аналогичных заявлениях Адорно. А ведь Хайдеггер, произнося эту фразу, имел в виду тот же категорический императив, который сформулировал Адорно: человек должен организовывать свое мышление и свои действия таким образом, чтобы «Освенцим не повторился и чтобы не произошло ничего подобного» (358). Хайдеггер понимал свое мышление о бытии как преодоление современной воли к власти – воли, которая однажды уже привела к катастрофе. Хайдеггеровское мышление о бытии не столь уж далеко от того мышления, к которому стремился Адорно и которое он называл «неидентифицирующим мышлением». «Неидентифицирующее мышление», в представлении Адорно, – это такое мышление, которое считается с неповторимостью вещей и людей, не насилует их, пытаясь «идентифицировать» и регламентировать. Не отчуждающее, то есть не идентифицирующее познание «хочет установить, что представляет собой нечто, тогда как идентифицирующее мышление говорит, к какому ряду нечто относится, экземпляром или представителем чего оно является, то есть подмечает именно то, чем оно само по себе не является» (152).
То, что у Адорно называется «неидентифицирующим мышлением», уже было описано Хайдеггером как «открывающее» мышление, в котором сущее может показать себя, не подвергаясь насилию. Но Адорно не доверял хайдеггеровскому мышлению о бытии. И выдвигал против него традиционный упрек в иррационализме: «Мышление не способно захватить никакую позицию, в которой непосредственно исчезло бы разграничение между субъектом и объектом, заложенное в каждой мысли, в мышлении как таковом. Поэтому Хайдеггеровский «момент истины» нивелируется до мировоззренческого иррационализма» (92). И все же Адорно с одобрением отзывался об этих «моментах истины», имея в виду отказ Хайдеггера склониться перед позитивистски препарированными фактами, пожертвовав естественным для человека стремлением к решению онтологически-метафизических вопросов. Адорно также разделял и одобрял «томительное стремление вырваться за пределы кантовского вердикта о знании Абсолюта» (69). Но там, где Хайдеггер трансцендирует торжественно и благоговейно, Адорно инсценирует игру негативной диалектики, доказывающей свою верность метафизике посредством отрицания ее отрицания. Поэтому Адорно и мог назвать такую диалектику органом «трансцендирования томления» (Transzendenz der Sehnsucht). Эти два философа различались по способу своего движения, но двигались в одном направлении. Однако близость к Хайдеггеру еще более подогревала в Адорно его нарциссизм, желание выискивать даже самомалейшие различия между собственными идеями и идеями своего оппонента. Адорно как будто даже боялся возможности образования солидарного сообщества тайных и явных метафизиков. Вот примеры сходства в направлении движения: Адорно, подобно Хайдеггеру, обращался к Гёльдерлину как к свидетелю метафизических истин; и для него тоже Южная Германия (то есть края, где родился Хайдеггер) была своего рода «землей обетованной». В «Речи о лирике и обществе» Адорно сказал по поводу одного из произведений Мёрике[454]: «Напрашивается сравнение с тем обещанием счастья, которое еще и сегодня в некоторые дни дарит приезжему этот южно-германский городок, – но без малейших уступок провинциализму, идиллии маленького города». В конце своих «Размышлений о метафизике» (в «Негативной диалектике») Адорно рассуждает о том, где в современности еще сохранились доступные для человека сферы, в которых можно обрести метафизический опыт. Мы больше не находим таких сфер в тотальности, когда пытаемся взглянуть на происходящее «сверху»; да и в движении духа через историю, там, где их обнаруживал еще Гегель, для нас они уже не существуют. Там – только ужас; там нет никакой эпифании, никакого возвышенного Мирового Духа, а только «сердце тьмы»[455]. Но в таком случае где же еще живет метафизика и как можно быть «солидарным» с ней «в миг ее падения»? Ответ Адорно: «Тот, кто не хочет сводить метафизический опыт к так называемым первичным религиозным переживаниям, лучше всего поймет, что это такое, если, подобно Прусту, вспомнит о счастье, которое обещают нам названия таких деревень, как Оттербах, Ваттербах, Ройенталь, Монбрунн… Когда человек попадает туда, он верит, будто оказался в краю исполненных чаяний, будто это осуществилось» (366). Свои поиски края потерянной и вновь обретенной метафизики Адорно описал в небольшом очерке «Аморбах». Аморбах – так назывался городок в Оденвальде[456], в котором он провел свое детство. Там как бы соединились многие мотивы, которые позже будут играть важную роль в его философствовании. Монастырский сад над озером навсегда останется для него прообразом красоты, «об основании которой я напрасно стал бы вопрошать Целое». Он не забудет поскрипывание старого парома, переправляющегося через Майн, – эту акустическую эмблему движения к новым берегам: ведь именно так совершается любой переход от одного мира к другому. В детстве, стоя на холме, Адорно мог наблюдать, как внизу, в городке, с наступлением сумерек одновременно во всех домах вспыхивает электрический свет (только-только добравшееся до их краев новое изобретение); и это, как потом оказалось, было щадящей подготовкой к будущему шоку от столкновения с современностью – в Нью-Йорке и в других местах. «Мой городок так хорошо берег меня, что подготовил к встрече даже с тем, что совершенно ему противоположно» (22). Адорно ходил по дорогам Аморбаха точно так же, как Хайдеггер по своему «проселку»; для обоих это были реальные и в то же время воображаемые места метафизического опыта, которые оставались живыми благодаря воспоминаниям и заклинающей силе языка. Хайдеггер: «И до сих пор мысль… случается, вернется на те пути, которые проселок пролагает через луга и поля… А широта всего, что выросло и вызрело в своем пребывании возле дороги, подает мир. В немотствовании ее речей, как говорит Эккехардт, старинный мастер в чтении и жизни, Бог впервые становится Богом» (Проселок, 238-239).
Для Aдорно, черпавшего свой метафизический лиризм из воспоминаний об Оденвальде, хайдеггеровский «проселок» – дешевая поделка «народного промысла». На слова: «… расти означает – раскрываться навстречу широте небес, а вместе корениться в непроглядной темени земли» (Проселок, там же, 239) – Адорно немедленно реагирует обвинением Хайдеггера в фашизме, в приверженности идеологии «крови и почвы».
Трудно отделаться от впечатления, что факт временного сотрудничества Хайдеггера с национал-социализмом сыграл Адорно на руку: благодаря этому обстоятельству Адорно, в других случаях действовавший очень осторожно, смог философствовать против Хайдеггера, «вооружившись молотом», и создал между собой и своим противником дистанцию, которая, если бы речь шла только об их мышлении, оказалась бы далеко не столь велика.
С нападок Адорно на Хайдеггера (оба, между прочим, после 1945 года ни разу не встречались лично, и Хайдеггер в своих выступлениях никогда даже не упоминал имени Адорно) началось победное шествие «жаргона диалектики», который вплоть до семидесятых годов утверждал себя в качестве подлинного жаргона высоких притязаний. Когда (в середине шестидесятых) репортер одной из газет спросил Людвига Маркузе, какую книгу, по его мнению, сейчас было бы полезнее всего написать, тот ответил: «Я бы предложил одну, очень серьезную, под названием «Совсем без диалектики не обойтись – наброски к патологии духа времени»». «Диалектика», которую имел в виду Людвиг Маркузе, возникает при попытке превзойти сложность действительности в дискурсе. Воля к такому сверхсложному дискурсу рождается не только из страха перед банальностью, но и из стремления обнаружить в общем «вводящем в заблуждение контексте (Verblendungszusammen-hang)» (Адорно) нечто «совершенно Иное»[457], след удачной жизни, – при этом не подпадая под влияние идеи прогресса, как она понимается в гегелевской или марксистской диалектике. «Критическая Теория была попыткой сохранить наследие диалектики, не строя при этом фантазий победителя» (Слотердайк)[458]. И все же благодаря негативной диалектике тоже одерживались победы – правда, только в мире дискурса. Новая манера выражаться – самодовольная, не скупящаяся на обличения, украшающая себя намеками на невысказанные тайны, – быстро распространилась и к северу, и к югу от Майна. Ульрих Зоннеман, например, рассуждая о зле банальности, писал, что банальность «принадлежит к нутру истины, но не может вынести своего бытия-внутри; то есть, вследствие некоего извращения совести, одновременно является тем, что она есть, и не выдерживает сознания того, что как раз это (то, чем она является. – Т. Б.) есть ничто; в этой неспособности вынести саму себя – которая, если перейти теперь к роли банальности в мире, выражается одновременно и как неспособность вынести истину, и как невыносимость для последней – и состоит ее, банальности, бытие». Жан Эмери[459] высмеял этот пассаж, перефразировав его на языке «скверной банальности» так: «… человек, который довольствуется мыслительными клише вместо того, чтобы их разрушать, из-за этого своего греха пассивности становится врагом истины».
У Адорно язык диалектики еще оставался чудом тончайшей игры смысловых оттенков – «утопия познания: раскрывать внепонятийное (Begriffslose) с помощью понятий, но так, чтобы не отождествлять его с ними»[460] (Адорно)… Жан Эмери назвал этот язык «невнятностью, разыгрывающей из себя сверхвнятность»; однако со временем, у эпигонов Адорно и Хоркхаймера, тот же жаргон становился все более грубым и «внятным» – пока наконец негативная диалектика не обернулась опять своим «позитивным» ликом и из печати (незадолго до 1968 года) не начали выходить одна за другой коллективные монографии, в которых «тенденциально» (одно из жаргонных словечек тех лет) исследовались такие феномены, как «нерепрессивный эрос», «усеченный код» (restringierte Code), «потенциал маргинальности» (Marginalisiertenpotential) и даже «рабочий класс в качестве субъекта, которому приписывается реконструкция системотрансцендирующего процесса эмансипации общества». В новом контексте диалектика Адорно, скорее эстетическая, оказалась невостребованной. Смена господствующих парадигм с ориентацией на «опе-рабельность» и «релевантность практике» привела во Франкфурте (и не в нем одном) к открытому конфликту: взбунтовавшиеся студенты захватили здание Социологического института, Адорно вызвал полицию… Через год он скончался. Можно предположить, что его сердце просто не выдержало всех этих испытаний[461].
То были годы, когда Хайдеггер нашел в Провансе пристанище для своей философии, когда многие считали его «швабским даосом», а сам он был твердо убежден, что для современной публичности как бы уже умер. Да и эссе Ханны Арендт, написанное в 1969 году по случаю восьмидесятилетия Хайдеггера, хотя и проникнутое любовью, звучало едва ли не как некролог:
«Ураганный ветер, сквозящий через все мышление Хайдеггера, – как и тот, другой, что еще и сейчас, по прошествии двух тысячелетий, веет нам навстречу со страниц платоновских сочинений, – родом не из нашего столетия. Он происходит из изначальной древности и оставляет после себя нечто совершенное, нечто такое, что, как и всякое совершенство, принадлежит изначальной древности».
За несколько лет до того имя Хайдеггера еще раз привлекло к себе всеобщее внимание. 7 февраля 1966 года в еженедельнике «Шпигель» в связи с выходом из печати книги Александра Швана «Политическая философия в мышлении Хайдеггера» была опубликована статья под названием «Хайдеггер: полночь в ночи мира», в которой содержались некоторые лживые утверждения: там, например, говорилось, что Хайдеггер в свое время запретил Гуссерлю появляться в университете и перестал общаться с Ясперсом, потому что последний был женат на еврейке. Ясперс, возмущенный этой статьей, писал Ханне Арендт: «В такие моменты «Шпигель» снова впадает в свой прежний дурной тон» (9.3.1966, BwAJ, 655). Реакция Ханны Арендт выразилась в бурном выплеске ярости против Адорно, который на самом деле не имел никакого отношения к статье в «Шпигеле»: «Хотя доказательств у меня нет, я почти убеждена, что заварили всю эту кашу франкфуртские приспешники Визенгрунда-Адорно. И это тем более гротескно, что, как теперь выяснилось (благодаря студентам), Визенгрунд (полуеврей и один из противнейших людей, которых я знаю) сам пытался осуществлять политику гляйхшалтунга. Он и Хоркхаймер годами обвиняли в антисемитизме – или шантажировали угрозами таких обвинений – каждого в Германии, кто осмеливался выступить против них. Это действительно мерзкая компания» (9.3.1966, BwAJ, 670).
Друзья и знакомые Хайдеггера настаивали, чтобы он опроверг несправедливые обвинения, выдвинутые против него «Шпигелем». Эрхарт Кёстнер писал 4 марта: «У меня нет более сильного желания… чем чтобы Вы отказались от Вашего несопротивленчества. Вы даже не представляете, как глубоко огорчаете Ваших друзей тем, что до сих пор упрямо «не хотите замечать» происшедшего. В качестве одного из самых убедительных аргументов я могу сослаться на то… что клеветнические измышления, если человек не защищается от них публично, начинают восприниматься как факты» (BwHK, 80). Кёстнера не удовлетворило коротенькое «письмо читателя», отправленное Хайдеггером в редакцию «Шпигеля». Он желал бы, чтобы его друг опубликовал более энергичное и пространное опровержение возведенной на него клеветы. Сам Кёстнер незадолго перед тем заявил о своем выходе из берлинской Академии изящных искусств, так как не хотел делить членство в этой организации с Гюнтером Грассом, который оскорбил Хайдеггера в одном из эпизодов своего романа «Собачьи годы» («Слушай как следует, псина: он родился в Мескирхе. Это под Браунау на реке Инн. И он, и тот, другой, отделились от пуповины в один и тот же год, урожайный на вязаные шапочки. Он и тот, другой, изобрели и придумали друг друга»[462]). Кёстнер узнал, что «Шпигель» заинтересован в том, чтобы опубликовать интервью с Хайдеггером, и попытался заручиться согласием последнего. Но вначале Хайдеггер отказался: «Если бы «Шпигель» действительно проявлял интерес к моему мышлению, то г-н Аугштайн, когда читал в здешнем университете лекции в прошлый зимний семестр, мог бы меня навестить – точно так же, как по завершении этих лекций он навестил в Базеле Ясперса» (11.3.1966, BwHK, 80). Кёстнер продолжал настаивать. 21 марта он написал: «Никто не призывает Вас вдруг полюбить тон «Шпигеля» или оценивать его уровень выше, чем он того заслуживает. Но я полагаю, что не следует и недооценивать благоприятную для нас перемену ветра: то обстоятельство, что г-н Аугштайн в данный момент гневается на Грасса и издевается над ним. До меня доходят слухи о том… что г-н Аугштайн более всего любит размышлять о губительности современного обожествления науки, что он глубокий скептик. И я, собственно, не вижу никакой причины, по которой Вы могли бы не желать этого визита» (BwHK, 85).
Разговор все-таки состоялся, после того, как редакция «Шпигеля» согласилась принять условие Хайдеггера – не публиковать это интервью при его жизни. Состоялся 23 сентября 1966 года, в доме Хайдеггеров во Фрайбурге[463]. Помимо самого Хайдеггера, Аугштайна, редактора «Шпигеля» Георга Вольфа и одной дамы, фотографа Дигни Меллер-Маркович, на этой встрече присутствовал, в качестве безмолвного «секунданта» Хайдеггера, и Генрих Виганд Петцет. По свидетельству Петцета, Аугштайн незадолго до начала беседы признался ему, что испытывает «безумный страх» перед «прославленным мыслителем». После этого признания Петцет, поначалу опасавшийся, что Аугштайн будет вести себя как «пыточный палач», сразу же проникся к нему симпатией. Хайдеггер тоже волновался. Он ждал посетителей у двери своего кабинета. «Я немного испугался, – рассказывает Петцет, – когда взглянул на него и понял, в каком он напряжении… Жилы на его висках и на лбу набухли, глаза от волнения были слегка выпучены».
«Безумный страх» Аугштайна особенно заметен в начале беседы. К «болевым точкам» этот человек прикасается очень осторожно, с обходными маневрами и как бы кончиками пальцев: «Господин профессор Хайдеггер, мы систематически замечаем, что на Вашу философскую деятельность падает некоторая тень от определенных, не очень долго продолжавшихся обстоятельств Вашей жизни, которые так и остаются непроясненными, то ли из-за Вашей гордости, то ли потому, что Вы не считали целесообразным высказываться по этому поводу»[464]. Хайдеггер, соглашаясь на такую беседу, не мог не понимать, что она будет вращаться главным образом вокруг его национал-социалистского прошлого. Тем сильнее он был удивлен, когда Аугштайн как-то даже чересчур поспешно оставил эту тему, чтобы перейти к разработанной Хайдеггером интерпретации современной эпохи и в особенности к его философии техники. Аугштайн и Георг Вольф просили извинения всякий раз, когда, например, приводили цитаты из ректорской речи Хайдеггера или речи, произнесенной им на празднике памяти Шлагетера, а также когда напоминали о слухах, касавшихся участия Хайдеггера в сожжении книг или его поведения по отношению к Гуссерлю. Интервьюеры Хайдеггера так мягко определяли характер его ангажированности при национал-социализме, что он сам предложил более соответствующую действительности версию тогдашнего своего поведения. Согласно интерпретации Аугштайна и Вольфа, Хайдеггеру в его бытность ректором просто приходилось «многое… говорить ad usum Delphini». На это Хайдеггер возразил, «что оборот «ad usum Delphini» мало что объясняет. Тогда я верил, что в дискуссии с национал-социализмом мог бы открыться новый и единственно возможный путь к обновлению»[465]. Однако и хайдеггеровская версия тоже не до конца правдива. И вот почему: вовсе не в «дискуссии с национал-социализмом» искал он «путь к обновлению», а сама национал-социалистская революция, как он ее тогда понимал, представлялась ему обновлением. Не упомянул он в интервью и о том, что одно время видел в таком обновлении событие эпохального значения, метафизическую революцию, «полный переворот… немецкого бытия» – даже больше того, переворот бытия всего Запада. Он не сказал, что, помимо всего прочего, поддался опьянению властью; что, желая защищать чистоту революции, иногда занимался доносительством; что вступил в конфликт с вышестоящими национал-социалистскими инстанциями и с собственными коллегами – чем и объяснялась его неудача на посту ректора – именно потому, что хотел «двигать» революцию дальше. Вместо этого он пытался создать впечатление, будто его сотрудничество с национал-социалистами было чуть ли не формой сопротивления. Он подчеркивал, что до 1933 года занимал аполитичную позицию, а свое решение принять ректорство изображал как жертвенный акт, который он, Хайдеггер, совершил, чтобы не допустить худшего – захвата власти в университете функционерами из НСДАП. Короче говоря: Хайдеггер в этой беседе скрывал тот факт, что одно время был убежденным национал-социалистским революционером, и умалчивал о философских побуждениях, которые сделали его таковым.
Но если Хайдеггер и пытался представить свою роль в нацистский период более безобидной, чем она была на самом деле, он, по крайней мере, не разыгрывал из себя «застрельщика демократии», в отличие от многих других заметных фигур послевоенной Германии. Когда разговор перешел на ту проблему, что «техника все больше отрывает человека от земли и лишает его корней» (242), Хайдеггер напомнил, что национал-социализм поначалу собирался бороться с этой тенденцией, но затем сам превратился в ее главную движущую силу. Философ признался, что не способен судить, «как вообще и какая политическая система может соответствовать техническому веку»; а потом добавил: «Я не уверен, что такой системой является демократия» (241-242). Именно в этом месте беседы Хайдеггер и сказал: «Только Бог еще может нас спасти» (243). Под таким заголовком интервью было опубликовано в «Шпигеле» в 1976 году, после смерти Хайдеггера.
Эта беседа по замыслу должна была положить конец спорам об «ангажированности» Хайдеггера в период национал-социализма, на самом же деле после ее публикации такие споры вспыхнули с новой силой. Ведь Хайдеггер строил свою защиту по тем же линиям, что и подавляющее большинство тогдашних «скомпрометированных», по поводу которых Карл Шмитт в своем «Глоссарии» ядовито заметил: они сделали открытие, истолковав соучастие как одну из форм сопротивления. Однако то, что простительно обычным людям, Man, как-то не к лицу философу подлинности, который требовал от вот-бытия решимости, подразумевающей, среди прочего, и мужественную готовность принять на себя ответственность. Ответственность же простирается не только на сферу намерений человека, но и на его ненамеренные ошибки – на непредусмотренные последствия его действий. Но справедливо ли было требовать от Хайдеггера, чтобы он взял на себя часть ответственности за чудовищные преступления национал-социализма, в которых он в самом деле не участвовал – не участвовал даже в их идеологической подготовке? Ведь он никогда не был расистом…
О «хайдеггеровском молчании» было сказано много слов. Чего же от Хайдеггера ждали? Герберт Маркузе 28 августа 1947 года написал ему, что ждет «слова», которое «окончательно» освободило бы Хайдеггера от «идентификации» с национал-социализмом, стало бы «публичным признанием» его – Хайдеггера – «изменения и преображения». Хайдеггер ответил, что еще во времена национал-социализма публично (в своих лекциях) засвидетельствовал такое изменение, а в 1945 году демонстративное отречение от своих прежних убеждений было для него невозможно, поскольку он не хотел оказаться в дурном обществе тех «приверженцев нацизма», которые «самым омерзительным образом заявляли о своем переходе на другую мировоззренческую позицию», желая обелить себя и открыть для себя путь к послевоенной карьере. Требование общественности, чтобы он «дистанцировался» от убийства миллионов евреев, Хайдеггер по праву считал чудовищным. Ведь если бы он решился на такое, это означало бы молчаливое согласие с суждением тех, кто приписывал ему соучастие в геноциде. Чувство собственного достоинства не позволяло Хайдеггеру пойти на это незаслуженное унижение.
Но если Хайдеггер не желал оправдываться, то есть фактически признать себя потенциальным соучастником массовых убийств, это вовсе не значит, что он отвергал требование «осмыслить Освенцим». Каждый раз, когда Хайдеггер говорил об извращенности новоевропейской воли к власти, использующей и природу, и человека как простой материал для устроения мира, он имел в виду и Освенцим – независимо от того, произносилось ли это название вслух или нет. Для него, как и для Адорно, Освенцим был типичным преступлением современности.
Если мы поймем его критику современности как философствование об Освенциме, станет очевидно: проблема «хайдеггеровского молчания» заключается вовсе не в том, что он молчал об Освенциме. В философском плане он умалчивал о чем-то другом: о себе самом, о том, что философ вообще склонен поддаваться соблазну власти. И еще он не задавал себе – как это, к сожалению, слишком часто случалось в истории мышления – один очень важный вопрос: кто я, собственно, есмь, когда я мыслю? Мыслящий «владеет» своими мыслями, но иногда получается и наоборот: мысли овладевают им. «Кто» мышления меняется. Тот, кто мыслит о великом, легко может впасть в искушение и принять самого себя за великое событие; он хочет соответствовать бытию и тщательно следит за тем, каким предстает в контексте истории, – а не за тем, каким видится самому себе. Его собственная «непредрешенная» личность растворяется в мыслящей самости и в великой системе взаимосвязей, к которой эта самость принадлежит. Онтологическая дальнозоркость не позволяет ясно видеть онтически ближайшее. Потому-то и возникает дефицит знания самого себя: собственных (обусловленных конкретным временем) противоречий, отпечатков, накладываемых на твою личность биографическими случайностями, твоих идиосинкразии. Философ, который знаком со своим непредрешенным «я», менее склонен к тому, чтобы смешивать себя с героями своей мыслящей самости и позволять собственным мелким историям раствориться в большой Истории. Одним словом: знание самого себя лучше всего защищает от соблазняющей власти.
Молчание Хайдеггера… Оно сыграло какую-то роль и тогда, когда Хайдеггер встретился с Паулем Целаном. Поэт Пауль Целан, родившийся в Черновцах, в 1920 году, случайно уцелел в лагере уничтожения, где погибли его родители, и с 1948 года жил в Париже; там он увлекся философией Хайдеггера, в особенности поздней. Философ Отто Пёггелер вспоминает, что Целан в разговорах с ним отстаивал именно поздние, такие трудные в языковом отношении постулаты Хайдеггера, а в 1957 году даже хотел послать Хайдеггеру свое стихотворение «Свиль», позже вошедшее в сборник «Решетка языка». В стихотворении идет речь о том, как повреждение глаза позволяет по-новому увидеть мир и закрепляет, сохраняет память: «Свиль в глазу: / пусть он сохранится, / этот знак, несомый сквозь тьму». Возможно, само это стихотворение должно было стать знаком некоей связи с Хайдеггером, связи, которой Целан желал, но к надежде на которую примысливал образ разделявшей их двоих «раны». Неизвестно, действительно ли Целан отправил стихотворение. После того как они много раз подробно беседовали о хайдеггеровской философии, Отто Пёггелер спросил Целана, может ли он посвятить ему свою книгу о Хайдеггере. Целан отклонил это предложение, но отказ дался ему «нелегко». Он объяснил, «что его имя не следует связывать с именем Хайдеггера, не обсудив этого предварительно с самим Хайдеггером». Как бы то ни было, Целан основательно изучал труды Хайдеггера, в принадлежавшем ему экземпляре «Бытия и времени» имеются многочисленные пространные пометки, он знал хайдеггеровские интерпретации поэзии Гёльдерлина, Тракля, Рильке. В его стихотворении «Ларго» встречается выражение «heidegangerisch Nahe» (приблизительный перевод: «близкое, как оно открывается гуляющему по пустоши», «по-хайдеггеровски близкое»). Мартин Хайдеггер, со своей стороны, с начала пятидесятых годов внимательно следил за творчеством Пауля Целана. Когда германист Герхарт Бауман летом 1967 года готовил выступление поэта во Фрайбурге и прислал Мартину Хайдеггеру письменное уведомление о дате этого вечера, тот ответил: «Я уже давно хочу познакомиться с Паулем Целаном. Он дальше всех продвинулся вперед, но, как правило, предпочитает держаться в задних рядах. Я знаю о нем всё, знаю и о тяжелом кризисе, из которого он сам себя вытащил, насколько это вообще по силам человеку… Было бы хорошо показать Паулю Целану и Шварцвальд».
24 июля 1967 года, выступая в большой аудитории Фрайбургского университета, Пауль Целан видел перед собой самое многочисленное собрание слушателей из всех, с какими ему приходилось иметь дело за свою жизнь. В зале присутствовало более тысячи человек. Среди них был и Мартин Хайдеггер, сидевший в первом ряду. Перед этим Хайдеггер прошелся по книжным магазинам и попросил продавцов поставить книги Целана на видное место в витринах. Ему охотно пошли навстречу. Только что приехавший поэт, отправившись погулять по Фрайбургу, повсюду в книжных магазинах видел томики своих стихов – и потом с радостью рассказал об этом знакомым, ждавшим его в фойе гостиницы, всего за час до начала выступления. Мартин Хайдеггер, который тоже там был, конечно, не стал упоминать о своей удачной придумке. Во время этой первой встречи Хайдеггера с Целаном произошел следующий эпизод. После того как некоторое время все возбужденно переговаривались друг с другом, кто-то предложил сфотографироваться на память. Целан вдруг резко поднялся со своего места и заявил, что фотографироваться с Хайдеггером не хочет. Хайдеггер, сохраняя невозмутимость, повернулся к Герхарту Бауману и спокойно сказал: «Он не хочет – что ж, оставим это» (62). Целан ненадолго вышел, а когда вернулся, дал понять, что больше не возражает против общего снимка. Однако его первая выходка возымела свое действие и никто не решился повторить предложение. Целан, казалось, теперь чувствовал неловкость и пытался как-то загладить произнесенные им обидные слова. После его выступления все снова собрались вместе, чтобы выпить по бокалу вина. Хайдеггер предложил Целану на следующее утро поехать в Шварцвальд, побродить по верховым болотам и заодно заглянуть в тодтнаубергскую «хижину». Тот согласился. Но едва Хайдеггер ушел, как Целан, оставшийся вдвоем с Герхартом Бауманом, стал приводить всевозможные возражения против предложения, которое только что принял. И в конце концов объяснил, что ему трудно находиться рядом с человеком, о чьем сомнительном прошлом он не может забыть. «Его досада быстро переросла в решение отказаться», – вспоминает Бауман, который тогда напомнил Целану, что тот сам выражал желание встретиться с Хайдеггером и получить возможность с ним пообщаться. Целан даже не попытался как-то разрешить эти противоречия. Он по-прежнему имел предубеждение против Хайдеггера, но, с другой стороны, работы и сама личность фрайбургского философа произвели на него глубокое впечатление. Он чувствовал, что его тянет к Хайдеггеру, – и упрекал себя за это. Он искал сближения – и запрещал себе хотеть чего-то подобного. На следующий день Целан все-таки поехал в Тодтнауберг. Время до полудня они с Хайдеггером провели вдвоем, в «хижине». О чем они говорили, неизвестно. Целан оставил запись в книге для посетителей: «Пишу в книгу для гостей хижины, не отводя взгляда от колодезной звезды, с надеждой в сердце на грядущее слово».
«Грядущее слово» – это выражение могло означать многое. Ждал ли Целан от Хайдеггера признания его прошлой вины, был ли разочарован тем, что такого признания не последовало? Но Целан вовсе не казался разочарованным, когда Бауман, как он рассказывает, встретил их обоих несколько часов спустя, в гостинице: «К моему радостному удивлению, я застал и поэта, и мыслителя в приподнятом настроении. Они вкратце рассказали мне о событиях нескольких последних часов, особенно о своем походе к «хижине». Целан будто сбросил с себя всю тяжесть». На следующий день Целан, бодрый и в хорошем настроении, уехал во Франкфурт. Мария Луиза Кашниц[466], встретив его через несколько дней, была поражена тем, как он преобразился. И даже сказала друзьям: «Да что они там во Фрайбурге с ним сделали, что там с ним случилось? Его прямо не узнать» (72). Все еще пребывая в этом радостном настроении, Целан 1 августа 1967 года написал стихотворение «Тодтнауберг»:
Арника, василек, где в книге, глоток из колодца под в сей день, строка кубом со звездами, о надежде в той в сердце хижине, на мыслителя где в книге той – грядущее (вот чьи имена там вписаны уже грядущее) перед моим? – слово…[467]«Грядущее слово» (kommende Wort) – эти строки могут быть поняты как ответ на метафизический адвентизм Хайдеггера, на его размышления о «грядущем Боге», о «пути к языку» – пути, который приводит к повороту. Во всяком случае, под «грядущим словом» явно имеется в виду не только признание Хайдеггером его политической вины.
«Вот уже грядущее слово (ungesaumt kommendes Wort)», – говорилось в первом варианте стихотворения, который Целан в 1968 году послал Хайдеггеру. Но в исправленном варианте, который вошел в сборник стихов 1970 года «Световолие», Целан убрал слова в скобках, то есть отказался от надежды на немедленный приход ожидаемого «слова».
Целан и Хайдеггер встречались еще несколько раз, обменивались письмами. Их отношения становились все более дружескими. Хайдеггер думал, что летом 1970 года покажет Целану гельдерлиновские места на Верхнем Дунае. И заранее готовился к этой поездке. Но она не состоялась. Весной 1970 года, в Париже, Пауль Целан покончил с собой…
Хайдеггер постоянно старался расположить Целана к себе, был по отношению к нему очень предупредительным, иногда даже по-настоящему заботливым. Когда они встретились в последний раз, в чистый четверг 1970 года, опять возник небольшой скандал. Целан читал свои стихи, потом началось их обсуждение. Хайдеггер слушал так сосредоточенно, что потом мог дословно цитировать целые строки. И, тем не менее, во время дискуссии Целан при всех обвинил его в невнимательности. Оба расстались в подавленном настроении. Бауман проводил Хайдеггера до дому. Когда они прощались у садовой калитки, Хайдеггер, «глубоко взволнованный», сказал: «Целан болен – неизлечимо».
Чего ждал Целан от Хайдеггера? Вероятно, он и сам этого не знал. Хайдеггеровское слово просвет (Lichtung) было для него обещанием, и он ждал, когда это обещание сбудется. Может быть, название последнего прижизненного сборника стихов Целана, «Световолие» (Lichtzwang), содержит в себе нетерпеливый ответ.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
Сумерки жизни. И снова Ханна. Хайдеггер и Франц Беккенбауэр. Листья, тяготы, отголоски песен… Чего люди не забудут. Смысл вопрошания о бытии и самого бытия: две дзэнские притчи. Мост. Татуировки. Филин. Смерть. Возвращение под небо Мескирха.
Рядом с кнопкой звонка на фасаде дома 47 по Буковой аллее была укреплена табличка с надписью: «Посещения после 17 часов». Посетители приходили часто, и Хайдеггеру пришлось позаботиться о том, чтобы его не беспокоили в рабочее время. Петцет вспоминает забавный случай: однажды в воскресенье, во второй половине дня, откуда ни возьмись появилось многочисленное южноамериканское семейство; все они просили разрешения войти, сбивчиво повторяя единственную фразу: «Seulment voir Monsieur Heidegger» («Нам бы только увидеть мсье Хайдеггера…»). Хайдеггер вышел к неожиданным гостям, они молча уставились на него как на диковинное животное, постояли минутку и затем так же безмолвно удалились, кланяясь на ходу. Те посетители, которых приглашали в кабинет Хайдеггера – что было знаком особого отличия, – поднимались по шаткой деревянной лестнице на площадку второго этажа, где рядом с гигантским семейным гардеробом открывалась дверь в этот самый кабинет. Они попадали в полутемную комнату с книжными стеллажами вдоль стен, куда свет проникал через затененное плющом окно. Перед окном – письменный стол. Через окно можно было увидеть башню, один из немногих уцелевших образцов старинной застройки Церингена. У стола стояло кожаное кресло, опробованное несколькими поколениями гостей: в нем, например, сиживали Бультман, Ясперс, Сартр, Аугштайн… На столе громоздились папки с рукописями, «сортировочные платформы Мартина», как называл их с добродушной усмешкой Фриц Хайдеггер.
В этой комнате в 1967 году снова сидела Ханна Арендт, впервые после пятнадцатилетнего перерыва. После ее последнего визита в 1952-м они с Мартином общались только посредством писем. В 1966 году, когда Ханне исполнилось шестьдесят, Хайдеггер послал ей свое стихотворение «Осень». Ханна расслышала в этих строках элегический тон, уловила настроение, окрашенное вечерними сумерками жизни. Ей захотелось еще раз увидеть Хайдеггера, которому было уже около восьмидесяти; полученное от него поздравление придало ей смелости. После всех недоразумений прошлых лет произошло, наконец, примирение. Ханна и Эльфрида договорились, что будут обращаться друг к другу просто по имени. Два года спустя, в августе 1969-го, незадолго до восьмидесятилетия Хайдеггера, Ханна Арендт приехала к нему со своим мужем Генрихом Блюхером. Атмосфера встречи была сердечной и непринужденной. Если бы только Ханна не курила так много! Эльфриде пришлось потом несколько дней проветривать комнаты. Хайдеггер, как рассказывает Эттингер, подарил своим гостям какую-то книгу с посвятительной надписью: «Ханне и Генриху – Мартин и Элъфрида». На следующий год они собирались повторить эту встречу вчетвером, но в октябре 1970 года Генриха Блюхера не стало. Свои последние годы Ханна Арендт посвятила работе над большой книгой, которую так и не успела закончить: «Жизнь разума: мышление – воление – суждение». В идеях, развитых в этой книге, она подходит к Хайдеггеру так близко, как никогда прежде. Подводя итог сделанному Хайдеггером, она пишет: он вернул философии «такое мышление, которое благодарно уже за то, что ему вообще досталась в удел «голая чтойность»». Да и в житейском плане связь между ними больше не обрывалась. Ханна каждый год навещала Хайдеггера и деятельно участвовала в подготовке американских изданий и переводов его работ. Хайдеггер с благодарностью принимал ее помощь; и, как он писал, вновь и вновь убеждался в том, что никто лучше нее не понимает его мысли.
Эттингер пересказывает еще один характерный эпизод: поскольку Хайдеггер уже с трудом поднимался по лестнице, они с Эльфридой решили построить в своем саду небольшой одноэтажный домик – уютное стариковское прибежище. Чтобы оплатить строительство, Хайдеггер хотел продать рукопись «Бытия и времени» какому-нибудь фонду, библиотеке или просто коллекционеру. Эльфрида в апреле 1969 года попросила совета у Ханны Арендт. Сколько можно запросить за рукопись, где выгоднее искать покупателей – в Америке или в Германии? Ханна сразу же навела справки у специалистов, и ей сказали, что лучше всего предложить эту сделку Техасскому университету – тогда наверняка можно будет получить сумму порядка 100 тысяч немецких марок.
Однако рукопись «Бытия и времени» не попала ни в Техас, ни вообще в Новый Свет, а осталась в Европе: интерес к ней проявил Шиллеровский литературный архив в Марбахе. Там в конце концов сосредоточилось все рукописное наследие Хайдеггера. Маленький домик был благополучно построен, и по случаю переезда Ханна прислала цветы.
Хайдеггер продолжал жить в привычном для него ритме. С утра работа, после обеда отдых, потом опять работа почти до вечера; он часто прогуливался до «Охотничьего домика» – трактира на склоне холма, откуда был хорошо виден весь город. И охотно заглядывал туда «на полчасика», чтобы поболтать с друзьями и знакомыми. Каждую весну и осень он приезжал погостить к брату, в Мескирх. В День святого Мартина, 11 ноября, Хайдеггер обычно приходил в церковь и занимал свое старое место на скамьях для хора – то самое, на котором сидел еще мальчишкой-звонарем. Мескирхцы умели ценить его присутствие, хотя многие из тех, кто знал его с детства, немного смущались, сталкиваясь лицом к лицу со знаменитым профессором в неизменном берете. Одна его бывшая одноклассница по народной школе, уборщица, встретив Хайдеггера и не зная, как к нему обратиться – с обычным ли «ты» или на «вы», что ей казалось манерным, – от растерянности употребила типично хайдеггеровскую конструкцию с безличной частицей «man», спросив его: «Isch me аu do?» («Ну что, приехамши?») По круглым юбилейным датам в городской ратуше устраивались чествования Хайдеггера. Один швейцарский музыкант как-то посвятил ему марш с мелодической темой h-e-d-e-g-g-e (си-ми-ре-ми-соль-соль-ми); городская капелла Мескирха включила это произведение в свой репертуар и по таким торжественным случаям всегда его исполняла. Итак, поговорка «Нет пророка в своем отечестве» к Мескирху никакого отношения не имеет. Тем паче, что в 1959 году этот городок присвоил Хайдеггеру звание почетного гражданина.
Хайдеггер был теперь внушавшим глубокое уважение старцем, и все жесткое, резкое в нем смягчилось. Он заходил к соседям (потому что у него не было своего телевизора), чтобы смотреть большие футбольные матчи на Кубок Европы. В начале шестидесятых, наблюдая за легендарной игрой гамбургского и барселонского клубов, он от волнения опрокинул чашку с чаем. Тогдашний интендант фрайбургского театра однажды встретил его в электричке и собирался втянуть в разговор о литературе и театре, но это не удалось. Хайдеггеру, который еще находился под свежим впечатлением от недавнего национального чемпионата по футболу, больше хотелось потолковать о Франце Беккенбауэре. Он восхищался тем, как этот игрок чувствует мяч, – и попытался с помощью жестов объяснить своему удивленному собеседнику все тонкости игры любимого футболиста. Он назвал Беккенбауэра «гениальным игроком», потом похвалил его за неуязвимость. Хайдеггер считал себя знатоком в данной области, поскольку в своем мескирхском детстве не только звонил в колокола, но и успешно гонял мяч в качестве крайнего нападающего местной футбольной команды.
В последние годы Хайдеггер занимался в основном тем, что готовил к изданию полное собрание своих работ. Он, собственно, хотел назвать его «Пути», но в конце концов остановился на традиционном заглавии: «Сочинения».
Артур Шопенгауэр однажды, под конец жизни, заметил: «Человечество научилось от меня кое-чему такому, чего оно никогда не забудет». От Хайдеггера подобного высказывания не сохранилось. Да он и не создал никакой конструктивной философии – в смысле «картины мира» или нравственного учения. Конкретных «результатов» хайдеггеровского мышления, которые были бы сопоставимы с «результатами» философии Лейбница, Канта или Шопенгауэра, нет. Страстью Хайдеггера было вопрошание, а не ответы. Вопрошание потому представлялось ему «благочестием мышления», что оно открывает новые горизонты – точно так же, как религия когда-то, когда еще была жива, расширяла горизонты и освящала то, что в них появлялось. «Открывающей силой», в представлении Хайдеггера, обладал, по сути, один вопрос, который он, Хайдеггер, и ставил на протяжении всей своей философской жизни, – вопрос о бытии. Смысл этого вопроса – не в чем ином, как в этой открытости, в этом сдвиге, в выдвижении в некий просвет, где простому, самоочевидному внезапно вновь возвращается чудо его «вот»; где человек вдруг ощущает себя как место, где что-то разверзается, где природа открывает глаза и замечает, что она вот-есть, где, следовательно, посреди сущего имеется открытое пространство, «просека», и где возможна благодарность за то, что все это существует. В вопросе о бытии скрыта готовность к радости. Ставить вопрос о бытии в Хайдеггеровском смысле – значит «высветлять», «поднимать к свету» все вещи: так, как «поднимают» (lichten) с илистого дна якорь, чтобы, освободившись, выйти в открытое море. Однако ирония истории проявилась в том, что в процессе восприятия хайдеггеровской мысли вопрос о бытии часто утрачивал эту свою открывающую, просветляющую силу и скорее запугивал мышление, держал его в судорожном напряжении, запутывал. С вопрошанием о бытии в большинстве случаев происходит приблизительно то же, что случилось с учеником – персонажем одной дзэнской притчи. Этот ученик долго думал, как вынуть подросшего гуся из бутылки с узким горлом, не убивая его и не разбивая бутылку. В конце концов, отчаявшись, он пришел к своему учителю и попросил его решить трудный вопрос. Учитель на мгновение отвернулся, а потом сильно хлопнул в ладоши и позвал ученика, произнеся его имя. «Я здесь, учитель!» – отозвался тот. «Вот видишь, – сказал учитель, – а гусь-то снаружи!» То же самое можно сказать и о смысле вопроса о бытии.
Относительно смысла того самого бытия, о котором идет речь в вопросе о бытии, тоже существует красивая дзэнская притча, вполне в духе Хайдеггера. В ней рассказывается, что один человек, прежде чем обратиться к учению дзэн, видел горы как горы и воды как воды. Возвысившись до определенного уровня внутреннего овладения истиной дзэн, он увидел, что горы перестали быть горами, а воды – водами. Однако когда он достиг полного просветления, он опять стал видеть горы как горы и воды как воды.
В двадцатые годы Хайдеггер охотно употреблял словосочетание (казавшееся его слушателям чересчур абстрактным) «формальное указывание». Как вспоминает Гадамер, тем студентам, которым было трудно понять это выражение, так как они предполагали, что оно так или иначе связано с абстрагированием, Хайдеггер объяснял его смысл следующим образом. Формально-указующий жест означает: «Изведай и наполни!» «Указывающий» всегда отделен некоторой дистанцией от того, на что он указывает, и требует от другого – того, кому он хочет что-то показать, – чтобы тот посмотрел сам. Этот другой должен сам увидеть (в феноменологическом понимании этого слова) «показываемое» – и «наполнить» его своим взглядом, то есть своим восприятием. Совершая такое «наполнение», он и «изведает», что там можно увидеть. Но, как уже говорилось, смотреть и видеть человек должен сам.
Когда Хайдеггер в письме Ясперсу однажды охарактеризовал себя как «смотрителя галереи, который, в частности, следит за тем, чтобы шторы на окнах были надлежащим образом раздвинуты» (Переписка, 212) (дабы великие произведения философии были лучше видны), он оценил собственную деятельность слишком скромно. На самом деле он хотел помочь людям научиться так всматриваться в жизнь – а не только в философию, – как будто это всматривание происходит впервые. Просвещение в понимании Хайдеггера – это восстановление того первичного света, который всегда присутствует при ошеломляющем и потому сверхвластительном явлении присутствия в мир. В этом и заключается великий пафос хайдеггеровского нового начала: в том, чтобы всё, прикрывающее истину, привычное, ставшее абстрактным, застывшим, – устранить, разрушить. И что тогда обнаружится? Только то, что и так всегда окружает нас, не «обуживая» и не стесняя: это самое «вот» нашего вот-бытия. Именно его, это «вот», мы должны изведать и наполнить. Философия Хайдеггера никогда не переставала тренировать наше умение видеть. Видеть горы и воды (как в дзэнской притче) – или, например, мост. Мосту Хайдеггер однажды посвятил удивительное рассуждение (VA, 146).
Мы пользуемся мостом, особо об этом не задумываясь. А между тем, заглянув под мост – в бездну, – можно испугаться, потому что возникает ощущение опасности вот-бытия, в бездне проглядывает Ничто, над которым мы балансируем. Мост перекрывает бездну. Но обоими концами прочно опирается на землю. Мост продолжает несущее начало земли, с которым мы неразрывно связаны, своей «позой» несения. Так собственный проект, собственный бросок обеспечивают нам возможность перехода. Перекрытие моста поднимается над бездной в открытость неба. Следовательно, мост, опираясь на землю, не только соединяет два берега, но и держит нас выдвинутыми в открытое пространство, дает нам в этом пространстве опору. Хайдеггер говорит: в том переходе, который совершает смертный, мост соединяет землю с небом. В декоре старинных мостов специально изображалась и прославлялась дерзость перехода, это рискованное удовольствие стоять или идти в открытом пространстве между небом и землей: она запечатлена в украшающих такие мосты фигурках святых, которые даруют уверенность и в которых мы находим выражение нашей благодарности за дар жизни, за возможность пребывания в открытом пространстве между небом и землей, за то, что мы совершаем свой переход, будучи сопровождаемыми, ведомыми.
Что это – поэтические грезы, метафора? Нет. Хайдеггеровский анализ вот-бытия представляет собой уникальную попытку показать: мы, люди, являемся существами, которые потому и могут строить мосты, что способны прочувствовать открытые просторы, дистанции и, главное, бездны (бездны над ними, вокруг них, в них). И которые поэтому знают: жить – значит наводить мосты над безднами, постоянно находясь в состоянии перехода. Следовательно, вот-бытие – это такое бытие, которое смотрит на себя как на другой берег и посылает себя на другой берег – с одного конца моста на другой. Главное же заключается в том, что этот мост растет только под нашими ногами: только тогда, когда мы по нему идем.
Но довольно об этом.
В поздних работах Хайдеггера встречается немало других построенных на игре слов, темных, похожих на арабески рассуждений, которые, может, и дают пищу для мысли, но вряд ли способны подарить воображению «зримые» образы: «Скрещение осуществляется как дающая быть собой зеркальная игра четырех, односложно вверяющих себя друг другу. Скрещение осуществляется как мирение мира. Зеркальная игра мира – хранящий хоровод»[468] (Вещь, ВиБ, 325). Над такими фразами не следует смеяться, но, сталкиваясь с ними, не нужно и впадать в ложное глубокомыслие. С ними дело обстоит так же, как с татуировками на теле гарпунера Квикега из романа Мелвилла «Моби Дик». Этому Квикегу, добродушному дикарю, родившемуся на одном из тихоокеанских островов, когда-то начертали на теле всю «космогоническую теорию» его племени «вместе с мистическим трактатом об искусстве познания истины», и с тех пор гарпунер стал ходячей чудесной книгой, «тайны которой даже сам он не умел разгадать, хотя его собственное живое сердце билось прямо о них»[469]. Все, в том числе и Квикег, знали, что эти письмена погибнут неразгаданными вместе с кожей, на которую они нанесены. Когда Квикег почувствовал приближение смерти, он попросил корабельного плотника сделать деревянный гроб и воспроизвел на его досках знаки, которые носил на своем теле.
Возможно, к некоторым загадочным фрагментам в гигантском наследии Хайдеггера стоит относиться так же, как к этим надписям на гробе дикаря с тихоокеанского острова.
4 декабря 1975 года умерла Ханна Арендт. Теперь и Хайдеггер начал готовиться к смерти – спокойно, сосредоточенно, отрешенно. Получив письмо от своего друга времен детства, Карла Фишера, который поздравлял его с восьмидесятишестилетием (этот день рождения окажется последним), Хайдеггер ответил: «Дорогой Карли… Сейчас я часто обращаюсь мыслями к нашей юности, вспоминаю и дом твоих родителей, где на террасе жило так много всякой живности, в том числе и один филин…»
Когда вечереет, вспоминается утренняя заря. Вероятно, мы не ошибемся, предположив, что в старости Хайдеггер снова совершенно отчетливо видел перед собой того филина. Приближалось время, когда филины пускаются в свой полет… Может быть, Хайдеггер вспоминал и о том, о чем мне однажды рассказал Карл Фишер, с которым я еще успел встретиться и поговорить: у маленького Мартина была сабля, такая длинная, что она волочилась по земле. Сабля не из жести, а из стали. «Он был настоящим атаманом», – сказал Карл Фишер, и в его голосе все еще звучало мальчишеское восхищение.
Зимой 1975 года Мартина Хайдеггера в последний раз навестил Петцет. «Как всегда, я должен был многое ему рассказать; он заинтересованно расспрашивал меня о людях и вещах, о впечатлениях и работе – его ум был как всегда ясен, кругозор широк. Когда ближе к вечеру я собрался уходить и госпожа Хайдеггер уже вышла из комнаты, я, дойдя до двери, вдруг еще раз обернулся. Старик посмотрел на меня, приподнял руку, и я услышал, как он тихо сказал: «Да, Петцет, дело идет к концу». Его глаза поприветствовали меня в последний раз».
В январе 1976 года Хайдеггер попросил своего земляка по Мескирху, профессора теологии во Фрайбурге Бернхарда Вельте, зайти к нему поговорить – и признался этому человеку, что хотел бы, когда умрет, быть похороненным на кладбище в Мескирхе, на их общей родине. Он выразил желание, чтобы его погребли по церковному обряду и чтобы сам Вельте выступил с надгробным словом. Суть этого их последнего разговора сводилась к тому, что опыт переживания близости смерти включает в себя и близость к родине. Как потом утверждал Вельте, «в комнате витала еще и экхартовская мысль о том, что Бог подобен Ничто». 24 мая, за два дня до своей смерти, Хайдеггер еще раз написал Вельте; он поздравлял теолога с присвоением ему звания почетного гражданина Мескирха. Это приветствие стало последними записанными словами Мартина Хайдеггера: «Нового почетного гражданина родного для нас обоих города Мескирха – Бернхарда Вельте – сегодня сердечно приветствует почетный гражданин с некоторым стажем… Пусть этот праздник чествования будет радостным и живительным. И пусть вдумчивость будет общим качеством всех его участников. Ибо необходимо вдумчивое размышление о том, может ли еще – и если да, то как – в эпоху технизированной однообразной всемирной цивилизации существовать родина» (D, 187).
26 мая, проснувшись утром с хорошим, бодрым самочувствием, Хайдеггер вскоре опять заснул и во сне умер.
Его похоронили в Мескирхе 28 мая. Вернулся ли он в лоно Церкви? Макс Мюллер рассказывает, что во время их совместных пеших прогулок, когда случалось проходить мимо церкви или часовни, Хайдеггер всегда зачерпывал горсть святой воды и преклонял колени. Однажды Мюллер спросил его, не есть ли это выражение непоследовательности – ведь он, Хайдеггер, давно отошел от церковных догм. Хайдеггер на это ответил: «Надо мыслить исторически. В тех местах, где так много молились, близость Божественного сказывается совершенно особым образом».
Чем бы закончить эту книгу?
Пожалуй, лучше всего – той фразой, сказанной по поводу смерти Макса Шелера (в 1928 году), которой Мартин Хайдеггер когда-то начал одну из своих марбургских лекций:
«И снова путь философии впадает во тьму…»
ХРОНИКА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА МАРТИНА ХАЙДЕГГЕРА
1889, 26 сентября – Рождение Мартина Хайдеггера, сына Фридриха Хайдеггера (7.8.1851 – 2.5.1924), бочара и причетника из Мескирха, и Иоганны Хайдеггер, урожденной Кемпф (21.3.1858 – 21.5.1927).
1903-1906 – Констанцская семинария. Мартин получает стипендию, живет в католическом интернате («Доме Конрада») и готовится к карьере священника.
1906-1909 – Архиепископская семинария и гимназия во Фрайбурге.
1909, 30 сентября – Хайдеггер становится послушником в иезуитском монастыре Тизис под Фельдкирхом (Форарльберг), но уже 13 октября его отсылают домой из-за болей в сердце.
1909-1911 – Обучение на теологическом факультете Фрайбургского университета и самостоятельные занятия философией. Хайдеггер печатает «антимодернистские» статьи в католических журналах.
1911-1913 – Уход с теологического факультета. Кризис. Изучение философии, гуманитарных и естественных наук во Фрайбургском университете. Хайдеггер получает стипендию, которую предоставляют с условием специализации по католической философии. Дружба с Эрнстом Ласловски. Штудирование работ Гуссерля. Логика как «потусторонняя ценность жизни».
1913 – Получение докторской степени после защиты диссертации «Учение о суждении в психологизме».
1915 – Защита габилитационной работы «Учение Дунса Скотта о категориях и значениях».
1915-1918 – Призван на военную службу (условно годен; работает в ведомстве почтовой цензуры и на метеорологической станции).
1917 – Хайдеггер вступает в брак с Эльфридой Петри.
1919 – Рождение сына Йорга.
1919, январь – Окончательный разрыв с «системой католицизма».
1920 – Рождение сына Германа.
1918-1923 – Мартин Хайдеггер – приват-доцент и ассистент Гуссерля во Фрайбурге. Дружба с Элизабет Блохман. 1920 – Начало дружбы с Карлом Ясперсом.
1922 – Хайдеггеровская интерпретация Аристотеля вызывает большой интерес в Марбурге.
1923 – Лекции по онтологии приносят Хайдеггеру славу «тайного короля философии».
1923 – Приглашение в Марбург. Строительство «хижины» в Тодтнауберге. Дружба с Бультманом.
1924 – Начало любовного романа с Ханной Арендт.
1925 – Ханна Арендт уезжает из Марбурга.
1927 – «Бытие и время».
1928 – Приглашение во Фрайбург в качестве преемника Гуссерля.
1929 – Вступительная лекция «Что такое метафизика?». Март. Доклады в Давосе в рамках Недели высшей школы. Дискуссия с Эрнстом Кассирером. 1929/1930 – Лекционный курс «Основные понятия метафизики».
1930 – Отклонение первого приглашения в Берлин.
1931/1932 – Хайдеггер проводит зимние каникулы в «хижине». И начинает проявлять симпатии к национал-социализму.
1933 – Избрание ректором. 1 мая: вступление в НСДАП. 27 мая: ректорская речь. Организация «лагеря науки». Пропагандистские выступления в Лейпциге, Гейдельберге, Тюбингене. Участие в осуществлении баденской реформы высшей школы (введение в университете «принципа фюрерства»). Октябрь. Отклонение второго приглашения в Берлин. Лето. Последняя встреча с Карлом Ясперсом. 1934 – «Трения» на факультете и разногласия с правительственными и партийными инстанциями; в результате Хайдеггер в апреле уходит с поста ректора. Лето. Разработка планов создания в Берлине Академии доцентов.
1936 – Переписка с Ясперсом прекращается. Доклад в Цюрихе: «Исток художественного творения». Доклад в Риме: «Гёльдерлин и сущность поэзии». В Риме Хайдеггер встречается с Карлом Левитом.
1936-1940 – В своих лекциях о Ницше Хайдеггер подвергает критике «властное мышление» национал-социализма. Гестапо начинает вести за ним наблюдение.
1936-1938 – Хайдеггер пишет «К делу философии. О событии» – философский дневник, не предназначенный для печати.
1937 – Хайдеггер отказывается от участия в Международном философском конгрессе в Париже.
1944 – Ноябрь. Хайдеггер призван в «фольксштурм».
1945 – Январь – февраль. Хайдеггер едет в Мескирх, чтобы привести в порядок и спрятать свои рукописи.
1945 – Апрель – июнь. Философский факультет перебазируется в замок Вильденштейн (под Бейроном, у истоков Дуная). Июль. Хайдеггер отчитывается перед Комиссией по чистке. С ним устанавливают контакт французские офицеры оккупационных войск, интересующиеся философией. План встречи с Сартром заканчивается крахом. Переписка с Сартром. Начало дружбы с Жаном Бофре.
1946 – Отзыв Ясперса. Хайдеггеру запрещено преподавать (запрет продлится до 1949 года). Начало дружбы с Медардом Боссом. В ответ на вопрос Бофре Хайдеггер пишет «Письмо о гуманизме».
1949 – Декабрь. Четыре доклада в «Бременском клубе» («Вещь», «Постав», «Опасность», «Поворот»).
1950 – Повторение этих докладов в санатории «Бюлерхёэ» и в баварской Академии изящных искусств.
1950 – Февраль. Ханна Арендт в гостях у Хайдеггера. Возобновление переписки и дружбы. Возобновляется и переписка с Карлом Ясперсом.
1951/1952 – Хайдеггер снова начинает читать лекции.
1952 – Второй приезд Ханны Арендт.
1953 – Доклад в Мюнхенской Академии наук: «Вопрос о технике». Начало послевоенной карьеры Хайдеггера. Дружба с Эрхартом Кёстнером.
1955 – Речь «Отрешенность» на юбилейных торжествах в честь Конрадина Кройцера в Мескирхе. Доклад в Серизиля-Саль.
1957 – Доклад в Экс-эн-Провансе. Знакомство с Рене Шаром.
1959 – Начало цолликонских семинаров с Медардом Боссом.
1959 – 27 сентября Хайдеггеру присваивают звание почетного гражданина Мескирха.
1962 – Первая поездка в Грецию.
1964 – Адорно публикует памфлет «Жаргон подлинности», содержащий критику философии Хайдеггера.
1966 – Первый семинар в Леторе. Продолжение этих семинаров в 1968, 1969 и 1973 годах (последний раз – в Церингене).
1966 – Хайдеггер дает интервью еженедельнику «Шпигель» (оно будет опубликовано после смерти философа).
1967 – Ханна Арендт после большого перерыва вновь приезжает к Хайдеггеру. С этого времени она будет навещать его каждый год.
1975 – Выходит первый том полного собрания сочинений Хайдеггера.
1976 – 26 мая Хайдеггер умирает; 28 мая его хоронят в Мескирхе.
УКАЗАТЕЛЬ ЦИТАТ ИЗ РАБОТ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
Глава первая
с. 25
«Может быть…» – цит.: О. Poggeler, Heideggers politisches Selbstverstandnis, 41
с. 27-28
«Мы знаем…» – С. Grober, Der Altkatholizismus in Mepkirch, 158
с. 30
«Большинство из нас…» – цит.: A. Miiller, Der Scheinwerfer, 11
с. 31
«На Луне…» – цит.: L. Braun, Da-da-dasein
«В нас…» – цит.: A. Muller, Der Scheinwerfer, 32
с. 31-32
«Жизненная мука…» – цит.: A. Miiller, Der Scheinwerfer, 9
с. 32
«она часто говорила…» – цит.: ebenda, 11
с. 34
«Аристотель…» – G. Dehn, Die alte Zeit, die vorigen Jahre. Lebenserinnerungen, 37
с. 35
«Я лишь позднее…» – ebenda, 38
с. 35-36
«Я с удовольствием…» – цит.: Н. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 55
с. 36
«Мы всегда…» – G. Dehn, Die alte Zeit, die vorigen Jahre. Lebenserinnerungen, 39
с. 38
«Я мог бы…» – цит.: W. Kiefer, Schwabisches und alemannisches Land, 324
«Его одаренность…» – цит.: H. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 59
с. 39
«Когда в старших классах…» – цит.: ebenda, 86
Глава вторая
с. 40
«Обязательные лекции…» – Н. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 86
с.41
«в своем ослеплении…» – С. Braig, Was soil die Gebildete von dem Modernismus wissen?, 37
«Историческая истина…» – ebenda
с. 46
«В наши дни…» – цит.: V. Farias, Heidegger und der Nationalsozialismus, 88
с. 47
«Уже один тот…» – цит.: ebenda, 89
с. 48
«Он видит…» – цит.: ebenda, 88
с. 49
«И если ты…» – цит.: ebenda
«Строгая ледяная логика…» – цит.: ebenda, 86
с. 50
«завершенных и завершающих…» – цит.: ebenda
с. 56
Ницше поставил диагноз… см.: F. Nietzsche, Samtliche Werke Bd. 1, 245 ff.
с. 58
«Стремление улучшить…» – цит.: F.A. Lange, Geschichte des Materialismus, Bd. 2, 557
c. 62
«Кто захочет…» – ebenda, 897 ff.
с. 65
«Наши заблуждения…» – W. James, Der Wille zum Glauben, 146
с. 66
«Итак, господа…» – цит.: A. Hermann, «Auf eine hohere Stufe des Daseins erheben», 812
с. 67
«указанием направления…» – P. Natorp, Philosophie und Padagogik, 235
«Первоначально философия…» – ebenda, 237
с. 68
«воплощена…» – H. Rickert, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, 18
с. 69
«животным, совершающим обмен…» – G. Simmel, Philosophie des Geldes, 385
с. 70
«Вследствие того…» – ebenda, 305
Глава третья
с. 72– 73
«И в моей жизни…» – цит.: Н. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 71
с. 73
«Если бы только…» – цит.: ebenda, 70
с. 75
«Если все это…» – цит.: ebenda, 73
«Мой дорогой…» – цит.: ebenda, 75
«Ты ведь должен…» – цит.: ebenda, 76
с. 76
«Оставайся подольше…» – цит.: ebenda
с. 79
«Сегодня…» – цит.: ebenda, 81
с. 80
«У него острый ум…» – цит.: ebenda
«Жаль…» – цит.: ebenda
«Он, вероятно…» – цит.: ebenda
«Нижеподписавшийся…» – цит.: ebenda, 80
с. 81
«Веря, что Вы останетесь…» – цит.: ebenda, 80
«Нижеподписавшийся полагает…» – ebenda
с. 82
«Философия…» – V. Farias, Heidegger und der Nationalsozialismus, 90
с. 87
«Где найти…» – W. Dilthey, Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften
с. 88
«Имя Бергсона…» – M. Scheler, Vom Umsturz der Werte, 323
573
с. 89
«все более точного…» – цит.: ebenda
«Материя и жизнь…» – цит.: ebenda
с. 90-91
«Оно будет…» – ebenda, 339
Глава четвертая
с. 92
«В конце июля…» – L. Marcuse, Mein zwanzigstes Jahrhundert, 30
«Дела мои…» – ebenda
с. 93
«В самом деле…» – цит.: V. Farias, Heidegger und der Nationalsozialismus, 97
с. 94
«Впервые вижу я…» – цит.: W. Falk, Literatur vor dem Ersten Weltkrieg, 247
«возмущение…» – цит.: С. v. Krockow, Die Deutschen in ihrem Jahrhundert, 101
«В действительности…» – цит.: F. Ringer, Die Gelehrten, 171
«индивидуальности…» – Т. Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, 1421
с 95
«Образ человека…» – M. Scheler, Der Genius des Krieges, 136
с 96
«веры в дух…» – Е. Troeltsch, Deutscher Geist und Westeuropa, 39
«самым ужасным…» – цит.: Н. Glaser, Sigmund Freuds zwanzigstes Jahrhundert, 187
«чисто формальной…» – M. Scheler, Der Genius des Krieges, 144
с 97
«словесах и писаниях…» – см.: М. Weber, Der Beraf zur Politik
«окказионализмом…» – см.: С. Schmitt, Politische Romantik
с. 102
«Когда я читал…» – цит.: Н. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 82
с 103
«Нет болота…» – цит.: ebenda, 87
с. 103-104
«Я бы не стал…» – цит.: ebenda, 91
с. 107
«система католицизма…» – цит.: ebenda, 106
с. 108
«Нехватка…» – цит.: ebenda, 92
«Они боятся тебя…» – цит.: ebenda, 94
«кандидата…» – цит.: ebenda, 93
с. 109
«Я видел…» – цит.: ebenda, 90
с. 110
«Дорогой Мартин…» – цит.: ebenda, 99
«Бракосочетание…» – цит.: ebenda, 101
с. 111
«ни малейшего влияния…» – цит.: ebenda, 116
Глава пятая
с. 111
«слова о гибели Запада…» – цит.: H.R. Sepp (Hg.), Edmund Husserl und die Phanomenologische Bewegung, 13
с. 112
«Это была этика…» – цит.: Е. Enders, Edith Stein, 87
с. 113
«У меня…» – Н. v. Hofmannstahl, Gesammelte Werke Bd. 7, 465
«Никто не вправе…» – цит.: H.R. Sepp (Hg.), Edmund Husserl und die Phanomenologische Bewegung, 42
с 114
«для осуществления которого…» – цит.: ebenda, 61
с. 115
«Конечно, внезапные озарения…» – цит.: ebenda, 42
«унаследованной…» – цит.: H.R. Sepp (Hg.), Edmund Husserl und die Phanomenologische Bewegung, 66
с 119
«вышвыривает…» – см.: J.P. Sartre, Die Transzendenz des Ego, 33 ff.
с 121
«с помощью…» – цит.: H.R. Sepp (Hg.), Edmund Husserl und die Phanomenologische Bewegung, 63
«Сегодня…» – Г. Г. Гадамер, цит.: ebenda, 15
с. 122
«Понятно, почему…» – Е. Husserl, Ideen zu einer reinen Phanomenologie, 118
«Каждое cogito…» – цит.: H. Rombach, Phanomenologie des gegenwartigen Bewuptseins, 52
с 123
«Если я делаю это…» – цит.: ebenda, 71
с. 124
«Философия и поэзия…» – Маюми Хага, цит.: H.R. Sepp (Hg.), Edmund Husserl und die Phanomenologische Bewegung, 18
с 127
«Я с удовольствием…» – цит.: Н. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 102
с 128
«а война…» – цит.: ebenda, 104
«душевной зоркостью…» – цит.: ebenda
с. 129
«В лагерь «независимых»…» – Е. Stein, Briefe an Roman Ingarden, 108
Глава шестая
с. 133
«бледный и изможденный…» – L. Lowith, Mein Leben in Deutschland, 17
с. 136
«моральному единству…» – цит.: F.K. Ringer, Die Gelehrten, 320
с. 137
«единственный шанс…» – см.: U. Linse, Barfufiige Propheten, 27
с. 138
«луг, усеянный цветами…» – см.: ebenda
«Молодое поколение…» – цит.: F.K. Ringer, Die Gelehrten, 328
с. 147
«Существуют, может быть…» – Н. Ball, Die Flucht aus der Zeit, 100
с 152
«философский лиризм…» – E. Bloch, Geist der Utopie, 245
«Трудно дознаться…» – ebenda, 19
с. 154
«подлинно сущим…» – W. Heisenberg, Das Naturbild der heutigen Physik,
10
с. 155
«Мистике…» – W. Wundt, Sinnliche und iibersinnliche Welt, 147
«В «Следах» Блох цитирует…» – E. Bloch, Spuren, 284
Глава седьмая
с. 156
«Два прошедших года…» – цит.: Н. Ott, Martin Heidegger, Unterwegs zu seiner Biographie, 106 f.
с 159
«О временах…» – см.: О. Poggeler, Der Denkweg Martin Heideggers, 36 ff.
с 161
«Бог, чистая граница…» – К. Barth, Romerbrief, 315
с. 161-162
«Здесь не из-за чего…» – ebenda, 279
с. 171
«Все это…» – К. Jaspers, Philosophische Autobiographie, 34
с. 179
«Я делаю лишь то…» – К. Lowith, Mein Leben in Deutschland, 30
Глава восьмая
с. 180-181
«с недавних пор…» – цит.: Н. Ott, Martin Heidegger, Unterwegs zu seiner Biographie, 121
с 181
«прочитали конспект…» – цит.: ebenda, 122
«идущее из самой глубины…» – цит.: V. Farias, Heidegger und der Nationalsozialismus, 104
с. 184
«самый волнующий…» – Н. Morchen, Aufzeichnungen
с. 186
«Когда Хайдеггер…» – H.G. Gadamer, Philosophische Lehrjahre, 22
«В 1924 году…» – цит.: G. Neske (Hg.), Erinnerang an Martin Heidegger, 112
с. 187
«от неброского щегольства…» – ebenda
с. 188-189
«Хайдеггер говорил…» – A. v. Buggenhagen, Philosophische Autobiographie, 134
с. 189
«достаточной экзистенциальной массой…» – ebenda, 11
с. 190
«А что если…» – ebenda
«что ничто не может…» – Н. Morchen, Aufzeichnungen, 4
с. 191
«Подлинная задача…» – H.G. Gadamer, Martin Heidegger und die Marburger Theologie, 169
«Поскольку философия…» – цит.: Н. Zahrnt, Die Sache mit Gott, 245
с. 195
«Слухи были…» – H. Arendt, Martin Heidegger wird achtzig Jahre alt, 235/237
«Но самым удивительным…» – В. v. Wiese, Ich erzahle mein Leben, 88
«никаких антисемитских высказываний…» – цит.: Е. Young-Bruehl, Hannah Arendt, 108
с. 196
«На ней был плащ…» – Е. Ettinger, Hannah Arendt – Martin Heidegger, 20
«Сохраняя уважительную дистанцию…» – ebenda, 20
«лирическую песнь…» – ebenda, 20
с. 197
«начались интимные отношения…» – ebenda, 21
«указывал время…» – ebenda, 24
«чтобы из-за моей любви…» – ebenda, 25
с. 198
«необычайное и чудесное…» – цит.: Е. Young-Bruehl, Hannah Arendt, 97
«колдовском заклятии…» – цит.: Е. Young-Bruehl, Hannah Arendt, 95
«Почему ты мне руку…» – цит.: ebenda, 97
с. 200
«То обстоятельство…» – цит.: Е. Ettinger, Hannah Arendt – Martin Heidegger, 111
с 201
«Мне все еще кажется…» – цит.: ebenda, 31
с. 202
«приглашал ее на свидание…» – ebenda, 33
«Он победитель…» – Н. Arendt, Rahel Varnhagen, 54
с. 202-203
«В принципе…»-цит.: Е. Young-Bruehl, Hannah Arendt, 348
с. 204
«При всем признании…» – цит.: BwHJ, 232
Глава девятая
с. 209
«без единого слова…» – Н. Morchen, Aufzeichnungen
с. 216
«во всем и вся…» – С. Bry, Verkappte Religionen, 33
«Итак…» – S. Freud, Werke Bd. IX, 270
с. 225
«то выходя…» – Н. Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch, 288
«Как «я»…» – ebenda, 292
с. 226
«Человек может…» – A. Gehlen, Studien zur Anthropologie und Soziologie,
245
c. 236
«живой организм…» – см.: F. Tonnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, 3 ff.
Глава десятая
с. 243
«Нормальные часы…» – Н. Ball, Die Flucht aus der Zeit, 156
c. 245
««Сейчас» познаваемости…» – W. Benjamin, Das Passagenwerk, 1250
«всемирная история…» – О. Spengler, Der Mensch und die Technik, 27
с. 245-246
«Нормальное…» – С. Schmitt, Politische Theologie, 14
с. 246
«с нормативной точки зрения…» – ebenda, 31
«сотворить мать из сына…» – P. Tillich, Die Sozialistische Entscheidung, 252
«Суверен – это тот…» – С. Schmitt, Politische Theologie, 11
«Исключение…» – ebenda
с. 249
«Было так…» – H.W. Petzet, Auf einen Stern zugehen, 18
с. 252-253
«дерзко…» – цит.: Е. Ettinger, Hannah Arendt – Martin Heidegger, 41
с 259
«возвышенное ощущение…» – O.F. Bollnow, Gesprache in Davos, 28
c. 260
«Полемика…» – цит.: G. Schneeberger, Nachlese zu Heidegger, 4
«Мы уже знали…» – цит.: ebenda, 7
Глава одиннадцатая
с. 264
«Остается еще упомянуть…» – цит.: V. Farias, Heidegger und Nationalsozialismus, 118
Глава двенадцатая
с. 279
«За всю историю…» – цит.: К. Sontheimer, Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik, 53
с 280
«Это как если бы…» – W. Rathenau, Zur Kritik der Zeit, 17
«Стоит только…» – R. Musil, Biicher und Literatur. Essays
с 281
«Метафизически-абсолютистское мировоззрение…» – цит.: К. Sontheimer, Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik, 181
«У этих молодых людей…» – цит.: ebenda, 145
с. 282
«Все это указывает…» – цит.: К. Sontheimer, Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik, 41
«Эксцентричному душевному состоянию…» – Т. Mann, Das essayistische Werk Bd. 2, 192
с 283
«Мы не укрепимся…» – S. Reinhardt (Hg.), Lesebuch. Weimarer Republik, 173
«спасения и помощи…» – M. Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, 92
«Для поддержания человека…» – ebenda
«идея вечного…» – Н. Plessner, Macht und menschliche Natur, 286
с 283-284
«Как можем мы здесь…» – ebenda, 284
с. 290
«В последнее время…» – цит.: V. Farias, Heidegger und Nationalsozialismus, 123
с. 291
«Социалистический министр…» – цит.: ebenda
«вдали от помех…» – цит.: ebenda, 124
«Сегодня…» – цит.: Anhang BwHB, 144
с. 292
«принять во внимание…» – цит.: V. Farias, Heidegger und Nationalsozialismus, 125
«духовной революции…» – в: V. Meja/N. Stehr (Hg.), Der Streit urn die Wissenssoziologie Bd. 1, 388
с 293
«ощущение тревоги…» – ebenda, 403
с. 294
«Философ…» – ebenda, 335
Глава тринадцатая
с. 311
«Там, наверху…» – Н. Morchen, Aufzeichnungen
с. 312
«никто из его учеников…» – М. Muller, Martin Heidegger. Ein Philosoph und die Politik, 198
с 313
«что национал-социализм…» – Письмо Хансу-Петеру Хемпелю (неопубликованное)
с. 314
«больше признавать…» – М. Miiller, Martin Heidegger. Ein Philosoph und die Politik, 198
с. 315
«Революции…» – цит.: J. u. R. Becker (Hg.), Hitlers Machtergreifung, 311
«Север и юг…» – цит.: ebenda
с. 316
«Это было…» – S. Haffner, Von Bismarck zu Hitler, 219
«безграничная любовь…» – цит.: J. u. R. Becker (Hg.), Hitlers Machtergreifung, 307
«действительно говорил…» – цит.: ebenda
«Как еврей…» – цит.: G. Picht, Die Macht des Denkens, 199
с. 317
«Большой город…» – G. Benn, Werke Bd. 4, 246
с. 318
«Быть примитивным…» – в: В. Martin (Hg.), Martin Heidegger und das
«Dritte Reich», 180
«мы находимся в подчинении…» – ebenda, 181
«союз…» – Н. Arendt, Elemente und Urspriinge totaler Herrschaft, 528
«Послевоенная элита…» – ebenda, 532
с. 319
«Он верил…» – В. Martin (Hg.), Martin Heidegger und das «Dritte Reich», 202
«He научные положения…» – В. Martin (Hg.), Martin Heidegger und das
«Dritte Reich», 177
с. 320
«полное преобразование…» – ebenda, 178
«втором великом…» – ebenda
с. 323
«Радикальная критика…» – Е. Krieck, Volk und Werden, 328 ff.
с. 324
«Он живет…» – ebenda
с. 325
«Действовать…» – цит.: Т. Laugstein, Philosophieverhaltnisse im deutschen Faschismus, 45
с. 326
«лжи, давления на совесть…» – цит.: ebenda, 41
«Но высшая школа…» – цит.: ebenda, 47
с. 327
«г-н проф. Хайдеггер…» – В. Martin (Hg.), Martin Heidegger und das
«Dritte Reich», 165
с. 328
«настойчивое желание…» – H. Tietjen, Verstrickung und Widerstand.
с. 329
«Мы рекомендуем…» – H. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 142
с. 330
«Господин Хайдеггер…» – H. Tietjen, Verstrickung und Widerstand.
«Созидание…» – H. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 165
с. 331
«В высшей степени…» – ebenda, 166
«Только руководство…» – цит.: В. Martin (Hg.), Martin Heidegger und das
«Dritte Reich», 166
с. 332
«почве родины…» – цит.: V. Farias, Heidegger und Nationalsozialismus, 121
с. 333
«Проконсультировавшись…» – H. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu
seiner Biographie, 149
с. 336
«который, желая прояснить…» – A. Schopenhauer, Der Briefwechsel mit Goethe, 15
с. 337
«Божий дом…» – цит.: U. Hap, Militante Pastorale, 31
Глава четырнадцатая
с. 339
«Подобно Боймлеру…» – цит.: V. Farias, Heidegger und der Nationalsozialismus, 167
«Из всех…» – цит.: ebenda, 165
«Мало найдется…» – цит.: ebenda
с. 340
«Речь Хайдеггера…» – цит.: ebenda, 167
«Наконец-то я дочитал…» – цит.: ebenda
с. 341
«Я услышал…» – цит.: ebenda, 201
с. 344-345
«Мы хотим культивировать…» – Н. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 152
с. 345
«Мы хотим очистить…» – цит.: ebenda
«Я полагаю…» – цит.: ebenda, 171
с. 346
«все сильнее…» – цит.: ebenda
с. 347
«благороднейшие евреи…» – цит.: ebenda, 178
«Правда ли…» – Ettinger, 42
«Он по порядку…» – ebenda, 42
с. 347-348
«действительно…» – ebenda, 43
с. 348
«антисемитизм из-за конкуренции…» – S. Haffner, Anmerkungen zu Hitler, 91
«речь идет о…» – в: DIE ZEIT, Nr. 52 (22.12.1989), опубликовано Ульрихом Зигом
«что первоначально…» – М. Muller, Martin Heidegger. Ein Philosoph und die Politik, 204
«необходимость…» – цит.: H. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 199
с 350
«Хайдеггер хотел…» – M. Muller, Martin Heidegger. Ein Philosoph und die Politik, 205
«В нынешней ситуации…» – цит.: ebenda
с. 351
«Он представлялся мне…» – М. Muller, Erinnerungen an Husserl, 37
«Он – величайшее из всех дарований…» – ebenda, 38
«факультетом порядочных людей…» – Н. Ott, Edmund Husserl und die Universitat Freiburg, 102
с 352
«испытательным полигоном…» – V. Farias, Heidegger und der Nationalsozialismus, 212
с 352-353
«Созидание нового духовного мира…» – цит.: Н. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 165
с 354
«строительству и созиданию…» – цит.: V. Farias, Heidegger und der Nationalsozialismus, 185 fif.
с 355
«Когда говорит Хайдеггер…» – цит.: ebenda, 203
«живой действительностью…» – цит.: Н. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 216
с 355-356
«Движение к цели…» – цит.: ebenda, 218
с. 356
«обесценивание мира…» – Н. Buhr, Der weltliche Theologie, 53
с. 357
«испытания лагерем…» – цит.: Н. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 221 f.
Глава пятнадцатая
с. 361
«со-бытия и друг-с-другом-бытия…» – Н. Arendt, Was ist Politik?, 9
с. 362
«философским гением…» – V. Farias, Heidegger und der Nationalsozialismus, 227
«делу Адольфа Гитлера…» – цит.: ebenda, 228
«опасного шизофреника…» – цит.: ebenda, 232
«шизофренической болтовни…» – цит.: ebenda, 275
с. 363
«Основной мировоззренческий тон…» – цит.: G. Schneeberger, Nachlese zu Heidegger, 225
«в спасительные объятия…» – V. Farias, Heidegger und der Nationalsozialismus, 234
«разработки духовно-этического ядра…» – цит.: Т. Laugstein, Philosophieverhaltnisse im deutschen Faschismus, 49
с. 364
«доставшиеся нам…» – цит.: ebenda, 88
«деятельности…» – в: L. Poliakov/J. Wulf (Hg.), Das Dritte Reich und seine Denker, 548
с 365
«Его Превосходительству…» – цит.: Н. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 228
«В соответствии со смыслом…» – ebenda
с. 365-366
«С первого дня…» – цит.: A. Schwan, Politische Philosophie im Denken Heideggers, 219
с 366
«революция…» – цит.: В. Martin (Hg.), Martin Heidegger und das «Dritte Reich», 179
с 367
«Эту официальную победу…» – цит.: V. Farias, Heidegger und der Nationalsozialismus, 247
e. 368
«Д-р Баумгартен…» – цит.: ebenda, 283
с. 369
«самым болезненным…» – К. Jaspers, Notizen zu Martin Heidegger, 15
с. 370
«могла нанести…» – цит.: Н. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 203
«никогда не будет…» – цит.: ebenda, 205
с. 371
«огромную радость…» – цит.: ebenda, 207
«учитывая тот высокий престиж…» – цит.: ebenda, 208
«не понимаемый никем…» – цит.: ebenda, 212
Глава шестнадцатая
с. 373
«ни специального снаряжения…» – цит.: Н. Arendt, Vom Leben des Geistes. Das Denken, 196
с. 376
«доставшиеся…» – цит.: Т. Laugstein, Philosophieverhaltnisse im deutschen Faschismus, 88
с. 377
«Если необходимо преодолеть…» – цит.: V. Farias, Heidegger und der Nationalsozialismus, 273
«Множатся слухи…» – цит.: ebenda, 274
«Если Вам угодно…» – цит.: ebenda, 276
с. 378
«раса, государство…» – цит.: ebenda, 278
«о Штрейхере…» – К. Lo'with, Mein Leben in Deutschland, 58
с. 380
«Это как если бы вдруг…» – цит.: Е. Salin, Holderlin im Georgekreis, 13
«германским силовым потоком…» – М. Kommerell, Der Dichter als Fuhrer in der deutschen Klassik, 5
с. 384
«сегодняшние люди…» – см.: F. Holderlin, Hyperion, Werke Bd. 1
582
Глава семнадцатая
с. 391
«Я преодолел хаос…» – цит.: S. Haffher, Anmerkungen zu Hitler, 36
с. 392
«что 18 миллионов…» – цит.: V. Farias, Heidegger und der Nationalsozialismus, 186
«путь, предначертанный…» – К. Lo'with, Mein Leben in Deutschland, 57
с. 402
«В общем и целом…» – цит.: W. Muller-Lauter, Uber den Umgang mit Nietzsche, 845
«врагом всего немецкого…» – цит.: ebenda
«В действительности…» – A. Baeumler, Nietzsche, der Philosoph und Politiker, 80
с. 403
«Смысл этой философии…» – цит.: G. Schneeberger, Nachlese zu Heidegger, 225
Глава восемнадцатая
с. 415
«Так оно и бывает…» – C.F. v. Weizsacker, Begegnungen in vier Jahrzehnten, 244
с. 419
«Можно ли…» – BwAJ, 177
«To, что Вы называете…» – ebenda, 178
с. 420
«сознания…» – G. Picht, Die Macht des Denkens, 181
«Мне казалось…» – H.A. Fischer-Barnicol, Spiegelungen – Vermittlungen, 88
c. 422
«Я должен…» – G. Picht, Die Macht des Denkens, 181
Глава девятнадцатая
с. 423
«мы могли бы обрести…» – цит.: V. Farias, Heidegger und der Nationalsozialismus, 289
«Итак, в философии и науке…» – цит.: ebenda, 290
с. 423-424
«Профессор Хайдеггер…» – цит.: ebenda, 311
с. 424
«явно смущен…» – К. Lo'with, Mein Leben in Deutschland, 57
с. 425
«Мы, очевидно…» – Н. Barth, Vom Ursprung des Kunstwerks, 265
«в одном ряду…» – E. Staiger, Noch einmal Heidegger, 269
«разделять непроходимой пропастью…» – ebenda
«перехода на сторону…» – К. Lowith, Mein Leben in Deutschland, 57
с. 427
«во всем его своеобразии…» – цит.: V. Farias, Heidegger und der Nationalsozialismus, 315
«Если, как утверждает…» – цит.: ebenda
«оценивают личность профессора…» – цит.: Н. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 253
c. 427-428
«Его философия…» – цит.: ebenda
с. 429-430
«О приглашении от председателя конгресса…» – цит.: V. Farias, Heidegger und der Nationalsozialismus, 330
с. 430
«сегодняшние германские философские устремления…» – цит.: ebenda, 335
с. 431
«совершенно отодвинуть на задний план…» – цит.: ebenda
«который казался ему…» – H.W. Petzet, Auf einen Stern zugehen, 47
с. 433
«Человек не принадлежит…» – J. Benda, Der Verrat der Intellektuellen, 125
с. 435
«Нам, оставшимся…» – цит.: R. Mehring, Heideggers Uberlieferungsgeschick, 91
Глава двадцатая
с. 440
«Мы с нашей философией…» – G. Picht, Die Macht des Denkens, 205
с. 441
«Все сейчас думают…» – цит.: Н. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 22
с 442
«Может быть, Гёльдерлину…» – цит.: О. Poggeler, Heideggers politisches Selbstverstandnis, 41
«Хайдеггер считается в городе нацистом…» – цит.: Н. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 295
с 443
«подлежат конфискации…» – цит.: ebenda
«Я самым решительным образом простестую…» – цит.: ebenda, 296
с. 444-445
«чувствительное посягательство…» – в: В. Martin (Hg.), Martin Heidegger und das «Dritte Reich», 187
с. 445
«публичное критическое выступление…» – ebenda, 188
с. 447
«в глазах немецкой образованной общественности…» – цит.: Н. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 305
с. 448
«Многие интеллектуалы…» – К. Jaspers, Die Schuldfrage, 46
с. 451
«сказать разъясняющие и указующие путь слова…» – цит.: Н. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 310
«Экзистировать значит…» – цит.: В. Waldenfels, Phanomenologie in Frankreich, 24
с 453
«Уже много столетий…» – J.P. Sartre, Die Transzendenz des Ego, 91
с. 455
«Девочка права…» – цит.: М. Lilla, Das Ende der Philosophie, 19
с. 456
«человеческую, или говорящую, действительность…» – A. Kojeve, Hegel, 152
с. 461-462
«Здесь мне впервые встретился…» – FAZ vom 19.1.1994, 27 (см. также: FAZ vom 30.11.1993)
с. 463
«Ах, Мартин…» – М. Muller, Martin Heidegger. Ein Philosoph und die Politik, 212
«вернуть Хайдеггера в университет…» – цит.: Н. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 320
с. 463-464
«Философ Мартин Хайдеггер…» – цит.: ebenda, 323
с. 464
«И что же тот сделал? …» – H.W. Petzet, Auf einen Stern zugehen, 52
«что г-н Хайдеггер отправляется…» – цит.: Н. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 319
Глава двадцать первая
с. 467
«Ну и что же Вы теперь…» – цит.: P. Noack, Carl Schmitt. Eine Biographie, 246
«Кто хочет исповедаться…» – ebenda, 77
с. 468
«близости к вещам…» – A. Baeumler, Hitler und der Nationalsozialismus, 172
с. 469
«Да, вместе с Вами…» – цит.: J. Altwegg (Hg.), Heidegger in Frankreich – und zuriick?, 33
c. 469-470
«Будь ангажированным…» – цит.: A. Cohen-Solal, Sartre, 413
c. 470
«В сумеречной Германии…» – цит.: Н. Glaser, Kleine Kulturgeschichte der Bundesrepublik, 19
с 471
«Жизнь…» – J.P. Sartre, 1st der Existentialismus ein Humanismus?, 34
с. 472
«поклонении идолам расы и класса…» – Der Monat, Heft 24 (1950), 502
с. 474
«История – это мосты…» – R. Schneider, Das Unzerstorbare, 12
с. 475
«но уже одно то…» – цит.: Н. Glaser, Bundesrepublikanisches Lesebuch, 166 f.
с. 476
«Я бы со спокойной душой…» – Der Monat, Heft 22/23 (1950), 379
с. 478
«Реальность разрушения…» – Н. Arendt, Besuch in Deutschland, in: Dies., Zur Zeit. Politische Essays, 46
с. 479
«Если бы не было прибежища фантазии…» – Т. Mann, Ansprache im Goethejahr, in: Ders., Das essayistische Werk, Bd. 3, 313
с. 486
«человек должен обрести себя…» – J.P. Sartre, Drei Essays, 36
Глава двадцать вторая
с. 487
«Передергивание невыносимо…» – BwAJ, 178
с. 488
«Этот вечер и это утро…» – цит.: Е. Ettinger, Hannah Arendt – Martin Heidegger, 86
с. 489
«Хайдеггеру…» – Н. Arendt, Was ist Existenzphilosophie?, 35
«старый детский страх…» – BwAJ, 73
с. 491
«Он всецело погружен…» – BwAJ, 177
с. 492
«Это очень трогательно…» – цит.: Е. Ettinger, Hannah Arendt – Martin Heidegger, 85
«Бедный Хайдеггер…» – цит.: Е. Young-Bruehl, Hannah Arendt, 346
«Дорогая…» – цит.: ebenda
«Увижу ли Хайдеггера…» – цит.: Е. Ettinger, Hannah Arendt – Martin Heidegger, 86
«все та же смесь…» – цит.: ebenda
с. 493
«Когда коридорный назвал…» – цит.: ebenda, 87
«оправданием всей моей жизни…» – цит.: ebenda, 86
«Он совершенно не понимает…» – цит.: Е. Young-Bruehl, Hannah Arendt, 347
«Кажется, мы впервые в жизни…» – цит.: ebenda
с. 494
«Я была потрясена…» – цит.: Е. Ettinger, Hannah Arendt – Martin Heidegger, 90
«Сегодня утром мне пришлось…» – цит.: ebenda, 88
с. 495
«Не делать ничего…» – цит.: ebenda, 90
«Вы сломали лед…» – цит.: ebenda, 92
«Вы никогда не скрывали…» – цит.: ebenda
«Его жена…» – цит.: ebenda, 97
с. 496
«самым зверским образом…» – цит.: Н. Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 135
с. 497
«совершенно уверена…» – цит.: Е. Ettinger, Hannah Arendt – Martin Heidegger, 98
««Что значит мыслить?» – великий вопрос…» – цит.: ebenda
с. 498
«без того, чему я в молодости…» – цит.: ebenda, 122
«De Vita activa…» – цит.: ebenda
с. 499
«В своих постоянно разгоравшихся спорах…» – цит.: J.A. Barash, Die Auslegung der «Offentlichen Welt», 126
«если бы люди…» – H. Arendt, Menschen in finsteren Zeiten, 41
«виртуозность взаимодействия с другими…» – Н. Arendt, Freiheit und Politik, 681
с. 500
«Если бы между нами…» – цит.: Е. Ettinger, Hannah Arendt – Martin Heidegger, 122
с. 503
«расплачиваться за сомнительное благо…» – Н. Arendt, Vom Leben des Geistes. Das Wollen, 189
с. 504
«To, что я не поеду…» – цит.: Е. Ettinger, Hannah Arendt – Martin Heidegger, 113
с. 506
«Я написала Хайдеггеру…» – BwAJ, 484
с. 508
«Судя по выбранным речевым оборотам…» – К. Jaspers, Notizen zu Martin Heidegger, 189
«Я пришла в ярость…» – цит.: Е. Ettinger, Hannah Arendt – Martin Heidegger, 118
с. 509
«На самом деле…» – цит.: К. Jaspers, Notizen zu Martin Heidegger, 82
«X.: Сама мысль есть бытие…» – ebenda, 194
с. 510
«С самого начала…» – ebenda, 140
с. 511
«На широком скалистом плоскогорье…» – ebenda, 264
Глава двадцать третья
с. 512
«Именно здесь…» – цит.: H.W. Petzet, Auf eine Stern zugehen, 62
с. 513
«Я объясняю его привязанность…» – в: G. Benn, Briefe an F.W. Oelze, Bd. 2, 342
с. 514
«чтобы отважиться…» – цит.: H.W. Petzet, Auf eine Stern zugehen, 62
«Хайдеггер…» – цит.: ebenda, 71
с. 515
«игра взаимодействия…» – цит.: ebenda, 72 ff.
с. 516
«бывшему приспешнику…» – цит.: ebenda, 78
«Это, в конце концов…» – цит.: ebenda, 77
с. 517
«Все-таки ситуация…» – цит.: ebenda, 75
с. 521
«Техника в целом…» – F.G. Junger, Die Perfektion der Technik, 354
«не началу, а концу…» – ebenda, 157
с. 522
«технике демонизации…» – J.G. Leithauser, Im Gruselkabinett der Technik, 475
«В страхе перед техникой…» – ebenda, 478
«Мы построили мир…» – М. Bense, Technische Existenz, 202
с. 532
«от ее начала и до конца…» – цит.: H.W. Petzet, Auf eine Stern zugehen,
151
«мир в самом лучшем его месте…» – R. Char, Eindrucke von fruher, 75
Глава двадцать четвертая
с. 535
«Господин Адорно…» – цит.: R. Wiggershaus, Die Frankfurter Schule,
653
с. 538
«великая поэзия…» – цит.: BwHK, 32
«коллегии его преданных почитателей…» – J. Habermas, Philosophisch-politische Profile, 73
587
с. 538-539
«Иррациональность…» – Th. W. Adorno, Jargon der Eigentlichkeit, 43
c. 541
«Я рассматриваю…» – Th. W. Adorno, Eingriffe. Neun kritische Modelle, 126
с 542
«проталкивают по блату…» – см.: R. Wiggershaus, Die Frankfurter Schule, 521
с. 543
«пропагандиста бесклассового общества…» – цит.: R. Wiggershaus, Die Frankfurter Schule, 568
с. 543-544
«Стыд противится…» – Th. W. Adorno, Noten zur Literatur II, 7
c. 544
«определенная прямолинейность…» – цит.: R. Wiggershaus, Die Frankfurter Schule, 555
«за лесные тропы…» – цит.: ebenda, 658
с. 545
«Каждая попытка…» – Th. W. Adorno/M. Horkheimer, Dialektik der Aufklarung, 15
«Геноцид народов…» – Th. W. Adorno, Negative Dialektik, 355
c. 546
«трансцендирования томления…» – Th. W. Adorno, Kierkegaard. Konstruktion des Asthetischen, 251
«Напрашивается сравнение…» – Th. W. Adorno, Noten zur Literatur I, 93
с. 547
«об основании которой…» – Th. W. Adorno, Ohne Leitbild. Parva Asthetica, 20
с. 548
«народного промысла…» – Th. W. Adorno, Jargon der Eigentlichkeit, 47
«Я бы предложил…» – цит.: J. Amery, Jargon der Dialektik, 598
с. 549
«принадлежит к нутру истины…» – цит.: ebenda, 604
«человек, который довольствуется…» – цит.: ebenda, 605
«утопия познания…» – Th. W. Adorno, Negative Dialektik, 21
с. 549-550
«невнятностью…» – цит.: J. Amery, Jargon der Dialektik, 600
«Ураганный ветер…» – H. Arendt, Martin Heidegger ist achtzig Jahre alt. – In: Dies., Menschen in finsteren Zeiten, 184
с. 553
«безумный страх…» – H.W. Petzet, Auf einen Stern zugehen, 103
«Я немного испугался…» – ebenda
с. 555
«окончательно…» – цит.: V. Farias, Heidegger und der Nationalsozialismus, 373
с 557
«нелегко…» – О. Poggeler, Der Denkweg Martin Heideggers, 340
«Я уже давно хочу…» – цит.: G. Baumann, Erinnerungen an Paul Celan, 60
с. 558
«Пишу в книгу для гостей…» – цит.: О. Poggeler, Spur des Wortes. Zur Lyrik Paul Celans, 259
с. 559
«К моему радостному удивлению…» – G. Baumann, Erinnerungen an Paul Celan, 70
c. 560
«Целан болен…» – ebenda, 80
Глава двадцать пятая
с. 561
«Seulment voir Monsieur Heidegger» – H.W. Petzet, Auf einen Stern zugehen, 198
с. 562
«Ханне и Генриху…» – цит.: Е. Ettinger, Hannah Arendt – Martin Heidegger, 130
«такое мышление…» – H. Arendt, Vom Leben des Geistes. Das Wollen, 176
с. 565
«Изведай и наполни! …» – H.-G. Gadamer, Der eine Weg Martin Heideggers. In: Ders., Gesammelte Werke, Bd. 3, 429
c. 567
«Дорогой Карли…» – Der Zauberer von Mepkirch. Ein Film von Rudiger Safranski und Ulrich Boehm.
с. 568
«Как всегда…» – H.W. Petzet, Auf einen Stern zugehen, 230
«в комнате…» – В. Welte, Ennnerung an ein spates Gesprach, 251
с. 569
«Надо мыслить исторически…» – М. Muller. Martin Heidegger – Ein Philosoph und die Politik. Ein Gesprach, 213
«И снова путь философии…» – H.-G. Gadamer, Philosophische Lehrjahre, 78
УКАЗАТЕЛЬ УПОМИНАЕМЫХ РАБОТ ХАЙДЕГГЕРА
Лекционные курсы
«Гераклит» (1943, GA 55): 437, 438 «Гимн Гёльдерлина «Истр»» (1942, GA 53): 25, 437, 442 «Гимны Гёльдерлина» (1934/35, GA 39): 380-387, 389, 390, 400 «Европейский нигилизм» (лекции о Ницше, лето 1940) см. в Прочих работах: «Ницше»…
«К определению философии» (1919, GA 56/57): 150, 153-155 «Логика» (1934, L): 360, 379
«Метафизические начальные основы логики» (1928, GA 26): 241, 247 «Ницше: Воля к власти» (1936/37, GA 43): 509
«О сущности истины» (лекции о Платоне) (1931/32, GA 34): 296, 297, 299, 302-309, 313; рус. пер. одной из этих лекций, «Учение Платона об истине»: 304
«Онтология (герменевтика фактичности)» (1923, GA 63): 174, 177, 179, 183
«Основные понятия метафизики» (1929/30, GA 29/30, рус. пер. двух вступительных глав в: ВиБ): 241, 242, 246, 247, 265-275, 277-279, 306 «Основные понятия» (1941, GA 51) 438
«Основные проблемы феноменологии» (1927, рус. пер. 2001): 240, 338 «Парменид» (1942/43, GA 54): 436
«Пролегомены к истории понятия времени» (1925, рус. пер. 1998): 125, 218, 235
«Феноменологическая интерпретация Аристотеля» (1921/22, GA 61): 145, 146, 158, 160, 162, 164-168, 212 «Шеллинг: О сущности человеческой свободы» (1936, GA 42): 379
Прочие работы
«Абрахам а Санкта-Клара» (D) 43-45 «Автобиография» (1915): 40, 50, 72, 81 Бременский доклад 1949 г.: 545
«Бытие и время»: 11, 14, 23, 24, 166, 168, 174, 179, 192, 193, 199, 200, 203-205, 207-209, 211, 212, 214-224, 226-241, 247, 264, 275, 276, 288-290, 301, 325, 332, 351, 358, 360, 363, 382, 385, 415, 425, 454, 456, 458, 459, 462, 481, 483, 484, 487, 498, 509, 531-533, 541, 557, 562 «Введение в метафизику» (1935): 383, 388, 389, 392, 393, 398, 401, 435, 459
«Вещь»: 512, 517, 567
«Вопрос о технике» (1953, ВиБ): 516, 517, 523-526, 528 «Время и бытие» (ВиБ): 7, 523, 540
«Время картины мира» (первоначальное название – «Основания новоевропейской картины мира метафизикой») (1938): 241, 371, 393-399, 401, 407, 429, 523
«Гёльдерлин и существо поэзии» (1936, ЕН): 424, 426, 427, 454 Давосская дискуссия: 234, 257-262, 290
«Идея философии и проблема мировоззрения» (1919, GA 56/57): 138– 141, 143, 144
«Из диалога о языке» (ВиБ): 540
«Исток художественного творения» (1935): 398-400, 425 «К вопросу о бытии» (1956, W): 508
«К делу философии. О событии»: 10, 11, 393, 410-417, 420 «Кант и проблема метафизики» (1929): 240, 263, 290, 454, 462
Лейпцигская речь (11.11.1933, S): 353, 354, 359, 360
«Лесные тропы»: 544 «Мой путь в феноменологию» (Z): 40, 52
«Немецкий студент как рабочий» (речь 25.11.1933): 353
«Ницше» (Nietzsche, Bd. I, 2): 393, 397, 401, 403, 408-410, 412-413, 428, 434, 436, 445, 505 (извлечения из этого двухтомника были опубликованы Хайдеггером в 1967 г. в виде брошюры «Европейский нигилизм», рус. пер. в ВиБ): 61, 403, 408, 414, 416, 434
«Новые исследования по логике» (1912): 71, 72, 75
«О существе основания» (1929): 247, 453
«О сущности истины» (1930): 46, 48, 247, 301, 302, 332, 512
«О тайне башни со звоном»: 29, 30
«Обращение к немецким студентам» (3.11.1933): 319
«Опасность»: 512 «Опыты мышления»: 431
«Остановки в пути» (А): 528, 530 «Отрешенность» (1955): 526-527
«Письмо о гуманизме» (ВиБ): 15, 463, 466, 468, 469, 479-481, 484-487, 490, 510, 526
«Поворот» (ВиБ): 512, 513, 527, 533, 538 «Понятие времени» (1924): 192-193 «Понятие времени в исторической науке» (1915): 102 «Постав»: 512
«Преодоление метафизики» (ВиБ): 529, 538 «Приветственное слово Бернхарду Вельте» (D): 568 «Проблема реальности в современной философии»: 72, 75 «Прозрение в то, что есть»: 512 «Проселок»: 25, 29, 30, 52, 548 «Пути к разговору» (1937, D): 431 «Путь к языку» (ВиБ): 148, 415, 510, 539 Ранние стихотворения (D): 109
Рецензия на «Психологию мировоззрений» Карла Ясперса: 171 – 173 Речь памяти Лео Шлагетера (S): 332, 553
«Самоутверждение немецкого университета». Ректорская речь (R): 307, 325, 330, 333-336, 338, 341, 351, 357, 360, 363, 374, 401, 553 «Слово» (ВиБ): 515
«Творческий ландшафт: Почему мы остаемся в провинции?» (1933, D): 292, 374, 375
«Университет в национал-социалистском государстве». Тюбингенская речь 30.11.1933 г.: 318, 320, 321, 355, 366, 383
«Университет в новом рейхе» (выступление перед гейдельбергским студенческим союзом, S): 340, 341
«Учение Дунса Скота о категориях и значении»: 91, 100, 101, 104-106 «Учение о суждении в психологизме» (FS): 76-79 «Факты и мысли 1945 года» (R): 338, 428, 429 Февральский доклад 1934 г.: 391
«Феноменологические интерпретации Аристотеля» (DJ): 160, 174-179, 181
«Феноменология и теология» (1927, W): 205, 413 Цолликонские семинары: 532-534 Четыре семинара в Летор: 530-532 «Что значит мыслить?» (WHD): 465, 497, 524
«Что такое метафизика?» (1929, ВиБ): 15, 77, 78, 229, 247, 249-251, 256, 359, 363, 438, 439, 453, 460 «Per mortem ad vitam»: 49
СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ ХАЙДЕГГЕРОВСКИХ РАБОТ
Бытие и время – Мартин Хайдеггер. Бытие и время. Пер. В. В. Би-бихина. М.: Ad Marginem, 1997.
Введение в метафизику – Мартин Хайдеггер. Введение в метафизику. Пер. Н. О. Гучинской. СПб.: НОУ ВРФШ, 1998.
Вещь – в: ВиБ, 316-326.
ВиБ – Мартин Хайдеггер. Время и бытие. Статьи и выступления. Пер. В. В. Бибихина. М.: Республика, 1993.
Вопрос о технике – в: ВиБ, 221-238.
Время и бытие – в: ВиБ, 391-406.
Время картины мира – в: ВиБ, 41-62.
Давосская дискуссия – Мартин Хайдеггер / Эрнст Кассирер. Давос-ская дискуссия. – в: Исследования по феноменологии и философской герменевтике. Минск: МГУ, 2001. С. 124-134.
Европейский нигилизм – в: ВиБ, 63-176.
Из диалога о языке – Из диалога о языке. Между японцем и спрашивающим – в: ВиБ, 273-302.
Интервью еженедельнику «Шпигель» – «Только Бог может еще нас спасти». Беседа сотрудников журнала «Шпигель» Р. Аугштайна и Г. Вольфа с Мартином Хайдеггером 23.09.1966 г. – в: Философия Мартина Хайдеггера и современность. М.: Наука, 1991. С. 233-250.
Исток художественного творения – в: Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. Трактаты, статьи, эссе. М.: Изд-во Московского ун-та, 1987. С. 264-312.
О сущности истины – в: Разговор на проселочной дороге (пер. 3. Н. Зайцевой; цит. по интернетскому изданию).
О тайне башни со звоном – в: Работы и размышления (пер. А. Михайлова; цит. по интернетскому изданию).
Основные понятия метафизики – в: ВиБ, 327-345.
Основные проблемы – Мартин Хайдеггер. Основные проблемы феноменологии. Пер. А. Г. Чернякова. СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 2001.
Отрешенность – в: Разговор на проселочной дороге (пер. А. С. Со-лодовникова; цит. по интернетскому изданию).
Переписка – Мартин Хайдеггер/Карл Ясперс. Переписка 1920– 1963. Пер. И. Михайлова, под ред. Н. Федоровой. М.: Ad Marginem, 2001.
Письмо о гуманизме –в: ВиБ, 192-220.
Поворот – в: ВиБ, 253-258.
Послесловие к: «Что такое метафизика?» – в: ВиБ, 36-41.
Преодоление метафизики – в: ВиБ, 177-192.
Пролегомены – Мартин Хайдеггер. Пролегомены к истории понятия времени. Пер. Е. В. Борисова. Томск: Водолей, 1998.
Проселок – в: Работы и размышления (пер. А. Михайлова; цитируется по интернетскому изданию).
Путь к языку – в: ВиБ, 259-273.
Работы и размышления – Мартин Хайдеггер. Работы и размышления разных лет. М.: Гнозис, 1993.
Разговор на проселочной дороге – Мартин Хайдеггер. Разговор на проселочной дороге. Избранные статьи позднего периода творчества. М.: Высш. шк., 1991 (цит. по интернетскому изданию).
Слово – в: ВиБ, 302-312.
Учение Платона об истине – в: ВиБ, 345-361.
Что значит мыслить? – в: Разговор на проселочной дороге (пер. А. С. Солодовникова; цит. по интернетскому изданию). Что такое метафизика? – в: ВиБ, 16-27.
Работы М. Хайдеггера на немецком языке:
Martin Heidegger, Gesamtausgabe. Ausgabe letzter Hand. (Betreuung: Hermann Heidegger) Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt a. M. = GA 1 ff.
Einzelveroffentlichungen Martin Heidegger:
M.H., Aufenthalte. – (Klostermann) Frankfurt a. M. 1989 A
M.H., Der Begriff der Zeit. – (Niemeyer) Tubingen 1989 BZ
M.H., Denkerfahrungen. – (Klostermann) Frankfurt a. M. 1983 D
M.H., Phanomenologische Interpretationen zu Aristoteles. (Anzeige der hermeneutischen Situation). In: Dilthey-Jahrbuch fur Philosophie und Geschichte der Geisteswissenschaften. Band 6. – Gottingen 1989 DJ M.H., Erlauterungen zu Holderlins Dichtung. – (Klostermann) Frankfurt a. M. 1981 EH
M.H., Einfiihrung in die Metaphysik. – (Niemeyer) Tubingen 1987 EM M.H., Friihe Schriften. – (Klostermann) Frankfurt a. M. 1972 FS
M.H., Holzwege. – (Klostermann) Frankfurt a. M. 1950 H
M.H., Die Herkrunft der Kunst und die Bestimmung des Denkens.
In: Petra Jaeger und Rudolf Liithe (Hg.), Distanz und Nahe.
Reflexionen und Analysen zur Kunst der Gegenwart. –
Wurtzburg 1983 HK
M.H., Kant und das Problem der Metaphysik. – (Klostermann)
Frankfurt a. M. 1991 К
M.H., Logik. Vorlesung Sommersemester 1934. Nachschrift einer
Unbekannten. Hg. Victor Farias. – Madrid 1991 L
M.H., Nietzesche. Band 1,2. – (Neske) Pfullingen 1961 N I, II
M.H., Die Selbstbehauptung der deutschen Universitat. Das
Rektorat. – (Klostermann) Frankfurt a. M. 1983 R
M.H., Vortrage und Aufsatze. – (Neske) Pfullingen 1985 VA
M.H., Vier Seminare. – (Klostermann) Frankfurt a. M. 1977 VS
M.H., Wagmarken. – (Klostermann) Frankfurt a. M. 1978 W
M.H., Was ist Metaphysik? – (Klostermann) Frankfurt a. M. 1986 WM M.H., Vom Wesen der Wahreit. – (KJostermann) Frankfurt a. M. 1986 WW
M.H., Was heipt Denken? – (Niemeyer) Tubingen 1969 WHD
M.H., Zur Sache des Denkens. (Niemeyer) Tubingen 1969 Z
M.H., Zollikoner Seminare. – (Klostermann) Frankfurt a. M. 1987 ZS
Martin Heidegger / Elizabeth Blochmann, Briefwechsel.
Herausgegeben von Joachim W. Storck. – Marbach 1989 BwHB Martin Heidegger / Erhart Kastner, Briefwechsel. Herausgegeben von Heinrich Wiegand Petzet. – Frankfurt a. M. 1986 BwHK
Guido Schneeberger, Nachlese zu Heidegger. Dokumente zu seinem
Leben und Denken. – Berlin 1962 S
Hannah Arendt / Karl Jaspers, Briefwechsel. Herausgegeben von
Lotte Kohler und Hans Saner. – Munchen 1985 BwAJ
БИБЛИОГРАФИЯ
Выражаю самую искреннюю благодарность всем, кто переводил на русский язык цитируемые в этой книге тексты Мартина Хайдеггера, Ханны Арендт, Ж. П. Сартра, а также переписку М. Хайдеггера с К. Ясперсом (Т. Баскакова).
Адорно Теодор В. Проблемы философии морали. Пер. М. Л. Хорькова. М.: Республика, 2000.
Арендт X. Vita activa, или О деятельной жизни. Пер. В. В. Биби-хина. СПб.: Алетейя, 2000.
Арендт X. Истоки тоталитаризма. М.: Центрком, 1996.
Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. Минск: Харвест, 1999.
Бердяев Н.А. Новое средневековье. М.: Феникс – ХДС-пресс, 1991.
Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
Гамсун К. Голод. Мистерии. Пан. Виктория. Минск, 1989.
Гегель Г.Ф.Ф. Работы разных лет. В 2 т. М.: Мысль, 1972.
Гёльдерлин Ф. Гиперион. Стихи. Письма. Пер. Е. А. Садовского. М., 1988.
Гёльдерлин Ф. Избранная лирика. Кишинев: AXUL Z, 1997.
Гёльдерлин Ф. Соч. М.: Художеств, лит., 1969.
Грасс Г. Собачьи годы. Пер. М. Л. Рудницкого. (Millennium.) СПб.: Амфора, 2000.
Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Минск; М., 2000.
Залесский К.А. Вожди и военачальники третьего рейха. М.: Вече, 2000.
Исследования по феноменологии и философской герменевтике. Минск: МГУ, 2001.
История немецкой литературы. М., 1963. Т. 2.
История философии: Запад-Россия-Восток. Книга третья: Философия XIX-XX века. М.: «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 1998.
Камю А. Счастливая смерть. Посторонний. М.: Фабр, 1993.
Кант И. Собр. соч. В 8 т. М.: ЧОРО, 1994. Т. 8.
Культурология. XX век. Энциклопедия. СПб.: Университетская книга, 1998. Т. 1-2.
Манн Т. Доктор Фаустус. Пер. Н. Ман. М.: Художеств, лит., 1975.
Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый Кит. Пер. И. Бернштейн. М., 1981.
Музиль Р. Человек без свойств. Пер. С. Апта. М., 1984. Т. 1-2.
Ницше Ф. Воля к власти. Посмертные афоризмы. Минск: Попурри, 1999.
Ницше Ф. Соч. В 2 т. М.: Мысль, 1996.
Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Пер. Ю. М. Антоновского. М.: Изд-во. Московского ун-та, 1990.
Платон. Соч. М.: Мысль, 1971. Т. 3. Ч. I.
Пруст М. В сторону Свана. Пер. А. Франковского. СПб.: Азбука, 2000.
Путь в философию. Антология. СПб.: Университетская книга, 2001.
Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 4: От романтизма до наших дней. СПб.: Петрополис, 1997.
Риккерт Г. Философия жизни. Пер. С. Гессена. Киев: Ника-Центр, Вист-С, 1998.
Рильке Р. М. Новые стихотворения. М.: Наука, 1977. Ч. 2.
Сартр Ж. П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. Пер. В. И. Колядко. (Мыслители XX века.) М.: Республика, 2000.
Сартр Ж. П. Портрет антисемита. Пер. Г. Ноткина. СПб.: Европейский дом, 2000.
Сартр Ж. П. Тошнота: Роман; Стена: Новеллы. (Классики XX века.) Ростов н/Д: Феникс; Харьков: Фолио, 1999.
Слотердайк П. Критика цинического разума. Пер. А. Перцева. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2001.
Ставцев С.Н. Введение в философию Хайдеггера. СПб: Лань, 2000.
Фест И. Адольф Гитлер. Биография. Пермь: Алетейя, 1993. Т. 2.
Философия Мартина Хайдеггера и современность. Ред. Н. В. Мот-рошилова. М.: Наука, 1991.
Цвейг С. Вчерашний мир. Пер. Г. Кагана. М., 1991. С. 42.
Целан П. Стихотворения. Пер. М. Белорусца. Киев: Гамаюн, 1998.
Шеллинг В.Ф.Й. Соч. В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1989.
Энциклопедия третьего рейха. М.: ЛОКИД-МИФ, 2000.
Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. Пер. А. В. Михайловского. СПб.: Наука, 2000.
Theodor W. Adorno, Eingriffe. Neun kritische Modelle. – Frankfurt a. M. 1963.
Ders., Jargon der Eigentlichkeit. – Frankfurt a. M. 1964.
Ders., Kierkegaard. Konstruktion des Asthetischen. – Frankfurt a. M. 1974.
Ders., Negative Dialektik. – Frankfurt a. M. 1966.
Ders., Noten zur Literatur I. – Frankfurt a. M. 1965.
Ders., Noten zur Literatur II. – Frankfurt a. M. 1965.
Ders., Ohne Leitbild. Parva Asthetica. – Frankfurt a. M. 1967.
Ders./Max Horkheimer, Dialektik der Aufklarung. – Frankfurt a. M. 1969.
Jean Amery, Jargon der Dialektik. – In: H. Glaser (Hg.), Bundesrepublikanisches Lesebuch.
Jurg Altwegg (Hg.), Die Heidegger Kontroverse. – Frankfurt a. M. 1988.
Ders., Heidegger in Frankreich – und zuriick? – In: Ders. (Hg.), Die Heidegger Kontroverse.
Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalitat des Bosen. – Munchen 1986.
Dies., Elemente und Ursprunge totaler Herrschaft. – Munchen 1986.
Dies., Freiheit und Politik. – In: Die neue Rundschau 69 (1958).
Dies., Martin Heidegger ist achtzig Jahre alt. – In: G. Neske / E. Kettering (Hg.), Antwort. Martin Heidegger im Gesprach.
Dies., Mehschen in finsteren Zeiten. – Munchen 1981.
Dies., Rahel Varnhagen. – Frankfurt a. M. 1975.
Dies., Vita activa oder Vom tatigen Leben. – Munchen 1981.
Dies., Vom Leben des Geistes. Das Denken. – Munchen 1989.
Dies., Vom Leben des Geistes. Das Wollen. – Munchen 1989.
Dies., Was ist Existenzphilosophie? – Frankfurt a. M. 1990.
Dies., Was ist Politik? – Munchen 1993.
Dies., Zur Zeit. Politische Essays. – Berlin 1986.
Alfred Baeumler, Hitler und der Nationalsozialismus.
Aufzeichungen von 1945-1947. – In: Der Pfahl. Jahrbuch aus dem Niemandsland zwischen Kunst und Wissenschaft. – Munchen 1991.
Ders., Nietzsche, der Philosoph und Politiker. – Berlin 1931.
Hugo Ball, Die Flucht aus der Zeit. –Zurich 1992.
Jeffrey Andrew Barash, Die Auslegung der «Offentlichen Welt»als politisches Problem. – In: D. Papenfuss /O. Poggeler (Hg.), Zur philosophischen Aktualitat Heideggers, Bd. 2.
Karl В a r t h, Romerbrief. – Zurich 1984 (1922).
Gerhart Baumann, Erinnerungen an Paul Celan. – Frankfurt a. M. 1992.
Josef und Ruth Becher (Hg.), Hitlers Machtergreifung. Dokumente vom Machtantritt Hitlers. – Munchen 1983.
Julien Benda, Der Verrat der Intellektuellen. – Frankfurt a. M. / Berlin 1983.
Walter Benjamin, Das Passagen-Werk. Gesammelte Schriften, Bd. V. 2. – Frankfurt a. M. 1982.
Gottfried Benn, Briefe an F.W. Oelze. 2 Bde. – Frankfurt a. M. 1982
Ders., Werke. 4 Bde. – Wiesbaden 1961.
Max Bense, Technische Existenz. – Stuttgart 1950.
Walter Biemel / Hans Saner (Hg.), Briefwechsel Martin Heidegger – Karl Jaspers. – Frankfurt a. M. / 1990.
Ernst Bloch, Geist der Utopie. – Frankfurt a. M. 1978.
Ders., Spuren. – Frankfurt a. M. 1964.
Otto Friedrich Bollnow, Gesprache in Davos. – In: G. Neske (Hg.), Erinnerung an Martin Heidegger.
Carl В r a i g, Was soil der Gebildete von dem Modemismus wissen? – In: D. Thoma (Hg.), Die Zeit des Selbst und die Zeit danach. Zur Kritik der Textgeschichte Martin Heideggers.
Luzia Braun, Da-da-dasein. Fritz Heidegger: Holzwege zur Sprache. – In: DIE ZEIT Nr. 39 vom 22.9.1989.
Carl Christian Bry, Verkappte Religionen. – Nordlingen 1988.
Arnold von Buggenhagen, Philosophische Autobiographie. – Meisenheim 1975.
Heinrich Buhr, Der weltliche Theologe. – In: G. Neske (Hg.), Erinnerung an Martin Heidegger.
Rene Char, Eindrucke von friiher. – In: G. Neske (Hg.), Erinnerung an Martin Heidegger.
Anne Cohen-Solal, Sartre. – Reinbek b. Hamburg 1988.
Gunther Dehn, Die alte Zeit, die vorigen Jahre. Lebenserinnerun-gen. – Munchen 1962.
Wilhelm Dilthey, Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. – Frankfurt a. M. 1981.
Elizabeth Endres, Edith Stein. – Munchen 1987.
Elzbieta Ettinger, Hannah Arendt – Martin Heidegger. Eine Geschichte. – Munchen 1995.
Walter Falk, Literatur vor dem ersten Weltkrieg. – In: A. Nitschke u.a. (Hg.), Jahrhundertwende, Bd. 1.
Victor Farias, Heidegger und der Nationalsozialismus. – Frankfurt a. M. 1987.
Sigmund Freud, Werke. Studienausgabe. 10 Bde. u. Erganzungsband. – Frankfurt a. M. 1969.
Hans-Georg Gadamer, Philosophische Lehrjahre. – Frankfurt a. M. 1977.
Ders., Martin Heidegger und die Marburger Theologie. – In: O. Poggeler (Hg.), Heidegger. Perspektiven zur Deutung Seines Werkes.
Ders., Hegel-Husserl-Heidegger. – Tubingen 1987.
Arnold Gehlen, Studien zur Anthropologie und Soziologie. – Neuwied 1963.
Annemarie Gethmann-Siefert / Otto Poggeler (Hg.), Heidegger und die praktische Philosophie. – Frankfurt a. M. 1988.
Hermann Glaser (Hg.), Bundesrepublikanisches Lesebuch. Drei Jahrzehnte geistiger Auseinandersetzung. – Munchen 1978.
Ders., Kleine Kulturgeschichte der Bundesrepublik. – Munchen 1991.
Ders., Sigmund Freuds Zwanzigstes Jahrhundert. – Munchen 1976.
Gunter Grass, Hundejahre. – Neuwied 1979.
Conrad Grober, Der Altkatholizismus in Mepkirch. – Freiburg 1934.
Jurgen Habermas, Philosophisch-politische Profile. – Frankfurt a. M. 1987.
Sebastian Haffner, Anmerkungen zu Hitler. – Frankfurt a. M. 1981.
Ders., Von Bismark zu Hitler. – Munchen 1987.
Ulrike Hap, Militante Pastorale. Zur Literatur der antimodernen Bewegung. – Munchen 1993.
Werner Heisenberg, Das Naturbild der heutigen Physik. – Hamburg 1955.
Armin Hermann, «Auf eine hohere Stufe des Daseins erheben» – Naturwissenschaft und Technik. – In: A. Nitschke u. a. (Hg.), Jahrhunderwende, Bd. 1, 312.
Friedrich Holderlin, Samtliche Werke und Briefe. 2 Bde. Hg. von G. Mieth. – Munchen 1970.
Hugo von Hofmannsthal, Gesammelte Werke in zehn Banden. – Frankfurt a. M. 1979.
Edmund Husserl, Cartesianische Meditationen und Pariser Vortrage. Husserliana Bd. I. – Den Haag 1950.
Ders., Ideen zu einer reinen Phanomenolohie und phanomenologischen Philosophie. Bd. 1.-Halle 1928.
Ders., Die Konstitution der geistigen Welt. – Hamburg 1984.
Ders., Die Krisis der empirischen Wissenschaften und die tranzendentale Phanomenologie. – Hamburg 1977.
Ders., Philosophie als strenge Wissenschaft. – Frankfurt a. M. 1965.
William James, Der Wille zum Glauben. – In: Ekkehard Martens (Hg.), Texte der Philosophie des Pragmatismus. – Stuttgart 1975.
Karl Jaspers, Notizen zu Martin Heidegger. – Munchen 1978.
Ders., Philosophische Autobiogtaphie. –Munchen 1984.
Ders., Die Schuldfrage. – Munchen 1981.
F.G. Jiinger, Die Perfektion der Technik. – Frankfurt a. M. 1953.
Wilhelm Kiefer, Schwabisches und alemannisches Land. – Weipenhorn 1975.
Lotte Kohler / Hans Saner (Hg.), Briefwechsel Hannah Arendt – Karl Jaspers. – Munchen 1985.
Alexandre Kojeve, Hegel. – Frankfurt a. M. 1988.
Max Kommerell, Der Dichter als Fiihrer in der deutschen Klassik. – Frankfurt a. M. 1942.
Ernst Krieck, Nationalpolitische Erziehung. – Berlin 1933.
Christian Graf von Krockow, Die Deutschen in ihrem Jahrhundert. – Reinbek b. Hamburg 1990.
Friedrich Albert Lange, Geschichte des Materialismus. – Frankfurt a. M. 1974.
Thomas Laugstein, Philosophieverhatnisse im deutschen Faschismus. – Hamburg 1990.
Joachim G. Leithauser, Im Gruselkabinett der Technik. – In: Der Monat 29 (1959).
Mark Lilla, Das Ende der Philosophie. – In: Merkur 514 (1992).
Ulrich Linse, Barfup ige Propheten. Erloser der zwanziger Jahre. – Berlin 1983.
Karl Lowith, Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Ein Bericht. – Frankfurt a. M. 1989.
Ludwig Marcuse, Mein zwanzigstes Jahrhundert. – Zurich 1975.
Thomas Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen. – Frankfurt a. M. 1988.
Ders., Doktor Faustus. – Frankfurt a. M. 1986.
Ders., Das essayistische Werk in acht Banden. – Frankfurt a. M. 1968.
Bernd Martin (Hg.), Martin Heidegger und das «Dritte Reich». – Darmstadt 1989.
Reinhard Mehring, Heideggers Uberlieferungsgeschick. – Wurzburg 1992.
Volker Meja / Nico Stehr (Hg.), Der Streit um die Wissenssoziologie. – Frankfurt a. M. 1982.
Hermann Morchen, Aufzeichnungen (unveroffentlicht).
Andreas Muller, Der Scheinwerfer. Anekdoten und Geschichten um Fritz Heidegger. – Mepkirch 1989.
Max Muller, Martin Heidegger. Ein Philosoph und die Politik. – In: G. Neske / E. Kettering (Hg.), Antwort. Martin Heidegger im Gesprach.
Ders., Erinnerungen an Husserl. – In: H.R. Sepp (Hg.), Edmund Husserl und die Phanomenologische Bewegung.
Wolfgang Muller-Lauter, Uber den Umgang mit Nietzsche. – In: Sinn und Form 1991, 5.
Robert Musil, Biicher und Literatur, Essays. – Reinbek b. Hamburg 1982.
Ders., Der Mann ohne Eigenschaften. – Hamburg 1960.
Paul Natorp, Philosophie und Padogogik. – Marburg 1909.
Gunther Neske (Hg.), Erinnerung an Martin Heidegger im Gesprach. – Pfullingen 1988.
Friederich Nietzsche, Samtliche Werke. Kritische Studienausgabe. 15 Bde. – Munchen 1980.
Ders., Der Wille zur Macht. – Frankfurt a. M. 1992.
Augustus Nitschke u. a. (Hg.), Jahrhundertwende. Der Aufbruch in die Moderne. 2 Bde. – Reinbek b. Hamburg 1990.
Paul Noack, Carl Schmitt. Eine Biographie. – Berlin 1993.
Hugo Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographic – Frankfurt a. M. / New York 1988.
Ders., Edmund Husserl und die Universitat Freiburg. – In: Hans R. Sepp (Hg.), Edmund Husserl und die Phanomenologische Bewegung.
Dietrich Papenfuss / Otto Poggeler (Hg.), Zur philosophi-schen Aktualitat Heideggers. 3 Bde. – Frankfurt a. M. 1990 f.
Heinrich Wiegand Petzet, Auf einen Stern zugehen. Begegnungen mit Martin Heidegger. – Frankfurt a. M. 1983.
Georg Picht, Die Macht des Denkens. – In: G. Neske (Hg.), Erinnerung an Martin Heidegger.
Platon, Politeia. Werke in Zehn Banden. – Frankfurt A. M. 1991, Bd. 5.
Helmuth Plessner, Macht und menschliche Natur. – In: Ders., Zwischen Philosophie und Gesellschaft. – Frankfurt A. M. 1979.
Ders., Die Stufen des Organischen und der Mensch. – Berlin 1975.
Otto Poggeler, Der Denkweg Martin Heideggers. – Pfullingen 1983 (Dritte erweiterte Ausgabe 1990).
Ders (Hg.), Heidegger. Perspektiven zur Deutung seines Werkes. – Koningstein 1984.
Ders., Heideggers politisches Selbtverstandnis. – In: A. Gethmann-Slefert / O. Poggeler (Hg.), Heidegger und die praktische Philosophie.
Ders., Spur des Wortes. Zur Lyrik Paul Celans. – Freiburg 1986.
Leon Poliakov / Joseph Wulf (Hg.), Das Dritte Reich und seine Denker. – Berlin 1959.
Walther Rathenau, Zur Kritik der Zeit. – Berlin 1912 (1925).
Stefan Reinhardt (Hg.), Lesebuch. Weimarer Republik. – Berlin 1982.
Heinrich Rickert, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft. – Freiburg 1926 (1910).
Ders., Die Philosophie des Lebens. – Tubingen 1922.
Rainer Maria Rilke, Werke. 6 Bde. – Frankfurt A. M. 1987.
Fritz K. Ringer, Die Gelehrten. Der Niedergang der deutschen Mandarine 1890-1933. – Munchen 1987.
Heinrich Rombach, Phanomenologie des gegenwartigen BewuBtseins. –Freiburg 1980.
Edgar Salin, Holderlin im Georgekreis. – Godesberg 1950.
Jean-Paul Sartre, Ist der Existentialismus ein Humanismus? – In: Ders., Drei Essays. – Berlin 1977.
Ders., Die Transzendenz des Ego (1936). – Reinbek b. Hamburg 1982.
Max Scheler, Der Genius des Krieges und der Deutsche Krieg. – Leipzig 1915.
Ders., Die Stellung des Menschen im Kosmos. – Bonn 1991.
Ders., Vom Umsturz der Werte. – Bern 1955.
Carl Schmitt, Politische Romantik. – Berlin 1925.
Ders., Politische Theologie. – Berlin 1922.
Guido Schneeberger, Nachlese zu Heidegger. Dokumente zu seinem Leben und Denken. – Bern 1962.
Reinhold Schneider, Der Unzerstorbare. – Freiburg 1945.
Arthur Schwan, Politishe Philosophie im Denken Heideggers. – Opladen 1989.
Hans Rainer Sepp (Hg.), Edmund Husserl und die Phanomenologische Bewegung. Zeugnisse in Text und Bild. – Freiburg 1988
Georg Simmel, Philosophie des Geldes. – Frankfurt a. M. 1989.
Peter Sloterdijk, Kritik der Zynischen Vernunft. – Frankfurt a. M. 1983.
Kurt Sontheimer, Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. – Munchen 1978 (1992).
Oswald Spengler, Der Mensch und die Technik. Beitrage zu einer Philosophie des Lebens. – Munchen 1931.
Edith Stein, Briefe an Roman Ingarden. – Freiburg 1991.
Dieter Thoma (Hg.), Die Zeit des Selbst und die Zeit danach. Zur Kritik der Textgeschichte Martin Heideggers. – Frankfurt a. M. 1990.
Hartmut Tietjen, Verstrickung und Widerstand. – (Unveroffent-lichtes Manuskript) 1989.
Paul Tillich, Die Sozialistische Entscheidung. – In: Werke, Bd. 2. – Stuttgart 1962.
Ferdinand Tonnies, Gemeinschaft und Gesellschaft. – Darmstadt 1991.
Ernst Troeltsch, Deutscher Geist und Westeuropa. – Tubingen 1925.
Bernhard Waldenfels, Phanomenologie in Frankreich. – Frankfurt a. M. 1983.
Max Weber, Der Beruf zur Politik. – In: Ders., Soziologie – Weltgeschichtliche Analysen-Politik. – Stuttgart 1964.
Bernhard Welte, Erinnerung an ein spates Gesprach. – In: G. Neske (Hg.), Erinnerung an Martin Heidegger.
Benno von Wiese, Ich erzahle mein Leben. – Frankfurt a. M. 1982.
Rolf Wiggershaus, Die Frankfurter Schule. –Munchen 1986.
Wilhelm Wundt, Sinnliche und iibersinnliche Welt. – Leipzig 1914.
Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt. Leben und Werk. – Frankfurt a. M. 1982.
Heinz Zahrnt, Die Sache mit Gott. – Munchen 1988.
Stefan Zweig, Die Welt von Gestern. – Frankfurt a. M. 1977.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Gunther Anders, Ketzereien. – Munchen 1991.
Ders., Kosmologische Humoresken. – Frankfurt a. M. 1978.
Karl-Otto Apel, Transformation der Philosophic – Frankfurt a. M. 1986.
Otto Friedrich В oil no w, Existenzphilosophie. – Stuttgart 1955.
Ders., Das Wesen der Stimmung. – Frankfurt a. M. 1988.
Walter Biemel, Martin Heidegger. – Reinbeck b. Hamburg 1973.
Medard Boss, Psychoanalyse und Daseinsanalitik. – Munchen 1980.
Pierre Bourdieu, Die politische Ontologie Martin Heideggers. – Frankfurt a. M. 1976.
Stefan Brauer, Die Gesellschaft des Verschwindens. Von der Selbstzerstorung der technischen Zivilisation. – Hamburg 1992.
Rudiger Bubner u. a. (Hg.), Neue Hefte fur Philosophie. Wirkungen Heideggers. Heft 23. – Gottingen 1984.
John D. Caputo, The Mystical Elements in Heidegger's Thought. – Ohio 1978.
Jacques Derrida, Vom Geist. Heidegger und die Frage. – Frankfurt a. M. 1988.
Alexander Garcia Diittmann, Das Gedachtnis des Denkens. Versuch iiber Heidegger und Adorno. – Frankfurt a. M. 1991.
Hans Ebeling, Heidegger. GeschichteeinerTauschung. – Wiirzburg 1990.
Ders., Martin Heidegger. Philosophie und Ideologie. – Reinbek b. Hamburg 1991.
Norbert Elias, Uber die Zeit. – Frankfurt a. M. 1984.
Gunter Figal, Heidegger zur Erfuhrung. – Hamburg 1992.
Ders., Martin Heidegger. Phanomenologie der Freiheit. – Frankfurt a. M. 1988.
Kurt Fischer, Abschied. Die Denkbewegung Martin Heideggers. – Wurzburg 1990.
Luc Ferry / Alain Renaut, Antihumanistishes Denken. – Munchen 1987.
Forum fur Philosophie, Bad Homburg (Hg.), Martin Heidegger: Innen – und Aupenansichten. – Frankfurt a. M. 1989.
Manfred Frank, Zeitbewuptsein. – Pfullingen 1990.
Winfried Franzen, Von der Existenzialontologie zur Seinsgeschichte. – Meisenheim am Glan 1975.
Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. – Tubingen 1990.
Jean Gebser, Ursprung und Gegenwart. – Munchen 1973.
Stanislav Grof, Geburt, Tod und Transzendenz. – Reinbek b. Hamburg 1985.
Wolf-Dieter Gudopp, Der junge Heidegger. – Frankfurt a. M. 1983.
Karl Heinz Haag, Der Fortschritt in der Philosophie. – Frankfurt a. M. 1985.
Jurgen Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne. – Frankfurt a. M. 1985.
Ders., Nachmetaphysiscb.es Denken. – Frankfurt a. M. 1988.
Klaus Heinrich, Versuch iiber die Schwiengkeit nein zu sagen. – Frankfurt a. M. 1964.
Hans-Peter Hempel, Heideggers Weg aus der Gefahr. – МеBkirch 1993.
Ders., Heidegger und Zen. – Frankfurt a. M. 1987.
Ders., Natur und Geschichte. Der Jahrhundertdialog zwischen Heidegger und Heisenberg. – Frankfurt a. M. 1990.
Vittorio Hosle, Die Krise der Gegenwart und die Verantwortung der Philosophie. – Munchen 1990.
Paul Hiihnerfeld, In Sachen Heidegger. – Hamburg 1959.
Christoph Jamme / Karsten Harries (Hg.), Martin Heidegger. Kunst – Politik – Technik. – Munchen 1992.
Hans Jonas, Gnosis und Spatantiker Geist. – Gottingen 1988.
Matthias Jung, Das Denken des Seins und der Glaube an Gott. – Wurzburg 1990.
Peter Kemper (Hg.), Martin Heidegger – Fascination und Erschrecken. Die politische Dimension einer Philosophie. – Frankfurt a. M. 1990.
Emil Kettering, Das Denken Martin Heideggers. – Pfullingen 1987.
Leszek Kolakowski, Die Moderne auf der Anklagebank. – Zurich 1991.
Peter Koslowski, Der Mythos der Moderne. – Munchen 1991.
Helga Kuschbert-Tolle, Martin Heidegger. Der letzte Metaphysiker? – Konigstein/Ts. 1979.
Philippe Lacoue-Labarthe, Das Fiktion des Politischen. Heidegger, die Kunst und die Politik. – Stuttgart 1990.
Karl Leidlmair, Kunstliche Intelligenz und Heidegger. Uber den Zwiespalt von Natur und Geist. – Munchen 1991.
Theodor Lessing, Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen. – Munchen 1983.
Karl Lowith, Heidegger – DenkerindiirftigerZeit. – Stuttgart 1984.
Jean-Fran§ois Lyotard, Heidegger und die Juden. – Wien 1988.
Thomas H. Macho, Todesmetaphern. – Frankfurt a. M. 1987.
Herbert Marcuse, Kultur und Gesellschaft. – Frankfurt a. M. 1967.
Rainer Marten, Denkkunst. Kritik der Ontologie. – Munchen 1989.
Reinhard Margreiter / Karl Leidlmair (Hg.), Heidegger. Technik – Ethik – Politik. – Wurzburg 1991.
Werner Marx,Gibt es auf Erden ein Map? – Frankfurt a. M. 1986.
Ders., Heidegger und die Tradition. – Hamburg 1980.
Barbara Merker, Selbsttauschung und Selbsterkenntnis. Zu Heideggers Transformation der Phanomenologie Husserls. – Frankfurt a. M. 1988.
Hermann Morchen, Adorno und Heidegger. Untersuchung einer philosophischen Kommunikationsverweigerung. – Stuttgart 1981.
Ders., Macht und Herrschaft im Denken von Heidegger und Adorno. – Stuttgart 1980.
Ernst Nolte, Heidegger. Politik und Geschichte im Leben und Denken. – Berlin 1992.
Hanspeter Padrutt, Und sie bewegt sich doch nicht. Parmenides im epochalen Winter. – Zurich 1991.
Georg Picht, Glauben und Wissen. – Stuttgart 1991.
Helmuth Plessner, Die Verspatete Nation. – Frankfurt a. M. 1988.
Otto Poggeler, Philosophie und Politik bei Heidegger. – Freiburg 1972.
Ders., Neue Wege mit Heidegger. – Freiburg 1992.
Thomas Rentsch, Martin Heidegger. Das Sein und der Tod. – Munchen 1989.
Manfred Riedel, Fur eine zweite Philosophie. – Frankfurt a. M. 1988.
Joachim Ritter, Metaphysik und Politik. – Frankfurt a. M. 1969.
Richard Rorty, Kontingenz, Ironie und Solidaritat. – Frankfurt a. M. 1969.
Riidiger Safranski, Wieviel Wahrheit braucht der Mensch? Uber das Denkbare und das Lebbare. – Munchen 1990.
Richard Schaeffler, Die Wechselbeziehung zwischen Philosophie und katholischer Theologie. – Darmstadt 1980.
Wolfgang Schirmacher, Technik und Gelassenheit. Zeitkritik nach Heidegger. – Freiburg 1983.
Walter Schulz, Philosophie in der veranderten Welt. – Pfullingen 1984.
Giinter Seubold, Heideggers Analyse der neuzeitlichen Technik. – Freiburg 1986.
Peter Sloterdijk, Weltfremdheit. – Frankfurt a. M. 1993.
Manfred Sommer, Lebenswelt und Zeitbewuptsein. – Frankfurt a. M. 1990.
Herbert Stachowiak (Hg.), Pragmatik. Handbuch des Pragmatischen Denkens. – Hamburg 1986.
George Steiner, Martin Heidegger. Eine Einfuhrung. – Munchen 1989.
Dolf Sternberger, Uber den Tod. – Frankfurt a. M. 1981.
Michael Theunissen, Der Andere. – Berlin 1977.
Ders., Negative Theologie der Zeit. – Frankfurt a. M. 1991.
Dieter Thoma, Die Zeit des Selbst und die Zeit danach. Zur Textgeschichte Martin Heideggers. – Frankfurt a. M. 1990.
Ernst Tugendhat, Philosophische Aufsatze. – Frankfurt a. M. 1992.
Silvio Vietta, Heideggers Kritik am Nationalsozialismus und an der Technik. – Tubingen 1989.
Elmar Weinmayr, Einstellung. Die Metaphysik im Denken Martin Heideggers. – Munchen 1991.
Franz Josef Wetz, Das nackte Dap. Zur Frage der Faktizitat. – Pfullingen 1990.
Richard Wisser (Hg.), Martin Heidegger – Unterwegs im Denken. – Freiburg 1987.
Note 2
Прочитан 31 января 1962 г. в актовом зале Фрайбургского университета, впервые опубликован во Франции (L'endurance de la pensee, Paris, 1968, p. 12–71), на русском: Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. М., 1993. С. 391–406.
(обратно)Note 3
Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. С. 193.
(обратно)Note 4
Aubenque Pierre. Encore Heidegger et le nazisme // Le debat, n. 48, 1988, p. 117.
(обратно)Note 5
Heidegger Martin. Beitrage zur Philosophie (vom Ereignis). Frankfurt a/M: Klostermann 1989.
(обратно)Note 6
Heidegger Martin. Ecrits politiques. 1933 – 1966. Paris: Gallimard 1995.
(обратно)Note 7
Деррида Ж. Позиции. Киев, 1996. С. 99–100.
(обратно)Note 8
Хайдеггер Мартин / Ясперс Карл. Переписка. 1920-1963. М, 2001. С. 79.
(обратно)Note 9
Jaspers Karl. Notizen zu Martin Heidegger. Munchen; Zurich: Piper 1978. S. 73 – 264.
(обратно)Note 10
Арендт Ханна. Vita activa, или О деятельной жизни. СПб., 2000.
(обратно)Note 11
Fedier Francois. Soixante-deux photographies de Martin Heidegger. Paris : Gallimard 1999.
(обратно)Note 12
В стихотворении Целана «Фуга смерти» евреи, которые роют для себя коллективную могилу, воспринимают наблюдающего за ними из окна немца-интеллектуала так: «Чёрное млеко рассвета мы пьём тебя ночью / мы пьём тебя в поддень смерть это мастер германский / мы пьём тебя утром и на ночь мы пьём тебя пьём / смерть это мастер германский его глаз голубой / свинцовой пулей настигнет тебя он и точно настигнет / человек живёт в доме твой волос златой Маргарита / он травит на нас кобелей он дарит нам в ветре могилу / мечтая играет со змеями смерть это мастер германский…» (последняя строфа; пер. А. Глазовой). Здесь и далее все подстрочные примечания сделаны Т. Баскаковой.
(обратно)Note 13
Абрахам а Санкта-Клара – под этим именем прославился проповедник и сатирик Ганс Ульрих Мегерле (1644–1709), августин-ский монах, бывший с 1677 г. придворным проповедником в Вене.
(обратно)Note 14
Конрадин Крейцер (1780–1849) – композитор и капельмейстер, уроженец Мескирха; работал во Фрайбурге, Вене, Донауэшинге-не, Кельне, Риге. Автор тридцати опер и многочисленных инструментальных композиций.
(обратно)Note 15
Иоганн Петер Хебель (1760–1826) – немецкий писатель, создатель жанра короткого юмористического рассказа, автор сборника «Алеманнские стихи» (1803) и книги «Сокровища рейнского домашнего друга».
(обратно)Note 16
Иоганн Кристиан Фридрих Гёльдерлин (1770–1843) – немецкий поэт, автор лирического романа «Гиперион, или Отшельник в Греции» (1797–1799), трагедии «Смерть Эмпедокла» (1798–1799) и других произведений.
(обратно)Note 17
Фридрих Франц Карл Геккер (1811–1881) – адвокат, в 1842–1847 гг. один из руководителей крайних левых в Баденском ландтаге, один из руководителей республиканского восстания в Бадене в апреле 1848 г. После поражения восстания эмигрировал в Швейцарию, потом в США. Участвовал в чине полковника в Гражданской войне в США 1861 – 1865 гг. на стороне Северных штатов.
(обратно)Note 18
Густав фон Струве (1805–1870) – немецкий демократ, республиканец. Во время революции 1848–1849 гг. организатор восстаний в Бадене (в апреле и сентябре 1848 г.). После поражения второго восстания был арестован. Освобожденный в мае 1849 г. участниками третьего восстания, вошел во временное революционное правительство. В 1850 г. стал одним из руководителей немецких эмигрантских организаций в Лондоне. В 1851 г. эмигрировал в США, участвовал в Гражданской войне 1861–1865 гг. на стороне Севера. В 1863 г. вернулся в Европу.
(обратно)Note 19
Фриц Хайдеггер (1894–1980) всю жизнь провел в Мескирхе, где работал банковским служащим; после смерти Мартина Хайдеггера он расшифровал многие его рукописи и сам всегда проявлял большой интерес к философии и теологии.
(обратно)Note 20
Так до 1918 г. назывались восьми – десятиклассные школы.
(обратно)Note 21
Эдуард фон Гартман (1842–1906) – немецкий философ, в своей книге «Философия бессознательного» (1869) стремился доказать, что бессознательное в качестве «воли» присуще всей природе, а не только человеку; под «бессознательным» он понимал «неосознанные влечения».
(обратно)Note 22
Ханс Файхингер (1852–1933) – немецкий философ-идеалист, основатель Кантовского общества (1904). В главном сочинении «Философия как если бы» (1911) развил концепцию фикционализма, или «критического позитивизма»; считал научные и философские понятия фикциями, которые не имеют теоретической ценности, но практически важны.
(обратно)Note 23
«Выпасание Господнего стада» (лат.).
(обратно)Note 24
«О ложной доктрине модернистов» (лат).
(обратно)Note 25
Адальберт Штифтер (1805–1868) – австрийский писатель и художник, объяснял свою концепцию «мягкого закона» так: «Завершенную жизнь, полную праведности, простоты, усмирения самого себя, взвешенности ума, действенности в своем кругу, восхищения красотой, в сочетании со светлой, спокойной смертью я считаю великой… Мы ищем увидеть тот мягкий закон, который правит человеческим родом. Это… закон праведности, закон нравственности, закон, который хочет, чтобы каждый стоял перед другим замеченный, уважаемый, необиженный, чтобы мог идти своим высшим человеческим жизненным путем, добывая себе любовь и удивление своих собратьев, чтобы был оберегаем как сокровище, как и каждый человек – сокровище для всех других людей. Этот закон положен повсюду, где люди живут с людьми, и он дает о себе знать, когда люди действуют против людей» (A. Stifter. Das sanfte Gesetz. Drei Erzahlungen. В., 1942. S. 32–33; пер. В. В. Бибихина, цит. по: Хайдеггер М. Время и бытие. С. 426).
(обратно)Note 26
Герман Хайдеггер (род. 1920) – сын Мартина Хайдеггера.
(обратно)Note 27
Пауль Антон де Лагард (1827–1891) – выдающийся немецкий ориенталист широкого профиля, автор ряда публицистических работ об отношениях между германским государством и Церковью.
(обратно)Note 28
Виктор Фариас – автор книги «Хайдеггер и национал-социализм» (1987).
(обратно)Note 29
Йенс Йоханнес Йоргенсен (р. 1866) – датский поэт, прозаик и журналист, в 1893–1895 гг. обратился к католицизму; его книга «Ложь и правда жизни» впервые была опубликована в 1896 г. на немецком языке.
(обратно)Note 30
«Я поставил мое дело на ничто» – фраза из книги «Единственный и его собственность» (1845), главного произведения Макса Штирнера (1806–1856), немецкого философа-младогегельянца, идеолога анархизма.
(обратно)Note 31
Философия Мартина Хайдеггера и современность. М.: Наука, 1991. С. 7 (пер. Н. В. Мотрошиловой).
(обратно)Note 32
По выражению Ханны Арендт.
(обратно)Note 33
В лекции 1931 г. «О сущности истины» (пер. 3. Н. Зайцевой) М. Хайдеггер определяет это понятие так: «… философия как выяснение этой истины находится в разладе с самой собой. Ее мышление – это спокойствие кротости, которая не изменяет сущему в целом в его сокрытости. Ее мышление может стать также решимостью, характеризующей строгость, которая не взрывает укрытие, а принуждает беззащитную сущность выйти в простоту понятийного и таким образом в ее собственную истину. В мягкой строгости и строгой мягкости своего допущения бытия сущего как такового философия в целом становится сомнением…» (Курсив мой. – Т. Б.)
(обратно)Note 34
В речи «Отрешенность» (Gelassenheit, пер. А. Солодовникова), прочитанной им на праздновании юбилея композитора Конрадина Крейцера в Мескирхе, 30 октября 1955 г., Хайдеггер объясняет, что именно понимал под данным термином: «Отрешенность от вещей и открытость для тайны взаимно принадлежны. Они предоставят нам возможность обитать в мире совершенно иначе. Они обещают нам новую основу и почву для коренения, на которой мы сможем стоять и выстоять в мире техники, уже не опасаясь его» (Курсив мой. – Т. Б.).
(обратно)Note 35
Фридрих Шлейермахер (1768–1834) – немецкий протестантский теолог и философ, автор «Речей о религии» (1799), «Монологов» (1800) и других работ; считал личное внутреннее переживание основой религии, которую определял как «созерцание универсума», а позднее – как чувство «зависимости» от бесконечного.
(обратно)Note 36
Основные произведения австрийского психолога и философа Ф. Брентано – «Психология с эмпирической точки зрения» (1879), «О происхождении нравственного познания» (1889), «Обоснование и структура этики» (1952, опубликовано посмертно). Главным вкладом Брентано в развитие философии стало учение о психическом феномене: он показал, что сущностью психического феномена является «интенция», то есть направленность на предмет.
(обратно)Note 37
Клеменс Брентано (1778–1842) – составитель (вместе с Л. А. Арнимом) сборника немецких народных сказок и песен «Волшебный рог мальчика», автор баллад, рассказов и сказок в народном духе, а также романа «Годви» (1800).
(обратно)Note 38
Эдмунд Гуссерль (1859–1938) – австрийский философ, математик, основатель феноменологии; работал в Германии. Его двухтомная работа «Логические исследования» вышла в свет в 1900–1901 гг.
(обратно)Note 39
Карл Фохт (1817–1895) – немецкий естествоиспытатель и философ, представитель вульгарного материализма; отождествлял сознание с материей и полагал, что мозг выделяет мысль так же, как печень – желчь.
(обратно)Note 40
Якоб Молешотт (1822–1893) – немецкий физиолог и философ, представитель вульгарного материализма; по его мнению, все психологические и духовные процессы имеют вещественно-физиологическую природу и зависят, в частности, от характера потребляемой пищи.
(обратно)Note 41
Людвиг Бюхнер (1824–1899) – немецкий врач, естествоиспытатель и философ, представитель вульгарного материализма, разделял идеи социального дарвинизма, но признавал наличие «непознаваемого остатка» в предметном мире.
(обратно)Note 42
Рудольф Герман Лотце (1817–1881) – немецкий философ и физиолог, разработавший систему, которую сам он называл «телеологическим идеализмом»; автор работ «Микрокосм. Размышления о естественной истории и истории человечества» (1856–1864), «Система философии» (1874–1879) и др. Пытался примирить религию с наукой; в его мировоззрении большое значение имело понятие «блага», связывавшееся им с «удовольствием».
(обратно)Note 43
Фридрих Альберт Ланге (1828–1875) – немецкий философ и экономист; автор работ «История материализма и критика его значения в настоящем» (1866), «Рабочий вопрос и его значение в настоящем и будущем» (1865), «Логические штудии» (1877, посмертно) и др.
(обратно)Note 44
«Природы» как «протяженной веши», внечеловеческой сферы конечного сущего (термин Декарта; объяснение этого термина дает Хайдеггер в: Европейский нигилизм. ВиБ. С. 130).
(обратно)Note 45
Генрих Риккерт (1863–1936) – немецкий философ и культур-философ, один из основателей баденской школы неокантианства. Он выделял шесть «областей ценностей», соответствующих сферам человеческой жизнедеятельности: научное познание; искусство; пантеизм и всякого рода мистика; этика; эротика и «блага жизни» вообще; теизм как вера в личностного Бога.
(обратно)Note 46
«Слава в вышних (Богу)» (лат.) – начало католического песнопения.
(обратно)Note 47
Уильям Джемс (1842–1910) – американский философ и психолог, автор работ «Основы психологии» (1890), «Многообразие религиозного опыта» (1902) и др.; считал, что важно собирать факты, подходя к ним без какой-то априорной теории.
(обратно)Note 48
Чарльз Пирс (1839–1914) – американский логик, занимавшийся методологическими проблемами науки; автор работ «Закрепление верования» (1877), «Как сделать наши идеи ясными» (1878).
(обратно)Note 49
Строгий экзамен (лат.).
(обратно)Note 50
Вернер фон Сименс (1816–1892) – немецкий физик и инженер, изобретатель (занимался телеграфом, электроприборами, прокладкой подземных кабелей, электрификацией железных дорог и пр.), фабрикант; в 1874 г. стал действительным членом Германской Академии наук, в 1888-м получил дворянский титул.
(обратно)Note 51
Пауль Наторп (1854–1924) – с 1885 г. профессор Марбургского университета, ученый-эрудит, специалист по истории философии, теории познания и метода. Автор работ «Учение Платона об идеях» (1903), «Логические основы точных наук» (1910), «Война и мир» (1916), «Мировая миссия немцев» (1918) и др.
(обратно)Note 52
Вильгельм Виндельбанд (1848–1915) – немецкий философ, представитель фрайбургской (баденской) школы неокантианства; автор работ «История новой философии» (1878–1880), «О системе категорий» (1900), «О свободе воли» (1904) и др.
(обратно)Note 53
Герман Коген (1842–1918) – немецкий философ и математик, основатель марбургской школы неокантианства; автор работ «Кантовская теория опыта» (1871), «Система философии» (1902–1912), «Принцип метода бесконечно малых» (1883) и др.
(обратно)Note 54
Эрнст Геккель (1834–1919) – немецкий биолог, позитивист, популяризатор эволюционного учения.
(обратно)Note 55
Георг Зиммель (1858–1918) – немецкий философ и социолог, автор работ по проблемам истории философии, истории и теории культуры, философии морали и религии. Книга «Философия денег» вышла в свет в 1900 г.
(обратно)Note 56
Николай Кузанский (1401 –1464) – немецкий философ, теолог, математик, ближайший советник папы Пия II.
(обратно)Note 57
Эмиль Ласк (1875–1915) – немецкий философ, представитель неокантианства, ученик Г. Риккерта; понимал философию как учение о ценностях, считая, что в сфере идеального бытия все имеет интенциональный характер и может быть сведено к понятию ценности.
(обратно)Note 58
Автор книги «Мартин Хайдеггер. Путь к его биографии» (1988).
(обратно)Note 59
Иоганн Йозеф фон Гёррес (1776–1848) – немецкий публицист, историк, фольклорист; в 1814–1816 гг. издавал самую влиятельную тогда немецкую газету «Рейнский Меркурий»; автор многих работ, в том числе книги «Европа и революция» (1821) и полемических сочинений, направленных на защиту позиций немецкого католицизма. В 1876 г., в связи с празднованием столетия со дня его рождения, в Бонне было основано католическое «Общество содействия науке имени Гёрреса», которое выпускало ряд периодических изданий и присуждало премии ученым.
(обратно)Note 60
Йозеф Зауэр (1872–1949) – папский прелат, профессор, потом ректор (1932–1933) Фрайбургского университета.
(обратно)Note 61
Цит. по: Мотрошилова Н. В. Драма жизни, идей и грехопадения Мартина Хайдеггера. – В: Философия Мартина Хайдеггера и современность. С. 9.
(обратно)Note 62
Теодор Липпс (1851–1914) – немецкий философ, психолог, эстетик; видел в психологии основу всех философских наук.
(обратно)Note 63
Вильгельм Вундт (1832–1920) – немецкий психолог и философ, в 1879 г. основал первую лабораторию экспериментальной психологии, автор многотомного сочинения «Психология народов» (1900–1920).
(обратно)Note 64
Рудольф Карнап (1891 – 1970) – немецкий философ и логик, с 1935 г. жил в США; занимался логикой науки и – в последний период своей жизни – вероятностной логикой.
(обратно)Note 65
«Философия жизни». – В: Риккерт Г. Философия жизни. Киев: Ника-Центр, Вист-С, 1998. С. 408 (пер. С. Гессена).
(обратно)Note 66
Вильгельм Дильтей (1833–1911) – немецкий философ, один из основоположников «философии жизни» и философской герменевтики; автор работ «Очерки по обоснованию наук о духе» (1905), «Создание исторического мира в науках о духе» (1910) и др.
(обратно)Note 67
Конструкция с субъектным родительным падежом (лат.).
(обратно)Note 68
«Первичные чувственные ощущения» составляли первооснову художественного образа в импрессионизме.
(обратно)Note 69
Герман Бар (1863–1934) – австрийский писатель и драматург; защищал принципы импрессионизма и – позже – экспрессионизма; первым ввел в оборот термин «модернизм», назвав сборник своих статей «К критике модернизма» (1890).
(обратно)Note 70
Стефан Георге (1868–1933) – немецкий поэт-символист; в 90-е гг. возглавил кружок литераторов, в 1899 г. основал журнал «Блеттер фюр ди кунст».
(обратно)Note 71
Франц Верфель (1890–1945) – австрийский писатель, поэт и драматург, представитель экспрессионизма.
(обратно)Note 72
Грюндерство (от нем. Grunder, «основатель, учредитель») – «учредительная горячка», массовая лихорадочная организация промышленных, строительных и торговых акционерных обществ, банков и т. д. В Германии грюндерство особенно расцвело в связи с получением пятимиллиардной контрибуции от Франции после окончания Франко-прусской войны 1870–1871 гг.
(обратно)Note 73
Анри Бергсон (1859–1941) – французский философ, психолог, писатель; с 1900 по 1914 г. профессор Коллеж де Франс; в 1914 г. был избран президентом Академии моральных и политических наук и членом Французской Академии наук; в 1927 г. ему была присуждена Нобелевская премия по литературе. Автор книг «Материя и память» (1896), «Творческая эволюция» (1907), «Два источника морали и религии» (1932) и др.
(обратно)Note 74
Макс Шелер (1875–1928) – немецкий философ, представитель феноменологического направления. Автор работ «Кризис ценностей» (1919), «Сущность и формы симпатии» (1923), «Формализм в этике и неформальная этика ценностей» (1916) и др.
(обратно)Note 75
Бергсон А. Творческая эволюция. М., 1909. С. 3.
(обратно)Note 76
«Zeitigt» – выражение, изобретенное впоследствии Хайдеггером.
(обратно)Note 77
С точки зрения войны (лат.).
(обратно)Note 78
Эрнст Трёльч (1865–1923) – немецкий протестантский теолог, философ, социолог и историк религии; автор книги «Социальные учения христианских церквей и групп» (1912) и других работ.
(обратно)Note 79
Отто фон Гирке (1841–1921) – немецкий правовед, последователь исторической школы права, представитель националистического направления «германистов». Считал исконно германское право более высокой ступенью по сравнению с буржуазными правовыми системами, основанными на римском праве и принципах естественного права.
(обратно)Note 80
Макс Вебер (1864–1920) – социолог и историк-культуролог, автор работ «Протестантская этика и дух капитализма» (1905), «Хозяйственная этика мировых религий» (1916–1919), ««Объективность» социально-научного и социально-политического познания» (1904), «Политика как призвание и профессия» (1919), «Наука как призвание и профессия» (1920) и др.
(обратно)Note 81
Карл Шмитт (1888–?) – немецкий публицист и политолог, доктор права. С 1922 г. преподавал в Боннском, с 1926-го в Берлинском, с 1933-го в Кельнском университетах. Был активным противником Веймарской республики. В 1933 г. вступил в НСДАП и вернулся в Берлинский университет. Выступал в прессе и на радио как теоретик и политический обозреватель.
(обратно)Note 82
Интенцией (или: вниманием) первого рода (лат.).
(обратно)Note 83
Интенцией (вниманием) второго рода (лат.).
(обратно)Note 84
Фрайбургской (баденской) школы неокантианства.
(обратно)Note 85
По Гуссерлю, главная структура «жизненного мира» (окружающей нас реальности) – его историчность. Этот мир всегда является в обличье какой-либо исторической традиции, представляет собой двуединст-во природного и персонального миров, на котором базируется идеальная среда – сложное переплетение объективированных «данностей» культуры. Внешний мир дан нам не непосредственно, а в виде фрагментов, «горизонтов». Цель феноменологического метода – преодоление («редукция») всех этих слоев и анализ «чистого сознания».
(обратно)Note 86
Ландштурм – ополчение из лиц непризывного возраста, не годных к строевой службе и пр.
(обратно)Note 87
Рудольф Отто (1869–1937) –философ, занимался феноменологией религии. Его самая известная работа – «Святое. Иррациональное в идее божественного и его связь с рациональным» (1917).
(обратно)Note 88
Ганс Георг Гадамер (р. 1900) – немецкий философ-герменевтик, ученик Хайдеггера, автор работы «Истина и метод. Основные черты философской герменевтики» (1960).
(обратно)Note 89
Гуго фон Гофмансталь (1874–1929) – австрийский писатель, драматург и эссеист.
(обратно)Note 90
Эдит Штейн (1891–1942) – ученица и ассистентка Гуссерля, в 1933 г. стала монахиней-кармелиткой, 2 августа 1942 г. была арестована гестапо. В 1987 г. беатифицирована папой Иоанном Павлом II. Автор работ «Конечное бытие и вечное бытие», «Феноменология Гуссерля и философия Фомы Аквинского» и др.; разрабатывала феноменологическую теорию эмпатии (сочувствия).
(обратно)Note 91
Цвейг С. Вчерашний мир. М., 1991. С. 42 (пер. Г. Кагана).
(обратно)Note 92
Музиль Р. Человек без свойств. М., 1984. Т. 1. С. 31 (пер. С. Апта).
(обратно)Note 93
Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Минск; М., 2000. С. 522.
(обратно)Note 94
Там же. С. 347.
(обратно)Note 95
Жан-Поль Сартр (1905– 1980) – французский писатель, драматург и философ, автор философских работ «Бытие и ничто» (1943), «Феноменологическая психология воображения» (1940), «Критика диалектического разума» (1960) и др.
(обратно)Note 96
Морис Мерло-Понти (1908–1961) – французский философ, представитель феноменологической концепции культуры, автор работ «Феноменология восприятия» (1945), «Видимое и невидимое» (1964), «Знаки» (1961) и др.
(обратно)Note 97
Я мыслю (лат.).
(обратно)Note 98
Пруст М. В сторону Свана. СПб.: Азбука, 2000. С. 42 (пер. А. Франковского).
(обратно)Note 99
Роман Ингарден (1893–1970) – польский философ, феноменолог, ученик Э. Гуссерля. Наибольшую известность приобрели его работы в области эстетики.
(обратно)Note 100
Эта партия существовала с 1917 по 1922 г.
(обратно)Note 101
Марнское сражение 5–12 сентября 1914 г. между англо-французскими и германскими войсками закончилось поражением германских войск и провалом германского плана войны, рассчитанного на быстрый разгром противника на Западном фронте.
(обратно)Note 102
Советская республика была провозглашена 7 апреля 1919 г. «независимыми социал-демократами» во главе с Э. Толлером. Но уже 13 апреля к власти пришли коммунисты и образовали Баварскую советскую республику, которая просуществовала до 1 мая 1919 г.
Эрнст Толлер (1893–1939) – немецкий писатель и драматург, один из лидеров экспрессионизма. В 1919 г. был членом правительства Баварской советской республики, после ее поражения находился в тюремном заключении. В 1933 г. эмигрировал в США, где издал автобиографические записки «Юность в Германии» (1933, рус. пер. 1935). Покончил с собой.
Эрих Мюзам (1878–1934) – немецкий поэт, драматург, публицист, был близок к левому экспрессионизму. В 1919 г. участник борьбы за создание Советской республики в Баварии. После контрреволюционного переворота был арестован и пробыл в тюрьме до 1925 г. В 1933 г. был арестован нацистами и погиб в концлагере Ораниенбург.
(обратно)Note 103
Карл Лёвит (1897–1973) – немецкий философ, ученик М. Хайдеггера, в 1933 г. эмигрировал сначала в Италию, затем в Японию и в США. Автор книги «От Гегеля до Ницше» (1941) и других работ.
(обратно)Note 104
Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 718–719 (пер. П. П. Гайденко).
(обратно)Note 105
Там же. С. 730.
(обратно)Note 106
Вебер М. Избранные произведения. С. 734.
(обратно)Note 107
Там же. С. 733.
(обратно)Note 108
Там же.
(обратно)Note 109
Там же. С. 734.
(обратно)Note 110
Эрнст Крик (1882–1947) – один из влиятельнейших педагогов национал-социализма, с 1934 г. ординарный профессор в Гейдельберге, с 1937 г. ректор Гейдельбергского университета.
(обратно)Note 111
Два тома этого самого известного труда О. Шпенглера (1880–1936) вышли в свет в 1918 и 1922 гг.
(обратно)Note 112
Эйфель – западная часть Рейнских Сланцевых гор, к северу от реки Мозель.
(обратно)Note 113
Георг (Дьёрдь) Лукач (1885–1971) – венгерский философ-марксист и литературный критик; учился в Гейдельберге, где стал учеником и другом Макса Вебера. Участвовал в венгерской революции, после ее поражения в 1923 г. переехал в Вену; после прихода Гитлера к власти эмигрировал в Советский Союз, где жил с 1930 по 1945 г.; потом вернулся на родину и в 1956 г. стал министром образования в кабинете Имре Надя. Автор работ «Теория романа» (1920), «История и классовое сознание» (1923), «Разрушение разума. Путь иррационализма от Шеллинга к Гитлеру» (1954) и др.
(обратно)Note 114
Отсылка к теории 3. Фрейда, согласно которой психический аппарат человека состоит из Оно (аморального эгоистического начала, инстинктивных побуждений), Я и сверх-Я (интериоризированных идеальных моделей).
(обратно)Note 115
Дадаизм – авангардистское движение, возникшее в Цюрихе в 1916 г. по инициативе поэта и музыканта X. Балля, поэта и основателя журнала «Дада» Т. Тцара, писателя Р. Хюльзенбека и художника X. Арпа; движение просуществовало до 1922 г.
(обратно)Note 116
Цит. по: Слотердайк П. Критика цинического разума. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2001. С. 435 (пер. А. Перцева).
(обратно)Note 117
Там же.
(обратно)Note 118
Da по-немецки означает «вот». Существуют разные интерпретации слова «Дада»: по одной из версий оно происходит от фр. dada, «игрушечная лошадка», по другой – имитирует детский лепет. X. Балль по этому поводу писал: «То, что мы называем Дада, – это дурачество, извлеченное из пустоты, в которую обернуты все более высокие проблемы; жест гладиатора, игра, играющая ветхими останками, … публичное выполнение предписаний фальшивой морали».
(обратно)Note 119
Вольфдитрих Шнурре (1920–1989) – немецкий (западногерманский) писатель, поэт, театральный критик и кинокритик; с 1950 г. жил в Шлезвиг-Гольштейне и Италии.
(обратно)Note 120
Гюнтер Айх (1907–1972) – немецкий (западногерманский) лирик и радиодраматург, создатель поэтического радиотеатра.
(обратно)Note 121
Эрнст Блох (1885–1977) – немецкий философ, ученик Зиммеля, Лукача, Ясперса, Макса Вебера. С приходом нацистов к власти вступил в коммунистическую партию, до конца войны жил в эмиграции, потом приехал в ГДР и стал профессором философии в Лейпциге. Позже был обвинен в ревизионизме и отстранен от дел. Автор работ «Дух утопии» (1918), «Принцип надежды» (в 3 т., 1954–1959), «Субъект – Объект. Комментарий к Гегелю» (1940) и др.
(обратно)Note 122
Вернер Гейзенберг (1901–1976) – немецкий физик, один из создателей квантовой механики; с 1941 г. профессор и директор Института физики Макса Планка в Берлине и Гёттингене, с 1955 г. – в Мюнхене. Автор работ по структуре атомного ядра, релятивистской квантовой механике и единой теории поля.
(обратно)Note 123
Гамсун К. Голод. Мистерии. Пан. Виктория. Минск, 1989. С. 390– 391 (пер. Е. Суриц).
(обратно)Note 124
Выражение «внутренний человек» употреблялось еще апостолом Павлом («… но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». 2 Кор. 4:16).
(обратно)Note 125
Выделенная жирным шрифтом фраза цит. в: Философия Мартина Хайдеггера и современность. С. 14 (пер. Н. В. Мотрошиловой).
(обратно)Note 126
Гуссерль Э. Картезианские размышления. С. 523 (цит. изд.).
(обратно)Note 127
Диалектическая теология, или теология кризиса – ведущее направление в европейской протестантской теологии 20– 30-х гг., близкое по своим установкам к немецкому экзистенциализму. Принципы этого течения были сформулированы в 1921–1922 гг. в работах немецких теологов К. Барта, Э. Бруннера, Р. Бультмана, Ф. Гогартена и др. Отрицая религию как сумму предметных представлений и действий, диалектическая теология утверждала веру в абсолютно несоизмеримого, по отношению ко всему человеческому, Бога. Перед таким Богом человек в любом случае обречен стоять «с пустыми руками».
(обратно)Note 128
Карл Барт (1886–1968) – швейцарский протестантский теолог, один из основателей так называемой диалектической теологии. Его первый крупный труд «Послание апостола Павла к римлянам» вышел в свет в 1918 г. и в 1922 г. был переиздан. В молодости К. Барт участвовал в движении христианского социализма, в 1933 г. выступил как вдохновитель христианского сопротивления гитлеровскому режиму.
(обратно)Note 129
«Новая вещественность», или «магический реализм» – течение в немецкой живописи и графике 1920-х гг. Возникло как реакция на индивидуалистический бунт и формальные крайности экспрессионизма. К этому направлению относились, например, О. Дикc и Г. Гросс.
(обратно)Note 130
Ужаса перед пустотой (лат.).
(обратно)Note 131
Афра Гайгер – подруга Гертруды Ясперс, еврейка; ученица Ясперса и Хайдеггера, погибла в концлагере Равенсбрюк.
(обратно)Note 132
Цитируется (кроме выделенных курсивом фраз) по изд.: Хайдеггер Мартин / Ясперс Карл. Переписка. С. 300.
(обратно)Note 133
«Прояснение экзистенции» – название второго тома из трехтомной работы Ясперса «Философия» (1956).
(обратно)Note 134
Перевод несколько отличается от того, что дается в изд.: Хайдеггер/Ясперс. Переписка. С. 71.
(обратно)Note 135
Макс Хоркхаймер (1895–1973) – немецкий философ и социолог, основатель франкфуртской школы, с 1931 г. директор Института социальных исследований во Франкфурте; в 1932 г. основал «Журнал социальных исследований»; с 1932 г. жил в эмиграции – в Женеве, Париже, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. После войны вернулся в ФРГ. Автор работ «Диалектика Просвещения; Философские фрагменты» (1947, совместно с Т. Адорно), «Затмение разума. Критика инструментального разума» (1947) и др.
(обратно)Note 136
Оскар Беккер (1889–1964) – с 1928 г. внештатный профессор философии во Фрайбурге, с 1931 г. ординарный профессор в Бонне. Автор работ по логике и философии математики.
(обратно)Note 137
Герберт Маркузе (1898–1979) – немецко-американский философ и культуролог, один из основателей и ведущих представителей франкфуртской школы. Ученик Хайдеггера. В 1933 г. эмигрировал в Швейцарию, с 1934 г. профессор политологии в США. Автор работ «Эрос и цивилизация» (1955, рус. пер. 1994), «Одномерный человек» (1967, рус. пер. 1994) и др.
(обратно)Note 138
Ханс Йонас (р. 1903) – немецкий философ, учился у Гуссерля, Хайдеггера, Ясперса. После 1933 г. жил в эмиграции – в Англии, Палестине, Канаде, США, где преподавал в Новой школе социальных исследований (Нью-Йорк). Автор работ «Гнозис и позднеантичный дух» (1934–1954) и «Принцип ответственности. Попытка разработки этики для технологической цивилизации» (1979).
(обратно)Note 139
Вильгельм Виндельбанд (1848–1915) – один из основателей фрайбургской (баденской) школы неокантианства, профессор философии в Цюрихе, во Фрайбурге-им-Брайсгау, в Страсбурге и Гейдельберге; автор работ «История новой философии» (1878–1880), «Прелюдии (речи и статьи)» (1883), «Очерки учения о негативном суждении» (1884), «История и естествознание» (1894) и др.
(обратно)Note 140
От противоположного (лат.).
(обратно)Note 141
Ср.: «В герменевтике фактичности речь идет прежде всего о том, чтобы указать на эту возможность всегда собственной жизни» (Гронден Ж. Герменевтика фактичности как онтологическая деструкция и критика идеологии. К актуальности герменевтики Хайдеггера. – В: Исследования по феноменологии и философской герменевтике. Минск, 2001. С. 47).
(обратно)Note 142
Николай Гартман (1882–1950) – немецкий философ, защитивший диссертацию в Марбурге, у Г. Когена; профессор в Марбурге, Кёльне, Берлине, Гёттингене. Был близок к марбургской школе, предложил новый вариант онтологии. Автор работ «Философия немецкого идеализма» (1923–1929), «Проблема духовного бытия» (1933), «К основоположениям онтологии» (1935), «Возможность и действительность» (1938), «Построение реального мира» (1940), «Философия природы» (1950) и др.
(обратно)Note 143
Георг Миш (1878–1965) – профессор в Гёттингене, в 1939– 1946 гг. жил в эмиграции в Великобритании. Представитель «философии жизни» и издатель собрания сочинений Дильтея.
(обратно)Note 144
С 1901 по 1916 г.
(обратно)Note 145
В 1919 г. у Хайдеггера родился сын Йорг, в 1920-м – второй сын, Герман.
(обратно)Note 146
Рихард Кронер (1884–1974) – с 1919 г. внештатный профессор философии во Фрайбурге-им-Брайсгау, с 1924 г. профессор в Дрездене, в 1929–1935 гг. – в Киле; в 1938 г. эмигрировал в Великобританию, в 1941 г. – в США, где преподавал в Теологической семинарии в Нью-Йорке. Кронер начинал как представитель юго-западной школы немецкого неокантианства, но в конечном итоге стал одной из главных фигур неогегельянства. Его основное произведение – «От Канта до Гегеля» (1921-1924).
(обратно)Note 147
Права на преподавательскую деятельность (лат.).
(обратно)Note 148
В 1922 г.
(обратно)Note 149
Рихард Хаман (1879–1961) – немецкий историк искусства, автор работ «Немецкое искусство и культура от эпохи грюндерства до экспрессионизма» (т. 1–5, 1959–1975), «Импрессионизм в искусстве и жизни» (рус. пер. 1935) и др. После войны жил в ГДР.
(обратно)Note 150
Рудольф Бультман (1884–1976) – немецкий протестантский теолог, историк религии, философ; профессор теологии в Марбурге; создатель особой герменевтической теории «демифологизации», то есть экзистенциальной интерпретации Нового Завета, согласно которой человек поставлен в ситуацию решения перед Богом. Автор работ «Теология Нового Завета» (1948), «Иисус Христос и мифология» (1965) и др. В Марбурге завязалась его дружба с Хайдеггером.
(обратно)Note 151
Эрнст Роберт Курциус (1886–1956) – авторитетный специалист по романской литературе, преподавал в Марбурге, Гейдельберге и Бонне. Автор работ «Европейская литература и латинское средневековье» (1948), «Критические статьи о европейской литературе» (1950) и др.
(обратно)Note 152
Юношеское туристическое движение в Германии 1895–1933 гг. Оно культивировало активную здоровую жизнь, неприязнь к анахроничным формам быта и общественной организации, но было принципиально аполитичным.
(обратно)Note 153
Манн Т. Доктор Фаустус. М.: Художеств, лит., 1975. С. 151 (пер. Н. Ман).
(обратно)Note 154
Там же. С. 153. (« – … В экономике открыто царят одни лишь конечные понятия. – Но ведь и народность – конечное понятие, – заметил кто-то другой…»)
(обратно)Note 155
Коммодор – командир соединения кораблей, не имеющий адмиральского звания.
(обратно)Note 156
Имеется в виду вышедшая в 1931–1932 гг. трехтомная «Философия»: «Философская ориентация в мире», «Прояснение экзистенции» и «Метафизика».
(обратно)Note 157
Немецкое выражение Es ist mit ihm vorbei (букв.: «С ним – мимо») означает: «с ним покончено», «он погиб».
(обратно)Note 158
Помни о смерти (лат.).
(обратно)Note 159
«Кайрос» (греч. «время свершения») – термин, введенный немецким теологом и философом культуры Паулем Тиллихом, – означает поворотный момент истории, а также момент, когда бытие (Бог) открывается отдельному человеку.
(обратно)Note 160
Романо Гвардини (1885–1968) – религиозный деятель, философ, писатель и публицист. По происхождению итальянец, после Первой мировой войны работал в Германии с католической молодежью в организации «Квикборн» («Родник»); в 1923–1939 гг. – профессор университета в Бреславле. В 1939 г. выступил против нацистского антисемитизма, издав во Франции под псевдонимом Л. Вальдор книгу «Христианин перед лицом расизма», после чего был отстранен от преподавания. С 1945 г. профессор истории религии в Тюбингене, с 1948 г. – в Мюнхене. Автор книги «Конец Нового времени» (1950), работ о Сократе, Данте, Гёльдерлине, Достоевском, Рильке и др.
(обратно)Note 161
Автор книги «Ханна Арендт – Мартин Хайдеггер. История взаимоотношений» (1995).
(обратно)Note 162
Арендт X. Vita activa, или О деятельной жизни. СПб: Алетейя, 2000. С. 321 (пер. В. В. Бибихина).
(обратно)Note 163
««Мирность» – онтологическое понятие и подразумевает структуру конститутивного момента бытия-в-мире» (Хайдеггер. Бытие и время. С. 64).
(обратно)Note 164
Речь идет о «той рожденности, в силу которой каждый человек некогда появился в мире как нечто уникально новое» (Арендт X. Vita acti-va, с. 232). «Поскольку всякий человек по причине своей рожденности есть initium, некое начало и пришелец в мире, люди могут брать на себя инициативу, становиться начинателями и приводить в движение новое» (там же, с. 231).
(обратно)Note 165
Имеется в виду «специфически человеческая плюральность, состоящая в том, что существа, неповторимо разнообразные от начала до конца, находятся в окружении себе равных» (там же, с. 232).
(обратно)Note 166
Свою книгу «Vita activa» Ханна Арендт сперва даже хотела назвать «Amor mundi» (Письмо Карлу Ясперсу, 6.8.1955; см. там же, с. 426).
(обратно)Note 167
Имеется в виду немецкое издание книги; первая, англоязычная, версия была опубликована в США в 1951 г.
(обратно)Note 168
«Рахель Варнхаген – жизнь еврейки» (опубл. 1957). Рахель Левин Варнхаген (1771–1833) родилась в еврейской купеческой семье, в Берлине, воспитывалась в духе ортодоксального иудаизма. Она обладала блестящим умом, и ее дом стал своего рода культурным центром, где собирались литературные знаменитости, общественные и политические деятели. В 1819 г., после многочисленных романтических увлечений, она вышла замуж за человека, который был на четырнадцать лет младше ее, – прусского дипломата по имени Карл Август Варнхаген фон Энзе – и приняла его веру, протестантизм.
(обратно)Note 169
Цит. по: Хайдеггер/Ясперс. Переписка. С. 314.
(обратно)Note 170
Хайдеггер / Ясперс. Переписка. С. 314.
(обратно)Note 171
Индивидуальное невыразимо (лат.).
(обратно)Note 172
Цит. по: Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 4. СПб.: Петрополис, 1997. С. 291 (пер. С. Мальцевой).
(обратно)Note 173
Экзистенциалы – «априорные характеристики способа бытия Dasein»; у Хайдеггера они противопоставляются «категориям» – «априорным характеристикам бытия вещей». См.: Ставцев С. Н. Введение в философию Хайдеггера. СПб.: Лань, 2000. С. 46-47.
(обратно)Note 174
Хайдеггер объясняет этот термин так: «То, что мы онтологически помечаем титулом расположение, оптически есть самое знакомое и обыденное: настроение, настроенность» (Бытие и время. С. 134).
(обратно)Note 175
Кристиан Дитрих Граббе (1801-1836) – немецкий драматург, сын смотрителя тюрьмы; автор трагедии «Герцог Теодор фон Готланд» (1822, опубл. 1827), комедии «Шутки, сатира, ирония и глубокий смысл» (опубл. 1827) и др.
(обратно)Note 176
О переводе этого термина В. В. Бибихин в «Примечаниях переводчика» пишет: «Для Angst оставлен ужас… хотя «тревога» и «тоска» здесь тоже служили бы» (Бытие и время. С. 450).
(обратно)Note 177
Ср.: «Когда ужас улегся, обыденная речь обычно говорит: «что собственно было? ничего». Эта речь онтически угадывает по сути то, что тут было. Обыденная речь погружена в озабочение подручным и проговаривание его. Перед чем ужасается ужас, есть ничто из внутримирно подручного… перед чем ужасается ужас, есть само бытие-в-мире» (Бытие и время. С. 187).
(обратно)Note 178
Ср.: «… присутствие разомкнуто ужасом как бытие-возможным, а именно как то, чем оно способно быть единственно от себя самого как уединенного в одиночестве» (там же).
(обратно)Note 179
Ср.: «Как человеко-самость присутствие всегда рассеяно в людях и должно себя сперва найти… Присутствие… размыкает себе самому свое собственное бытие» (Бытие и время. С. 129).
(обратно)Note 180
«Употребляюще-орудующее обращение, однако, не слепо, у него свой собственный способ смотреть, ведомый орудованием и наделяющий его специфической вещественностью. Обращение со средством подчиняется многосложности отсылок «для-того-чтобы». Смотрение такого прилаживания есть усмотрение» (Бытие и время. С. 69).
(обратно)Note 181
Значимость «есть то, что составляет структуру мира» (Бытие и время. С. 87). С. Н. Ставцев переводит это выражение как «функциональная взаимосвязь» (см.: Ставцев С. И. Введение в философию Хайдеггера. С. 61).
(обратно)Note 182
Имеется в виду отрешенность от чисто утилитарного подхода к вещам, см. комментарий А. Г. Солодовникова к переводу этого термина: «die Geiassenheit zu den Dingen – неологизм М. Хайдеггера. Современное значение Geiassenheit – спокойствие, хладнокровие, невозмутимость (образовано от глагола lassen – оставлять, давать возможность, позволять, разрешать кому-либо делать что-то), в средневековой немецкой мистике оно использовалось в смысле «оставить мир в покое, таким, какой он есть, не мешать естественному течению вещей и предаться богу» (так использовал это слово Мастер Экхарт (1260-1327). Другие варианты перевода: освобожденность, освобождение, свобода от вещей (техники)» (Хайдеггер М. Отрешенность. Пер. А. Г. Солодовникова, 1991 – в Интернете).
(обратно)Note 183
Человеческой ситуации, условий существования человеческого рода (лат.).
(обратно)Note 184
Хельмут Плеснер (1892-1985) – немецкий философ и социолог, один из основоположников философской антропологии. Ученик Виндельбанда и Гуссерля; с 1926 г. профессор в Кёльне, в годы нацизма – в Гронингене (Нидерланды), с 1951 г. – в Гёттингене.
(обратно)Note 185
Арнольд Гелен (1904-1976) – немецкий философ и социолог. С 1934 г. профессор в Лейпциге, с 1938 г. – в Кёльне, с 1940 г. – в Вене, с 1962 г. – в Ахене. Автор работ «Человек. Его природа и его положение в мире» (1940), «Первобытный человек и поздняя культура» (1956) и др.
(обратно)Note 186
Ср.: «По закону опосредованной непосредственности эксцентричность сказывается в том, что человек осознает свое сознание мира, понимает, что все объективное является таковым лишь для его сознания, и разочаровывается в его непосредственности. С этим связано несоответствие намерений их выражению и реализации. В среде действительности происходит «преломление», так что человек вынужден все время выходить за пределы сотворенного, вновь и вновь выражать себя, пытаться осуществить намерения» (Филиппов А. Ф. Плеснер. – В: Культурология. XX век. Энциклопедия. СПб.: Университетская книга, 1998. С. 121).
(обратно)Note 187
«Закон естественной искусственности означает, что человеку приходится уравновешивать свою «поставленность на ничто» результатами своей деятельности, квазиприродными по весомости и объективности». Там же.
(обратно)Note 188
Музиль Р. Человек без свойств. Т. 1. С. 256.
(обратно)Note 189
Цит. по: Слотердайк. Критика цинического разума. С. 550 (пер. А. Перцева). Роман был опубликован в 1931 г.
(обратно)Note 190
«Термин «онтическое» – это дополнение к «онтологическому»: он характеризует сущее, но не его бытие. … Таким образом, онтический план – это план предметного существования, характеризующий порядок сущего. Пример онтического подхода демонстрируют позитивные науки». В отличие от онтического ««экзистенциальное» или «онтологическое» понимание структурно, а не фактично» (Ставцев С. Н. Введение в философию Хайдеггера. С. 44).
(обратно)Note 191
Имеется в виду затерянность в безличности, «в человеко-самости» (Бытие и время. С. 266).
(обратно)Note 192
Оба выражения образованы от безличного местоимения man, «кто-то». Имеются в виду ««люди» как безликое «кто» повседневности, как «пустая» повседневная самость» (Ставцев С. Н. Введение в философию Хайдеггера. С. 66).
(обратно)Note 193
Сам Хайдеггер формулирует эту мысль так: «… заступание (в свою возможность быть. – Т. Б.) обнажает присутствию затерянность в человеко-самости и ставит его перед возможностью, без первичной опоры на озаботившуюся заботливость, быть самим собой, но собой в страстной, отрешившейся от иллюзий людей, фактичной, в себе самой уверенной и ужасающейся свободе к смерти» (Бытие и время. С. 266).
(обратно)Note 194
Готфрид Бенн (1886-1956) – выдающийся немецкий поэт. Начинал как экспрессионист, позже выдвинул концепцию творчества как виртуозной судьбоносной игры. Бенн – единственный крупный художник слова, поначалу принявший нацизм.
(обратно)Note 195
Ср.: «Решимость означает допущение-вызвать-себя из потерянности в людях» (Бытие и время. С. 299).
(обратно)Note 196
Фердинанд Теннис (1855-1936) – немецкий социолог, один из основоположников социологической науки в Германии; с 1909 г. преподавал в Кильском университете; в 1909-1933 гг. – первый президент Немецкого социологического общества, которое он основал совместно с Зомбартом, Зиммелем и М. Вебером.
(обратно)Note 197
Карл Фосслер (1872-1949) – филолог, специалист по романским литературам; профессор Гейдельбергского (1902), Вюрцбургского (1909-1910), Мюнхенского (1911-1937; 1945-1947) университетов, ректор Мюнхенского университета (1946). Автор работ «Позитивизм и идеализм в языкознании» (1904), «Дух и культура в языке» (1925) и др.
(обратно)Note 198
Пауль Йорк фон Вартенбург – аристократ и землевладелец, обладавший незаурядным философским даром, который был другом Вильгельма Дильтея и с 1877 г. до самой своей смерти в 1897 г. вел с ним переписку на философские темы. Эта переписка была опубликована в 1923 г. (Briefwechsel zwischen Wilhelm Dilthey und dem Grafen Paul Yorck von Wartenbuig 1877-1897, Halle, 1923). Из нее Хайдеггер и заимствовал цитировавшиеся им высказывания графа фон Вартенбурга.
(обратно)Note 199
Хайдеггер объясняет термин «судьба» так: «Этим словом мы обозначаем заключенное в собственной решимости исходное событие присутствия, в котором оно, свободное для смерти, передает себя себе самому в наследованной, но все равно избранной возможности» (Бытие и время. С. 384).
(обратно)Note 200
Ср.: «Возвращающаяся к себе, себя-себе передающая решимость становится тогда возобновлением преемственной возможности экзистенции. Возобновление есть отчетливое преемство, т. е. возвращение к возможностям сбывшегося присутствия… Возобновление, возникая из решительного самонаброска, не дает «прошедшему» уговорить себя дать ему как некогда действительному просто повториться. Возобновление скорее возражает возможности присутствовавшей экзистенции» (Бытие и время. С. 385-386).
(обратно)Note 201
Ср.: «Присутствие только потому может быть задето ударами судьбы, что в основе своего бытия оно есть… судьба… Судьба не возникает впервые лишь через столкновение обстоятельств и происшествий. Нерешительный тоже, и еще больше чем тот, кто сделал выбор, швыряем ими и все равно неспособен «обладать» никакой судьбой… Судьбоносный исторический путь присутствия в своем «поколении» и с ним создает полное, собственное событие присутствия» (Бытие и время. С. 384-385).
(обратно)Note 202
Ср.: «Ближайшим образом философия представляется чем-то таким, что, во-первых, каждого касается и до каждого доходит и, во-вторых, является предельным и высшим» (Основные понятия метафизики. ВиБ. С. 338).
(обратно)Note 203
Потому что, по мысли Хайдеггера, философию невозможно понять «извне» ее самой: «Она требует, чтобы мы смотрели не в сторону от нее, но добывали ее из нее самой… Она сама есть только когда мы философствуем» (Основные понятия метафизики. ВиБ. С. 338).
(обратно)Note 204
Эрнст Юнгер (1895-1998) – немецкий философ и писатель, герой Первой мировой войны, награжденный высшей военной наградой Германии – орденом «За доблесть»; в период Второй мировой войны был прикомандирован к штабу оккупационных войск во Франции, уволен из армии после покушения на Гитлера в 1944 г. Автор философских эссе «Рабочий» (1932), «Тотальная мобилизация» (1930), «О боли» (1934), романа «Гелиополис» (1949), дневников и др.
(обратно)Note 205
Пауль Тиллих (1886-1965) – немецко-американский христианский мыслитель, теолог, философ культуры. До 1933 г. профессор философии в Марбурге и Франкфурте. С 1933 г. профессор Нью-Йоркского, с 1955 г. – Гарвардского университетов. Автор работ «Мужество быть» (1952), «Теология культуры» (1959, рус. пер. 1995) и др. Религиозный опыт, согласно Тиллиху, следует понимать экзистенциально, как состояние предельной озабоченности Безусловным, которое не может быть для человека внешним объектом. По Тиллиху, «культура есть форма религии». Он выделяет три типа культур – «теономную», «автономную» и «гетерономную». Введенный им термин «кайрос» (греч. «время свершения») означает поворотный момент истории, момент, когда бытие (Бог) открывается человеку: это и время земной жизни Иисуса Христа, и каждый поворотный пункт в истории, и – применительно к нашей эпохе – грядущий приход новой теономии на почву секуляризованной и опустошенной автономной культуры.
(обратно)Note 206
Цит. по: Слотердайк. Критика цинического разума. С. 436 (пер. А. Перцева).
(обратно)Note 207
Вальтер Беньямин (1892-1940) – немецкий философ культуры, в 1933 г. эмигрировал во Францию, в 1935-м стал членом переехавшего из Франкфурта в Париж Института социальных исследований. Автор незаконченного сочинения «Парижские пассажи» (опубл. в 1955 г.), работ «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1936), «О понятии истории», «Теолого-политический фрагмент» и др. В 1940 г., спасаясь от гестапо, покончил жизнь самоубийством при неудачной попытке перейти испанскую границу.
(обратно)Note 208
Ницше Ф. Соч. в 2 т.: Т. 1. М.: Мысль, 1996. С. 234 («Человеческое, слишком человеческое», пер. С. Л. Франка).
(обратно)Note 209
Ср.: «В противоположность «нормативизму» Ганса Кельзена Шмитт утверждает, что поскольку законодательная система не в состоянии обеспечить формально-достоверное основание деятельности, то необходимо полагаться на волевое решение «авторитета», единственно способное преодолеть пропасть между всеобщностью закона и конкретной ситуацией» (Ставцев С. Н. Введение в философию Хайдеггера. С. 98).
(обратно)Note 210
Цит. по: Ставцев С. Н. Там же. С. 99.
(обратно)Note 211
Это понятие встречается у Аристотеля (см.: Ставцев С. Н. Введение в философию Хайдеггера. С. 58).
(обратно)Note 212
Пауль Тиллих писал: «Безусловное есть качество, а не бытие. Оно характеризует то, что составляет нашу предельную и, следовательно, безусловную заботу». Согласно Тиллиху, «состояние заботы и взыскания смысла, «тоски по Безусловному», и есть религиозность, фундаментальная характеристика человека и основа человеческой культуры» (Зоткина О. Я. Тиллих. – В: Культурология. XX век. Т. 2. С. 256).
(обратно)Note 213
То есть мир как тотальность, которая никогда не совпадет с «освоенным» бытием.
(обратно)Note 214
«Философские исследования о сущности человеческой свободы» (1809).
(обратно)Note 215
Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. СПб.: Наука, 2000. С. 97 (пер. А. В. Михайловского).
(обратно)Note 216
Эрнст Кассирер (1874-1945) – немецкий философ, ученик Г. Когена и П. Наторпа, с 1919 г. профессор философии в Берлине (1906) и Гамбурге (1913-1933). Ректор Гамбургского университета в 1930-1933 гг. В 1933 г. эмигрировал сначала в Великобританию, потом в Швецию, а в 1941 г. – в США. Автор работ «Проблема познания в философии и науке Нового времени» (т. 1-4, 1920-1957), «Философия символических форм» (1923-1929), «Опыт о человеке» (1944), «Миф о государстве» (1946) и др.
(обратно)Note 217
Аби Мориц В а рбург (1866-1929) – еврейско-немецкий историк и искусствовед. Основал знаменитую библиотеку Варбурга в Гамбурге. После прихода к власти нацистов библиотеку перевезли в Лондон, где она стала известна как Институт Варбурга. В ней 60 тыс. томов и 20 тыс. фотографий, отражающих научные интересы Варбурга – влияние греко-римской античности на последующие цивилизации.
(обратно)Note 218
Курт Рицлер (1882-1955) –философ и дипломат, профессор во Франкфурте-на-Майне и в Нью-Йорке; автор работ по политической теории, философии истории и эстетике.
(обратно)Note 219
Отто Фридрих Больнов (р. 1903) – немецкий философ, теоретик педагогики, последователь «философии жизни». Профессор в Гисене (с 1939 г.) и в Тюбингене (с 1953 г.); занимался философской антропологией. Автор работ «Новая защищенность. Проблема преодоления экзистенциализма» (1955), «Философия жизни» (1958), «Философия экзистенции и педагогика» (1959), «Человек и пространство» (1963) и др.
(обратно)Note 220
Цит. по: История немецкой литературы. М., 1963. Т. 2. С. 412.
(обратно)Note 221
Сотворение (мира) из Ничто (лат.).
(обратно)Note 222
Ср.: «Они схватывают каждый раз целое, они предельные смыслы, вбирающие понятия. Но они – охватывающие понятия еще и во втором, равно существенном и связанном с первым смысле: они всегда захватывают заодно и понимающего человека и его бытие – не задним числом, а так, что первого нет без второго, и наоборот. Нет никакого схватывания целого без захваченности философствующей экзистенции» (Основные понятия метафизики, ВиБ, 333).
(обратно)Note 223
Людвиг Клагес (1872-1956) – немецкий философ, изучал химию и физику. Его главное философское сочинение – книга «Дух как противник жизни» (1929-1933). Клагес видел в духе «мертвящий рассудок» и призывал вернуться к первоосновам, первоистокам жизни. Он также занимался психологией языка и графологией.
(обратно)Note 224
Леопольд Циглер (1881-1958) – немецкий философ, близкий к «философии жизни», с 1923 г. вел жизнь свободного литератора. Целью творческой деятельности Циглер считал преодоление научной рассудочности во имя целостно-интуитивного отношения к жизни. С 1930-х гг. исследовал традиционные мифы и обряды. Автор работ «Изменение образов богов» (1920), «Становление человека» (1948) и др.
(обратно)Note 225
Якоб фон Икскюль (1864-1944) – немецкий биолог, зоопсихолог и философ. Окончил Тартуский университет. Работал в физиологическом институте в Гейдельберге и на зоологической станции в Неаполе. С 1925 г. профессор Гамбургского университета, при котором создал институт по изучению отношений животных со средой.
(обратно)Note 226
Вальтер Ратенау (1867-1922) – еврейско-немецкий промышленник, государственный деятель и публицист; изучал философию, естественные науки и электротехнику, основал первый в Германии электрохимический завод, с 1915 г. председатель «Всеобщей компании электричества» (АЭГ). Автор ряда философских работ, в том числе эссе «К критике эпохи» (1912), откуда взята приведенная здесь цитата, и книги «Новое общество» (1919), в которой он предложил свой вариант гармоничного социального устройства. В феврале 1922 г. был назначен министром иностранных дел, а 26 июня того же года убит членами подпольной террористической организации.
(обратно)Note 227
В эссе «Беспомощная Европа».
(обратно)Note 228
Ганс Кельзен (р. 1881) – австрийский юрист, профессор Венского, Кёльнского и Женевского (1933-1940) университетов. В 1940 г. эмигрировал в США, с 1942 г. профессор Калифорнийского университета. Один из основателей так называемой нормативистской школы права.
(обратно)Note 229
Николай Александрович Бердяев (1874-1948) – философ, литератор, публицист, общественный деятель. В 1922 г. был выслан из России и до 1924 г. жил в Берлине, где учредил Русский научный институт и Религиозно-философскую академию. В Берлине им были написаны работы «Смысл истории. Опыт человеческой судьбы» (1923) и «Новое средневековье. Размышления о судьбах России и Европы» (1924). В 1924 г. он переехал в Париж, где открыл парижское отделение РФА, основал и возглавил журнал «Путь» (1925-1940) и издательство ИМКА-пресс. Его перу принадлежит ок. 40 книг и 500 статей.
(обратно)Note 230
Бердяев Н. А. Новое средневековье. М.: Феникс – ХДС-пресс, 1991. С. 65.
(обратно)Note 231
На выборах в 1930 г. нацисты получили ок. 6,5 млн голосов и выдвинулись на второе (после СДПГ) место в рейхстаге.
(обратно)Note 232
«Ротфронткемпфербунд» («Союз борьбы Красного фронта») – военные отряды Коммунистической партии Германии в период Веймарской республики. Некоторые отряды проходили боевую подготовку под руководством советских инструкторов. Указом от 24 марта 1933 г. КПГ и ее вооруженные формирования были запрещены.
(обратно)Note 233
Хайдеггер объясняет, что «двусмысленность возникает вовсе не от специального намерения исказить и извратить… Она лежит уже в бытии-друг-с-другом как брошеном бытии-друг-с-другом в одном мире» (Бытие и время. С. 175).
(обратно)Note 234
Виктор Фариас – автор книги «Хайдеггер и национал-социализм» (1987).
(обратно)Note 235
Которое будет содержаться в докладе 1933 г. «Творческий ландшафт: Почему мы остаемся в провинции?».
(обратно)Note 236
Карл Мангейм (1893-1947) – немецкий философ и социолог, один из основателей «социологии знания». Учился в университетах Будапешта, Фрайбурга, Гейдельберга, Парижа. С 1925 г. приват-доцент философии Гейдельбергского университета, с 1929 г. профессор социологии и политической экономии во Франкфуртском университете. С 1933 г., эмигрировав в Великобританию, читал лекции по социологии в Лондонской школе экономики и политической науки. Незадолго до смерти стал руководителем одного из отделов ЮНЕСКО. Инициатор и редактор «Международной библиотеки по социологии и социальной реконструкции». Автор работ «Идеология и утопия» (1929), «Человек и общество в эпоху преобразования» (1935), «Диагноз нашего времени: очерки военного времени, написанные социологом» (1943, рус. пер. 1994) и др.
(обратно)Note 237
Норберт Элиас (1897-1990) – немецкий социолог-эмигрант, преподавал в Англии, последние годы жизни провел в Голландии. Автор книг «О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования» (1939), «Придворное общество. Исследования по социологии королевской власти и придворной аристократии» и других многочисленных работ по общей социологии, социологии знания, науки, искусства, спорта и т. д.
(обратно)Note 238
Согласно Мангейму, «любая идеология есть апология существующего строя, теоретизированные взгляды класса, добившегося господства и заинтересованного в сохранении статус-кво» (Малинкин А.Н. Мангейм. – В: Культурология. XX век. Т. 2. С. 9).
(обратно)Note 239
От relation, «связь, отношение» (англ.). «Реляционизм означает, что любой интеллектуальный феномен подвергается анализу с точки зрения порождающей их социальной структуры… реляционизм не означает отсутствия критериев истины – он означает лишь, что последние зависят от природы суждений, что нет абсолютных формулировок, а есть критерии, взятые в перспективе определенной ситуации» (Реале и Антисери. Западная философия… Т. 4. С. 600).
(обратно)Note 240
Эта идея близка к концепции социолога культуры и экономиста Альфреда Вебера (1868-1958), считавшего, что исторический процесс в каждый данный момент представляет собой «констелляцию» трех разнопорядковых аспектов: (1) «телесно-витального», или собственно социологического, который включает в себя экономику и политику, (2) рационально-интеллектуального, или «цивилизационного», который воплощается в научно-техническом прогрессе, обладающем собственной логикой развития, и (3) душевно-духовного, или культурного, воплощаемого наивысшими достижениями культуры, в которых людям приоткрывает себя «трансцендентное» (см.: Давыдов Ю.Н. Вебер Альфред. – В: Культурология. XX век. Т. 1. С. 100-102).
(обратно)Note 241
Немецкое местоимение man («кто-то», «некто») употребляется как субъект в безличных предложениях типа Man sagt… («Говорят…»), Man denkt… («[Принято] думать…», «Думают…») и т. д.
(обратно)Note 242
Леопольд фон Ранке (1795-1886) – немецкий историк, профессор Берлинского университета, официальный историограф Прусского королевства (с 1841 г.). Автор работ «Римские папы, их Церковь и государство в XVI и XVII веках» (1834-1836), «Немецкая история в эпоху Реформации» (1839-1847), «Двенадцать книг прусской истории» (1874) и др. Считал, что исторический процесс развивается в соответствии с «Божественным планом» управления миром.
(обратно)Note 243
Согласно Мангейму, «существует особая социальная группа, потенциально способная освободиться от «связанности бытием», неизбежной для человеческого мышления. Это – «интеллигенция», или «социально-свободно-парящие интеллектуалы» (выражение А. Вебера). Они проникают во все слои общества, но концентрируются вокруг высших эшелонов ачасги, оказывая влияние на политическую элиту. С интеллектуалами Мангейм связывал надежду на сохранение демократий в эпоху «массовых обществ», подверженных опасности установления тоталитарного режима» (Малинкин А. Н. Мангейм. – В: Культурология. XX век. С. 9).
(обратно)Note 244
Ср.: «В этом изменении существа истины происходит одновременно смена места истины. Как непотаенность она есть еще основная черта самого сущего. Как правильность «взгляда», однако, она становится характеристикой человеческого отношения к существующему… Поэтому в учении Платона заложена неизбежная двусмысленность… Двусмысленность со всей остротой обнаруживается в том факте, что обсуждается и описывается непотаенность и одновременно подразумевается и на ведущее место ставится правильность, и все это в одном и том же ходе мысли» (Учение Платона об истине. С. 357).
(обратно)Note 245
Ср.: «Как «идея» добро есть светящее, в качестве такового дающее видеть, а в качестве такового – само зримое и потому познаваемое… Выражение «идея добра», для новоевропейского мнения совершенно вводящее в заблуждение, есть имя для той исключительной идеи, которая в качестве идеи идей оказывается придающей годность всему» (Учение Платона об истине. С. 355-356).
(обратно)Note 246
Платон. Соч. М.: Мысль, 1971. Т. 3. Ч. I. С. 300-301 («Государство»).
(обратно)Note 247
Напомним: Хельмут Плеснер говорил, что человек «поставлен на ничто».
(обратно)Note 248
Генрих Брюнинг (1885-1970) – немецкий политический деятель периода Веймарской республики, с 1924 г. депутат рейхстага, с 1929 г. лидер фракции партии Центра. 28 марта 1930 г. был провозглашен канцлером Германии и сформировал правительство – первое из серии переходных кабинетов от веймарского режима к нацизму. 30 мая 1932 г. по требованию фон Гинденбурга ушел в отставку. В 1934 г. эмигрировал в США.
(обратно)Note 249
Речь идет о так называемых боксхеймских документах – разработанном нацистами в 1931 г. (в местечке Боксхейм неподалеку от Вормса) плане захвата местных органов власти. Документы были подписаны Вернером Бестом, будущим рейхскомиссаром оккупированной Дании. Планом предполагалось захватить власть после гипотетической коммунистической революции, пресеченной в уличных сражениях. Предусматривалась смертная казнь как средство подавления любого сопротивления. Гитлер тогда публично отрекся от причастности к разработке этих документов.
(обратно)Note 250
Ясперс К. Философская автобиография, цит. по: Хайдеггер/Ясперс. Переписка. С. 346.
(обратно)Note 251
Этот закон, официально называвшийся «Закон о защите народа и Рейха», предоставлял Гитлеру чрезвычайные полномочия и конституционные основы для режима диктатуры. Он был подписан президентом Паулем фон Гинденбургом 28 февраля и вступил в действие 24 марта 1933 г., по сути аннулировав Веймарскую конституцию.
(обратно)Note 252
Впоследствии первый президент ФРГ, представитель Свободной демократической партии, основанной в 1948 г.
(обратно)Note 253
Фридрих Карл Отто Дибелиус (1880-1967) – немецкий богослов-евангелист; с 1921 г. член Координационного совета протестантских церквей, в 1925 г. возглавил Лютеранскую Церковь Пруссии. За сопротивление нацизму был смещен со своего поста после прихода Гитлера к власти. После войны и до 1956 г. был епископом Берлина, с 1949 по 1961 г. председателем правления Евангелической Церкви Германии, с 1954 по 1961 г. одним из пяти президентов Всемирного совета церквей.
(обратно)Note 254
Генрих Трейчке (1834-1896) – немецкий историк и публицист, член Германской Академии наук. Официальный историограф Прусского государства (с 1886 г.). В 1871-1884 гг. депутат рейхстага, в котором примыкал сначала к правому крылу национал-либералов, а с конца 70-х гг. – к консерваторам. Главный труд – «Немецкая история в XIX веке» (доведена до нач. 1848 г.). Идеалом Трейчке было сильное монархическое государство, способное вести борьбу за мировую гегемонию.
(обратно)Note 255
Ясперс К. Философская автобиография, цит. по: Хайдеггер/Ясперс. Переписка. С. 347-348.
(обратно)Note 256
Там же. С. 347.
(обратно)Note 257
Фест И. Адольф Гитлер. Биография. Пермь: Алетейя, 1993. Т. 2. С 268-269.
(обратно)Note 258
Карл Краус (1874-1936) – австрийский писатель, публицист, филолог. Издавал и редактировал журнал «Факкель» (1899-1936); автор философской антивоенной драмы «Последние дни человечества» (1918-1919).
(обратно)Note 259
Ясперс К. Философская автобиография, цит. по: Хайдеггер/Ясперс. Переписка. С. 347.
(обратно)Note 260
Гляйхшалтунг – нацистская политическая концепция подчинения всех сфер жизни Германии интересам национал-социалистского режима.
(обратно)Note 261
«Принцип фюрерства» (принцип иерархического подчинения и единоначалия на каждом уровне) – основополагающая концепция организации власти в тоталитарном государстве, впервые сформулированная Гитлером в книге «Майн кампф». В 1921 г. этот принцип был принят в качестве закона национал-социалистской партии. Позже на нем базировалась повседневная деятельность всех без исключения национал-социалистских организаций.
(обратно)Note 262
Альфред Розенберг (1893-1946) – главный идеолог нацизма, заместитель Гитлера по вопросам «духовной и идеологической подготовки» членов нацистской партии, с 1933 г. начальник Управления внешней политики НСДАП, с 1941 г. рейхсминистр по делам оккупированных восточных территорий. Автор книг «Будущий путь германской внешней политики» (1927) и «Миф XX века» (1929). Казнен по приговору Нюрнбергского суда.
(обратно)Note 263
Альфред Боймлер (1887-?) – немецкий философ, один из идеологов нацизма. В 1933-1935 гг. профессор политической педагогики в Берлинском университете. Его работы «Ницше как политический воспитатель» (1931) и «Политика и воспитание» (1937) были признаны в нацистской Германии в качестве руководства по воспитанию молодежи. В работе «Эстетика» (1934) Боймлер подверг критике наследие немецкой классической философии.
(обратно)Note 264
Деционизм – концепция «волевой решимости», восходящая к понятию «диктаторство», которое ввел Карл Шмитт в предисловии к своей работе «Диктатура» (1928). См. гл. 10, примеч. 8.
(обратно)Note 265
Вольфганг Шадевальдт (1900-1974) – филолог-классик, занимал профессорские должности в Кенигсберге, Фрайбурге (с 1929 г.), Лейпциге (с 1934 г.), Берлине (с 1941 г.), Тюбингене (с 1950 г.). Дружил с Хайдеггером. Переводчик Гомера, Эсхила, Софокла и Платона.
(обратно)Note 266
Йозеф Зауэр (1872-1949) – папский прелат, профессор христианской археологии и истории искусства; ректор Фрайбургского университета в 1932-1933 гг.
(обратно)Note 267
Вильгельм фон Мёллендорф (1887-1944) – профессор медицины, преподаватель Фрайбургского университета.
(обратно)Note 268
Роберт Вагнер (1895-1946) – нацистский партийный деятель, ветеран Первой мировой войны, активный участник «Пивного путча». С 1933 г. депутат рейхстага от округа Баден, министр-президент Баде-на, имперский комиссар обороны. С 1940 г. начальник гражданской администрации Эльзаса и Лотарингии. Был казнен по приговору Страсбургского военного суда.
(обратно)Note 269
Полувоенные формирования, созданные в Германии после ее поражения в Первой мировой войне.
(обратно)Note 270
Имя Альберта Лео Шлагетера (1894-1923) широко использовалось нацистской пропагандой. Ему посвящались стихи, песни, в 1933 г. Ханс Иост написал пьесу «Шлагетер».
(обратно)Note 271
В 1919 г. Добровольческий корпус сражался с большевиками в Латвии и Литве.
(обратно)Note 272
Песня, написанная немецким штурмовиком Хорстом Весселем (1907-1930), после смерти автора ставшая гимном НСДАП.
(обратно)Note 273
Ср.: «Я говорю вам: нужно носить в себе еще хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду». Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М.: Изд-во Московского ун-та, 1990. С. 15 (пер. Ю. М. Антоновского).
(обратно)Note 274
Там же. С. 16.
(обратно)Note 275
Кант И. Собр. соч. в 8 т. М.: ЧОРО, 1994. Т. 8. С. 29.
(обратно)Note 276
В смысле «созерцания»
(обратно)Note 277
См.: Вебер М. Избранные произведения. С. 715.
(обратно)Note 278
Ойген Херригель (1885-1955)– ученик Г. Риккерта; в 1924-1929 гг. профессор философии в университете Тохоку (Сендай, Япония), с 1929 г. ординарный профессор в Эрлангене.
(обратно)Note 279
Бенедетто Кроче (1866-1952) – итальянский философ-неогегельянец, историк, литературный критик и публицист, общественный деятель, крупнейший представитель итальянского либерализма.
(обратно)Note 280
Вилли Андреас (1884-1967) был специалистом по новой истории.
(обратно)Note 281
После войны он станет ректором Фрайбургского университета.
(обратно)Note 282
Цит. по: Хайдеггер/Ясперс. Переписка. С. 347.
(обратно)Note 283
Там же. С. 348.
(обратно)Note 284
Там же. С. 348-349.
(обратно)Note 285
В сопроводительном листке к тезисам Ясперс отметил: «Это общество распалось по причинам личного характера, так и не успев начать свою работу». Там же. С. 350.
(обратно)Note 286
Там же. С. 351-352.
(обратно)Note 287
Там же. С. 353.
(обратно)Note 288
Там же. С. 353-354.
(обратно)Note 289
Дитрих Манке (1884-1958) – философ, профессор в Марбурге; занимался философией Лейбница.
(обратно)Note 290
Георг (Дьёрдь) фон Хевеши (1885-1966) – венгерский химик, профессор университетов в Будапеште, Копенгагене (1920-1926, 1934-1943), Фрайбурге (1926-1934), Стокгольме (1943); лауреат Нобелевской премии по химии (1943) и международной премии «Атом для мира» (1959).
(обратно)Note 291
Д-р Вернер Брок был ассистентом Хайдеггера в 1931-1933 гг.
(обратно)Note 292
Виктор Швёрер (1865-1943) – доктор юридических наук, тайный оберрегирунгсрат; руководитель отделения по делам высшей школы в баденском министерстве просвещения.
(обратно)Note 293
Цит. по: Хайдеггер/Ясперс. Переписка. С. 365.
(обратно)Note 294
См.: Что такое метафизика? С. 24.
(обратно)Note 295
Эрих Рудольф Йенш (1883-1940) – профессор в Марбурге; занимался психологией восприятия.
(обратно)Note 296
Вальтер Гросс (1904-1945) – нацистский партийный деятель, доктор медицины. В 1933 г. создал и возглавил комиссию по народной и расовой политике, которая в 1934 г. была преобразована в Расово-политическое управление НСДАП. В 1942 г. управление было расформировано, а Гросс переведен начальником отдела расы и науки в ведомство А. Розенберга. Автор большого числа работ по вопросам расы.
(обратно)Note 297
Титул ректора высшего учебного заведения в Германии.
(обратно)Note 298
Фридрих Оскар Штэбель (1901-?) – деятель молодежного движения, получил высшее инженерное образование. В 1933 г. был назначен руководителем Германского студенческого общества и референтом имперского министерства внутренних дел по вопросам студенчества. В том же году стал имперским фюрером студентов, возглавив Национал-социалистский союз студентов. В 1933 г. был депутатом рейхстага от Бадена. В 1934 г. переведен в Имперское руководство Гитлерюгенда, где возглавил отдел студенческих организаций. Также руководил изданием «Германской студенческой газеты».
(обратно)Note 299
Выделенные жирным шрифтом фразы даны в переводе Н. В. Мотрошиловой (Философия Мартина Хайдеггера и современность. С. 11).
(обратно)Note 300
Цит. (с некоторыми отклонениями) по: Хайдеггер/Ясперс. Переписка. С. 364. О разночтениях в копиях этого документа см. там же. С. 368-369.
(обратно)Note 301
Марианна Вебер (1870– 1954) – жена Макса Вебера, автор биографической книги о нем («Max Weber. Ein Lebensbild», Tubingen, 1926); родственница Эдуарда Баумгартена. С 1898 г. участвовала в женском движении, в 1919-1923 гг. была первым председателем Союза немецких женских обществ. Близко дружила с семьей Ясперс.
(обратно)Note 302
Герман Штаудингер (1881-1965) – немецкий химик, профессор Высшей технической школы в Карлсруэ (1908-1912), Федеральной высшей школы в Цюрихе (1912-1926) и Фрайбургского университета (1926-1951). Директор Государственного института высокомолекулярных соединений (1940-1956). Основные работы посвящены химии высокомолекулярных соединений.
(обратно)Note 303
Ксенофонт (ок. 430-355 г. до н.э.) – древнегреческий писатель и историк, ученик Сократа. Автор «Греческой истории», так называемых «Сократических сочинений» («Апология Сократа», «Воспоминания о Сократе», «Пир») и др.
(обратно)Note 304
См.: Ницше Ф. Воля к власти. Посмертные афоризмы. Минск: Попурри, 1999. С. 200-201.
(обратно)Note 305
Ганс Франк (1900-1946) – партийный деятель, организатор нацистского террора в Польше, обергруппенфюрер СС (1943). Получил высшее юридическое образование. Член НСДАП с 1923 г. Стал ведущим юристом партии и официальным референтом Имперского руководства НСДАП по юридическим вопросам (1927). В 1926 г. основал и возглавил Национал-социалистскую лигу юристов. В 1933 г. возглавил Министерство юстиции Баварии, сначала в качестве комиссара, затем – министра. В 1933-1934 гг. был имперским комиссаром по вопросам юстиции. В 1934 г. организовал Академию германского права и был первым ее президентом (до 1942 г.). С 1939 г. генерал-губернатор Польши. Организатор массового уничтожения польских евреев. В 1942 г. в результате усиления роли СС был освобожден от высших партийных постов. Казнен по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге.
(обратно)Note 306
Юлиус Штрейхер (1885-1946) – партийный деятель, группенфюрер СА (1934), группенфюрер СС (1934). Основатель (1919) и руководитель Социалистической партии Германии. В 1922 г. вступил в НСДАП. В 1923 г. основал антисемитскую газету «Штюрмер» (Der Stunner). С 1933 г. депутат рейхстага от Франконии. В 1933 г. возглавил Центральную комиссию по противодействию еврейским проискам и по бойкотам. Один из главных инициаторов «Хрустальной ночи» (1938). После начала войны выступал с призывами к полному уничтожению еврейского населения на оккупированных территориях. В 1940 г. снят со всех постов по настоянию Г. Геринга, которого он публично обвинил в импотенции. Казнен по приговору Нюрнбергского трибунала по обвинению в публичном подстрекательстве к убийству евреев.
(обратно)Note 307
Выделенная жирным шрифтом фраза цит. по: Пёггелер О. Хайдеггер и политика. – В: Философия Мартина Хайдеггера и современность. С. 183.
(обратно)Note 308
Гёльдерлин Ф. Гиперион. Стихи. Письма. М., 1988. С. 248 (пер. Е. А. Садовского).
(обратно)Note 309
Рильке Р. М. Новые стихотворения. Ч. 2. М.: Наука, 1977. С. 314 (пер. Г. Ратгауза).
(обратно)Note 310
Гёльдерлин (1770-1843) в 1806 г. был помещен в психиатрическую лечебницу.
(обратно)Note 311
Ср. стихотворение «Боги»: «Благие боги! Жалок не знавший вас, / В груди его суровый живет раздор, / Весь мир ему как ночь…» (Гёльдерлин Ф. Избранная лирика. Кишинев: AXUL Z, 1997. С. 132; пер. П. Гурова).
(обратно)Note 312
Ср. пояснение В. В. Бибихина к его переводу «Бытия и времени»: «Бытие, Sein. я произношу бытиё, но пишу так только там, где у Хайдеггера старое Seyn» (Бытие и время. С. 450).
(обратно)Note 313
Гельдерлин Ф. Хлеб и вино. Избранная лирика. С. 189 (пер. С. Аве-ринцева).
(обратно)Note 314
Там же. С. 223 (пер. В. Микушевича).
(обратно)Note 315
Гельдерлин Ф. Хлеб и вино. Сочинения. М.: Художеств, лит., 1969. С. 543.
(обратно)Note 316
Там же. С. 514.
(обратно)Note 317
«Персоналом» (Gefolgschaft) в годы нацизма называли рабочих и служащих. Этот термин окрашен такими оттенками смысла, как «повиновение» и «преданность».
(обратно)Note 318
Разницу между наукой и исследованием Хайдеггер объясняет так: «Познание как исследование привлекает сущее к отчету, узнавая от него, как и насколько представление может располагать им… Природа и история становятся предметом объясняющего представления» (Время картины мира. С. 48); «Существо того, что теперь называют наукой, в исследовании. В чем существо исследования? В том, что познание учреждает само себя в определенной области сущего, природы или истории в качестве предприятия» (там же, с. 42); «Проект и строгость, методика и производство, взаимно нуждаясь друг в друге, составляют существо новоевропейской науки, делают ее исследованием» (там же, с. 47).
(обратно)Note 319
Ср.: «Четвертое явление Нового времени дает о себе знать тем, что человеческая деятельность понимается и осуществляется как культура. Культура есть в этой связи реализация верховных ценностей путем заботы о высших благах человека. В существе культуры заложено, что подобная забота со своей стороны начинает заботиться о самой себе и так становится культурной политикой» (Время картины мира. С. 42).
(обратно)Note 320
Первичное значение греческого ίδιώτης – «частный человек»; вторичные смыслы – «простой», «неопытный», «несведущий», «невежественный» человек.
(обратно)Note 321
Теодор Визенгрунд-Адорно (1903-1969) – немецкий философ, представитель франкфуртской школы, культуролог, социолог искусства. С 1931 г. преподавал во Франкфуртском университете (куда вернулся в 1949 г.), в 1934 г. эмигрировал в Великобританию, в 1938 г. – в США. Автор работ «Актуальность философии» (1931), «Философия новой музыки» (1949), «Негативная диалектика» (1966) и др.
(обратно)Note 322
Ср.: «Быть творением – значит восставлять свой мир» (Исток…, 284).
(обратно)Note 323
Ср.: «Он [храм] заключает в себе облик бога и, замыкая его в своей затворенности, допускает, чтобы облик бога через открытую колоннаду выступал в священную округу храма. Посредством храма бог пребывает в храме. И это пребывание бога само по себе есть эта простирающаяся и замыкающаяся в своих пределах священная округа» (Исток…, 282).
(обратно)Note 324
«Человек есть животная тупость» (лат).
(обратно)Note 325
Шеллинг Ф. Соч. в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1989. С. 101.
(обратно)Note 326
Ницше Ф. Воля к власти. С. 337.
(обратно)Note 327
Там же. С. 341.
(обратно)Note 328
Начни все сначала! (ит.).
(обратно)Note 329
Ср.: ««Счастье найдено нами», – говорят последние люди и моргают» (Ницше Ф. Так говорил Заратустра. С. 16).
(обратно)Note 330
Китаро Нисида (1870-1945) – японский философ-идеалист, основатель так называемой киотской школы; автор работ «Самосознающая система общего» (1920), «Определение небытия в самосознании» (1931), «Основной вопрос в философии» (1933). Истолковывал Небытие с позиций учения дзэн – как всеобъемлющий универсум, который, «будучи всем, сам есть ничто». Согласно его основной философской концепции, истинное бытие постигается интуитивно благодаря особому «способу рассмотрения вещей», или «способу осознания себя», позволяющему преодолеть противоположность объективного и субъективного.
(обратно)Note 331
Хайдеггер характеризовал Новое время как историю «отпускания бытия в устроенность (Machenschaft)» (Европейский нигилизм. С. 176).
(обратно)Note 332
«Ereignis meint immer Ereignis als Er-eignung, Ent-scheidung, Entgegnung, Ent-setzung, Entzug, Einfachheit, Einzigkeit, Einsamkeit».
(обратно)Note 333
В своем докладе «Путь к языку» Хайдеггер упоминает прочитанную фон Вейцзеккером серию докладов «Язык как информация» (см.: ВиБ. С. 425).
(обратно)Note 334
В кн.: Хайдеггер/Ясперс. Переписка. С. 226, выражение «die Auseinandersetzung mit dem Glauben der Herkunft» переводится как «полемика с верой в происхождение».
(обратно)Note 335
Юрген Хабермас (р. 1929) – немецкий философ и социолог. В 1961-1964 гг. преподавал философию в Гейдельберге. С 1964 г. профессор Франкфуртского университета. С 1971 г. директор Института по изучению жизненных условий научно-технического мира в Штарнберге. Преемник Хоркхаймера и Адорно, ведущий представитель второго поколения теоретиков франкфуртской школы, идеолог «новых левых». Исследует коммуникативное поведение, «двухступенчатое» строение современного общества («система» и «жизненный мир»). Автор работ «Логика социальных наук» (1967), «Познание и интерес» (1968) и др.
(обратно)Note 336
Эмиль Штайгер (р. 1908) – швейцарский литературовед, профессор (с 1943 г.) университета в Цюрихе. Основоположник (наряду с В. Кайзером) «школы интерпретации», которая рассматривает художественное произведение вне обстоятельств его возникновения как специфический феномен человеческого сознания, постигаемый с помощью непосредственных впечатлений и толкования его отдельных аспектов и компонентов в их единстве. Автор работ «Время как воображение поэта» (1939), «Искусство интерпретации» (1955) и др. Переводил древнегреческих писателей.
(обратно)Note 337
Гёльдерлин Ф. Хлеб и вино (пер. С. Аверинцева).
(обратно)Note 338
«Фёлькишер беобахтер» – ежедневная газета, официальный орган НСДАП.
(обратно)Note 339
Густав Адольф Шеель (1907-1979) – партийный деятель, группенфюрер СС (с 1943 г.), доктор медицины. В 1936 г. возглавил Национал-социалистский союз студентов (НССС) и получил звание имперского руководителя студентов. С мая 1941 г. высший руководитель СС и полиции Альпенланда, с ноября 1941 г. имперский наместник Зальцбурга. При этом за ним осталось и руководство НССС. После войны к суду привлечен не был, с 1947 г. работал практикующим врачом в Гамбурге.
(обратно)Note 340
Этот эпизод описан также в письме Хайдеггера Ясперсу от 8 апреля 1950 г.: «Я вел тогда семинар по Ницше, обсуждали проблему «бытия и видимости». Некий д-р Ханке, чрезвычайно одаренный, представившийся как ученик Ник. Гартмана, участвовал в работе. В первые недели он под впечатлением моего изложения… пришел ко мне и заявил, что должен по секрету кое в чем признаться: он – осведомитель СД по сектору Юг (Штутгарт) и хочет мне сообщить, что я там на первом месте в черном списке. Когда началась война, д-р X. вышел из СД и погиб во французской кампании» (Хайдеггер/Ясперс. Переписка. С. 276-277).
(обратно)Note 341
То есть в имперское министерство науки, воспитания и народного образования.
(обратно)Note 342
Жюльен Бенда (1867-1956) – французский писатель-эссеист, выступавший против интуитивистской концепции А. Бергсона с позиций «интеллектуализма».
(обратно)Note 343
Ср.: «Нечто до-ставлено, представлено – cogitatum – человеку… впервые лишь тогда, когда оно ему надежно обеспечено, и он им самостоятельно, внутри сферы, которой сам он распоряжается, может каждый раз недвусмысленно, без опаски и сомнения владеть» (Европейский нигилизм. С. 123).
(обратно)Note 344
«Фольксштурм» – немецкое ополчение, созданное по инициативе Гиммлера и Геббельса для последней обороны Третьего рейха зимой 1944/45 г. «Фольксштурм» набирался из числа немцев, не годных к строевой службе.
(обратно)Note 345
Хайдеггер пишет буквально следующее: «… Одиночка был совершенно бессилен. То, что я сейчас говорю, не может ничего оправдать, может лишь объяснить, как год от года, чем ярче выявлялось зло, рос и стыд, что когда-то я прямо и косвенно в этом участвовал… Годы 1937 и 1938 были для меня самым тяжелым временем. Мы видели, что надвигается война, грозящая прежде всего подрастающим сыновьям, ни один из которых не был ни в гитлерюгенде, ни в студенческих партийных организациях. Такие угрозы прибавляют человеку проницательности; затем начались гонения евреев, и все покатилось в пропасть. В «победу» мы не верили никогда; и если бы до нее дошло, жертвами в первую очередь пали бы мы» (Переписка. С. 276).
(обратно)Note 346
Она была опубликована в 1946 г. под названием «Вопрос о вине».
(обратно)Note 347
Caute, осторожно (лат.), было начертано на печатке Спинозы.
(обратно)Note 348
См.: Платон. Государство. 496d.
(обратно)Note 349
В письме от 1 марта 1948 г. Ясперс пишет: «Когда в 1945 году миновала опасность национал-социалистской цензуры, я ждал от Вас письма, которое объяснило бы мне непонятное. Поскольку с 1933 года Вы, не сказав ни слова, перестали встречаться со мной, а потом и писать, я надеялся, что Вы воспользуетесь возможностью и откровенно объяснитесь» (Переписка. С. 237).
(обратно)Note 350
Отзыв Ясперса цит. по изд.: Хайдеггер/Ясперс. Переписка. С. 365.
(обратно)Note 351
Отзыв Ясперса цит. по изд.: Хайдеггер/Ясперс. Переписка. С. 366.
(обратно)Note 352
Речь идет о пенсии университетского профессора; пенсию государственного служащего Хайдеггер продолжал получать. См.: Хайдеггер/Ясперс. Переписка. С. 369-370.
(обратно)Note 353
Жан Валь (1888-1974) – французский философ, с 1927 г. профессор Сорбонны; своими публикациями одним из первых сделал немецкую экзистенциальную философию известной во Франции.
(обратно)Note 354
Габриэль Оноре Марсель (1889-1973) – французский философ, драматург, театральный и музыкальный критик; с его именем связано возникновение экзистенциализма во Франции. Автор работ «Метафизический дневник» (1927), «Онтологическое таинство и конкретное приближение к нему» (1933), «Люди против человеческого» (1951), «Человек, ставший проблемой» (1955) и др.
(обратно)Note 355
Камю А. Счастливая смерть. Посторонний. Чума. Падение. Калигула. Миф о Сизифе. Нобелевская речь. М.: Фабр, 1993. С. 496 (пер. С. Великовского). Выделенные курсивом слова в этом переводе отсутствуют, но есть в другом: Сумерки богов. М.: Политиздат, 1989. С. 240.
(обратно)Note 356
Реймон Арон (р. 1905) – французский социолог, участник Сопротивления, политический редактор и обозреватель газеты «Фигаро» (с 1947 г.), руководитель кафедры социологи в Сорбонне (с 1956 г.), член Академии моральных и политических наук (с 1963 г.). Один из создателей теории «единого индустриального общества».
(обратно)Note 357
Александр Кожев (Кожевников; 1902-1968) – философ-неогегельянец. Учился в Германии у К. Ясперса. С 1933 г. профессор Сорбонны. Лекции Кожева о гегелевской «Феноменологии духа» в 30-х гг. оказали большое влияние на распространение идей Г. Гегеля во Франции и их истолкование в духе экзистенциализма. Слушателями Кожева были, в частности, философы Ж. П. Сартр, М. Мерло-Понти, Ж. Ипполит, социолог Р. Арон и др.
(обратно)Note 358
Роже Каюа (1913-1978) – французский мыслитель и писатель. В годы Второй мировой войны был в эмиграции в Аргентине, издавал журнал «Летр франсез», после возвращения на родину был переводчиком и пропагандистом латиноамериканской словесности. Автор работ «Человек и сакральное» (1939), «Детективный роман» (1941), «Игры и люди» (1958), «На пути к воображаемому» (1974).
(обратно)Note 359
Жорж Батай (1897-1962) – французский писатель, эссеист, философ, один из основоположников современного французского романа.
(обратно)Note 360
В предисловии к «Капиталу» К. Маркс писал о гегелевской диалектике: «Для меня идеальный элемент – не что иное, как элемент материальный, перенесенный в человеческий ум… Чтобы отделить рациональный момент от мистического вздора, надо поставить диалектику с головы на ноги».
(обратно)Note 361
Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет в 2 т.: Т. 1. М.: Мысль, 1972. С. 289.
(обратно)Note 362
Сартр Ж. П. Тошнота: Роман; Стена: Новеллы. (Классики XX века.) Ростов н/Д.: Феникс; Харьков: Фолио, 1999. С. 156 (пер. Ю. Я. Ях-ниной).
(обратно)Note 363
Там же.
(обратно)Note 364
Там же. С. 157.
(обратно)Note 365
Там же. С. 161.
(обратно)Note 366
Сартр Ж. П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. (Мыслители XX века.) М.: Республика, 2000. С. 61 (пер. В.И. Колядко).
(обратно)Note 367
Там же. С. 178.
(обратно)Note 368
Цит. по: Хайдеггер М. Письмо о гуманизме. ВиБ. С. 200.
(обратно)Note 369
Сартр Ж. П. Портрет антисемита. СПб.: Европейский дом, 2000. С. 150 (пер. Г. Ноткина).
(обратно)Note 370
Ален Рене (р. 1922) – французский кинорежиссер, представитель группы «Новая волна» (середина 50-х гг.). Среди его работ – фильмы «Хиросима, любовь моя» (1959), «Прошлым летом в Мариенбаде» (1961).
(обратно)Note 371
Речь идет о «конкретных средствах, через которые обнаруживается наша принадлежность к семье, местности» (см.: Сартр Ж. П. Бытие и ничто. С. 520).
(обратно)Note 372
И далее Сартр продолжает: «Таким образом, французский лыжник располагает «французской скоростью», чтобы спуститься с лыжных склонов, и эта скорость открывает ему особый тип склонов, где бы он ни был, то есть швейцарские или баварские Альпы, Телемарк и Юра будут предлагать ему всегда смысл, трудности, орудийный комплекс или враждебности чисто французские» (там же).
(обратно)Note 373
Сартр Ж. П. Бытие и ничто. С. 544.
(обратно)Note 374
««Dasein-анализ» посредством исторической биографии индивида, истории его внутренней жизни, пытается установить некое «экзистенциальное априори», уникальный способ проектирования мира, то, как индивид осмысливает вещи, события, отношения. Именно экзистенциальное априори делает осмысленным и само бессознательное. В соответствии с тем, как человек проектирует мир и себя, в зависимости от его отношения к своей «фактуальности» и должна отрабатываться терапевтическая тактика» (см.: Реале Д., Антисери Д. Западная философия. Т. 4. С. 421).
(обратно)Note 375
Роберт Хайс (1903-1974) – ученик Хайдеггера, позднее – профессор психологии во Фрайбурге-им-Брайсгау.
(обратно)Note 376
Эрих Кёстнер (р. 1899) – немецкий писатель (ФРГ), автор романа «Фабиан» (1931) и других произведений. Президент Пен-клуба ФРГ.
(обратно)Note 377
Рейнхольд Шнайдер (1903-1958) – немецкий писатель и историк культуры.
(обратно)Note 378
Дольф Штернбергер (1907-1989) учился у Ясперса (1927) и Хайдеггера (1929). В 1932 г. защитился у Пауля Тиллиха во Франкфурте-на-Майне на тему «Исследование экзистенциальной онтологии Мартина Хайдеггера».
(обратно)Note 379
Фридрих Мейнеке (1862-1954) – немецкий историк, профессор Страсбургского, Фрайбургского, Берлинского (1914-1928) университетов. В 1896-1935 гг. главный редактор журнала «Хисторише Цайтшрифт». С 1948 г. ректор Свободного университета в Западном Берлине. Автор работ «Космополитизм и национальное государство» (1908), «Идея государственного разума в новой истории» (1924), «Происхождение историзма» (1936), «Германская катастрофа» (1946) и др. Мейнеке критиковал историцизм, считая, что он порождает релятивизм, и предлагал избрать другой путь (путь Гёте, Ранке и Трёльча), который «подталкивает искать и находить вечное в мгновении, абсолютное – в вечном и индивидуальном» (см.: Реале Д., Антисери Д. Западная философия. С. 297).
(обратно)Note 380
Книга «Диалектика Просвещения: Философские фрагменты» была издана в Амстердаме в 1947 г.
(обратно)Note 381
Ср.: «Эта мысль внимает просвету бытия, вкладывая свой рассказ о бытии в язык как жилище экзистенции… В самом деле, мысль лишь дает в своей речи слово невыговоренному смыслу бытия. Употребленный здесь оборот «дает слово» надо взять теперь совершенно буквально. Бытие, высветляясь, просит слова. Оно всегда говорит за себя. Давая о себе знать, оно в свою очередь позволяет сказаться экзистиру-ющей мысли, дающей ему слово. Слово тем самым выступает в просвет бытия» (Письмо о гуманизме. С. 219).
(обратно)Note 382
Ницше Ф. Соч. в 2 т.: Т. 2. С. 289.
(обратно)Note 383
Ср.: «Лишь поскольку человек, экзистируя в истине бытия, послушен ему, только и могут от самого Бытия прийти знамения тех предназначений, которые должны стать законом и правилом для людей» (Письмо о гуманизме. ВиБ. С. 218).
(обратно)Note 384
Цит. по: Хайдеггер/Ясперс. Переписка. С. 370.
(обратно)Note 385
То есть Ясперс считал необходимым, чтобы Хайдеггера восстановили в правах пенсионера-профессора и как пенсионеру предоставили ему статус ординарного профессора (см. там же).
(обратно)Note 386
Ханна Арендт (1906-1975) в 1933 г. бежала из нацистской Германии и приехала в Париж, где познакомилась с А. Койре, Р. Ароном, Ж. П. Сартром и А. Кожевым. В 1940 г. за деятельность по перемещению еврейских детей в Палестину была арестована, но в 1941 г. смогла бежать в США. После долгих лет преподавания в Принстонском и Колумбийском университетах, а также в университете Беркли, она стала профессором политической философии в нью-йоркской Новой школе социальных исследований.
(обратно)Note 387
Речь идет о первой книге Ханны Арендт, которая была опубликована в 1951 г.
(обратно)Note 388
Район г. Фрайбурга.
(обратно)Note 389
Фукидид (ок. 460-400 до н.э.) – греческий историк; в его «Истории» (в восьми книгах) описываются события Пелопоннесской войны 431-404 гг.
(обратно)Note 390
Арендт X. Vita activa, или О деятельной жизни. СПб.: Алетейя, 2000. С. 234 (пер. с нем. и англ. В. В. Бибихина).
(обратно)Note 391
В «Vita activa» Ханна Арендт пишет об этом так: «В страсти, которая схватывает лишь кто другого человека, то срединное пространство мира, через которое мы и связаны с другими и одновременно от них отделены, словно расплавляется в огне. Любящих отделяет от человеческого мира их безмирность, мир между любящими сгорел. Пока длится очарование любви, тем единственным между, которое может связать любящих друг с другом и одновременно разделить их… оказывается ребенок, подлиннейшее порождение любви» (там же, с. 321).
(обратно)Note 392
Ср.: «В противоположность созданию, завершенному когда предмет получил свой должный облик и отныне может быть встроен как готовая вещь в наличный вещный мир, труд никогда не «готов», но вращается в бесконечном повторении по неизменно возвращающемуся кругу, который предписан ему биологическим жизненным процессом и «тяготы и бедствия» которого находят себе конец лишь со смертью влачащего их организма» (там же, с. 126).
(обратно)Note 393
Ср.: «Среди всех предметов, находимых нами в мире и окружающих нас, потребляемые продукты обладают наименьшей степенью постоянства, они едва переживают момент своего изготовления» (там же, с. 123).
(обратно)Note 394
Ср.: «Эти предметы употребляются, а не потребляются, употребление их не истребляет; их сохранность придает миру как созданию рук человеческих долговечность и постоянство, без которых смертно-непостоянное бытие человечества на земле не смогло бы учредить себя; в них собственно человеческое отечество человека» (Арендт X. Vita activa. С. 175).
(обратно)Note 395
Ср.: «Художественные произведения – самые устойчивые и потому более всего принадлежащие миру из всех вещей» (там же, с. 217).
(обратно)Note 396
Ср.: «Окружающий мир человека есть вещный мир, воздвигаемый для него homo faber'oM, и свою задачу, быть родиной смертному существу, он способен исполнить лишь в той мере, в какой его постоянство способно устоять среди вечно-изменчивой подвижности человеческого существования, и всякий раз ее переживает, т.е. поскольку он трансцендирует не только чистую функциональность продуктов, произведенных для потребления, но и голую полезность предметов употребления» (там же, с. 226).
(обратно)Note 397
Ханна Арендт включает в понятие «действия» и речь: «Действие и речь так сродни друг другу потому, что действие способно отвечать специфически человеческой ситуации, движению среди множества уникальных существ как среди равных себе, только когда оно держит готовым ответ на вопрос, непроизвольно задаваемый всякому новому пришельцу, – на вопрос: кто ты? … Бессловесного действия, строго говоря, вообще не существует, ибо это было бы действие без деятеля» (там же, с. 233).
(обратно)Note 398
Арендт X. Vita activa. С. 327.
(обратно)Note 399
Арендт X. Vita activa. С. 328.
(обратно)Note 400
Там же. С. 313-314.
(обратно)Note 401
Арендт X. Истоки тоталитаризма. М.: Центрком, 1996. С. 439-440.
(обратно)Note 402
Адольф Эйхман (1906-1962) с 1934 г. был руководителем отдела по еврейским вопросам в гестапо. После Ванзейского совещания 1942 г. на него было возложено непосредственное руководство операцией по «окончательному решению еврейского вопроса». В августе 1944 г. он представил Гиммлеру доклад, в котором отчитался в уничтожении четырех миллионов евреев. В 1946 г. бежал из лагеря для интернированных и с 1952 г. жил в Южной Америке. В 1960 г. был схвачен на улице Буэнос-Айреса группой Моссад и тайно вывезен в Израиль. В 1961 г. в Иерусалиме состоялся процесс по делу Эйхмана, закончившийся смертным приговором. В 1963 г. Ханна Арендт опубликовала книгу «Эйхман в Иерусалиме: банальность зла».
(обратно)Note 403
Письмо Ясперсу от 1.11.961. За исключением первых выделенных курсивом фраз, цит. пер. В. В. Бибихина (Арендт X. Vita activa. С. 429).
(обратно)Note 404
Эта книга была опубликована в 1919 г.
(обратно)Note 405
В докладе «Путь к языку» Хайдеггер с одобрением цитирует слова Новалиса: «Как раз своеобразие языка – что он озабочен только самим собой – никому не ведомо» (ВиБ. С. 259).
(обратно)Note 406
В «Письме о гуманизме» Хайдеггер писал: «Язык есть дом бытия. В жилище языка обитает человек. Мыслители и поэты – хранители этого жилища. Их стража – осуществление открытости бытия, насколько они дают ей слово в своей речи, тем сохраняя ее в языке. Мысль не потому становится прежде всего действием, что от нее исходит воздействие или что она прилагается к жизни. Мысль действует, поскольку мыслит. Эта деятельность, пожалуй, самое простое и самое высшее, потому что она касается отношения бытия к человеку» (ВиБ. С. 192).
(обратно)Note 407
Ясперс К. Заметки о Хайдеггере; цит. (кроме выделенных курсивом фраз) по: Хайдеггер/Ясперс. Переписка. С. 51.
(обратно)Note 408
Ср.: «Истину бытия мы осмысливали через свечение мира как зеркальную взаимоотраженность четверицы неба и земли, смертного и божественного. Когда забвение повертывается к нам лицом, когда возвращается мир как хранение истины бытия, тогда сбывающийся мир молниеносно озаряет своим светом беспризорность вещи… Озарение есть событие в самом бытии… Прозрением называется не наше усмотрение, которым мы выхватываем что-то из сущего; прозрение как озарение есть событие поворота в сущностной констелляции самого бытия, и именно в эпоху постава… Прозрение в то, что есть, – так мы называем озарение беспризорного бытия истиной бытия» (Поворот. ВиБ. С. 257).
(обратно)Note 409
Ср.: «Ритм, ρυτμός, между прочим, – это не поток и не течение, а слаженность. Ритм есть та покоящаяся основа, которая вносит лад в движение танца и пения и тем дает им успокоиться в себе. Ритм наделяет покоем» (Слово. ВиБ. С. 308).
(обратно)Note 410
Один из ведущих актеров гамбургской труппы, исполнявший, например, роль Мефистофеля в гётевском «Фаусте».
(обратно)Note 411
Лао-Цзы – автор древнекитайского даосского трактата «Лао-Цзы» (другое название «Дао дэ цзин»).
(обратно)Note 412
Ханс Каросса (1878-1956) – немецкий поэт и писатель, врач по профессии. В 1941 г. был избран президентом профашистского «Европейского объединения писателей». Автор книг «Военный дневник» (1934), «Год прекрасных обманов» (1941), «Итальянские зарисовки» (1946), «Неравные миры» (1951) и др.
(обратно)Note 413
Хосе Ортега-и-Гассет (1883-1955) – испанский философ, публицист, издатель. Учился в Германии у Г. Когена и П. Наторпа. С 1910 по 1936 г. руководил кафедрой метафизики Мадридского университета, с 1936 по 1945 г. находился в эмиграции. Основал Институт гуманитарных наук (1948), журнал и издательство «Ревиста де Оксиденте» (1923). Автор работ «Размышления о «Дон Кихоте»» (1914), «Испания со сломанным хребтом» (1922), «Восстание масс» (1930), «Вокруг Галилея» (1933), «Идеи и верования» (1940), «История как система» (1941) и др.
(обратно)Note 414
Имеется в виду Александр Мичерлих, автор книги «На пути к обществу безотцовщины. Идеи к социальной философии» (A. Mitscherlich. Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschafi. Ideen zur Sozialphilosophie), опубликованной в Мюнхене в 1963 г.
(обратно)Note 415
Антиутопия английского писателя Олдоса Хаксли (1894-1963) «Прекрасный новый мир» впервые была опубликована в 1932 г.
(обратно)Note 416
Альфред Вебер (1868-1958) – немецкий социолог культуры и экономист, брат Макса Вебера. Профессор Пражского (1904-1907) и Гейдельбергского (с 1907 г.) университетов. После прихода к власти национал-социалистов был отстранен от преподавания и целиком посвятил себя написанию научных трудов. После войны снова стал профессором Гейдельбергского университета (и работал там до 1958 г.). Основные труды: «Культурная история как культурная социология» (1935), «Принципы исторической и культурной социологии» (1951).
(обратно)Note 417
Этот термин в немецкой историографии используется применительно к цивилизациям, которые обладают государством, письменностью, религией, – например, к первым древневосточным государственным образованиям.
(обратно)Note 418
Фридрих Георг Юнгер (1898-1977) – младший брат Эрнста Юнгера, известный поэт, писатель и социальный философ.
(обратно)Note 419
Юнгер Э. Рабочий. С. 262. Э. Юнгер пишет: «Завершенность техники есть не что иное, как один из признаков тотальной мобилизации, ходом которой мы захвачены… здесь совершается переход от изменчивости к постоянству… Поэтому завершенность представляет собой сегодня нечто иное, нежели в иные времена… Во всяком случае, ее нет там, где ссылаются на культуру, искусство, на душу или на ценность. Речь об этом либо еще, либо уже не ведется… Добродетель, приличествующая этому состоянию, есть добродетель героического реализма, который не может поколебать даже перспектива полного уничтожения и безнадежности его усилий» (там же, с. 261-262).
(обратно)Note 420
Ср.: «Гештальтом мы называем высшую, смыслопридающую действительность. Явления получают значение символов, представителей, оттисков этой действительности. Гештальт – это целое, которое охватывает больше, чем сумму своих частей» (там же, с. 423); «Господство, то есть преодоление анархических пространств посредством нового порядка, возможно сегодня только как репрезентация гештальта рабочего, выдвигающего притязание на планетарную значимость» (там же, с. 291). Основные признаки «гештальта рабочего», по Юнгеру, таковы: «Ценностное противопоставление массы и единичного человека, или «коллективной» и «личной» инициативы, не имеет никакого значения… Свободу можно ощутить лишь в случае причастности к целостной и исполненной смысла жизни… притязание на свободу выступает как притязание на работу… Соразмерный рабочему принцип, или язык рабочего… [это] работа как способ жизни, который формирует особый стиль… Рабочий более не имеет никакого отношения к культурной деятельности, достигающей своего пика в культе гения… Господство рабочего впервые заявляет о себе в замене либеральной или общественной демократии рабочей или государственной демократией… Эту замену осуществляет активный тип, использующий… в частности, формы ордена… На место бюргерских конституций выступает рабочий план, к которому предъявляются требования завершенности, гибкости и оснащенности» (там же, с. 424-429).
(обратно)Note 421
Там же. С. 256.
(обратно)Note 422
Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. Соч. в 2 т.: Т. 1. С. 236-237 (пер. С. Л. Франка).
(обратно)Note 423
Юнгер Э. Рабочий. С. 256.
(обратно)Note 424
«Авантюрное сердце» – название эссе Э. Юнгера, впервые опубликованного в Берлине в 1929 г. Вскоре публицисты и поклонники стали называть самого автора книги «Авантюрным Сердцем».
(обратно)Note 425
Греческое слово «αλήθεια» означает «истина» (букв, «непотаенность»). О значении этого термина у Хайдеггера см., напр.: Время и бытие. С. 436 (примеч. 12).
(обратно)Note 426
Ср.: «Царящее в современной технике раскрытие потаенного есть производство, ставящее перед природой неслыханное требование быть поставщиком энергии, которую можно было бы добывать и запасать как таковую. А что, разве нельзя того же сказать о старой ветряной мельнице? Нет. Правда, ее крылья вращаются от ветра, они непосредственно отданы его дуновению. Но ветряная мельница не извлекает из воздушного потока никакой энергии, чтобы сделать из нее запасы» (Вопрос о технике. ВиБ. С. 226).
(обратно)Note 427
«Вызов этот сосредотачивает человека на поставляющем производстве. Его собирающее начало нацеливает человека на поставление действительного как состоящего в наличии» (Вопрос о технике. ВиБ. С. 229).
(обратно)Note 428
Ср.: «По-ставом мы называем собирающее начало той установки, которая ставит, т. е. заставляет человека выводить действительное из его потаенности способом поставления его как состоящего-в-наличии. По-ставом называется тот способ раскрытия потаенности, который правит существом современной техники, сам не являясь ничем техническим. К. техническому же относится все знакомое нам в виде всевозможных станков, станов, установок и служащее составной частью того, что именуется производством. Последнее вместе со всеми своими составными частями относится к сфере технического манипулирования, которое всегда только отвечает требованиям постава, никогда не формируя его и даже не воздействуя на него» (там же).
(обратно)Note 429
Ср.: «Существо современной техники ставит человека на путь такого раскрытия потаенности, благодаря которому действительность повсюду… делается состоящей-в-наличии… То сосредотачивающее посылание, которое впервые ставит человека на тот или иной путь раскрытия потаенности, мы называем миссией и судьбой… Постав, как всякий путь такого раскрытия, есть судьба, посылающая человека в историческое бытие… В качестве миссии он посылает человека на путь раскрытия потаенности способом поставления. Где господствует последнее, изгоняется всякая другая возможность раскрытия потаенности. Главное, поставом скрадывается тот путь раскрытия тайны, который дает присутствующему явиться в смысле произведения» (там же, с. 231-233).
(обратно)Note 430
Начало стихотворения «Патмос»; в пер. В. Микушевича: «Близок бог / И непостижим. / Где опасность, однако, / Там и спасенье…» (см.: Гёльдерлин Ф. Избранная лирика. С. 251).
(обратно)Note 431
Доклад «Отрешенность»; цитируется по интернетовской публикации.
(обратно)Note 432
1 Фес. 5:2.
(обратно)Note 433
См. комментарий В. В. Бибихина к употреблению этого термина в «Преодолении метафизики»: «Andenken прочитывается здесь одновременно как «память» и как «мысль о…»» (Время и бытие. С. 417).
(обратно)Note 434
Рене Шар (1907-1988) – французский поэт, автор сборников стихов «Молот без хозяина» (1934), «Лишь те остаются» (1945), «Ярость и тайна» (1948), «Поиски основания и вершины» (1955), «Вверх по течению» (1966) и др.
(обратно)Note 435
Из «Тезисов о Фейербахе» (1845).
(обратно)Note 436
Карл Густав Юнг (1875-1961) – создатель школы «аналитической психологии», работал в клинике «Бургхельцли» с 1900 г.
(обратно)Note 437
В докладе «Поворот» Хайдеггер объяснял это понятие так: «Это вынесение подобно тому, когда – в области личного опыта – выносят боль. Вынесение события бытия, т. е. для нас, здесь и теперь – вынесение постава, совершится во всяком случае лишь через явление какого-то иного вызова, который нельзя ни вычислить по законам исторической логики, ни метафизически сконструировать в виде цели исторического процесса. Ибо ни происходящие в истории, ни тем более историографически представленные факты не предопределяют историческую судьбу, а наоборот, все происходящее вместе с отталкивающимся от факта историофафическим представлением всегда стоит на миссии так или иначе сбывающегося бытия» (ВиБ. С. 254).
(обратно)Note 438
Имеется в виду утверждение Канта, что просвещение есть выход человека из фазы несовершеннолетия, то есть той фазы, когда он был неспособен пользоваться собственным разумом без посторонней помощи. В книге Адорно и Хоркхаймера «Диалектика Просвещения» шла речь о том, что сегодняшний человек, став «совершеннолетним», превратился в ноль, которым манипулирует культурная индустрия (см.: Реале Д., Антисери Д. Западная философия. Т. 4. С. 562-564).
(обратно)Note 439
Сам Арнольд Гелен полагал, что человеческая жизнь нуждается в руководстве и что функцию такого руководства должны выполнять социальные институты (роль которых он сопоставлял с ролью инстинкта в жизни животных). Основной проблемой индустриального общества Гелен считал значительную деинституционализацию частной сферы в сравнении со сферой публичной деятельности (см.: Григорьян Б. Т. Гелен. – В: Культурология. XX век. Т. 1. С. 142-143).
(обратно)Note 440
Формулировка Адорно, под которой он подразумевал «прежде всего расколотость, трагичность реальности в XX в.» (см.: Соловьева Г. Г. Современный Сократ. – В: Путь в философию. Антология. М.: Университетская книга, 2001. С. 354).
(обратно)Note 441
Этот текст был опубликован в 1954 г., но содержит записи 1936– 1946 гг.
(обратно)Note 442
Эти понятия играют ключевую роль в философии Хайдеггера. См., например: «… «проект», набросок смысла, в своей сути «брошен» человеку. «Бросающее» в «проекте», выбрасывании смысла – не человек, а само Бытие, посылающее человека в эк-зистенцию бытия-вот как в существо человека» (Письмо о гуманизме. ВиБ. С. 205).
(обратно)Note 443
Памфлет был опубликован в 1964 г.
(обратно)Note 444
Ср.: «Событие дает человеку, требуя его для себя, сбыться в его собственном существе. О-существляя показывание как особленье, событие оказывается проделыванием пути сказа к речи» (Путь к языку. ВиБ. С. 269).
(обратно)Note 445
Хайдеггера интересовало «высказывание, отвечающее осмысливаемому… положению-вещей, т. е. событию» (Время и бытие. ВиБ. С. 403).
(обратно)Note 446
Ср.: «… слово «отношение» призвано тут сказать, что человек в своем существе относится к тому существенному, что требует его, принадлежит, послушен как осуществляющийся тому, что обращено к нему как вызов» (Из диалога о языке. ВиБ. С. 290).
(обратно)Note 447
Орган с механическими регистрами, используемый в кинематографии для имитации звуков грозы, дождя, автомобильных гудков и пр.
(обратно)Note 448
Людвиг Эрхард (1897-1977) – федеральный канцлер ФРГ в 1963-1966 гг., председатель ХДС в 1966-1967 гг.
(обратно)Note 449
Речь идет о восходящем к Канту противопоставлении «гетерономии», то есть нравственности, обусловленной объективными законами, внешними причинами и чувственными побуждениями, и «нравственной автономии», основанной на внутренних законах духа. В курсе лекций «Проблемы философии морали» (1963) Адорно говорил, что считает одной из двух важнейших добродетелей современного человека «сопротивление против конкретного образа гетерономии, то есть сегодня – против многочисленных форм моральности, навязываемых человеку извне» (см.: Адорно Теодор В. Проблемы философии морали. М.: Республика, 2000. С. 194, пер. М. Л. Хорькова).
(обратно)Note 450
Опубликованном в 1966 г.
(обратно)Note 451
Сартр Ж. П. Портрет антисемита. С. 170.
(обратно)Note 452
Адорно противопоставлял принципу научной объективности, «приоритета субъекта», принцип «приоритета объекта», предполагающий «эротическое» отношение к предмету исследования. То есть Адорно хотел «восстановить в философской деятельности право на аффекты, интуицию, импульсивность и фантазийность» (Соловьева Г. Г. Современный Сократ. Путь в философию. С. 353). См. также: Слотердайк П. Критика цинического разума. С. 399-401.
(обратно)Note 453
В книге «Эрос и цивилизация» (1955) Маркузе развивал одну из главных тем фрейдизма, тему подавления цивилизацией человеческих инстинктов, и набрасывал модель нерепрессивного общества, в котором «Торжество эроса означает победу логики удовлетворения над логикой подавления» (цит. по: Реале Д., Антисери Д. Западная философия. Т. 4. С. 570).
(обратно)Note 454
Эдуард Фридрих Мёрике (1804-1875) – немецкий поэт и прозаик, автор романа «Художник Нольтен» (1832), новеллы «Моцарт на пути в Прагу» (1856) и др.
(обратно)Note 455
«Сердце тьмы» – повесть Джозефа Конрада (1857-1924), написанная в 1902 г.
(обратно)Note 456
Платообразный горный массив на юго-западе Германии (земли Гессен и Баден-Вюртемберг).
(обратно)Note 457
«Ностальгия по совершенно Иному» – под таким названием было опубликовано в 1961 г. интервью Хоркхаймера, в котором он, в частности, утверждал: «Нет абсолютной истины, а есть лишь последняя реальность, теология (я хотел бы быть понятым правильно), есть надежда на то, что, несмотря на характерную для мира несправедливость, несправедливость не сможет утвердиться в качестве последнего слова» (цит. по: Реале Д., Антисери Д. Западная философия. С. 568). В том же интервью говорится об изначально человеческом «общем интересе создать мир, в котором человеческая жизнь была бы прекраснее, продолжительнее, менее горькой и, хотелось бы добавить, да трудно в это поверить, – мир, способствующий развитию духа» (там же).
(обратно)Note 458
Слотердайк П. Критика цинического разума. С. 418 (пер. А. Пер-цева). По мнению Слотердайка, «Адорно… не доверяет идеологии победителя, говорящей о достижении более высокого в синтезе. На самом деле победы «общего» не приводят ни к какому снятию напряженности, ни к какому преодолению противоречий… Негативно понятая диалектика движется навстречу Общей Полемике, не признавая этого прямо. Если Первый – это «идеализм» властей, а Второй – это «материализм» угнетенных, то Третий, который возникает из спора между ними, – это, в принципе, опять же Первый, только гораздо худший» (там же, с. 415-416).
(обратно)Note 459
Жан Эмери (1912-1978; настоящее имя Ганс Майер) – уроженец Вены, в 1938 г. бежал в Бельгию и взял себе новое имя; потом попал в Освенцим, после освобождения остался в Бельгии и стал свободным литератором. Автор автобиографической книги «На границах сознания» (опубликована в Германии в 1966 г.), в которой исследует менталитет «еврея эпохи Катастрофы». Р. Сафрански здесь и далее цитирует работу Ж. Эмери «Жаргон диалектики».
(обратно)Note 460
Речь идет о принципе нетождественности бытия и мышления.
(обратно)Note 461
Адорно «позволил полиции очистить институт от бунтующих студентов, а позже выступил свидетелем на процессе во Дворце юстиции… Студенты превратили свидетеля в обвиняемого. Вчерашние восторженные ученики бросали колкие насмешливые реплики по поводу конформизма бывшего мэтра. Адорно покинул Франкфурт… Из Швейцарии он прислал письмо с просьбой преобразовать лекции в семинары – студенты не позволяли ему больше читать курс» (см.: Соловьева Г. Г. Современный Сократ. – В: Путь в философию. С. 352).
(обратно)Note 462
Грасс Г. Собачьи годы. (Millennium.) СПб.: Амфора, 2000. С. 498 (пер. М. Л. Рудницкого). В этой книге содержится очень много крайне оскорбительных пассажей, высмеивающих как самого Хайдеггера, так и стиль его философствования. Например: «Пес ты онтический! Кобель алеманский! Псина в вязаной шапочке и в туфлях с пряжками! Что ты с малышом Гуссерлем сделал? Что ты с толстяком Амзелем учинил? Ах ты, досократическая нацистская собака!» (с. 413); «Они сходят с поезда во Фрайбурге в Брайсгау и стучатся в двери университета. Хотя стены еще помнят эхо громовой речи, которую он произнес здесь в тридцать третьем – «Мы хотим сами себя…» – но ни в одной аудитории вязаная шапочка не висит. «Ему запрещено, потому что он…»» (с. 498); «Бытие собаки, то есть то, что она есть, означает для меня брошенность сущей собаки в ее данность…» (с. 397). У тогдашних немецких читателей не могло остаться и тени сомнения насчет того, кого именно герой романа называл «праздношатающимся на лыжах Ничто» (с. 499) и какую книгу зачитывал вслух солдатам, из-за чего те «чуть не падали под стойку и ржали до потери бытия и времени» (с. 498).
(обратно)Note 463
Русский перевод этого интервью опубликован в: Философия Мартина Хайдеггера и современность. С. 233-250.
(обратно)Note 464
Выделенная курсивом часть фразы в русском переводе отсутствует.
(обратно)Note 465
В русском переводе эта часть текста дана в ином варианте:
«Шпигель: … Ваша позиция в 1933 году определялась двумя полюсами. Первый: многое Вы были вынуждены говорить ad usum Delphini. Это был один полюс. Однако другой полюс все же содержал в себе нечто более позитивное; Вы об этом говорите: у меня было ощущение, что здесь есть нечто новое, что здесь – сдвиг.
Хайдеггер: Да, это верно. Было не так, что я говорил только для вида, я как раз видел эту возможность» (там же, с.236).
(обратно)Note 466
Мария Луиза Кашниц (1901-1974) – немецкая писательница и поэтесса, долгое время жила (и умерла) в Риме; автор поэтических сборников «Возвращение во Франкфурт» (1947), «Вечный город» (1952), «Твое молчание – мой голос» (1962), книг «Тучный ребенок» (1952), «Дом детства» (1956), «Длинные тени» (1960), «Дни, дни, годы» (1968), «Между всегда и никогда» (1971) и др.
(обратно)Note 467
Пер. (кроме выделенных курсивом строк) Н. Мавлевич. Выделенные строки она переводит:
«… в сей день, строка надежды на из сердца мыслителя исходящее слово…».Стихотворение заканчивается так:
«… Лес, пустошь, тряска, ятрышник с ятрышником, порознь, позже, в пути, проступает резкость, везущий нас, тот человек – он слушает тоже, кое-как проложены гати в болоте, влажно, топь». (обратно)Note 468
Die Vierung west als das ereignende Spiegel-Spiel der einfaltig einander Zugetrauten. Die Vierung westls das Welten von Welt. Das Spiegel-Spiel von Welt ist der Reigen des Ereignens.
(обратно)Note 469
Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый Кит. М., 1981. С. 520-521 (пер. И. Бернштейн).
(обратно)

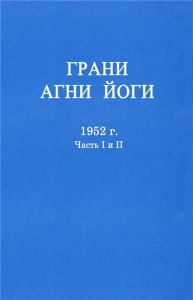
Комментарии к книге «Хайдеггер: германский мастер и его время», Рюдигер Сафрански
Всего 0 комментариев