Сергей Аванесов
Философская суицидология
Курс лекций
Лекция 1. Введение в философскую суицидологию.
Лекция 2. Общая характеристика исследовательского подхода к проблеме суицида.
Лекция 3. Природа и самоубийство: справедливая смерть.
Лекция 4. Божественность и самоубийство: "тайна вулкана, тайна мятежа".
Лекция 5. Божественность и самоубийство (окончание): тоска по страшному.
Лекция 6. Атеизм и самоубийство: amor mortis.
Лекция 7. Абсурд и самоубийство: и жертвы и палачи.
Лекция 8. Пантеизм и самоубийство: смех исчезновения.
Лекция 9. Фатализм и самоубийство: смерть вне добра и зла.
Лекция 10. Деизм и самоубийство: вечная смерть.
Лекция 11. Бессмертие и самоубийство: презрение к телу.
Лекция 12. Континуальность и самоубийство: диалектика смерти.
Лекция 13. Пессимизм и самоубийство: блаженная смерть.
Лекция 14. Автономия и самоубийство: нравственная казуистика смерти.
Лекция 15. Суицид как онтологическая деструкция личности.
Литература
Примечания
Лекция 1. Введение в философскую суицидологию
Предлагаемый курс лекций заключает в себе исследование философской суицидологии, её содержания и оснований. "Суицидология" есть термин, закрепившийся, прежде всего, в современной науке1; он обозначает такую исследовательскую "отрасль" ("дисциплину"), предметом которой является самоубийство. До тех пор, пока суицидология остаётся только научной "отраслью", в ней могут применяться лишь частные методы науки: либо в единственном числе - в границах отдельных наук (в психологии, в социологии, в медицине и т.д.), либо в сумме - в тех случаях, когда суицидология утверждается в качестве специфической научной дисциплины. Но даже и "комплексный подход" к суициду2 не открывает его сути, оставаясь способом регистрации и систематизации эмпирических причин и фактических обстоятельств самоубийства. Открыть, в чём состоит суть суицида, наука не в состоянии (по собственной ограниченной природе) и потому должна обращаться за объяснениями к философии.
Именно философия может определить, что такое суицид и, соответственно, с какой исследовательской меркой к нему надо подходить (если, конечно, имеется в виду адекватность и результативность этого подхода, а не формальная теоретико-методологическая непротиворечивость). Философская суицидология, кроме того, в силу одного лишь своего наличия утверждает неизбежную ограниченность частных методов науки (даже в их сумме) и тем самым выявляет относительность любого научного заключения на тему самоубийства. В этом смысле философия суицида (как фундаментальное познание самоубийства в его сути) необходимо предшествует всякой научной суицидологии - предшествует не только в теоретическом (логическом) измерении, но и в хронологическом (что и будет показано в настоящем исследовании). Таким образом, суицидология может быть выстроена лишь на философском фундаменте.
Термин "основания" имеет здесь двойное значение: во-первых, подразумеваются теоретические предпосылки обнаруженных проектов философской суицидологии, выявленные путём экспертизы и обобщения (что и составляет аналитическую часть нашего курса); во-вторых, имеются в виду критически осмысленные результаты применения ("работы") указанных проектов как (в свою очередь) предпосылки новой (персоналистической) теории вольной смерти (представленной здесь как авторский проект, намеченный в самых общих чертах). Отсюда проясняется и двойная направленность настоящего курса лекций: ретроспективная и перспективная. Для автора принципиально важно, что данный курс не претендует на закрытие темы, но, напротив, ищет новые импульсы для её дальнейшего освоения.
Основная проблема (может быть, точнее было бы сказать: проблематика), на выяснение и решение которой направлены усилия различных философско-суицидологических традиций, представляется следующим образом. 1. Человек есть существо мыслящее (разумное) и деятельное (творческое). Следовательно (в синтезе), человек есть свободное существо (не вещь). Смерть, очевидно, есть родовая характеристика человека. Таким образом, прежде всего в смерти человек ограничен (несвободен). Налицо противоречие: человек свободен, но человек смертен. 2. Как возможно быть (или стать) индивидуально свободным, оставаясь смертным? Не есть ли самоубийство самый радикальный (диалектический?) метод "присвоения" смерти, способ её "индивидуализации"? Не совпадают ли в самоубийстве смерть и свобода?3 3. Однако нужно уточнить: не в самоубийстве человек выступает как присваивающий смерть, но в отношении к самоубийству, ибо в акте суицида смерть присваивает человека. Таким образом, согласие с возможностью самоубийства (а для философии неважно, реализовалось ли "на практике" это отношение) может быть понято как отказ от личностного (свободного) образа бытия (т.е. от существования) в пользу деструкции личности, редукции её к безличной силе "наличного положения дел" (к субстанции, материи, необходимости, закону и т.д.), в том числе - и к самому по себе бытию или к самой по себе свободе. Несогласие с указанной возможностью удерживает личность в существовании. Повторю, что проблема самоубийства, устанавливаемая и решаемая философскими средствами, здесь только проясняется и методологически фундируется - без претензий на её окончательное снятие.
Актуальность темы (если на время отвлечься от её "вечной" актуальности) может быть обоснована по трём направлениям.
1. Культурно-мировоззренческая и социальная актуальность. Значительный рост числа самоубийств (особенно в нашей стране) указывает на значительность принципиального углубления суицидологических исследований и в то же время отмечает недостаточность их теоретического уровня и их влияния на ситуацию [см.: 33, с. 61-66]. Самоубийство остаётся одним из неустранимых симптомов социальной неустойчивости индивида и несовершенства самого общества. "Назрела необходимость проанализировать проблематику самоубийств на современном материале, чтобы эффективнее бороться с этим явлением. Нельзя откладывать выполнение этой высокогуманной исследовательской и организационной задачи. Крайне важно также изучать обстоятельства, приведшие к трагическим последствиям" [175, с. 166-167]. Мировоззренческая актуальность суицидологической тематики связана с освещением вопроса о смысле личного бытия (существования) человека в мире перед лицом смерти. "Истребление себя есть вещь серьёзная, - утверждал ещё Достоевский, - слишком серьёзная вещь, стóящая неустанного наблюдения и изучения" [95, с. 357].
2. Общетеоретическая актуальность. В разных областях гуманитарного знания в настоящее время накоплен значительный опыт теоретического осмысления самоубийства. Было бы полезно попытаться подвести некоторый совокупный итог этого осмысления. Такую возможность даёт философия (как, в определённом смысле, генерализирующий подход). "Душевные "землетрясения" и "громоотводы" социального напряжения - как часто их истинные причины скрыты для непосредственного наблюдения" [175, с. 12]. Только на уровне обобщения и усмотрения сущности можно угадывать эти "истинные причины". Поэтому философское исследование самоубийства должно быть признано чрезвычайно полезным в общетеоретическом плане и может быть востребовано частными научными дисциплинами, имеющими отношение к суицидологии.
3. Философская актуальность. Провозглашённый наиболее "передовыми" мыслителями конец метафизики вызвал процесс постепенного исчезновения человека с его проблемами как "предмета" метафизического дискурса. Антропология, теряя онтологическую глубину, всё больше эволюционирует к сумме методик: психологических, социологических, культурологических, политологических, биоэтических. Тема смерти и суицида перестаёт быть философской; во всяком случае, на сегодняшний день ясна такая тенденция. Однако ответ на метафизический вопрос о смерти может быть только метафизическим. Таким образом, исследование самоубийства, предпринятое с точки зрения внимания к основаниям человеческого бытия, оказывается сегодня очевидно актуальным. Именно такая философская актуальность и имеет первостепенное значение для автора данного курса.
Объект внимания в нашем курсе - это самоубийство. Предметом же является философский аспект суицида (иначе говоря, его суть, смысл, сущность, метафизическая причина и т.п.), представленный в различных философских теориях. Поскольку при этом суицидология не выступает исключительным предметом рассмотрения, но лишь включена в этот предмет (на правах подлежащего учёту способа осмысления суицида) и, кроме того, представляет собой поле философской деятельности самогó автора, постольку данный курс не носит однозначного историко-философского характера (хотя историко-философский момент здесь неизбежно присутствует). Таким образом, имеющие место философские концепции суицида изначально взяты во внимание не как расположенные "вдоль" времени и потому сменяющие друг друга (то есть не чисто исторически), но как "одновременно" присутствующие в философском поле и потому - как наравне участвующие в постоянно происходящем (и открытом в своей перспективе) универсальном философско-суицидологическом дискурсе.
Суть самоубийства не лежит на поверхности, как лежит перед взглядом мёртвое тело. Поэтому ни социология, ни психология, ни медицина "не удовлетворяет честных исследователей в течение вот уже целого столетия", ибо во всех этих областях знания "превалирует дескрипция" [138, с. 152]4. Очевидно, что "ни социальные, ни асоциальные условия, сопутствующие суициду, не могут выступить в качестве основополагающих причин этого явления"; поэтому необходим "анализ внутренних причин суицида" [138, с. 166], то есть его необходимого (непременного) условия5. Потребность философского рассмотрения суицида ощущают и представители современной социально-психологической суицидологии. Например, Ц.П. Короленко и Т.А. Донских подчёркивают очевидную многомерность "проблемы суицидного поведения", которая не может быть решена с точки зрения какой-либо одной из специальных дисциплин, поскольку в самоубийстве оказываются задействованными "и социальные, и психологические средовые факторы, и личность человека - его способ восприятия окружающих людей, ситуаций, собственных проблем, особенности мотивационных подходов, система жизненных ценностей, жизненный опыт, характер воспитания, способы преодоления трудностей и многое другое" [135, с. 124]. Философия как раз и может претендовать на экспликацию самой сути этой многомерной проблемы, не отвлекаясь на бесконечное суммирование всех актуальных и потенциальных "составляющих" указанной многомерности6.
Проблему самоубийства, таким образом, могла бы поставить и решить именно философия, которая уже не однажды пыталась сделать это, но которой (по мнению, высказанному в одной из последних по времени философско-суицидологических публикаций) "не хватало системности в изложении материала и научной определённости в раскрытии истоков феномена самоубийства" [138, с. 152]. Признáюсь, что мне, при всех моих усилиях, тоже не хватает системности, а научная определённость, видимо, и вовсе отсутствует. Надеюсь, что последнюю может заменить философская самоопределённость (которая будет заявлена в следующей лекции), позволяющая задать некоторое единое "измерение" той полифонии мнений и взглядов, которая наполняет собою область философии суицида, и, таким образом, внести в эту полифонию определённую "структурность". Для этого требуется не только внимание к указанным взглядам, но и критическое их осмысление, предполагающее обязательность более или менее ясно выраженной авторской позиции.
Степень разработанности проблемы
Тема самоубийства находится в поле внимания философии едва ли не изначально. Ставшие классическими философско-суицидологические исследования (или рассуждения) принадлежат Платону ("Федон" и др.), Лукрецию ("О природе вещей"), Сенеке ("Нравственные письма к Луцилию"), Давиду Юму ("О самоубийстве"), Иммануилу Канту ("Метафизика нравов" и др.), Артуру Шопенгауэру ("Мир как воля и представление"), Уильяму Джеймсу ("Стоит ли жить?"), Николаю Бердяеву ("О самоубийстве"), Альберу Камю ("Миф о сизифе" и др.). Нельзя обойти вниманием и связанный с осмыслением самоубийства опыт Эмпедокла, Аристотеля, стоиков, киников, Цицерона, Марка Аврелия, Монтеня, Гегеля, Гёте, Ницше, Вл. Соловьёва, Витгенштейна, Фромма, а также, безусловно, Ф.М. Достоевского, с огромной глубиной, вдумчивостью и страстью поставившего вопрос о суициде в своих произведениях. Достойны внимания в этом отношении и литературные опыты Уильяма Шекспира, Фридриха Гёльдерлина, Стефана Цвейга, Франца Кафки, Леонида Андреева, Марка Алданова, Андрея Платонова и Владимира Набокова.
В современной исследовательской литературе проблема самоубийства, как правило, лишь намечена в перспективе активно становящейся философии смерти. Общие вопросы танатологии подняты и исследованы в философской монографии А.В. Демичева "Дискурсы смерти" (СПб., 1997) и в его же докторской диссертации "Философские и культурологические основания современной танатологии" (1997); в книге С. Рязанцева "Философия смерти" (СПб., 1994), имеющей характер не исследования, а обзора; в кандидатской диссертации О.М. Борецкого "Конечность человеческого бытия как проблема мировоззрения" (1989); в докторской диссертации М.А. Шенкао "Смерть как социокультурный феномен" (1999), посвящённой разбору способов представленности смерти в менталитете; в работах Филиппа Арьеса, О.Л. Абышко, Т.В. Артемьевой, А.В. Гнездилова, С.А. Исаева, К.Г. Исупова, Б.В. Маркова, О.А. Новиковой, В.Л. Рабиновича, С.Ф. Рашидова, В.Ш. Сабирова, Л. Седова, А.К. Секацкого, В.И. Стрелкова, Т.М. Титаренко, Н.И. Трубникова, А.Н. Чанышева, Е. Шифферса и др. Исследовательский интерес к проблеме смерти и умирания обозначен такими событиями, как регулярный выпуск философского альманаха "Фигуры танатоса" (СПб., 1991, 1992, 1993, 1995, 1998) и международные танатологические конференции на философском факультете Санкт-Петербургского университета.
Нельзя не отметить ту значительную роль, которую играют в современной танатологии сочинения таких философов, как Жорж Батай ("Слёзы Эроса"), Морис Бланшо ("Смерть как возможность", "Опыт-предел"), Жак Деррида ("Дар смерти", "Апории"), Александр Кожев ("Идея смерти в философии Гегеля"), Габриэль Марсель ("К трагической мудрости и за её пределы"), Жан-Поль Сартр ("Бытие и Ничто"), Мартин Хайдеггер ("Бытие и время"), Владимир Янкелевич ("Смерть"). При обращении к проблеме самоубийства невозможно оставить без внимания эти сочинения.
В то время как в отечественной философской танатологии наконец-то наметился переход от "этапа недифференцированной всеядности" [89, с. 6] к этапу серьёзной концептуализации, в суицидологии всё ещё продолжается эпоха дескрипций, рубрикаций и популяризаций, далёких, к тому же, от какой бы то ни было философии. Оставляя без внимания всяческие "энциклопедии" самоубийства, можно упомянуть лишь одну книгу, претендующую на близость к философской позиции - "Эстетику самоубийства" Л. Трегубова и Ю. Вагина (Пермь, 1993). Правда, указанная книга имеет лишь "достоинства информационного характера", предлагая при этом "своеобразную форму защиты суицида как одного из способов гармоничного завершения жизни"; у авторов книги суицид выглядит исключительно "героически" [138, с. 164] и потому в конечном счёте беспроблемно. Ещё более героически он выглядит в книге покойного7 Григория Чхартишвили "Писатель и самоубийство" (М., 1999), где собраны самые разнообразные сведения о самоубийцах, воспроизведены некоторые теоретические программы и предложена собственная (крайне благосклонная) точка зрения на суицид. К философии эта беллетристическая "энциклопедия литературицида" имеет очень отдалённое отношение (хотя, по принципу тотальности охвата темы, она включает в себя и отдел о философии самоубийства, местами не лишённый критического изящества). Книга Ирины Паперно "Самоубийство как культурный институт" (М., 1999), производящая чрезвычайно приятное впечатление богатством эрудиции и живостью мысли, приближается к философичности лишь локально - в рамках главы о Достоевском.
Тема философского анализа самоубийства присутствует в трудах Ю.Н. Давыдова "Этика любви и метафизика своеволия" (2-е изд., М., 1989), где речь идёт лишь о развитии этой темы у Достоевского и Камю, В.И. Красикова "Явь беспокойства" (Кемерово, 1998), где анализ суицида чрезвычайно поверхностен и слаб, а также в недавно опубликованных статьях И.И. Евлампиева "Кириллов и Христос" (Вопросы философии, 1998) и А.К. Судакова "Любовь к жизни и запрет самоубийства в кантианской метафизике нравов" (Вопросы философии, 1996). Философия самоубийства заявлена в статьях И.П. Красненковой, В.М. Розина и Б.А. Старостина, вошедших в сборник Института философии РАН "Идея смерти в российском менталитете" (СПб., 1999); при этом лишь статья И.П. Красненковой ("Философский анализ суицида") расположена в философском поле (несмотря на совершенно излишние социологические отвлечения); произведение В.М. Розина имеет очевидный социально-психологический характер, а замечательная статья Б.А. Старостина посвящена прежде всего анализу культурной и литературной ситуации в России начала ХХ века. Однако специальные работы по философской суицидологии в точном смысле этого термина совершенно отсутствуют.
Социально-психологические аспекты суицида рассмотрены в работах Эмиля Дюркгейма, П.Ф. Булацеля, М. Губского, А.В. Лихачёва, Н. Мухина, П. Ольхина, Л.К. Шейниса, а в наше время - в исследованиях А.Г. Амбрумовой, Л.Л. Бергельсона, И.Б. Дермановой, Т.А. Донских, Ц.П. Короленко, С.Г. Смидович, В.А. Тихоненко. Культурно-антропологические и этнографические измерения самоубийства представлены в трудах Марселя Мосса, В.Г. Богораза, Д.К. Зеленина. В современной литературе всё большее развитие получает изучение такой близкой к интересам суицидологии темы, как эвтаназия. Среди наиболее известных исследователей этой проблемы могут быть названы Дерек Хамфри и Филиппа Фут; в отечественной традиции - С.Ю. Быкова, Б.Г. Юдин. В области философии поступка, наряду с известной работой М.М. Бахтина, надо отметить книгу Г.Л. Тульчинского "Разум, воля, успех" (Л., 1990) и статью А. Гусейнова "Структура нравственного поступка" (сб. "Структура морали и личность", М., 1977). Значительный вклад в изучение историко-культурных и историко-философских вопросов, имеющих прямое отношение к выяснению оснований человеческого восприятия смерти и самоубийства, внесли С.С. Аверинцев, А.В. Ахутин, Виктор Ерофеев, А.Ф. Лосев, В.К. Шохин.
Итак, философская суицидология, будучи заключённой в недрах философии, всё ещё ожидает своего действительного рождения. Необходимо поспособствовать этому событию, совершив своеобразную "майевтическую" операцию. Данный курс лекций можно рассматривать в качестве одного из элементов такой операции.
Цель настоящего курса заключается в том, чтобы, опираясь на философскую методологию и учитывая опыт философского осмысления феномена самоубийства, построить и продемонстрировать теоретическую модель суицида, учитывающую онтологические параметры человека и, таким образом, репрезентирующую самую суть этого феномена.
В связи с решением поставленной проблемы и для достижения обозначенной цели необходимо выполнить следующие задачи:
Обнаружить и представить суицидологические программы в философии.
Выявить связь между философскими принципами и суицидологическими положениями представленных программ.
Эксплицировать те базовые философские установки, на основании которых суицид может быть (или не может быть) "размещён" в бытии.
Выстроить дискурс философской суицидологии (диалог философских концепций, логику этого диалога).
Критически оценить возможности обнаруженных программ с точки зрения подтверждения/отрицания специфики человеческого бытия как существования.
Наметить перспективы развития философской суицидологии (имея в виду не прогноз, а конкретное предложение).
Из формулировки цели и задач курса ясно, что генеральная установка, принятая автором, состоит не в том, чтобы закончить философский разговор о суициде, а в том, чтобы продолжить его - может быть, на новых основаниях, но при помощи тех, кто уже высказался на эту тему. Иначе говоря, я хочу связать имеющиеся в наличии философские реплики по поводу суицида, чтобы вышел более-менее связный суицидологический дискурс8. При таком подходе неявная полемика философов и философий по поводу вольной смерти обнаружила бы своё подлинное содержание; более того, удалось бы выяснить, насколько обнаруженный универсальный философско-суицидологический дискурс действительно полемичен в себе самом. Так поставленная цель обусловила собой преимущественно диалогический характер самого курса лекций. Такой характер, как представляется, позволяет избежать предвзятости (насколько это вообще возможно, так как ясно, что предполагаемая связность во многом задаётся именно единством авторского взгляда на суть дела) и, образно говоря, "выслушать все заинтересованные стороны" (что крайне необходимо при рассмотрении такой экзистенциально значимой темы, как суицид). Кроме того, у самогó автора всегда сохраняется возможность конструктивного вмешательства в "беседу", возможность реализации своего права на заинтересованное участие9.
Важно уточнить, что речь здесь не идёт о том, чтобы все (или некоторые) подобранные и подлежащие рассмотрению философско-суицидологические "программы"10 подвергнуть отрицанию как теоретически негодные или ложные. Речь о том, чтобы адекватно воспроизвести содержание этих программ и вывести на обозрение их философские основания. Я не могу сказать, что в этих программах (по своим основаниям не совпадающих с моей) суицид представлен неверно; напротив, я убеждён в том, что он действительно есть то, что о нём в них сказано; я лишь беру на себя смелость показать, почему он представлен именно в этих концепциях именно так. Более того (скажу, забегая несколько вперёд), приступая к анализу суицидологических концепций в философии, я (по привычке) ожидал встретить полемику философов и философий по поводу самоубийства; но, как оказалось, по сути дела никаких противоречий в философской суицидологии нет. Если и имеет место дискуссия, то лишь по поводу философских оснований суицидологии, но никак не в отношении самого суицида, о котором все, несмотря на различие теоретических платформ, говорят удивительно согласно.
Методологическая основа построения курса лекций задана единством авторской радикально теистической мировоззренческой установки, выражающей себя в сочетании и взаимном дополнении двух философских традиций: экзистенциализма и персонализма.
1. Экзистенциализм (апофатически определённый метод). Исходной методологической посылкой и непременным условием понимания человека является в данном курсе понятие существования, противопоставленное понятию сущности. При этом сам термин "экзистенциальный" означает здесь "имеющий в виду существование" (как в утвердительном, так и в отрицательном смысле; так в эстетике двояко присутствует/отсутствует прекрасное и так в этике дано/не дано благое). Экзистенциальная философия основана на отрицании сущности человека как данного (предметного). Человек, согласно этой философии, есть преодоление себя, трансцендирование наличного, выход-за. Однако антропология экзистенциализма, оставаясь чисто негативной, демонстрирует тем самым свою ограниченность. Если утверждение о том, что сущность предшествует существованию, есть одна крайность, то и положение о том, что существование предшествует сущности, есть другая (ничуть не более достойная) крайность. Отрицая данность, экзистенциализм отрицает и заданность (то есть ценность, должное, ориентацию), устанавливая такое положение как закон (очередной закон человеческой природы) и тем самым возвращая отрицаемую им метафизику эссенциализма под другим именем и видом11. Поэтому для исследования всего комплекса вопросов, связанных со смертью человека, требуется катафатическая достройка (реконструкция) экзистенциализма.
2. Персонализм (катафатически определённый метод). Персоналистическая философская позиция настаивает на учёте самогó субъекта трансценденции, сохраняя и не растворяя его в акте трансцендирования12. При этом человек, превосходящий наличное, утверждается как личность, то есть как совершающий это превосхождение не вслепую и не (в той или иной степени) пассивно, но сознательно и целеустремлённо. Последнее обеспечивается через принятие таких "ориентиров", как идеал, ценность и норма. Аксиологически ориентированное бытие человека только и может быть названо существованием в подлинном смысле. Поскольку же так определённое подлинное существование (не-сущность) предстаёт как истинное трансцендирование наличного, постольку оно должно быть утверждаемо лишь как бытие личности к трансцендентному сверх-сущему, то есть к Богу13 (более подробная развёртка этой мысли представлена во второй лекции).
Приближение к так обозначенной методологической позиции достигается через вчитывание в труды Сёрена Кьеркегора ("Страх и трепет", "Понятие страха", "Болезнь к смерти", "Или-или"), Льва Шестова ("Афины и Иерусалим", "На весах Иова", "Киргегард и экзистенциальная философия", "Умозрение и апокалипсис" и др.), Николая Бердяева ("О рабстве и свободе человека", "Опыт эсхатологической метафизики" и, конечно, "О самоубийстве"), Эмануэля Мунье ("Надежда отчаявшихся", "Персонализм"), Николо Аббаньяно ("Позитивный экзистенциализм", "Метафизика и экзистенция", "Экзистенциализм как философия возможного"), Николая Лосского ("Ценность и бытие", "Свобода воли" и др.), Михаила Бахтина ("К философии поступка"). Необходимо отметить и значительную роль произведений Ф.М. Достоевского в формировании указанной позиции.
Итак, самоубийство будет рассмотрено здесь философски, а именно в плане аксиологически (катафатически) ре-конструированной экзистенциальной (апофатической) философии. Иначе говоря, предмет исследования будет подвергнут анализу с точки зрения значения, являющегося определяющим и для теоретического усилия, и для практически ориентированной (активно предпочитающей) воли. При этом надо сказать, что в процессе исследования духовных аспектов вольной смерти автор избегал углубления в теологическую проблематику ("теологическую" в том самом значении, которым современные отечественные профессиональные философы пугают друг друга) - отчасти для того, чтобы соблюсти философскую "чистоту" и хоть какое-то подобие методологического единства курса, отчасти из-за недостатка профессиональной компетентности в теологических вопросах (тем более что примеров некомпетентных и потому беспомощных "рассуждений" на религиозно-богословские темы в современной отечественной философии и околофилософской танатологии и так более чем достаточно). Это не значит, что здесь будут отставлены в сторону вопросы об "отношениях" человека и Бога (без анализа таких "религиозных предметов", как грех и надежда, суицидологическое исследование оказалось бы несостоятельным). Область этих отношений осваивает (в православной традиции) особая теоретическая дисциплина, которая, в отличие от собственно теологии, именуется "икономией" (οικονομια). "Икономическая" позиция позволяет избежать суждений о "Боге самом по себе" и, в значительной степени, о содержании эсхатологической части догматики, оставив в поле внимания лишь настоящее (то есть нынешнее, не-идеальное) экзистенциальное положение человека14.
"Любая серьёзная философская мысль, - утверждает А.В. Михайлов, - заключает в себе теологические импликации", и потому она есть в известном смысле "богословие" [257, с. 142]. Философская мысль, склоняющая своё внимание к такой проблеме, как самоубийство, обязана быть серьёзной, дабы "обсуждение вещей духовных и жизненных" не превратилось в "интеллектуальный парад" [12, с. 8], в своего рода "игру в бисер". В серьёзности экзистенциальной философии нет причин сомневаться. Поскольку же "экзистенциальная философия вообще выросла на почве определённого восприятия христианства", постольку, как считает Отто Больнов, "в целях её лучшего понимания зачастую оказывается полезным осветить экзистенциально-философские понятия через соответствующие христианские понятия, из которых они произошли, и в этом смысле занятость существованием можно понимать исходя из заботы о спасении души" [42, с. 35]. Так, например, идея "трансценденции", согласно которой "человек больше чем разумное существо" и "человек есть нечто перехлёстывающее через себя", по Хайдеггеру, "имеет свои корни в христианской догматике" [252, с. 49]. Не углубляясь специально в собственную область теологии, автор заботился лишь о том, чтобы не остались забытыми эти религиозные истоки экзистенциализма15. Отсюда и необходимость (в определённых случаях) обозначения демонстрируемых мировоззренческих установок через термины "теизм", "деизм", "пантеизм" и "атеизм".
Аксиологически ре-конструированная экзистенциальная философия есть персонализм как нормативная онтология (философия поступка, или метафизика деятельности). Речь, следовательно, должна идти о "ценностной метафизической реальности" [231, с. 61], о рассмотрении суицида в координатах нормативной онтологии. Такого рода подход представляет собой, если можно так сказать (перефразируя Эриха Фромма), метафизику человеческой конструктивности. Метафизику обычно склонны рассматривать как учение о мире в целом16. Это определение может нас устроить лишь при одном уточнении: для метафизики мир как целое выступает исключительно в качестве проблемы. Итак, метафизика есть такая философия, которая способна поставить под вопрос мир как целое, способна спросить о целом мира. Самоубийство, как крушение бытия в мире, предполагает применение к себе метафизического исследовательского подхода. Желая обозначить те регионы философии, к которым суицидология (а значит, и данный курс лекций) имеет отношение, мы могли бы назвать философскую антропологию, метафизику и этику17; именно эти дисциплины связывает и отчасти соединяет в себе философская суицидология, выступающая, таким образом, в качестве метафизики человеческого поступка как нормативной онтологии.
Философское рассмотрение суицида требует от рассматривающего дать ответ на два взаимосвязанных вопроса: кто совершает самоубийство, что совершается в самоубийстве. Иначе говоря, изначально речь заходит об агенте вольной смерти (о "суициденте") и о том, что с ним происходит (ибо вопрос о "что" самоубийства есть вопрос о происходящем с самоубийцей). Суицид совершает человек; суицид есть событие в человеческом бытии; значит, вопрос об агенте самоубийства есть в первую очередь вопрос о человеке в совокупности его специфических бытийных характеристик (таких, как "личность", "существование", "свобода", "дух"). Однако не всякий человек (не человек как таковой) a priori может быть назван суицидентом (даже в потенциальном смысле); значит, вопрос об агенте самоубийства есть также вопрос о том, какой человек является таким агентом; иначе говоря, это вопрос о тех акцентуациях или, напротив, деформациях указанных специфически человеческих характеристик, которые могут привести к суициду. Так вопрос о суициденте тесно увязывается с вопросом о том, что с ним происходит.
В свою очередь, под "происходящим" имеется в виду не то, что происходит с человеком в результате самоубийства (это вопрос скорее богословский, чем философский), но то, что должно происходить с человеком для того, чтобы самоубийство произошло как результат этих происшествий. Специфика философского освещения этого вопроса заключается в сосредоточении внимания на метафизическом измерении указанных происшествий, а не на внешне регистрируемых обстоятельствах и симптомах (которые являются предметом социологических или психологических исследований). Точнее говоря, философию может занимать поиск необходимого условия самоубийства, но не его достаточных оснований. Всё, что касается "возможности" суицида и его "причин", для философской суицидологии связано именно с выявлением такого необходимого условия.
В каком мире расположен человек, располагающий в этом же мире и суицид как один из пунктов собственной "активности", и каков мир человека, не допускающего себя к самоубийству? Чем различаются (если различаются) бытие, имеющее в виду самоубийство, и бытие, не имеющее его в виду? Что значит суицид принятый и суицид отвергнутый? На каком основании совершается это принятие или отвержение? Эти вопросы неизбежно оказываются в поле внимания философии самоубийства. Таким образом, философская суицидология стягивает к себе метафизическую, онтологическую и аксиологическую проблематику. Поскольку же в центре этой проблематики стоит человек, постольку проблема суицида проясняется как центральная проблема антропологии, как "ядерный элемент системы человековедения" [17, с. 13]18.
Так эта проблема и осмыслена в данном курсе лекций, руководимом в своей архитектонике следующей логикой. Открывается курс характеристикой той авторской философско-методологической позиции, с которой и предпринимается экспертиза суицидологических проектов в философии. Аналитическая (основная) часть курса выстроена особым образом. Тематика этой части содержится в переходах от концепции к концепции (как в знаменной нотации); поэтому получается, что философско-суицидологические программы "наброшены" на стержневую линию рассуждения с некоторым "смещением" вдоль неё. Сама указанная линия не является прямой, но регулярно замыкается на инвариантную идею бытийной автономности (монизма). Логика курса задаётся не порядком перечисленных выше задач, а последовательным и взаимодополнительным выявлением разных точек зрения на одни и те же вопросы, указывающие на основания философии суицида. Эта последовательность такова.
Вопрос о совершающем самоубийство (если он поставлен метафизически) оказывается прежде всего вопросом о человеческой природе. Полагаемая в человеке природа (которая может мыслиться лишь как универсальная сущность) сообщает человеку "божественный" статус. Однако для личности такой её универсальный статус может быть реализован лишь через полное самоотрицание (через растворение личного в наличном). Из этого обнаруживается абсурдность всякой жизненной "программы", в конечном итоге лишь воспроизводящей исходное положение дел. Отрицание смысла жизни выражается как абсолютный фатализм (исключение модуса свободы из бытия), проведённый в форме господства всегда наличного порядка (неважно, закона судьбы или закона случайности). Человек может смягчить давление фатальности через "принятие" этого порядка и "участие" в нём, вплоть до полагания тождества "вечного" закона и "бессмертной" души. Такое тождество возможно лишь при континуальном устройстве бытия, иными словами, при его диалектичности. Но такая универсальная "синтетическая" диалектика предстаёт в конце концов как сама на себя замкнутая и себя отрицающая сила (называть ли её "разумом", "волей" или "практическим разумом"), способная только аннигилировать. Так последовательно проясняется необходимое условие самоубийства.
Динамика развития дискурса "вдоль" главной исследовательской линии осуществляется через такие категории, как "природа", "божественность", "пантеизм", "атеизм", "абсурд", "фатализм", "деизм", "бессмертие", "континуальность", "пессимизм", "автономия". Эти категории задают устойчивые координаты для суицидологического исследования, удерживая его в рамках конкретности и конструктивности и, с другой стороны, позволяя ему соотносить себя с широким контекстом общефилософской проблематики.
Лекция 2. Общая характеристика исследовательского подхода к проблеме суицида
Самоубийство может быть предварительно определено как сознательное, свободное, целенаправленное и самостоятельно осуществлённое достижение человеком смерти. Сознательность, не-принудительность и автономность действия в совокупности характеризуют это действие как поступок. Итак, самоубийство (если исходить из данного определения) есть поступок, целью которого является смерть. Важно уточнить, что смерть есть не результат, а именно цель самоубийства. С одной стороны, смерть может оказаться результатом любого поступка, с другой стороны, в результате суицидного деяния смерть может и не наступить (и тогда мы должны будем сказать, что самоубийство происходило, но не произошло). Смерть является главным двигателем воли в самоубийстве, выступая тем самым как его "целевая причина"19.
Самоубийство в качестве предмета исследования обозначено в настоящем курсе как вольная смерть. Нельзя назвать эту смерть добро-вольной, ибо слишком очевидны положительные моральные и аксиологические коннотации, связанные с таким именованием. Назвав суицид "добровольной смертью", мы употребили бы термин, содержащий в себе строго определённое (исключительно позитивное) оценочное суждение. Однако такое суждение может быть только выводом, и потому не должно содержаться в обозначении предмета исследования (дабы неявно не предвосхищать этот вывод). Далее, невозможно наименовать такую смерть и само-вольной, поскольку в этом термине содержится слишком однозначное указание на сущность суицида как такого акта, в котором индивидуальная воля действует свободно и автономно. Однако свобода воли человека в акте самоубийства может быть изначально положена суицидологией лишь как проблема, требующая решения, поскольку, до всякого исследования, можно представлять суицид и как демонстрацию полной зависимости этой воли (например, от обстоятельств, не говоря уж о мистической зависимости). Поэтому мы и не имеем оснований заранее именовать самоубийство "самовольной смертью".
Более удачным видится поэтому применение термина "вольная смерть". Здесь нет ни однозначной оценки, ни априорного указания на сущность. Такое наименование, с одной стороны, указывает на волевой характер самоубийственного действия (то есть обозначает суицид как некое "предприятие"), с другой стороны, оставляет пока что открытым вопрос о действительной причине (необходимом условии) этого поступка. Тем самым и формально задаётся предмет исследования, и освобождается (размыкается) перспектива этого исследования. Содержится в указанном наименовании и некоторый образ самоубийства, не несущий предварительных и однозначных аксиологических или метафизических нагрузок: суицид есть осуществлённая (актуализированная) смерть, торжество небытия, вступление ничто в полное распоряжение индивидуальным бытием, смерть на воле.
Поскольку самоубийство есть (по номинальному определению) поступок и поскольку поступать свойственно личности, постольку надо рассматривать его прежде всего на основе внимания к личному бытию как бытию-действию20, то есть в горизонте персонализма как нормативной онтологии.
Сам термин "онтология" ("онтологический") указывает на такое бытие, которое имеет себя в виду. "Иметь себя в виду" не совпадет по смыслу с "осознавать себя" или с "рефлексировать над собой". Сознание (осознание) есть способ схватывать, удерживать и иметь в распоряжении; иными словами, это способ полагания наличным. Осознанное бытие всегда уже "здесь", всегда уже "так" и, следовательно, оно есть тотальность, заключающая в себе своё собственное начало и свой собственный конец, которые открываются тому, кто пристально вглядывается в это осознанное21. Рефлексия означает оборот на себя, при котором обнаруживается в наличии предмет этой рефлексии; но в предметности опять-таки оказываются схваченными все измерения бытия как наличные22, а всё остающееся за скобками рефлексии (в том числе и сам её субъект) неявно отрицается как ничто. "Иметь в виду" означает трансцендировать, выступать из самотождества, существовать. Существуют же всегда "поверх" осознанного, за него и даже вопреки ему. "Онтологическое", таким образом, есть свидетельство личного бытия, которое лишь отчасти (да и то на этапе своего нисхождения) может выражаться через сознание или рефлексию.
Так понимаемое "онтологическое" необходимо противопоставить онтическому. "Онтическое" означает безусловно и бесконечно равное себе бытие, бесконечность и безусловность которого фундированы неспособностью выйти за собственную наличность. Эта неспособность выхода-за предоставляет сущему знать "иное" только как чужое себе (либо расположенное здесь же, либо не расположенное нигде), но не как своё иное, трансцендирующее любую установленную расположенность. Следовательно, сознание и рефлексия сами по себе суть способы закончить личное бытие, берущие начало в нём, но ведущие к онтическому, к налично сущему. Осознание (схватывание), конечно, не есть схваченность, присущая бессознательно сущему (вещи); однако в качестве акта, приводящего к схваченности сознающего содержанием его собственного сознания, оно угрожает переводом существующего в вещное. Сознающий (homo sapiens) есть тот, кто и распоряжается, и имеется в распоряжении. Такая-то позиция и оказывается чреватой самоубийством (крайней степенью распоряжения). Ни вещь (бессознательное), ни личность (сознательно-сверхсознательное) бытийно не стоят в такой позиции; лишь перевод онтологического в онтическое подводит человека к суициду как его собственной возможности. Итак, чистое знание есть то, что полагает однозначность и окончательность данного (онтически наличного) и тем самым закладывает основание для радикального распоряжения собой.
Разведение онтического и онтологического23 может быть укреплено различением идеи и идеала. Идея (ειδος) выражает собой пассивность, данность, абстрактность, безразличие, наличность, повторение, закон, природу. Это уровень бытия индивида, сфера жизнедеятельности. Идеал выражает собой активность, за-данность, конкретность, ценность, возможность, достижение, свободу, норму. Это уровень бытия личности, сфера поступка. "Идея" указывает на ноуменальное как эйдетически данное, "идеал" - на трансцендентное как деонтологически заданное. Идея распоряжается тем, для чего есть то или иное "что"; идеал распоряжается тем, во имя чего то или иное "что" для чего-либо есть. Согласно теистическому (радикально персоналистическому) взгляду на мир, всякое отдельное сущее в этом мире "имеет место сначала для своего собственного акта-операции, для ближайшей цели" [24, с. 28]; высшая же цель всех сущих есть осуществление заданного "соборного совершенства тварного мира", такого его "богоподобия", которое совершается как деятельное участие всей твари "в общем домостроительстве Божественной Премудрости" [24, с. 28-29]. Эта со-деятельно достигаемая соборная "космическая литургия" и представляет собой идеальное бытие24.
Различив идею и идеал, эйдетическое и идеальное, мы сможем открыть пространство для свободы в её самом радикальном значении - как способа действительного трансцендирования наличного состояния бытия (иными словами, как такого модуса бытия бытийствующего, которым выражается его способность творчески превосходить данное к заданному, то есть не аннигилировать это данное25, а сублимировать его26). Слияние же идеи с идеалом закрывает пространство для свободы. Эйдос не отпускает от себя, его распоряжение осуществляется как необходимость. Идеал есть онтологический ориентир (символ), его распоряжение осуществляется как предложение свободного возрастания в свой за-данный образ.
Указанное различение идеи и идеала точнее всего прописано именно в религиозной (христианской) доктрине. Человек в его существовании замыслен "по образу и подобию" Творца (Быт 1:26). При этом "образ есть нечто данное нам, подобие есть то, кем мы должны стать" [34, с. 304]. Поэтому прямое и фактическое Божественное участие распространяется только на сотворение "по образу" (Быт 1:27), подобие же созидается и поддерживается в совместном Бого-человеческом (со-деятельном, синергийном) усилии. Если бы творческое дело Божие в его личном отношении к твари принципиально ограничилось одним "образом" (то есть было бы исчерпано указанной фактичностью), человек остался бы только вещью (любая степень "совершенства" которой оказалась бы только навязанной извне данностью); задание идеала как "логоса" [3, с. 52] открывает перед человеком перспективу свободного становления, пред-полагая и вещность, и личность в качестве ничем не гарантированных возможностей27. Образ Божий есть идея человека (сущность, данное): "всякий человек". Подобие Божие есть идеал человека (норма, задание): не всякий человек соответствует замыслу Божию о нём, не всякий сверх данного образа во-ображается в за-данное. Образ Божий изначально дан ("присущ") человеку; подобие Божие в человеке "созидается" в синергийном "обожении по благодати" [165, с. 283].
В философии пока, к сожалению, недостаточно чётко разведены идея и идеал. Даже если интуитивно и улавливается отличие идеального от эйдетического, то терминологически это различие не оформлено. Например, Н.О. Лосский, очевидно имея в виду идеал, всё же постоянно употребляет термин "идея": первоначальная "мысль Творца" об индивиде есть "идея его сущности" [165, с. 279] (хотя надо было сказать: идеал его существования); "индивидуальная идея есть не природная, а нормативная сущность деятеля: он может свободно принять её к руководству и осуществлению, но может и отвергнуть реализацию её" [165, с. 279]. Ясно, что речь идёт именно об идеале, но терминология ещё остаётся эйдетической, эссенциальной. Н.О. Лосский находится в самом начале пути к терминологической оформленности указанного различия; тем не менее, как на неоспоримую его заслугу надо указать на именование идеала "нормативной идеей" в противоположность "общей идее", господствующей в чисто природном бытии. Каждому из "субстанциальных деятелей" изначально присуща "индивидуальная нормативная идея Божия". Только в состоянии отпадения об Бога (онтологической изоляции, автономности) "индивидуум утрачивает возможность выявить свою индивидуальность во всей полноте и низводит свою жизнь на степень реализации общих идей, временно превращая себя в экземпляр того или другого вида" [165, с. 283].
Карл Ясперс категорически различает идею и идеал; правда, при этом он меняет местами содержание этих терминов. "Нечто совершенно иное, чем идеал, - идея", - справедливо утверждает он [292, с. 453]. Мы бы сказали, что именно идеал (в отличие от всегда статичного эйдоса) "побуждает к развитию, но не даёт завершения"; у Ясперса же это сказано об идее. "Идеала человека не существует, но существует идея человека", - пишет Ясперс [292, с. 453], хотя надо было бы сказать наоборот: человек существует только к идеалу, а по идее он не существует, а есть. "Всякий идеал человека невозможен, - заявляет Ясперс (путая идеал с эйдосом), - потому что человек не может быть завершён. Совершенного человека быть не может" [292, с. 453]; поэтому и возможна речь только о сублимации, обожении, синергии, идеале (а не идее). "Опасность для человека заключается в самоуверенности, будто он уже есть то, чем он мог бы быть. Тогда вера, исходя из которой он находит путь для реализации своей возможности, становится обладанием, завершающим его путь, будь то из высокомерия моральной самоудовлетворённости или из гордости, основанной на врождённых качествах" [292, с. 453]. Всё это и происходит как раз в том случае, когда идеал заменяется эйдосом.
Бытийное господство образа (эйдоса) и исключение подобия (идеала) меонизирует личность, редуцируя её до статуса материала для осуществления изначально данной идеи. "Так дело доходит, - пишет Хайдеггер в "Преодолении метафизики", - до безраздельного господства единственно определяющего вопроса: каков тот образ, которому призван соответствовать человек? При этом "образ" мыслится неопределённо метафизически, т.е. платонически как то, что есть и изначально определяет собой всякую традицию и всякое развитие, само оставаясь от них независимым. Это априорное признание "человеческого образа" ведёт к тому, что бытие ищут прежде всего и исключительно в его сфере, а самого по себе человека рассматривают как человеческий материал, как всегдашний μη ον по отношению к ιδεα" [253, с. 186].
Подчинение личности чину, установленному той или иной формулой (схемой) как общей идеей ("хотя бы и свыше данной"), - пишет Флоренский, - всегда оказывается "уничтожением единственности и незаменимости личности" (то есть её конкретности), её "безусловной ценности" [248, с. 231]. Ведь отличие личности от безличного живого существа состоит именно в её свободе, "в пребывании выше всякой схемы". Личность, бесспорно, несёт в себе аксиологически основанную динамичность: она "может и должна исправлять себя, но не по внешней для неё, хотя бы и наисовершеннейшей норме, а только по самой себе, но в своём идеальном виде" [248, с. 231]. Иначе говоря, совершенствование личности задаётся не родовой идеей (которая вообще ничего не может задать), а конкретным идеалом, который "имеет в виду" совершенство именно вот этой личности, а не какое-то абстрактное совершенство вообще28. Заданное человеку (идеал) не отрицает самогó того субъекта, которому идеал задан. Осуществление человеком заданного ему реализует идеал как "другое тому же сáмому" [37, с. 101]. Достигающий идеала всегда "не другой самому себе" [37, с. 98] и всё же совершенно иной.
Человек как личность, по утверждению Н.А. Бердяева, "ни в коем случае не есть готовая данность, она есть задание, идеал человека"; поэтому понятие личности "есть категория аксиологическая, оценочная" [36, с. 13]. Категория, получившая аксиологическое измерение, есть экзистенциал. "Бытийные черты" того, что Хайдеггер называет "вот-бытием", то есть его "экспликаты", как раз и именуются "экзистенциалами". Их надо отличать от определений сущего в наличии, которые именуются категориями [252, с. 44]. "Экзистенциалы и категории суть две основовозможности бытийных черт. Отвечающее им сущее требует всегда разного способа первичного опроса: сущее есть кто (экзистенция) или что (наличность в широчайшем смысле)" [252, с. 45]29. Все экзистенциалы, как представляется, указывают на одно и то же - на аксиологически ориентированное бытие, как-именно-бытие, только в разных его аспектах. Эти экзистенциалы таковы: "личность", "трансценденция", "свобода", "идеал", "дух", "надежда" и, конечно же, "экзистенция" ("существование"). Но идеал в речи и на практике всё ещё может неоправданно заменяться эйдосом. Последствия такой замены (или неразличения) в общем выражаются как потеря трансценденции, как перевод вопроса о "кто" в вопрос о "что". Если, например, свобода обращается из "как-именно" в чистое (дезориентированное) "как", она оказывается субстанцией, тем самым переставая быть свободой в экзистенциальном (а не категориальном) смысле30. Существование таким же образом может исказиться в развитие. Так всякий экзистенциал превращается в категорию, если он теряет своё аксиологическое измерение31.
Идеальное, в отличие от эйдетического, стимулирует бытийный динамизм, выступая в праксиологическом отношении как должное. "Сторонник свободы, - пишет Н.О. Лосский, - усматривает выше области фактов и наличного течения событий сферу идеала и идеального существования. Имея в виду идеал, человеческое я способно к специфическому переживанию "я должен", которое может идти вразрез с налично осуществлённою действительностью, т.е. с реальным бытием, с природою и упрочившимися тенденциями её проявлений. В самом деле, то, что я признал своим долгом, может противоречить моей природе, т.е. моему эмпирическому характеру, может противоречить строю общества, в котором я живу, и даже окружающей меня материальной природе; тем не менее, считая себя существом свободным, я не поддаюсь природе и во имя долга стремлюсь всеми разумными способами творчески преодолеть строй сущего" [166, с. 508]. Таким образом, необходимо чётко установить здесь этот деонтологический (нормативный) характер идеального.
Понятие нормы выражает собой "ту или другую сторону требований идеала" и предстаёт для личности как ей заданное (но не предстоит как данное ей). "Норма отличается от закона природы тем, что может быть нарушена или даже никем в действительности не осуществлена" [166, с. 509]; в этом и состоит отличие нормы (должного) от всего имеющегося в наличии и требующего лишь повторения (воспроизведения). При этом в отношении нормы личность всегда остаётся свободной. Не существует нормы (заповеди), которой человек не мог бы нарушить, утверждает Н. Аббаньяно; "а это значит, что всякая норма, правило или заповедь открывает перед нами альтернативу" [2, с. 345], ставит человека в активную позицию в отношении данного32. Нормативная онтология, таким образом, располагает личность "выше" и "раньше" закона, природы, сущности и эйдоса. Отвлечение от нормативного (аксиологического, деонтологического) измерения бытия приводит к тотальной замкнутости последнего, выражающейся в совершенном неразличении наличного и должного, в отказе от этической квалификации активности всякого сущего33.
"Чистый онтологизм, - пишет Н.А. Бердяев, - подчиняет ценность бытию. Иначе говоря, он принуждён считать бытие единственным мерилом и критерием ценности, истины, добра, красоты" [36, с. 212]. Такая позиция ведёт к "обоготворению" наличного бытия. Однако ясно, что бытие, с точки зрения активно относящегося к нему человека, "может иметь высшие качества, но может их и не иметь", может оказаться более или менее совершенным; будучи подвергаемо оценке, само по себе бытие, таким образом, "не может быть критерием качества и ценности" [36, с. 212], но лишь подлежит применению этих критериев. Через такое применение "бытие приобретает аксиологический смысл"; в противном же случае исчезает вообще всякое основание для оценивания. Бытие вне аксиологического измерения (то есть как таковое) "означает примат общего над индивидуальным", предстаёт как "идейный (эйдетический. - С.А.) мир, подавляющий мир индивидуального"; в конце концов, "универсалистический онтологизм не может признать высшую ценность личности" [36, с. 212] и потому прямо или косвенно отрицает её. Эта ценность личности и "не может быть доказана как положение объективной онтологии" [36, с. 232]; для её утверждения требуется совершенно иной её тип, как раз и названный здесь нормативной онтологией.
Такая онтология (как онтология по преимуществу) сопротивляется статичности и континуальности, устанавливаемым в монистической модели бытия34; эта онтология принципиально динамична, и то бытие (а это всегда личностное бытие), которое высвечено в ней, является открытым, разомкнутым, перспективным. Поэтому нормативная онтология всегда конструктивно отрицает целое (каким бы образом это целое ни было установлено - мистически, диалектически, метафизически, феноменологически и т.д.) во имя полноты как открытости, как не-детерминированного превосхождения целостности, как стремления "преодолеть свою данность ради заданности" [29, с. 89].
Целое как таковое представляет собой тотальную схваченность всех сущих универсальной сущностью, которая превращает их в средство для бесконечно повторяющегося выражения себя самой. "Целостность этого целого есть единство сущего, которое единит как производящая основа", - пишет Хайдеггер [256, с. 41], воспроизводя типичную пантеистическую (диалектико-мифологическую) схему бывания35. Указание на целостность тождественно указанию на внутреннюю (самую жёсткую) детерминацию свойств и действий индивида, то есть на безнадёжность. Самодостаточность (целостность) представляет собой особую форму зависимости, гораздо более страшную и отчаянную, чем зависимость только внешняя. Это такое принуждение, которое ни при каких условиях нельзя преодолеть, ибо источник такого принуждения - в самóм сущем.
Такая сущностная одержимость универсальным неизбежна для всякого находящего себя в целости. Бытие-в-мире есть бытие в целом (или бытие к целому, поскольку само целое - за пределом чувственно данного, хотя и не в трансцендентном). Целое и есть мир. Вопрос о том, что значит это "целое", называемое миром, выражает стремление "экзистировать в совокупном целом сущего" [253, с. 330-333]. Согласно замечанию В.В. Бибихина, целое "устроено" не так, как предметы: те "бросаются в глаза", тогда как целое не дано нам вне нашего усилия его осмыслить. Но это значит, что не мы его схватываем в таком усилии (как могли бы схватить тот или иной предмет), но "оно само сперва должно захватить нас" [253, с. 433]. Иначе говоря, как только мы осмыслим целое, тут же окажется, что это оно нас схватило. Дабы осмысление целого не оказалось закрытием (обрывом) личной жизни (существования), требуется воздержание от признания окончательности такого осмысления36.
Целостность - всегда устойчивость, самодостаточность, автономность, исключительность. Целое (как субстанция) исключает всё иное себе (в этом и состоит принципиальное отличие субстанции от Бога), но в себе не исключает ничего, всему наличному находя место. "Мир, - указывает В.В. Бибихин, - есть целое, единство всего: просто всё, взятое в целом, без исключения" [37, с. 35]. Такая целостность есть основание примирения с наличным, подчинения данному положению дел. Целое устойчиво (статично) и потому не может изменяться. Целостность есть совершенная внутренняя интеграция37. Но эта замкнутость на самого себя есть первый признак безжизненности, экзистенциальной дезинтеграции, монадности, онтического эгоизма. Целостность (в религиозном плане) есть отпадение от Бога, отказ от со-общения с Ним как трансцендентным Источником бытия, следовательно, - начало разложения и гибели. Целостность есть оконченность, завершённость, смерть. Она свидетельствует о том, что выход из монадности стал невозможен и потому существование (трансцендирование наличного) прекратилось. Смерть (как радикальный анализ) в конце концов вызывается именно "независимым одиночеством цельности" [89, с. 91].
Целое как гармонию можно мыслить только эсхатологически, как справедливо считает Н.А. Бердяев [36, с. 240]. Это гармоничное совершенство отделено от нас не временем (то есть относится не к будущему времени, поскольку вообще не расположено внутри времени), но онтически непреодолимой противоположностью между наличным и идеальным. Более того, в наличном невозможно обнаружить никаких предпосылок, никаких начал этой конечной гармонии, никаких семян или эмбрионов, из которых бы она прорастала и разворачивалась. "Нет в этом объектном, феноменальном мире гармонического целого, нет мировой гармонии"; эта гармония не "господствует", а только "ищется", она есть "творческое задание" человеку и человечеству [36, с. 239]. Отнесение универсальной гармонии как цели человеческой деятельности в будущее (а не в иное, то есть не в вечность) не способно разомкнуть наличное целое. "Будущее, - замечает Кьеркегор, - в некотором смысле есть целое, часть коего составляет прошедшее, так что будущее в определённом смысле означает целое" [145, с. 185]. Всякое полагание начал гармонии в самóм наличном (в законах, в природе, в "объективном") равнозначно "приспособлению" к этому наличному [36, с. 239], устройству в нём. Этому погибельному устройству в целом может противиться лишь так выраженная эсхатологическая установка: "Целое присутствует только в нашем надрыве от того, что его нет" [37, с. 144]. Таким образом переживаемое целое способно надорвать (разомкнуть) наличное и открыть погребённую в данном онтологическую перспективу.
Этот задающий перспективу надрыв целого не обнаруживается нигде, кроме как в человеке, способном проблематизировать свою наличную ситуацию и тем самым бытийно перерастать самого себя. "Человеку - каков он есть, каким он будет - принадлежит сущностный недостаток, изъян, откуда приходит к нему это право ставить себя всегда под вопрос" [38, с. 69]. Ставшее под вопрос уже не может быть признано просто ставшим, но должно быть понято лишь как могущее стать, то есть существующее. Всякое существующее существует "не по своей природе, а по своему призванию" [173, с. 364]. Существование, как аксиологически ориентированное (личное) бытие, представляет собой динамическую разомкнутость сущего "в сторону" идеала (должного, ценности); так обозначенное бытие может быть понято не как "целое", а как "полнота" (πληρωμα).
Если целостность есть самотождество, не-выход из себя, то полнота есть не-самодостаточность, экстаз к идеальному. Целое статично, полнота динамична. "Целое" в теории есть диалектический синтез "одного" и "многого" [160, с. 619], то есть монизм. Понятие же полноты требует антиномического синтеза. Целое поглощает все онтологические противоречия. Полнота сохраняет онтологическую прерывность, устанавливая "синтез" и поверх, и в виду этой прерывности. Целое само по себе замкнуто. Но "развёрнутое целое" есть "полнота бытия" [256, с. 39], если под хайдеггеровской "развёрнутостью" мыслить не развитие, а разворот (к иному), разворачивание как размыкание. Когда целое удаётся разомкнуть, оно преображается в полноту (не-целостность, не-достаточность) как динамику. При этом сама открытость (незавершённость) полноты должна мыслиться только открытой (незавершённой).
Если, по Хайдеггеру, в философии действительно "вопрос стоит о бытии целого человека, кого привыкли считать телесно-душевно-духовным единством" [252, с. 48], то необходимо учесть следующее. Прежде всего, если о бытии целого задан вопрос, значит это целое под вопросом, а не утверждено как очевидное. Далее, дух - это трансценденция; дух не замыкает, а размыкает бытие, превращая его в существование. Поэтому присутствие духа не делает человека целым (целое есть мёртвое), но сообщает его бытию полноту как открытость. Поэтому же "Дух дышит, где хочет" (Ин 3:8), а не там, где Его "вызывают". Дух - не то, что можно "вставить" в целое в качестве его составной (пусть даже и главной) части. Дух вообще не "что", а "лицо", то есть личность, то есть существование. Присутствие духа говорит не о целом, но о полноте, то есть разомкнутости, открытости к своему иному как положительно ценному и потому должному.
Что так открыто? Целое (человек в единстве тела, души и духа)38. Но открытое целое уже не само по себе. Если себе довлеющее целое (вещь, всякое наличное) само как таковое мертво (аннигилируется собственной природой), то целое, относящееся к себе и имеющее себя в виду, отрицает себя как вот это данное (вместе со своими "врождёнными" и "фундаментальными" способностями) в пользу того идеала, в который оно призвано во-образиться. Эта ис-полненная целостность (личность) и есть "вперёд-себя" именно потому, что экстаз целого к идеалу представляет собой онтологическое движение "к-себе-идеальному", а не просто "вне" себя39. Это движение не может быть обеспечено (то есть абсолютно гарантировано) с человеческой стороны и может быть обеспечено со стороны Бога.
С точки зрения персонализма хайдеггеровское "вперёд-себя" [252, с. 249] остаётся совершенно непрояснённым, а потому и сомнительным. "Вперёд" (как способ ориентации бытия) могло бы означать "к идеалу", то есть указывать на ценность как должное; однако у Хайдеггера вряд ли можно обнаружить аксиологию или деонтологию [ср.: 2, с. 322-323]. Если "вперёд" означает указание на будущее, то тогда это "вперёд" вовсе не означает "вперёд себя", ибо субъект уже расположен во времени. Скорее, "вперёд-себя" тождественно "заступанию в возможность" [252, с. 262], каковое для вот-бытия есть "заступание в смерть" [252, с. 267] как наиболее своё для него возможное. Но смерть завершает существование, превращает его в целое [252, с. 264], а потому не имеет отношения к трансценденции. Апофатическое "вперёд", таким образом, тождественно всякому монистическому (пантеистическому) "никуда", "в ничто". Действительно, чистое бытие ("как") в отношении к "что" есть его аннигиляция, чистое ничто. Только "как-именно" фундирует всякое "что" через его само-отнесение к себе-идеальному. Последнее и может быть представлено как истинное "вперёд-себя" бытие.
Истинное "совершенство" (то есть совершенство не как тотальность, не как замыкание и окончание, а как начало и жизнь) связано не с целостностью, а с полнотой. Н.О. Лосский (в работе "Достоевский и его христианское миропонимание"), противополагая полноту целостности, утверждает, что полнота жизни есть свободное взаимообщение в любви. "Достигнуть такой полноты бытия тварное индивидуальное существо может не иначе как путём интимного сочетания своей жизни с индивидуальною жизнью всех остальных существ" [165, с. 143]. Такое размыкание собственной монадной изоляции возможно не в количественно бесконечном акте любовного перехода от существа к существу, а в качественном любовном экстазе в бесконечность любви Божией, трансцендирующем дурную бесконечность сущих в наличии. Полюбить сразу всех возможно через ответную любовь к Богу. Грехопадение же есть "предпочтение своего я как целого" всем другим существам и Богу. "Верховный вид такого предпочтения есть гордость лица, ставящего своё я как целое выше всего" [165, с. 144]. Грех, таким образом, есть бытийная бесперспективность.
Греху противоположна святость. Святой живёт полной (а не целостной) жизнью, потому что он живёт с Богом, существует. При этом важно, что святой - это тот, кто считает себя самым последним грешником, но не теряет надежды на помощь Божию самому последнему грешнику, то есть не отчаивается в возможности собственной (невозможной для него) святости. Посчитавший себя святым тут же утратил бы такую возможность. "Апостол Павел и Августин, - пишет К. Ясперс, - понимали невозможность того, чтобы праведный человек был истинно праведным. Но почему же? Если он поступает праведно, он должен знать, что поступает праведно; но это знание уже есть самодовольство, а тем самым и высокомерие. Без саморефлексии нет человеческой праведности, при саморефлексии нет свободной от вины чистой праведности" [292, с. 445]. Святость, таким образом, и есть преображение целостности (закрытости, оконченности) в полноту (открытость, перспективность). Может ли у святого быть "корректный образ" самого себя? "Нет, - отвечает Владимир Лефевр, - потому что если святой считает, что он святой, то он уже не святой. Сама святость предполагает некий дефект знаний, некоторую неадекватность, <...> т.е. совершенство человека достигается тогда, когда человек чего-то не знает, а не тогда, когда он всё знает" [185, с. 56]40. Знание всего (античная мудрость) связано с целостностью и смертью; вера, которая превышает как знание, так и незнание, связана с полнотой жизни41.
Личность именно не целостность, а полнота; поэтому она реальнее и значительнее всякой природы (хоть даже и универсальной)42. Целый же мир превращает всё в нём содержащееся в фантом. "Ирреальность, - пишет Бланшо в "La part du feu", - начинается вместе с целостностью". Это смертельная ирреальность: мир, "взятый в совокупности, как целое", утверждает себя только "при всеобъемлющем отрицании содержащихся в нём частных реальностей" [цит. по: 105, с. 173], индивидов. Поскольку же целый мир всегда есть, постольку для частного сущего никогда не требуется намеренно переходить к смерти как к чему-то иному. "Смерть, - утверждает Жак Деррида, - всегда уже здесь, она сама суть не-бытия этого мира-призрака, и никакого перехода поэтому к ней не требуется" [80, с. 101]. Человеческая конечность расположена в таком "мире не-существования" как наличное, как принудительная необходимость, которая не достигается именно потому, что она изначально достигнута. Поэтому-то "смерти как перехода в этом мире не может быть" [80, с. 101]. Это мир победившей смерти.
Целостность (тотальность) с необходимостью полагает ничто за пределами себя самóй. Полнота, как конструктивное отрицание такой целостности, есть отрицание ничто, которому в свете полноты нигде не остаётся места. Замкнутость (целостность) представляет собой оптимизм относительно наличного положения дел (если не предполагается ничего иного, то данное есть наилучшее) и пессимизм относительно перспектив этого данного (целое не выпускает к иному). "Практический пессимизм" в своей крайней степени выражен именно в самоубийстве [224, с. 48].
Полнота бытия (существование) по-иному расставляет акценты: в отношении наличного (в том числе и собственных способностей) тут господствует пессимизм (вплоть до полного отчаяния), но в отношении идеального (ценного) как должного - никак рационально не оправданный оптимизм. Если ценность есть указание на правильное, то, следовательно, она связана с правкой, выправлением. Оценивать - значит править: не "править" в смысле распоряжения и власти, а "править" в смысле исправления и приведения в соответствие. При этом ясно, что приводить в соответствие с данным нелепо; можно приводить в соответствие только с заданным. Такое приведение в со-ответствие остаётся для человека свободным и ответственным актом (поступком).
Поступок (как пишет Хайдеггер, ссылаясь на Шелера) не есть предмет [252, с. 48]. В качестве свободного действия, он так или иначе выходит за рамки мира наличных предметов и, в конце концов, не определяется законами этого мира. Г.Л. Тульчинский даёт такое определение поступка: "Сознательный (волевой) поступок - социально значимая деятельность, мотивируемая самою личностью на основе сознательно принимаемых решений относительно целей, путей и средств их достижения" [244, с. 13]. Именно поступок в самой явной форме "реализует нравственный потенциал личности, её позиции, установки и стремления" [244, с. 14]. Поступок есть "сознательно программируемое действие" [244, с. 31]. Произвольность поступка есть основание такой его особенности, как "вменяемость": личность ответственна за результаты своего действия. Идея вменяемости, таким образом, включает в себя обе основные характеристики поступка: сознательность ("осознанность") и ответственность [244, с. 14], его, так сказать, начало и конец. Ответственность же, в свою очередь, есть основная положительная характеристика свободы.43
Поступок как свободное деяние нет смысла рассматривать в психологическом или в социальном измерении, каждое из которых есть способ ограничения понятия о человеческой активности, способ полагания границ этой активности44. В связи с философией суицида речь должна идти о метафизике поступка, включающей в себя и указанные выше измерения, но только в качестве частных и лишённых автономности аспектов, проявляющих своё подлинное значение лишь во взаимной координации, основанием которой служит именно метафизика. Преувеличенное значение, придаваемое какому-то одному из аспектов (измерений) поступка, влечёт не только искажение понимания происходящего, но и теоретическое устранение самогó субъекта поступка. Так, например, если человек поступающий воспринимается "как принципиально социальный субъект" (как это происходит у Г.Л. Тульчинского), то приходится утверждать, что "истоком, конечным результатом и критерием поступка" является "социальная практическая деятельность". Более того, оказывается необходимым признавать, что "поступает, в итоге, общество посредством личности, которую оно сформировало в процессе общественной практики" [244, с. 30]. Итак, уход философии поступка с метафизической почвы означает утрату понятия личности и подмену свободы одержимостью, а в конечном счёте - потерю самогó философского характера такой "философии".
Свобода, манифестирующая себя в поступке, сама по себе (как таковая) ещё не есть ценность; свобода есть чистое "как"; дабы не оказаться редуцированным к этому данному "как", человек способен за-дать "ориентацию" свободы: как-именно45. Свобода "есть не недостаток и отрицание, а утверждение великой ценности" [268, с. 198]. Ценность есть благо, добровольно предпочитаемое в качестве практической (заданной для осуществления) цели. Так понимаемая ценность никогда не является "общей идеей", то есть "определённой суммой детерминаций", вся сила которой состоит "в повторении"; ценность - это "избыточность, всепроникающий призыв", имеющий отношение к личностному бытию, а не к "миру всеобщностей" [179, с. 87]. Свобода, пишет Э. Мунье, "не излучается спонтанно; она имеет своё назначение или, лучше сказать, призвание" [179, с. 79]: свобода "прекрасна", когда она "спасительна" [179, с. 82]. Именно ценностная "ориентация" свободы придаёт ей положительный и потому онтологический характер. "Свободный от чего? Какое дело до этого Заратустре! Но твой ясный взор должен поведать мне: свободный для чего?" [189, с. 45]46.
Понимаемая экзистенциально (а не категориально), свобода содержит в себе и возможность отрицания, прежде всего - себя самой. "Свобода, - отмечает Н.О. Лосский, - есть величайшее достоинство личных деятелей, необходимое для реализации абсолютных положительных ценностей, но таящее в себе также и возможность отрицательного пути. Свободно осуществляются в мире различные ступени любовного единодушия, но также и различные ступени обособления, противоборства и вражды" [165, с. 290]. Поскольку содержание свободы никогда заранее не положено, она предстаёт как "тайна". "Таинственность свободы выражается в том, что она творит новую, лучшую жизнь, и она же порождает зло, т.е. обладает способностью самоистребления" [36, с. 240].
Мало установить, что человек свободен; надо понять, что свободный человек может свободно погубить себя47. "Свобода, - пишет Э. Мунье, - может толкать индивида к протестам и мятежам" [179, с. 75]; возможность "ошибки или греха" является "следствием и условием свободы" [179, с. 95]. Личность свободна (в том числе и от своей свободы). Свобода есть возможность как греха (смерти), так и святости (жизни). Самоубийство являет рабство смерти (как наличное), но при этом всегда указывает на свободу от смерти (как заданное). Таким образом, признание за человеком свободы есть не конец антропологии, а её начало; при этом в указанной перспективе антропология неизбежно оказывается танатологией и даже, ещё точнее, суицидологией.
Свобода в высшем смысле есть не выбор (или-или), а предпочтение (то есть она обладает ценностным характером). "Свобода, - настаивает А. Кожев, - не содержится в выборе между двумя данностями: она есть негация данного" [131, с. 78], в том числе и выбора, предложенного этим данным. Отказ от выбора (ни-ни) не означает отказа от возможности выбора, наоборот, именно такой отказ и сохраняет эту возможность. Напротив, выбор (актуализация свободы) уничтожает её как возможность выбора. "Лишь философская недальновидность, - пишет Мунье, - могла послужить причиной того, что центр тяжести переместился со свободы на акт выбора" [179, с. 82]. Этот перенос, видимо, обусловлен смещением человеческого интереса с ценности на объективное знание (от усилия по удержанию себя в религиозной заповеди к магическому "будете как боги"). Однако "объективное познание добра и зла ведёт к глубокому извращению свободы" [179, с. 95]. Состояние же "свободы от знания" есть "начало раскрепощения человека" [268, с. 198].
Понятие, противоположное греху, утверждает Кьеркегор, есть свобода; при этом свобода - это не свобода выбора между добром и злом, но - "возможность" [см.: 268, с. 181]. В отказе от рационально обоснованного выбора в пользу веры открывается человеку подлинная свобода. "Не та свобода, которую знал и возвестил людям Сократ, свобода выбора между добром и злом, а свобода, которая, говоря словами Киргегарда, есть возможность48. Ибо, раз приходится выбирать между добром и злом, это значит, что свобода уже утрачена: зло пришло в мир и стало наряду с божественным valde bonum. У человека есть, должна быть неизмеримо бóльшая, качественно иная свобода: не выбирать между добром и злом, а избавить мир от зла. Ко злу у человека не может быть никакого отношения: пока зло существует, нет свободы" [268, с. 197], хотя есть выбор и даже именно потому, что он есть. "Свобода не выбирает между злом и добром: она истребляет зло" [268, с. 197]. "Пока Ничто не будет окончательно истреблено, человек не может и мечтать о свободе" [268, с. 198]49.
Свободе, пишет Н.А. Бердяев, принадлежит примат над бытием, как духу "принадлежит примат над всякой застывшей природой" [36, с. 240]. Это значит, что лишь человеку (свободному существу) открыт доступ к условиям бытия (и небытия); безусловное же бытие (то есть такое, которое нельзя поставить под вопрос, сделать проблемой) не есть существование (специфически человеческое бытие-превосхождение), а есть только природа (наличное, данное, "положение дел"). Бытие не является основанием свободы: даже если бытие есть способ наличия (т.е. "как") некоторого "что", даже если этот способ избран, то всё же остаётся в силе положение, что выбор - не свобода, а способ наличия - не трансценденция. Напротив, свобода "есть" основание и бытия, и небытия.
Актуализация свободы (вывод её из потенциального состояния) есть её утрата: осуществление свободы означает осознание необходимости. "То, что свершилось, тем самым уже потеряло свои прежние возможности" [172, с. 143]50. Идею тождества свободы и необходимости можно встретить, как ни странно на первый взгляд, у Владимира Соловьёва. Понятие необходимости "в широком смысле", утверждает он в "Чтениях о Богочеловечестве", нисколько не исключает свободы. "Свобода есть только один из видов необходимости. Когда противопоставляют свободу необходимости, то это противопоставление обыкновенно равняется противопоставлению внутренней и внешней необходимости" [226, с. 31]. Даже Бог не свободен от такой свободы-необходимости (как не свободен Он и от любви, разума и добра). "Мы должны сказать, что для Бога необходима свобода - это уже показывает, что свобода не может быть понятием безусловно логически исключающим понятие необходимости" [226, с. 31]. Как видим, Соловьёв настаивает на той мысли, что свободой можно именовать только особого рода необходимость, а именно - "внутреннюю" (самую жёсткую) необходимость, то есть сущность, в широком смысле - природу. Этой природе оказывается подчинённым и Бог, понимаемый, следовательно, вполне субстанциалистски, пантеистически.
Источник такого понимания Соловьёвым и свободы, и Бога очевиден - это Гегель. В "Энциклопедии философских наук" читаем, что разделение, проводимое в "области конечного" между природой как необходимостью и духом как свободой, вполне абстрактно и потому sub specie aeternitatis должно быть снято. "Свобода, не имеющая в себе никакой необходимости, и одна лишь голая необходимость без свободы суть абстрактные и, следовательно, неистинные определения. Свобода существенно конкретна, вечным образом определена в себе и, следовательно, вместе с тем необходима. Когда говорят о необходимости, то обыкновенно понимают под этим лишь детерминацию извне <...>. Это, однако, лишь внешняя, а не подлинно внутренняя необходимость, ибо последняя есть свобода" [67, с. 143]. Поскольку конкретность означает у Гегеля осуществлённость (тотальность), постольку "конкретная" (осуществлённая) свобода и должна оказаться необходимостью.
То, что Гегель и Соловьёв именуют "внутренней необходимостью", в персонологическом измерении есть, конечно, не свобода, а природа. Указанная необходимость устанавливает для личности лишь один исход - слияние с целым. В тот момент, когда свобода оказывается редуцированной к "внутренней необходимости", то есть к совершенной одержимости природой, эта моя природа заявляет себя как универсальная сущность: одержимость заканчивается аннигиляцией личности. Почти буквально повторяя Шанкару, Гегель пишет: "Свобода есть лишь там, где нет для меня ничего другого, что не было бы мною самим" [67, с. 124]. Только в такой ситуации слияния "этого" и "иного", поглощённых универсальным единством (как бы его ни называть), моя свобода отождествляется с всеобщей необходимостью51. Свобода как осознанная необходимость в конечном счёте есть "свобода" подчинения объективно наличному.
Отвергая объективность свободы (заставляющую сливать её с необходимостью), можно впасть в противоположную крайность (исход которой, впрочем, тот же самый). Свободный человек, по Аристотелю, есть "тот, который существует ради себя, а не ради другого" (Метафизика I 2, 982 b 25). Свобода, понимаемая как автономная и самодовлеющая основа индивидуального существования (например, по указанию Э. Мунье, у Сартра), оказывается целостностью [179, с. 74] и особого рода необходимостью (Сартр говорит даже об "обречённости"), то есть "слепой природой, голой силой" [179, с. 75]. "Кто отличит её от произвола жизни и воли к власти? Каким образом свобода может принадлежать мне, если я не могу от неё отказаться?" [179, с. 75]. Итак, если я свободен, то свободен и от собственной свободы. Утверждающий обратное неизбежно "чувствует себя обречённым на абсурдную и безграничную свободу", становится её "рабом" [179, с. 76]. Отсутствие беспокойства (уверенность) означает "конец нравственности, а стало быть, и личностной жизни": в таком случае "место свободы занимает законность" [179, с. 96], как это происходит, например, у Канта.
В свете свободы всякое наличное положение дел может быть осознано как ситуация, требующая выхода (даже если возможность такого выхода и не является очевидной). "Положение становится ситуацией тогда, когда оно поставляет человеку характерные требующие преодоления трудности, которые во время этого преодоления познаются как ограничение, за счёт чего одновременно пробуждается повышенная активность человека" [42, с.82]. Проблематизация наличного положения дел (взятого как в эмпирическом, так и в метафизическом смысле) позволяет человеку отделить себя от этого положения и получить перспективу влияния на него [ср.: 42, с. 84]. Перевод положения дел (в чём бы оно ни состояло) в ситуацию размыкает бытие, открывая "пространство" для существования. При этом свобода позволяет устанавливать отношение даже к собственной смерти как к элементу ситуативности. Только в том случае, когда никакая из характеристик, приписываемых человеку и человеческому, не имеет абсолютного значения (даже если это конечность как чисто человеческое свойство), можно говорить о существовании (следовательно, о личности и свободе).
Понятие свободы противоположно понятию сущности, а свободная жизнь противоположна чистому созерцанию. "Свобода не есть вещь, - пишет Э. Мунье. - Свобода - это утверждение личности; свободой живут, а не любуются. В объективном мире существуют только данные вещи и завершённые состояния. Вот почему, не находя в нём места для свободы (более того, свобода не требует себе места. - С.А.), мы ищем её в отрицании (всякого данного. - С.А.)" [179, с. 72]. Свобода не обнаруживается в наличии (как вещь, как эйдос). "Только сама личность, выбрав свободу, делает себя свободной. Нигде ей не найти уже существующую, дарованную (то есть данную. - С.А.) свободу. Ничто в мире не даёт ей уверенности в том, что она свободна, если она не ступит дерзновенно на путь свободы" [179, с. 74]. Свобода не вещь и даже не стихия; понятие "свобода" вообще не категория, схватывающая некое "что", а экзистенциал, указывающий на трансценденцию. Личность не полагает свою сущность в свободе, но личность свободна; следовательно, она свободна и от такой свободы, которая навязывается ей в качестве её сущности.
Свобода отрицает любой намёк на детерминизм, пусть даже он утверждается под именем "нравственной причинности" (кармы). Идея универсальной кармы указывает на возможность преодоления прошлой судьбы, но не судьбы вообще. Иными словами, можно создать новую карму, но не нечто сверх-кармическое. Поскольку идея кармы запрещает трансцендирование (каковое предполагается в доктрине покаяния)52, постольку свобода оказывается невозможной. Следовательно, в данной парадигме любым образом полагаемое уничтожение кармы с необходимостью есть уничтожение субъекта, абсолютная негация (что и есть нирвана).
Негативное в человеческом бытии (страдание, боль, смерть) можно объяснить как нечто случайное, не имеющее отношения к сущности человека и потому подлежащее гарантированному (рано или поздно, в этом или ином мире) умалению и истреблению. Такой антропологический оптимизм, отрицая негативное, полагает сущность человека в чистой позитивности, отказываясь принципиальным образом "разбираться" [42, с. 86] с явными признаками человеческой конечности. Но и в случае противоположного (пессимистического) подхода к этому вопросу трудно избежать подобного полагания некоторой сущности человека, обнаруживаемой теперь не в позитивных, а в негативных моментах бытия-в-мире. Так, в немецком экзистенциализме (как его излагает Отто Больнов) "эти моменты познаются в их неупразднимости, как нечто, чего нельзя избежать, как то решающее, что принадлежит существу самого человека, без чего это существо даже невозможно в достаточной мере определить" [42, с. 86]. Однако, если философия, именующая себя экзистенциальной, склоняется к такой определённости, она теряет из виду именно то, о чём она взялась рассуждать - существование.
В понятии существования, если мы хотим подчеркнуть его специфику, должна быть выражена не процессуальность, но трансценденция, перерыв, скачок53; только такого рода "переход" и есть "экзистенция". Поэтому необходимый переход от рождения к смерти ("жизнь") не является существованием; экзистенция есть невозможный, беспричинный переход от рождения-смерти к бессмертию. "Здесь" (в "этом", в данном) может лежать лишь причина смерти, но не причина трансценденции. Существование, таким образом, выражает себя как прерывание континуальности чистого бытия. Согласно формулировке Отто Больнова, понятие существования (der Begriff der Existenz) "представляет собой мыслительное выражение совершенно определённого решающего переживания в человеке" [42, с. 28], "экзистенциального переживания" [42, с. 29]. Это самое транс-жизненное (пере-живание) и есть экзистенция (если только о существовании можно сказать, что оно есть).
Невозможно никакое "содержательное утверждение" о том, что есть существование [42, с. 45]. Хайдеггер утверждает: "сущность существования" не может быть установлена через содержательные характеристики определённого "что" (Was); но если это невозможно, то надо постигать существование через его "как" [см.: 42, с. 46]. Термин "существование" означает "не просто факт действительного бытия" (то есть не "что", не "вот"), но характерный для человека "способ бытия" (то есть "как" этого "что", "вот-бытие") [42, с. 47]. Dasein, указывает Хайдеггер, никогда онтологически не фиксируется как вид сущего (наличного), ибо последнее безотносительно к бытию54. Поэтому и присущие сущему черты (качества) суть не наличные свойства так или иначе "выглядящего" ("aussehenden") сущего, "но всякий раз возможные для него способы быть и не более того" [252, с. 42]. Здесь прямо установлено отличие экзистенции от бытия в субстанциальном (эйдетическом) смысле, от "идеи" ("вида", эйдоса) как предмета созерцания.
То, что созерцается, всегда есть сущность, а не существование. Человек, как существующий, может быть свободен от своей сущности (природы). По Хайдеггеру, человек отличается от всякого сущего тем, что в своей эссенции "он есть экзистенция" [цит. по: 42, с. 46]. Что-бытие (das Was-sein) или сущность (essentia) человека как сущего надо понимать "из его бытия (existentia)" [252, с. 42]. "Сущность вот-бытия лежит в его существовании" [252, с. 42]: das "Wesen" des Daseins liegt in seiner Existenz55. При этом "сущность" здесь должна пониматься только "в смысле той более глубокой бытийной возможности (die Seinsmцglichkeit), которой человек является не от природы, но которая предоставлена ему в качестве его собственнейшей, требующей своей реализации задачи" [42, с. 53]. Итак, экзистенция "постигается не в содержательном "что" существования, а лишь в его "как""; это значит, что "существование отныне может схватываться не как простое покоящееся в самом себе бытие, а лишь как отношение, устремлённое за его пределы, как со-отношение"; "бытие существования "есть" соотнесённость и ничего более" [42, с. 50].
Однако, если существование представляет собой "соотношение" и "соотнесённость", то мы вправе поставить вопрос о том, с кем со-относится существующий. Понимая личность как выход-за (трансцендирование наличного), как существующее, совершающее "шаг по ту сторону" (le pas au-delа)56, надо задать и "ориентацию" для этого экстаза. Ведь если это не определить, то может оказаться, что под трансцендированием мы поймём либо особую природу человека (имманентное, данное, которое лишь выявляется), либо переход от человеческой природы на иной уровень бытия в границах природы же (в другую природу, а значит вовсе не в иное); это был бы ложный переход, псевдо-трансценденция, ибо природа есть имманентное.
Значит, если человек именуется личностью, то имеется в виду его существование (трансцендирование); но если имеется в виду трансцендирование, то тем самым обозначается переход не в природе и не к природе, а к сверх-природе, то есть к личности (которая, по понятию, "больше" природы). Но если это действительно переход (выход, экстаз), то та личность, к которой этот выход, есть иная личность (трансцендентная человеческой). А это Бог. Бог (как Личность) активен. Его абсолютность есть основание возможности невозможного по природе (в том числе синергийное общение с тварью как личностью). Слияние личности и Личности никогда не может стать фактическим (сущностным), ибо это, во-первых, уничтожило бы личность и, во-вторых, заставило бы положить единосущность со-общающихся, то есть единство их природы (которая, таким образом, оказалась бы "первичной"). Итак, личность есть теономное трансцендирование (синергийное существование к Богу вопреки природе)57. Персонализм возможен лишь как теизм.
Существование всегда перспективно. Оно, более того, и представляет собой перспективность (открытость) существующего. Эта перспективность означает переход, но не переход от одного "что" к другому, а переход от себя (пусть даже переходящего) к иному-себе как своему. Если бы существование только бывало как переход, оно не имело бы никаких оснований именоваться существованием, обратившись наличной природой (возобновляющимся прехождением вещей). Но существование обнаруживает себя там, где такой переход всегда относителен и потому сам по себе не может полагаться чем-то достигнутым и ставшим. Существование, таким образом, "есть" возможность перехода к своему иному (пограничная ситуация). Это иное, в свою очередь, задано как своё для существования. Иначе говоря, существование активно в этом переступании и экстазе, оно всегда не просто "как" некоторых существующих, но их "как-именно". Такая трансценденция обязательно "имеет в виду" то, куда она. Дезориентированное существование уничтожает себя в одержимости существующего чистым бытием (природой); но когда такая дезориентация представлена только как возможность, существование как раз и происходит.
Поэтому существование не может быть положено как некоторое стабильное "что" и даже как некоторое всегда определённое "как": существование всегда открыто и потому оно всегда под угрозой. Существование происходит как трансцендирование наличного, но поскольку оно само "есть" трансценденция, постольку оно направлено "за пределы самого существования" [42, с. 49], за пределы самого себя. Такая направленность за собственные пределы и не позволяет "полагать" существование, не даёт его "схватывать". С другой стороны, такая экстатичность сохраняет для существующего возможность погружения в имманентное и тем самым ликвидирует условия стабилизации в самóм существовании, условия обращения существования в сущность. Так, существование не есть переход от жизни к смерти или даже переход от жизни к смерти и обратно; оно совершается как превосхождение порядка указанного перехода, но при этом такое превосхождение, в котором обнаруживается возможность собственного обрыва. Существование всегда является отношением к данному, но мы должны спрашивать, какое это отношение - аннигилирующее или сублимирующее.
Таким образом, существование нельзя определить ни через "что", ни через "как". "Одно - мысль, другое - дело, третье - образ дела, - пишет Фридрих Ницше. - Между ними не вращается колесо причинности" [189, с. 27]. Третье и есть ценностное измерение реальности, которое выводит за рамки причинности. Именно это измерение реальности открывает "пространство" для существования. Отменив третье измерение бытия (как-именно-бытие), мы теряем возможность различить первые два (что-бытие и как-бытие) и тем самым впадаем в монизм (неразличение сущности и существования). При этом "как" (ставшее только "так") полностью поглощает "что" (растворяет индивидуальное во всеобщем бытии); но и, наоборот, "что" поглощает "как" (бытие оказывается субстанцией). Упразднив дух (как аксиологическое измерение человеческого бытия), мы теряем существование, тем самым теряя личность, свободу и даже смерть.
Когда в связи с понятием существования заходит речь о перспективности, надо иметь в виду онтологический характер этой перспективности как всегда возможной "трансформации" образа бытия. Будущее как таковое не трансцендентно по отношению к настоящему, оно принадлежит тому же времени; оно подчиняется тем же законам, его можно прогнозировать и к нему можно заранее подготовиться. К тому же, если будущее положено как неизбежное, то тем самым перспектива как раз и оборвана (ибо не предположено иное). Поэтому будущее время не задаёт сущему никакой перспективы и не даёт ему существовать. Трансценденция, конечно, представляет собой трансцендирование временного, однако ни она сама, ни её "причина" не лежат во времени. Существование как свободное трансцендирование наличного (причинно связанного) "предполагает абсолютный разрыв в причинно-следственной гомогенности" [54, с. 141]. Если существование - это трансценденция, то "будущее" таково, что, с одной стороны, оно может никогда не наступить, но, с другой стороны, может оказаться, что для подготовки к его наступлению никогда нет времени. Итак, существование открывает онтологическую перспективу вне измерения временем. Существование эсхатологично.
Существование, как видим, всегда оказывается "пограничной ситуацией" (в самом крайнем метафизическом смысле). Пограничная ситуация, по определению, обнаруживает для человека его собственную конечность [42, с. 86]. Поэтому смерть, осознанная как присутствующая в личном бытии, есть "радикальнейшая пограничная ситуация" [42, с. 87]. Однако такое осознание собственной конечности (смертности) только в том случае ориентирует человека в сторону активного сопротивления, когда эта наличная конечность осознана как проблема. Если же смерть признаётся и принимается в качестве конституирующего момента человеческого бытия (пусть даже оно названо "существованием"), всякое сопротивление наличному превращается в игру или ритуал, настоящее "мужество быть" подменяется мужественным выражением лица, а бунт против судьбы оказывается ещё одной красивой позицией58. Существование есть такая пограничная ситуация, которая "противопоставлена любой успокоенности в гармоничном и замкнутом образе мира" [42, с. 87]; эта "ситуация" эксплицирует дискретность человеческого способа быть и потому способна дискредитировать всякое "целое".
В то время как смерть вообще (смерть чужая) есть для нас эмпирически, смерть собственная проявляет себя только экзистенциально, в личном бытии (в существовании); то есть хотя смерть и не налична, но значима59. "Это ведь совсем не одно и то же: чужая смерть, которую можно наблюдать, которая имеет отношение к физическому миру, к эмпирическому миру каждого из нас, и смерть собственная, которую наблюдать нельзя и о которой можно только размышлять, в которую можно не верить, которой можно страшиться, от которой можно до времени отмахнуться и т.д., то есть смерть в её метафизическом смысле, смерть, не данная нам эмпирически" [242, с. 104]. Эти два рода смерти в нашем представлении о них существенным образом отличаются друг от друга. Первая, как "фактор нашего эмпирического бытия", довольно легко принимается нами как явление, хотя и неприятное (и даже, когда это касается наших близких, ужасное), но тем не менее "естественное", не выходящее за пределы фактического и законного [242, с. 104]. Вторая - наша собственная смерть - "принимается нами существенным образом иначе и ставит нас перед проблемой, труднее и главнее которой для нас быть не может" [242, с. 105]. Вот эта-то экзистенциальная проблема и удерживает существование от деградации в сущность; но как только смерть переходит из разряда проблем в статус факта, существование оказывается потерянным.
Смерть есть объективация. "Мёртвое тело абсолютно объективно. Оно достояние всех и никогда - самого себя. Оно реально и актуально" [22, с. 144]. Только совершенно мёртвое актуально (не-потенциально) и объективно-налично. Объективированное существо абсолютно мертво.
Смерть связана прежде всего с утратой личностного начала. "Ни вещественный субстрат, константный согласно физическим законам сохранения, ни идейное наследие, завещанное грядущим поколениям, не замещают актуально бытийного соединения этих начал" [22, с. 143]. Смерть есть смерть личности, конец существования вот этого человека, обладавшего возможностью как умереть, так и не умереть. Поэтому смерть всегда есть смерть чья-то. Небытие же (как и бытие) безлично. По точному выражению Мориса Бланшо (в "La part du feu"), "смерть приходит к бытию, переступая через человека" [цит. по: 105, с. 175]. Хотя смерть носит характер пред-стояния человеку, но пред-стоит она не так, как "встречное" в мире. "У предстоящей смерти, - пишет Хайдеггер, - бытие не этого рода" [252, с. 250] - настолько, добавим, "не этого", что не она подручна человеку, а он ей.
От того, как решается вопрос "о смысле и ценности нашей смерти", зависит решение вопроса "о смысле и ценности нашей жизни" [242, с. 106]. Когда смерть выступает как естественный конец живого существа, то есть когда она расположена в природе сущего, тогда она не имеет ни смысла, ни ценности; более того, она вовсе не является смертью, ибо природное (наличное) не допускает никакого существования, в связи с которым только и можно было бы вести речь о смерти и жизни. "Если ничтожна, не имеет цены и смысла наша смерть, то столь же ничтожна наша жизнь" [242, с. 107]. Не имеет ценности как раз то, что лишь выражает собой наличный порядок природы, порядок в себе совершающегося прехождения сущего в целом. Гибель индивида, подтверждающая данный порядок, не имеет аксиологического измерения; более того, она отбрасывает тень такого безразличия и на ту жизнь, неизбежным исходом которой она служит. "Если моя смерть, - пишет Н.И. Трубников, - есть конец моего бытия, если она ничто для мира, если мир и без меня останется, каким он был, если моя смерть ничего не убавила и не прибавила, ничего не изменила в мире, значит и моя жизнь ничто, меньше, чем тень. Значит, она ничтожна для мира. Значит, мир и при мне остался таким же, каким был без меня, и не приобрёл ничего и ничего не потерял. Тогда я не имею никакой цены, никакого достоинства. Тогда я могу жить и могу не жить. Тогда всякий другой имеет не больше достоинства и цены и тоже может жить и не жить. Его жизнь и его смерть тогда значат для мира не больше. Значит? А значит, что можно убить себя и другого, можно убить всех" [242, с. 106].
Смерть на воле стремится предстать в качестве наиболее полного выражения свободы. Однако свобода, представленная в качестве радикального разрыва со всем, осуществляется как выход в чистое ничто; это свобода в отрицательном, негативном смысле. Так склонен понимать свободу, например, Морис Бланшо, который стремится "обосновать в теории и реализовать на практике новую метафизику и поэтику, которые должны зиждиться на энергии тотального, неустанного отрицания" [105, с. 170]. Методом осуществления указанного стремления выступает "негативная диалектика" [105, с. 172], разработанная Теодором Адорно [105, с. 170]. Так понимаемая суть свободы приводит Бланшо к закономерному вопросу: "Разве смерть не есть высшее завершение свободы?"; ответ может быть только утвердительным: "В смерти заключена суверенность человека, свобода - это смерть" [89, с. 85]. Однако свобода как трансценденция должна пониматься как возможность умереть; если же смерть положена как возможность, то она есть одна из по меньшей мере двух вероятных перспектив. Следовательно, свобода есть не смерть, а возможность смерти. Утверждая смерть в качестве своей единственной возможности, а себя полагая как бытие-к-смерти, человек располагает себя в замкнутом пространстве наличного.
"Бытие-к-смерти" (zum Tode Sein) указывает на то, что смерть из будущего о-пределяет (то есть заканчивает, замыкает) существование. Но "из будущего" означает "во времени" - в наличном. Таким образом, бытие-к-смерти означает бытие к такому целому, которое уже расположено во времени. Это целое, в свою очередь, располагает человека так, что он в конце концов оказывается конечным. Так, например, у Хайдеггера "смерть не нечто ещё не наличное, <...> но скорее предстояние" [252, с. 250]. Смерть всегда "принадлежит к бытию вот-бытия" [252, с. 250], она "вдвинута" в него [252, с. 255], представляя собой "возможность прямой невозможности вот-бытия" [252, с. 250]. Однако существование - это не то, что "к" наличному и потому всегда уже "в" нём, а то, что "против", "сверх" наличного, "через" него и "вопреки" ему.
Бытие-к-смерти обезличивает (деперсонализирует) сущее: "Когда вот-бытие предстоит себе как эта возможность самого себя (то есть как собственная своя возможность не быть способным быть. - С.А.), оно полностью вручено наиболее ему своей способности быть" [252, с. 250], то есть оно полностью определено. "Эта наиболее своя, безотносительная (!) возможность вместе с тем предельнейшая", - продолжает Хайдеггер. Следовательно, "как способность быть вот-бытие не может (!) обойти возможность смерти"; смерть, таким образом, "открывается как наиболее своя, безотносительная, не-обходимая возможность" [252, с. 250]. Это ли не описание сущности? Всякий дальнейший разговор неизбежно должен выйти на это понятие, сколько бы автор ни объявлял о "разомкнутости", "открытости" и "бытии-вперёд-себя".
Так и получается у Хайдеггера. Основа "экзистенциальной возможности" вот-бытия состоит в том, что "вот-бытие себе самому сущностно разомкнуто, и именно по способу вперёд-себя" [252, с. 251]. Эта сущностная, "исходнейшая" [252, с. 251] и абсолютная ("без-относительная") черта вот-бытия лишь в очень неточном смысле может быть названа "возможностью"; правильнее было бы сказать о ней как о "необходимой возможности" (что и делает Хайдеггер), ещё точнее - как просто о необходимости. Такая необходимость, которая принята как "наиболее своя", и есть иными словами обозначенная сущность, то есть такое принуждение-к, которое действует на деятеля не "снаружи", а "изнутри" (и тем самым тотально парализует его действительную возможность быть-иным)60. Как только мы признаём "разомкнутость" сущностной, мы тут же полагаем схваченность существующего этой своей-родовой способностью и, таким образом, замкнутость его в этой своей "разомкнутости".
Действительно, эту "наиболее свою, безотносительную и не-обходимую возможность" смерти вот-бытие не приобретает (не придаёт себе само) "в ходе своего бытия". Напротив, пока вот-бытие экзистирует, "оно уже и брошено в эту возможность" [252, с. 251], полностью погружено в неё, схвачено "имманентностью смерти" [173, с. 358]61. Не эта необходимая "возможность" расположена в отношении вот-бытия, но само вот-бытие расположено в ней, оно "вручено своей смерти" [252, с. 251]! Такая "брошенность в смерть" свидетельствует о себе "в расположении ужаса" перед "наиболее своей, безотносительной и не-обходимой способностью быть". Этот ужас выражает собой не индивидуальное настроение "единицы", но нечто родовое, сущностное, универсальное: "основорасположение вот-бытия, разомкнутость того, что присутствие как брошенное бытие экзистирует к своему концу" [252, с. 251].
Мы видим, что смерть тут размыкает лишь "вот" вот-бытия, оставляя "бытие" вот-бытия совершенно замкнутым и тем самым заставляя всякое сущее лишь воспроизводить "исходнейшее". Так можно прояснить хайдеггеровское "понятие умирания как брошенного бытия к наиболее своей, безотносительной и не-обходимой способности быть" [252, с. 251]. Это понятие оказывается по сути эссенциальной моделью человеческого бытия. Смерть в этом бытии представлена как внутренняя необходимость ("достоверность"), отчасти смягчаемая лишь неопределённостью её срока [252, с. 258]. Если подлинная "возможность" только одна, то она есть противоположное возможности, необходимость [2, с. 321-322].
Обратимся теперь к "полному экзистенциально-онтологическому понятию смерти", как оно дано у Хайдеггера, и к тем ближайшим выводам, которые из этого понятия следуют. Смерть как "конец вот-бытия" есть "наиболее своя, безотносительная, достоверная и в качестве таковой неопределённая, не-обходимая возможность вот-бытия" [252, с. 258-259]. В качестве так понятого "конца вот-бытия" смерть "есть в бытии этого сущего к своему концу" [252, с. 259]. Итак, смерть всегда уже есть в самóм бытии всякого "вот", которое поэтому необходимо, по собственной сущности (а не по внешнему принуждению и не по собственному решению) бытийствует к тому, чтобы больше не быть или, другими словами, не быть больше, чем оно само.
Выявление такой "структуры" бытия-к-концу обнаруживает основание для полагания вот-бытия как сущностной способности "быть целым" [252, с. 259]. Конец, "замыкающий и обусловливающий собою целость, не есть нечто, к чему вот-бытие приходит лишь напоследок при своём уходе из жизни. В вот-бытие как сущее-к-своему-концу всегда уже втянуто то крайнее ещё-не его самого, до которого располагаются все другие" [252, с. 259]. Смерть, иначе говоря, всегда уже здесь62. Она, понятая как "ещё-не" этого индивидуального бытия, не представляет собой некоторой "недостачи" или нецелостности. "Феномен ещё-не, выведенный вперёд-себя, подобно структуре заботы вообще, настолько не довод против возможности экзистентного бытия-целым, что это вперёд-себя впервые только и делает возможным такое бытие-к-концу. Проблема возможного бытия-целым сущего, какое мы всегда сами суть, оправданна, если забота как основоустройство вот-бытия "взаимосвязана" со смертью как крайней возможностью этого сущего" [252, с. 259].
Всякое целое, как уже ясно, представляет собой замкнутость, невозможность выхода за пределы изначально данной сущности. В таком целом "забота" неизбежно оказывается заботой о смерти (θανατου μελετη). "Бытие-к-смерти, - пишет Хайдеггер, - основано в заботе. Как брошенное бытие-в-мире вот-бытие всегда уже вверено своей смерти. Сущее к своей смерти, оно умирает фактично, причём постоянно, пока не пришло к своему уходу из жизни. Вот-бытие умирает фактично, значит, вместе с тем, оно в своём бытии-к-смерти всегда уже так или иначе решилось" [252, с. 259]. Следовательно, бытие-к-смерти не есть свобода от смерти, которой попросту не может быть: "человеку не дано выбирать - быть смертным или бессмертным" [139, с. 15]. У него нет другого выхода, кроме смерти.
Отсюда следуют замечательные выводы. Провозглашённая "разомкнутость" бытия оказывается лишь "расположенным пониманием" смерти [252, с. 260], то есть принятием её как необходимости, согласием с ней. Теперь индивидуальное бытие (как "собственное бытие-к-смерти", то есть как внутрь помещённая, изнутри схватившая необходимость конца) "не может уклоняться от наиболее своей, безотносительной возможности", не может "скрывать" её или "перетолковывать" [252, с. 260]. Экзистенция как "свобода к смерти" оказывается "в себе самой уверенной" и "фактичной"; она (как "заступание" в смерть) "совершенно уединяет вот-бытие и в этом одиночестве его самости даёт ему удостовериться в целости его способности-быть" [252, с. 266]. Целое же по необходимости должно поглотить всякое сущее; наиболее же радикальный способ такого поглощения - выражение этого целого (тотального) через сущность частного. "Наиболее своя, безотносительная возможность, - утверждает Хайдеггер, - не-обходима. Бытие к ней заставляет вот-бытие понять, что в крайней возможности экзистенции ему предстоит себя сдать. Заступание однако не уступает не-обходимости, <...> но высвобождает себя для неё" [252, с. 264]. Итак, бытие-к-смерти есть свобода для смерти.
Тут смерть и может выйти на волю. "Ближайшим образом, - пишет Хайдеггер, - надо обозначить бытие-к-смерти как бытие к возможности, а именно к отличительной (специфической. - С.А.) возможности самого вот-бытия". Но "бытие к возможности" как правило означает "нацеленность на возможное как озабочение его осуществлением". Таким образом, в пределе, "озаботившаяся нацеленность на возможное имеет тенденцию уничтожать возможность возможного, делая его доступным" [252, с. 261]. Правда, Хайдеггер уточняет, что бытие-к-смерти не делает смерть доступной (как это происходит с "подручным" и "наличным"); однако его доводы представляются слабыми и противоречивыми. Смерть "как возможное", пишет он, не есть "возможное подручное или наличное", но есть "бытийная возможность вот-бытия" (иными словами, пока смерть возможна, вот-бытие есть) [252, с. 261]. Но поскольку Хайдеггер назвал смерть необходимой возможностью, постольку он сам поместил её в онтологически наличном и, значит, опасно приблизил к "подручному". Далее, Хайдеггер говорит, что "озабочение осуществлением этого возможного должно было бы означать ускорение ухода из жизни", то есть самоубийство. Но так "вот-бытие как раз отнимало бы у себя почву для экзистирующего бытия-к-смерти" [252, с. 261]. Однако на эту-то "почву" и покушается сам Хайдеггер, называя бытие-к-смерти "экзистирующим" и тем неоправданно полагая для существования неизбежный итог.
Напротив, если мы хотим вести речь именно о существовании, то мы должны стараться удерживать смерть в статусе возможности, даже если это (с рациональной, имманентной точки зрения) и невозможно. На почве теономной этики (нормативной онтологии) возможным становится всё (в том числе и невозможное, если оно задано как должное); именно так обретается свобода. Сам перевод смерти в статус возможности и удержание её в этом статусе невозможно для эмпирического человека. Поэтому смерть как возможность - предмет человеческой надежды и Бого-человеческой синергии.
Итак, мы приняли к рассмотрению суицид как поступок и наметили те методологические координаты, в которых поиск так пред-положенного "предмета" должен быть осуществлён. Если самоубийство (по номинальному определению) есть поступок, то смотреть на него (разумеется, сквозь имеющиеся в философии суицидологические программы) необходимо именно с точки зрения аксиологически реконструированного экзистенциализма, то есть персонализма. С так обозначенной позиции мы и предпримем последовательную экспертизу наиболее значимых философских проектов, рассмотренных в их взаимной перекличке и (явной или неявной) координированности. В этой последовательности изначально ясным оказывается только изначальность греческого умозрения, предстающего исходным пунктом всего предприятия.
Лекция 3. Природа и самоубийство: справедливая смерть
Философия может быть понята собой как "теоретическое осмысление фундаментальных интуиций определённой культуры" [62, с. 284]. Такое осмысление базовых культурных установок античности содержится в одном гениальном по ёмкости высказывании. Фраза Анаксимандра, с которой начинается европейская философия [40, с. 487; 254, с. 28]63 и в которой заключена вся античная философская программа64, такова:
εξ ων δε η γενεσις εστι τοις ουσι
και την φθοραν εις ταυτα γινεσθαι κατα το χρεων
διδοναι γαρ αυτα δικην και τισιν αλληλοις της αδικιας
κατα την του χρονου ταξιν
(12 B 1 DK):
Из коих же сущих рожденье вещам,
В те же и смерть по нужде происходит,
Сами ведь пеню и штраф за обиду
Платят взаимно в назначенный срок65.
Рассмотрим форму и философское содержание высказывания Анаксимандра с точки зрения той проблемы, которой мы заняты. Первое явное затруднение, возникающее на нашем пути, - это проблематичность отнесения анаксимандрова изречения к области чистой ("ионийской") натурфилософии. По форме выражения мысли это не физическое, а этико-правовое высказывание [262, с. 131]: на первый взгляд речь здесь идёт о "вещах", находящихся в нравственном и юридическом отношении друг к другу и к началам, из которых они суть. Текст Анаксимандра свидетельствует, что области права и истины, право-судия и право-суждения на данной стадии мышления всё ещё тождественны, причём не в результате их сознательного отождествления, а в установке их "преданалитического неразличения" [180, с. 157]. Это совпадение правильности и права - не синтез, а только наличное единство, внутренняя неоднородность которого не усмотрена. Поэтому космос, о котором идёт речь в данном высказывании, - это не только мировой физический порядок, но и право-порядок, "режим", которому подчиняются все вещи и за нарушение которого они несут наказание [180, с. 157].
Форма высказывания Анаксимандра не исключает осмысления природных процессов в социально-этических категориях, а также и перевода социально-этических проблем на язык природных процессов [83, с. 29]. "Нравственное" или "правовое" во время, которому принадлежит Анаксимандр, не мыслятся в границах специальных дисциплин ("этики" или "юриспруденции"). Однако указание на отсутствие чёткой грани между естествознанием и этико-правовой сферой не означает отрицания наличия права и этики как таковых [254, с. 36]: можно мыслить и правовое, и этическое, и физическое, зная в то же время, что непроходимой границы между ними нет. Там, где отсутствуют границы указанных "специальностей", там нет никакой возможности для преступания границ, для противозаконного распространения положений права и этики на область естествознания. И как раз там, где не предположены "отраслевые границы", не надо ждать расплывчатости и неопределённости; напротив, это незнание границ проясняет ту позицию, с которой эти границы видятся необязательными; именно там "может приходить к речи свободный от всякого отраслевого упрощения собственный остов чисто мыслимого предмета" [254, с. 36]. Иначе говоря, в так выстроенной фразе Анаксимандра сказывается единство всякого сущего, такое единство, для которого все апостериорные рубежи могут и должны быть сняты хотя бы в самом этом сказывании.
Поэтому совершенно необоснованными оказались бы упрёки в адрес Анаксимандра по поводу некритичности и поэтичности его фразы. Здесь мы должны видеть не "антропоморфизм", не примитивное неразличение природного и этического, а особый способ устройства натурфилософии, которая органично включает в себя и подчиняет себе все виды жизни и потому предстаёт как метафизика. Такая метафизика сущего (или, если можно так выразиться, эйдетическая натурфилософия - в отличие от физики как натурфилософии соматической)66 - вносит в круг своих предметов (в круг "вещей") не только материальные тела (φυσει οντα), но и демонов, богов, людей и людьми "заведённые" установления, в том числе этику и право [254, с. 35].
Согласно раннегреческой метафизике, отражённой в самой форме высказывания Анаксимандра, человек включён в состав космоса как "вещь", как одно из проявлений (эманаций) природы [156, с. 277]. Говоря о порядке бытия вещей, Анаксимандр фиксирует основной закон бытия вообще; следовательно, этот универсальный закон имеет прямое отношение и к человеку, не выходящему за пределы этой универсальности. Антропология, представляющая собой лишь частный случай натурфилософии, неизбежно растворяет человека в "стихиях" и "законах" природы, включающей в себя и биологическое, и социальное, и духовное [103, с. 129]. Одна из решающих тенденций древнегреческого мышления как раз и состоит в стремлении представлять и строить жизнь человека именно по "модели" природы, по образцу бытия, ограниченного вечным ходом по кругу, "замкнутого в себе", внеисторичного [236, с.367]. Человек античности есть чисто природное (идентичное) существо, которое не имеет ни свободы, ни истории, ни подлинной индивидуальности. Он лишь "представляет собой" некую "вечную сущность" (природу, "идею"), раз и навсегда данную и неизбежно идентичную себе самой [131, с. 140]. Идея тождества микрокосмоса макрокосмосу не столько возвышает человека, сколько указывает ему положенное место (τοπος): место вещи наряду с другими вещами (в том числе и "космосами")67. Человек не осмыслен как личность, он слит со всем природным (физическим), в котором и смерть, и рождение следуют порядку вечного возобновления [156, с. 497]. Итак, относящееся к "вещам" относится и к человеку68.
Все вещи происходят εξ ων. Предлог εξ ("из") указывает на происхождение, причину, основание и даже материал вещи [52, ст. 387]. Денотат причастия ων от глагола ειμι ("быть"), стоящего здесь во множественном числе [40, с. 480; 262, с. 131; 52, ст. 374], может быть понят как τα οντα - "сущие" [254, с. 35]. При этом τα οντα означает не просто множественность (плюральность) сущих, но τα παντα, "всё", то есть целокупность сущего, "множественно сущее в целом" [254, с. 35]. "Из" этого целого и появляются отдельные вещи. Ясно, что Анаксимандр говорит здесь не о прямом возникновении вещей из "беспредельного", из хаоса [40, с. 480], иначе он не обозначил бы причину вещей как "ων", "сущие". Ведь у греков бытие (το ον) традиционно мыслится как предел (το περας), а небытие - как беспредельное (το απειρον) [62, с. 292]. Согласно Аристотелю, предел - это "сущность, которая есть у каждой вещи, и суть бытия для каждой вещи; ибо в этой последней - предел для познания, а если для познания, то и для вещи"; при этом предел - не только пространственная граница вещи, но и "равным образом конечный пункт для каждого предмета", его "цель"; наконец, пределом вещей является "как то, откуда они идут, так и то, куда" они уходят, ведь и "начало есть некоторый предел" (Метафизика V 17, 1022 a 4-13). Традиционная для античности связь сущности и предела (границы, формы)69 обнаруживается и у Плотина: "Эти вещи суть сущности потому, что каждая из них имеет предел и как бы форму; бытие не может принадлежать беспредельному..." (Эннеады V 1, 7) [цит. по: 62, с. 292]. Итак, начало, середина и конец всякой вещи - её "предел", её сущность, её бытие.
Вещь конечна (предельна) уже в силу одного своего наличия, в ней "быть" означает "быть конечной". Она такова κατα το χρεων, то есть сама по себе, согласно внутренней необходимости собственной сущности, а не в силу внешней принудительности (что было бы выражено термином αναγκη)70 [40, с. 480]. Граница (предел) вещи есть её базовое качество, её наличное бытие [64, с. 121]. В наличном бытии данного "что" (вещи) присутствует его отрицание как имманентная ему граница; таким образом, в своём становлении вещь естественно отрицает себя. Полагая ограниченность вещи в пространстве, мы ещё не говорим о её сущностной конечности, ибо такая граница, определяя вещь, со-относит её как таковую со всем иным ей. Но конечность вещи означает, что она сама, будучи εξ ων, в самой себе несёт небытие как собственную природу. Конечные вещи суть как наличные, но при этом в самих себе они себя отрицают, "гонят себя дальше", дальше собственной наличности. Конечная вещь не просто изменяется, она "преходит", но преходит не так, что могла бы и не преходить. Вещи "содержат зародыш прехождения как своё внутри-себя-бытие", и потому "час их рождения есть час их смерти" [64, с. 121-122].
Итак, вещи суть εξ ων, однако, будучи определены сущим, сами таковы, что существенной в них является их определённость к гибели; иными словами, они смертны по природе. Такое господство природы над вещью (над этим отдельным "что") должно занимать нас сейчас не столько как идущее извне принуждение (αναγκη), сколько как сама суть вещи71. Внешнему ещё можно пытаться противостоять, но как противостоять внутреннему? Вещь у Анаксимандра оказывается одержимой собственной природой, собственной конечностью. Вещь пассивна не только в своём внешнем отношении к вечно воспроизводящему себя универсальному ("объективному") закону72; она пассивна в отношении себя самой, то есть находится в самом отчаянном состоянии пассивности: она внутренне "объективна" (то есть только налична). Дательный падеж при слове "вещи" (τοις ουσι) как раз и указывает на такую их сущностную пассивность в самом событии их происхождения ("вещам рожденье", а не "вещи рождаются").
Человек, как мыслящая вещь, способен обнаружить в себе эту роковую пассивность. Такое "постижение сущего в его бытии" [254, с. 56], постижение "что" в его "как", открывающее внутреннюю неизбежность смерти по самой природе, - не столько пессимистично, сколько трагично [254, с. 56; ср.: 40, с. 480]. Вещь, как конечное, должна иметь рождение (не могла не родиться); но в самом факте вступления вещи в бытие уже содержится программа её обязательной гибели. Как всякое трагическое, эта необходимость смерти открывается мыслящей вещью не как внешняя угроза, случайная для самой сущности вещного бытия, но как такое уничтожение, которое проистекает из природы самого гибнущего. Диалектика жизни и смерти, открытая человеком в самом себе, и есть основание того трагического пафоса, который уже в силу своего именования (παθος) подразумевает страдательность как осознанную пассивность.
Все вещи, согласно Анаксимандру, разрушаются в то же, из чего они возникли (εξ ων - εις ταυτα). В этом положении мы обнаруживаем универсальный для античной онтологии принцип эманации. В самóм понятии об эманации уже содержится утверждение временности (конечности) всего про-изо-шедшего, устанавливается совпадение начала и конца индивидуального бытия. Для всей греческой философии идея эманации остаётся одной из главных интуиций, фиксируя открытый в наличном круговорот сущего. В неоплатонизме (в частности, у Прокла) эта идея достигает окончательного диалектического и структурного оформления, включив в себя обязательные три стадии: "пребывание на месте", эманация, "возвращение" [156, с. 213]. О том же говорит и Анаксимандр (εις ταυτα).
Мы видим, что начальный и конечный "пункты" наличного бытия вещи (её "рождение" и "смерть") метафизически совпадают: "история бытия, таким образом, предстаёт в виде замкнутого круга" [40, с. 482]73. На такую замкнутость пути вещи указывают те слова, которыми Анаксимандр обозначает её конечность: γενεσις и γινεσθαι. Вещь не просто исчезает (пропадает, гибнет), но для неё "возникает гибель" [40, с. 480, 482], "происходит пропадание" [254, с. 34]. Греческий язык74 называет смерть рождением, повторяя известную интуицию примитивной культуры. Этот язык говорит о человеческой смерти: εξ ανθρωπων γιγνομαι - родиться (про-изойти) из человека [52, ст. 271]. Поминки по умершему в этом языке - и θανατουσια [52, ст. 596], и γενεσια [52, ст. 266]75. Умирать значит рождаться в смерть.
Круговой ход бытия вещей подчёркивается утверждением диалектики рождения-смерти, взаимной обратимости и даже тождественности этих событий. Γενεσις не означает возникновения нового, а φθορα (ионийское "пагуба", "уничтожение", "истребление", "порча", "гибель" [52, ст. 1312]) не говорит о чём-то принципиально противоположном рождению. "Скорее γενεσις и φθορα, - пишет Хайдеггер76, - должны мыслиться из φυσις и внутри неё: как пути самопросвечивающего про-ис-хождения и захода. Пожалуй, мы могли бы перевести γενεσις как выступление, но при этом выступление (экстаз вещи. - С.А.) мы должны мыслить как вытекание77, которое каждому выступающему позволяет утечь из сокровенности (в порождающем лоне природы. - С.А.) и проистечь в несокровение (то есть в эмпирически наличное. - С.А.). Пожалуй, φθορα мы можем перевести через прехождение (ср. с приведённым выше мнением Гегеля о внутренней конечности как прехождении. - С.А.), но мы должны при этом мыслить прехождение как такое хождение, которое выступает обратно и сходит в сокровение и от-ходит (то есть умирает. - С.А.)" [254, с. 44]. Итак, согласно Хайдеггеру, изречение Анаксимандра "речёт о том, что проистекая притекает в несокрытое и, сюда притекшее, отсюда отисходящее, сходит" [254, с. 45]. Рождение и гибель - в равной мере исход вещи.
Так понимаемое прехождение вещи представляет собою переход лишь в неистинном смысле, как и всякое "движение" по кругу (повторение) не есть поистине движение, не есть переход к иному. Вещь "переходит" от своего ничто к нему же, утверждая таким образом не своё положительное "что", а лишь то "как" (бытие), согласно которому она "преходит"78. В таком псевдо-переходе вещь - только средство подтверждения того закона (порядка), во исполнение которого она преходит и который сохраняет себя неизменным в этом ложном круговом движении вещей. Конечность вещей при этом как раз и не переходит в своё иное [64, с. 122]; она постоянно воспроизводима в "движении" вещи как универсальный закон. Конечность как сущность конечных вещей регулярно утверждает себя через их отрицание. Эта сущность, подчиняющая себе вещи не только извне, но прежде всего изнутри их самих, и есть φυσις, заключающая в себе начала и концы вещей [ср.: 254, с. 44]79. Речь о "природе" (φυσις) необходима здесь потому, что остановка мысли на фиксации выхода вещей εξ ων и возвращения их εις ταυτα ещё сохраняла бы иллюзию их движения "от" и "к" в этом "переходе от происхождения к отходу" [254, с. 57]. Φυσις устанавливает тот континуитет вещей и их αρχη, который и обнаруживает мнимость указанного перехода80.
В ряду многочисленных значений термина "природа" нас интересует сейчас то, которое ближе всего к содержанию рассматриваемой фразы Анаксимандра. Природа у греков - это "внутренние, непосредственно не очевидные взаимосвязи или закономерности, определяющие данное явление"; так понимаемый термин "φυσις" оказывается по своему значению "весьма близким понятию сущности" [207, с. 78]81. Природа, "естество" вещи есть её при-рождённая сущность. Поэтому φυσις - это прежде всего "происхождение" вещи82, но также и "принцип всякого роста" и "регулярный порядок" мира вещей [156, с. 233] - тот порядок, который эйдетически дан изначально и лишь разворачивается (выражается) через происхождение и исчезновение вещей83. Природа определяет уродившееся в его врождённых склонностях; общая же склонность всех вещей есть их неизбежное склонение к гибели, "заход". Именно природа, согласно Анаксагору, предопределяет смерть всякого живого существа (Диог. II, 13); в природе всего, по мнению Мелисса, - быть подверженным гибели (30 A 12 DK). При этом φυσις не есть нечто действующее на вещь, но, согласно реконструкции Коллингвуда, - "всегда лишь нечто внутренне присущее данной вещи, заставляющее её вести себя так, а не иначе" [24, с. 111]. Вещь ведёт себя от рождения к смерти.
Термин "φυσις" уже в ранней греческой мысли употребляется для характеристики процессов возникновения и развития [148, с. 43]; этим термином обозначаются и факт рождения (возникновения), и то, из чего рождается нечто, и та внутренняя сила, которая является причиной процесса развития, и тот результат (итог), к которому этот процесс направлен. Ряд важнейших терминов - таких, как αρχη (начало), γενεσις (рождение, происхождение), δυναμις (сила), ουσια (сущность), στοιχειον (элемент), - оказываются лишь именами для тех или иных аспектов φυσις [207, с. 81]. Природа мыслится как то "глубокое и целостное единство", в котором указанные аспекты могут быть выделены лишь условно, в абстракции [207, с. 80].
У Платона мы встречаем чёткое различение φυσις и материального αρχη (что очень важно для точного понимания фразы Анаксимандра). То, что Платон называет природой, является сущностью вещей, их существенным смыслом, совокупностью их идей и законов [156, с. 243]. Природа вещи не заключена в её материальном начале. Лишь те ложные учения, под влиянием которых развивается душа "нечестивого человека", объявляют ноуменально данную φυσις чем-то вторичным, хотя именно она-то и служит "причиной возникновения и гибели всех вещей" (Законы 891 e). Эта высшая природа как "душа" мироздания есть на самом деле "нечто первичное, возникшее прежде всех тел" (Законы 892 а), то есть прежде "природы" в материальном, неистинном смысле. Эта "душа", как "закон" (или "ум") космоса, как истинная природа всего опытно данного (ср.: Кратил 400 а), метафизически первична, и потому справедливо называть "природой" именно "закон", а не "тело" (Законы 892 b), "душу", а не стихийные "первоначала" (Законы 892 с). Как видим, Платон запрещает отождествлять материальное αρχη и φυσις.
Итак, "природа" для Платона есть "внутренняя сущность вещей" [156, с. 244], то есть их идея, их закон (νομος) [24, с. 116]84. Поэтому φυσις не означает отдельной, особой (телесной) области сущего; она указывает на универсальное начало-начальство, на "бытие" вообще. "Греческое слово "φυσις" должно пониматься в семантике "бытия", а не всеобщей единой сущности, скрывающейся за многообразием явлений" [24, с. 118]. Следовательно, говоря "природа", мы указываем не на "что", а на "как" (κατα φυσιν; у Анаксимандра - κατα το χρεων). Природа всегда есть природа чего-то [24, с. 120] (сказать "чья-то" не позволяет сам контекст греческого суждения о φυσις, ибо в этом контексте не вещь имеет природу, но вещь есть по природе и, таким образом, именно природа "имеет" вещь). Отсюда становится очевидной вторичность и необязательность для греческой философии строгого "расщепления" [24, с. 119] мышления о бытии (о "φυσις") на сферы физики (фисиологии) и метафизики (онтологии): выходя из "физического" в "метафизическое", мысль всё же не выходит за границы "природного", оставаясь в горизонте φυσις.
Согласно Аристотелю, природа в первичном и собственном смысле слова "есть сущность (ουσια), а именно сущность вещей, имеющих начало движения в самих себе как таковых" (Метафизика V 4, 1015 а 13-15); "всё существующее по природе имеет в самом себе начало движения и покоя" (Физика II 1, 192 b 15), в том числе, следовательно, и начало собственного движения к концу. По природе существуют наряду с "вещами" и "простые тела", то есть αρχη (Физика II 1, 192 b 10; ср.: Метафизика V 4, 1014 b 30-35). "Природа" есть не только "первая материя", лежащая в основании всех само-сущих предметов, но и "форма" (μορφη), "вид" (ειδος) этих предметов (Физика II 1, 193 a 28-32), а также их "цель" (Метафизика V 4, 1015 a 10)85; природа, следовательно, представлена здесь тотально: φυσις есть бытие "в своей данной тотальности" [131, с. 140]. Существующее по природе (само-сущее) являет собой прямое совпадение природы и сущности: "природою называется сущность существующих от природы вещей" (Метафизика V 4, 1014 b 35). "Искусственные" же вещи включены в природу через посредство составляющего их материала (Физика II 1, 192 b 20) и через то начало их бытия, которое находится "либо в другом и вовне" их (но не вне природы), либо в них, но не "в самих по себе, а <...> по совпадению" (Физика II 1, 192 b 30-32). В конце концов, как видим, все вещи прямо или косвенно определяются природой (ср.: Физика II 8, 199 a; Метафизика V 4, 1015 a 10-15); во всяком случае, для человека (как сущности, как само-сущей вещи) природное определение является очевидно актуальным.
В сферу аристотелевской физики входит и телеология, и психология; познание эйдоса составляет не менее важную задачу физики, чем познание материального субстрата [207, с.83]. У Аристотеля, таким образом, φυσις относится не только к телам, даже не только к универсальной целостности тел (ср.: О небе I 1, 268 b 5-10), но и к душе, и к ноуменальному, и к бытию в целом [156, с. 248]86. В этом можно видеть единство понимания "природы" Платоном и Аристотелем, которые (каждый по-своему) проясняют монистическую интуицию Анаксимандра.
Значит, вещи, рождаясь εξ ων, бывая в переходе и прехождении, оставляют эти τα οντα, но не выходят за грань природы, тотально определяющей их κατα το χρεων87. Последнее указывает как раз на ту силу, которая господствует над вещами в пору их пре-хождения не как внешняя им αναγκη этих τα οντα, но как их общая сущность: "φυσις не есть лишь вообще исходное распоряжение над подвижностью подвижного, но она принадлежит к самому этому подвижному таким образом, что это последнее само по себе от себя самого и по отношению к себе самому распоряжается своей подвижностью" [255, с. 47]. Ложность этой "подвижности" - в том, что φυσις как "бытие-к-себе" [24, с. 127] "остаётся (пребывает) в своей подвижности не только само-при-себе, но <...> возвращается как раз само-в-себя"88; φυσις есть такой "род бытийствования", такой "саморазворачивающийся подъём", который есть в то же время "возвращение в себя" [255, с. 47-48], самосворачивающийся спад. Таким образом, если αρχη вещи ещё можно мыслить вне самой этой вещи (как τα οντα, из которых и в которые она про-ис-ходит), то φυσις есть в определённом смысле сама вещь, и как бы последняя ни про-ис-ходила, она не отходит из природы.
Всеобщая одержимость природой делает даже богов простыми орудиями (или, в лучшем случае, олицетворёнными знаками) универсальной неизбежности раз и навсегда установленного порядка; боги в античности вполне стихийны, "физичны" [156, с. 497]. Под именем Юпитера, например, почитается "сила постоянного и вечного закона, которая как бы является руководителем жизни и наставником в обязанностях" (Хрисипп), а также "фатальная необходимость (fatalis necessitas) и извечная истинность (sempiterna veritas) будущих событий" (Цицерон. О природе богов I, 40). Зевс, по Еврипиду, есть "необходимость природы" [см.: 156, с. 241]. Этот "отец богов и людей" так же принадлежит наличному, как и небесный свод, им олицетворяемый [63, с. 127]: "ουρανοι" (небеса) Анаксимандра суть "θεοι" (боги) [148, с. 47], включённые в природу89. Бог, согласно "древнему сказанию", излагаемому Платоном, "держит начало, конец и середину всего сущего. Прямым путём приводит он всё в исполнение, вечно вращаясь при этом, согласно природе. За ним всегда следует правосудие (Δικη), мстящее тем, кто отступает от божественного закона" (Законы 715 е). Верховное божество представлено здесь как олицетворение универсальной φ90υσις. Античные боги являются "только обобщением соответствующих областей природы" [153, с. 157], в которой они участвуют, но которую не превосходят, оставаясь во всех своих качествах и способностях имманентными ей.
Люди, боги, сверхбожественное начало мыслятся античными философами как совместно включённые в единый континуум, позволяющий полагать лишь относительное различие человеческого и божественного, конечного и абсолютного. Частное сущее, хотя и "отличается" от абсолютного, но "в субстанциальном смысле" есть то же, что и абсолютное [156, с. 153], ибо само это "отличие" имеет частный характер. Любой античный бог "мыслится природным, как и сам человек, а человек не лишён божественных характеристик" [162, с. 66]. Вспомним передаваемые Лукианом слова Гераклита о том, что люди суть смертные боги, а боги - бессмертные люди (22 C 5 DK; ср.: 22 B 62 DK); этот взгляд присутствует и в герметизме, утверждающем, что "земной человек - смертный бог, а небесный бог - бессмертный человек" (22 B 62 b 6 DK = Corpus Hermeticum X, 25; XII, 1)91. Античное божество вовсе не является высшим воплощением идеального "абсолюта" (ибо пантеистической метафизике недоступно идеальное); оно есть только "высший предел человеческого состояния, неотъединимый от космического и природного бытия" [236, с. 367].
Природа, как сущность (ουσια) всего92, - это не особая сфера и не особый род сущего, но всякое сущее как таковое [24, с. 130]. Если же сущее как таковое есть природа как "бытие само по себе" [24, с. 129], то это значит, что в вещах Анаксимандра их сущность особым образом совпадает с их существованием, их "что" поглощено их "как", природа (бытие) вещей растворила в себе их индивидуальность. Сущность вещи, таким образом, состоит в отрицании обладания сущностью - в бессилии вещи перед природой-бытием как тотально наличным. Вещь само-бытна только в том смысле, что она являет собой само-бытность как природу - такое "присутствие, в котором ничего не присутствует" [38, с. 74]. Эта природа-самобытность довлеет себе, она есть "самоосуществление, то есть начало, охватывающее сущее в единстве его истока, закона и конца (цели)" [24, с. 134]. Φυσις, понятая как "тотальный монизм" [24, с. 12], пресекает любую возможную мысль о начале самой природы [24, с. 139]93. Источником всякого движения (пре-хождения) является именно φυσις, но в этом качестве "источника" природа не есть внешняя причина для изменяющейся вещи94; φυσις как тотальное бытие имманентна всякой вещи на всяком этапе "движения" последней, ибо быть причиной вещи означает для неё быть причиной только себя самой.
Совпадение в φυσις бытия и становления ("становление" вещи есть лишь "пре-бывание" природы) указывает на то, что вещь как "естественно сущее" [24, c. 140] (точнее - то, что из естественно сущих), становясь, становится только собой, а значит - только таким смертным, чья сущность положена исключительно в "объективном", в наличном. "Φυσις есть ουσια, - пишет М.Хайдеггер, - то есть существенность того, что отличительно помечает сущее как таковое, а значит, бытие". Сущность вещи как природа-бытие есть наличное (в наличии), "а "в" наличии есть всякий раз φυσις" [255, с. 55]. "Это от φυσις сущее есть ουσια, существенность в смысле "недвижимости" от себя95 самого предлежащего" [255, с. 70]. Вспомним, что у Платона и платоников φυσις есть по истине ιδεα, смысл, "внутренняя сущность вещей" [156, с. 244, 256]; идея же всегда ноуменально налична, и в этой своей ноуменальности она абсолютно тотальна в сравнении с физически-относительной тотальностью вещи96. Наконец, "окончательное определение природы как субстанции вещей" у Аристотеля указывает на безысходную тождественность этой субстанции "со своим собственным эйдосом" [156, с. 248]. Таким образом, в природе всякой вещи её бытие ("как") есть только "так", то есть наличное. На такую онтологическую однозначность природы как наличного бытия указывает, по мнению М. Хайдеггера, высказывание Гераклита о том, что φυσις κρυπτεσθαι φιλει (22 B 123 DK). Природа любит прятаться ("бытие любит скрывать себя"); это значит, что природа-бытие совершенно несокрыта (α-ληθεια) и потому, находясь в своей несокрытости, только любит скрываться [255, с. 109]. Истина как несокрытость, как эйдетически наличное и тавтологичное означает то, что всякое сущее (вещь, начало, космос, душа, идея, ум) в своём бытии равно природе. Бытие, неравное природе, для античной мысли не задано.
Вещи Анаксимандра отпущены εξ ων только как конечные. Именно поэтому их бытие-природа (их "как") не условно, а безусловно, ибо оно эйдетически предопределено к окончанию. Вещь безусловно (безнадёжно) конечна. Такая безусловность наличного бытия (φυσις) фиксируется греческой мыслью в идее судьбы. Судьба как противящееся индивиду отрицание его значимости подавляет частное и утверждает универсальное. У Анаксимандра судьба вещей описана как правосудие97, совершающееся над каждой отдельной вещью. Судьба-суждение в своей судебной функции есть δικη, справедливость, гарантия порядка и меры;98 во всех своих значениях судьба-δικη указывает на "вечную" повторимость наличного как целого, тотального [ср.: 195, с. 317-318]. Согласно этому справедливому порядку прехождения все вещи διδοναι δικην και τισιν, платят штраф и пеню99 (несут справедливое возмездие) за обиду (несправедливость, бесчинство, αδικια). "Жертвоприношение" вещей в пользу "объективного", как всякая жертва, есть способ возмездия за неправду частного существования; регулярность такого жертвоприношения выражает законность и постоянство обмена общего на частное и обратно.
Судьба в качестве δικη должна, как может показаться, акцентировать этический аспект мирового порядка. Для человека, действительно, было бы морально значимым "согласие с природой" в качестве эталона поведения (киники), основы нравственности (стоики) [207, с. 83]. Однако этическое требует различения данного и заданного (наличного и должного); такого различения мы не встретим в греческой мысли. В облике "космической справедливости" здесь выступает всё та же "природа"; сам натурфилософский ηθος понимается как совокупность врождённых нравов, как данное человеку природой [103, с. 128]. Совпадение в "φυσις" понятий внутреннего и внешнего закона ("ουσια" = "δικη") не оставляет места для собственно этического, редуцированного здесь к фатальной справедливости. Субъективная воля человека не подчиняется и не противится объективной природной "воле"; она есть эта природная "воля", воля к гибели индивидуального. "Δικην διδοναι" и "τισιν διδοναι" равно означают "претерпевать наказание", чем ещё раз фиксируется пассивность вещей. "Неприметный закон земли хранит её в смирении возникновения и гибели всех вещей внутри отмеренного круга Возможного, которому каждая вещь следует и который тем не менее ни одной из них не ведом" [253, с. 191]100.
Судьба как единая природная "воля" выражается в античной мысли различно: "греки именовали её Судьбой-Мойрой, Ананкой-Необходимостью"; Гераклит называл её Логосом (Λογος) (22 B 1 DK; ср.: Диог. ΙΧ, 8), Анаксагор Умом (Νους) (59 B 12 DK; ср.: Филеб 30 с), Платон - "беспредпосылочным началом" (αρχη ανυποθετον) (Государство VI, 510 b), Аристотель - перводвигателем (Метафизика IV 8, 1012 b 30), стоики - "творческим огнём" [156, с, 497]. Общий смысл всех этих и подобных им "концептов" - поглощение единичного единым, неизменность "закона" включения отдельного во всеобщее, в универсальную φυσις.
Следование вещей "закону" неизбежно, хотя сам "закон" вещам не ведом. Даже человеку, наделённому разумом, не известна его судьба. Но если судьба заранее не известна, то человек оказывается не только объективно не виновным в своём "беззаконии", но и субъективно (психически) не зависимым от рока [156, с. 280]. Как бы человек ни поступал, он действует вслепую, не зная ни причины своего происхождения, ни своих конкретных целей [153, с. 236], ни времени и образа своего ухода (κατα την του χρονου ταξιν). Однако при этом ни один человек не в силах преодолеть природу и нарушить предопределение судьбы; ни один человек не располагает возможностью обращения к сверх-природному, сверх-данному, о котором он не знает. Античный человек, к каким бы целям он субъективно ни стремился, способен только возвращаться к собственной природе (хоть даже и в других телах); за пределы космического "тела" он выйти не может [63, с. 127], как не может выйти за свои пределы и тот космос, к которому он при-лажен. Человеку и космосу "некуда" уйти от себя; остаётся без конца перевоплощаться и вечно возвращаться [161, с. 704]. Античный человек легко переступает через индивидуальное, но через границы природы - никогда.
Таков трагический герой-фаталист [153, с. 158-159, 236], знающий о наличии неизбежного предопределения, но не знающий, в чём оно состоит. Поэтому античный человек действительно не ведает, что творит [112, с. 109]. Однако господство судьбы как раз и делает возможным героическое поведение, ибо рок лишает человека ответственности: не то или иное событие соответствует тому или иному совершённому ранее поступку, но всякий поступок уже сам по себе есть прямое выражение необходимости, положенной изначально и навсегда.101 Даже борьба с роком вписана в при-родную судьбу героя [237, с. 384]. Античный герой "идёт своим путём, неизбежным, как движение солнца"; в конце этого пути - всегда гибель: победа героя внутренне включает в себя его предстоящую смерть, которая "входит в баланс его победной судьбы" [13, с. 65]. Античный "героический фатализм" [161, с. 705] диалектически сливает в себе самонадеянность, гордость индивида (отчаянность) и его же бессилие, уныние (отчаяние). Языческому герою не на кого надеяться [156, с. 290-291], он сам-по-себе, он наглухо "вставлен" в природу102. А в "природе" героя - налагать на себя руки в знак своей принадлежности к самой сути бывающего; недаром Диодор (Библиотека IV, 61) утверждает, что самоубийство есть именно героическое деяние (ηρωικη πράξις) [13, с. 69].
Φυσις не отпускает вещи, отпускаемые началами; каким бы самостоятельным и совершенным ни был героический индивид, он никогда не приобретёт никакого сверх-физического значения, и его деятельное "одинокое самоудовлетворение" останется в границах той же "суеты", в которую погружён и весь остальной мир [144, с. 291]. Эта "суета", это "вечное возвращение" формирует мир как гармонически-прекрасное, как κοσμος; но эта же конвульсивная суета - "яко всяцей вещи есть время и суд" (Еккл 8:6) - вызывает отвращение у человека этического103.
Для "героя" активно-этическое (долг) легко замещается пассивно-эстетическим (чувствительностью, пафосом)104. Такая подмена объясняется опять-таки тем, что средоточием смысла античного φυσις является не этический, а именно "эстетический (эйдетический) опыт совершенного произведения искусства" [24, с. 170]. Идея (ειδος), как ноуменально наличное, - не цель нравственного усилия, но предмет умного созерцания105. Гармония кругового хода вещей не предполагает никакой аксиологической вертикали, потому и δικη здесь - "размер", "чин", "строй", "лад" [ср.: 254, с.57]106, то есть понятие эстетическое, но не этическое. Гераклит, указывая на гармонию замкнутости, говорит: "Путь вверх-вниз один и тот же" (22 B 60 DK); "совместны у круга начало и конец" (22 B 103 DK). Для античного человека "судьба" есть в первую очередь "прекрасная и самодовлеюще-успокоительная картина (но не икона. - С.А.) жизни, то есть эстетически выразительный рисунок бытия космического, внутрикосмического и, прежде всего, человеческого" [237, с. 389]. Миросозерцание, высказанное в речении Анаксимандра, является строго эстетическим [40, с. 487]; такое его содержание свидетельствует, как видим, вовсе не о распространении этического на космическую жизнь, но, наоборот, о захвате и поглощении этического эстетическим,107 в горизонте отождествления которых действительно "этика и эстетика - одно" [57, с. 99; см.: 9, с. 93-95].
Такая "эстетическая этика" регулирует не только отношения между вещами и началами (о чём в точном смысле и сообщает высказывание Анаксимандра); "αλληλοις" можно распространить и на взаимные отношения вещей друг к другу, а также на традиционную оппозицию "Космос-Хаос". Поскольку вещь не поступает, но просто есть, постольку встречающееся в литературе понимание δικη лишь как закона возмездия вещам за их несправедливое "поведение", за их "агрессивность" друг против друга, за стремление "к преобладанию над другими вещами" [262, с. 131; 128, с. 60, 64; 83, с. 30-32] не может считаться верным. Ведь у Анаксимандра речь идёт совсем не о поступке, но о природе (κατα το χρεων!); следовательно, вещи уничтожаются не вследствие их действия (могущего быть тем или иным), а в любом случае, то есть по своей природе. Значит, если и можно здесь вести речь о диалектике меры, то исключительно в горизонте φυσις, иначе говоря, в установке тотальности, включающей все возможные отношения. Как бы ни интерпретировали разбираемое высказывание, главный его смысл сохраняется во всех вариантах понимания: всякое вот это отдельное как таковое виновно и подлежит уничтожению.
Индивид, будь то вещь, живое существо (одушевлённая вещь) или космос, κατα την του χρονου ταξιν исчезает во всеобщем, поглощающем всякое определённое индивидуальное и тем самым подтверждающем его "предельность". Это предустановленное исчезновение отдельного в беспредельном осуществляется посредством другого отдельного (αλληλοις); отсюда и оправданность применения термина "κοσμοι" (12 A 10 DK) Анаксимандром [ср.: 208, с. 12]; этот термин требуется для объяснения процесса регулярной замены одного мира-вещи другим миром-вещью [208, с. 11; ср.: 40, с. 482]108.
В таком случае αδικια есть сущность всякого чина; высшая δικη состоит не в ладе вещи, а в её при-лаженности к отходу. Иначе говоря, наличное (φυσις) Анаксимандра есть не красота бывающего "вот", но красота-безобразие рождения-смерти. Быть согласно δικη - значит удовлетворять кредитора, рассчитываться с жизнью (απαλλασσω του βιου). В конечном счёте, этот кредитор - то "беспредельное" (το απειρον), то "окружающее" (το περιεχον) (12 B 2 DK; ср.: Аристотель, О возникновении B 5, 332 a 20), то "последнее" (το εσχατον), претерпевание которого (τα εσχατα παθειν) и означает смерть частного [52, ст. 536]. Это объемлющее (περιεχον) извне-изнутри всякую вещь, одержимую собственной-универсальной "объективной сущностью", есть Χαος απειρος [40, с. 484; ср.: 249, с. 62]109. Таким образом, всякая отдельная вещь κατα φυσιν являет общую склонность к хаотичности.
Эта источная хаотичность Анаксимандра именуется и "бесконечной природой" (φυσις απειρος) (12 A 9 DK; 12 A 10 DK), и "природой бесконечного" (φυσις του απειρου) (12 A 11 DK), и "бесконечностью природы" (infinitas naturae) (12 A 13 DK), и просто "бесконечным" (το απειρον) (12 A 1 DK; 12 A 10 DK). Из этого истока исходят все "небосводы" (ουρανοι) и "миры" (κοσμοι) (12 A 9 DK; 12 A 11 DK; 12 B 2 DK), заключённые между рождением и гибелью, "причём испокон бесконечного веку повторяется-по-кругу всё одно и то же" (12 A 10 DK). Γενεσις и φθορα образуют границы (τα περατα) каждого мира (космоса); этот ограниченный αιων, "жизненный век" космоса, оканчиваясь, даёт место следующему "эону", а все эоны объемлет (περιεχει) "бесконечный век", идущее по кругу время (Χρονος) [148, с. 57].
"Порядок времени" Анаксимандра (του χρονου ταξιν) напоминает орфический κυκλος της γενεσεως (круг рождения) [40, с. 482]. Мнение Анаксимандра о возникновении вещей (миров) из хаоса110 и мерном уничтожении их в нём же [ср.: 262, с. 131] представляет собой философскую экзегезу учения орфиков о божественном Хаосе как начале и конце всякой индивидуальной жизни [40, с. 484-485]111. Орфический Хаос "неизмерим" (то есть беспределен), "нерождён"; из него происходит всё [157, с. 716]. Эта "Бездна", согласно изложению Прокла, "получила в удел безвидную природу" и потому представляет собой не "вид", но "место видов" (ειδον), "непрерывный мрак" [157, с. 723]. Хаос полагается орфиками в начале цепи развёртывания сущего: "Перво-наперво возник Хаос, а затем широкогрудая Гея <...> и Тартар туманный в недрах широкодорожной Земли <...> и Эрос" (Гесиод, Теогония 116-120)112. Дамаский (V-VI вв.), комментируя это высказывание Гесиода, думает, что автор, "повествуя о том, что "первым возник Хаос", назвал Хаосом непостижимую и совершенно единённую природу умопостигаемого, а Землю (= Космос. - С.А.) выводит из него как своего рода начало (αρχη) всей генеалогии богов" (1 B 12 DK) [ср.: 157, с. 711].
Значит, Хаос орфиков - та же φυσις, только рассмотренная в аспекте беспредельности (не-определённости). Эта непостижимая природа умопостигаемого, будучи осмыслена в контексте античного физического универсализма, приводится в соответствие с орфическим Временем как невозникающим истоком всего (1 D 60 DK)113. "Именно, - пишет Симпликий, - после единого начала Всего, которое Орфей воспевает как Хронос <...>, выступили <...> Эфир и "страшная бездна", первый - в качестве причины эманации богов, содержащей в себе предел, и второй - эманации, содержащей беспредельность" [157, с. 723]. Эфир, подтверждает это мнение Прокл, "водружён в умопостигаемом с точки зрения предела", а Хаос - "с точки зрения беспредельности" [157, с. 723-724]. Хаос, таким образом, есть беспредельный аспект беспредельного Хроноса-природы, начала эманации всякого о-пределённого. Конечная вещь, несущая в себе универсальную природу и несущаяся ею, как оформленная бесформенность, есть природный поворот (τρόπος114) "согласно приговору Хроноса" [148, с. 52, 56]; вступая в круг бытия и обращаясь от начала к концу, она неизбежно оборачивается смертью.
Идея координации Хаоса и Эфира115, диалектически "выступающих" из Хроноса-природы (как, впрочем, и идея со-чинения чина и бесчиния), указывает не только на генетическую определённость Хаоса116, но и на его бытийную обусловленность предельным: Хаос держится только в противостоянии Эфиру (пространственно организованному Космосу)117. Поглощая Космос (положительный μη ον), Хаос (отрицательный μη ον) оборачивается абсолютным небытием (ουκ ον), аннигилируясь в чистое "как" (φυσις). "Эфир" (Космос, предел) сообщает о том, что бывает; "Хаос" (беспредел) сообщает о том, откуда и куда бывает это "что"; "Хронос" (природа) сообщает, что это бывание всякого "что" всегда "так"118.
Орфическая космогония, схваченная в высказывании Анаксимандра119, предстаёт как метафизическая тавтология, не предполагающая никакого трансцендирования наличного. Суть бытия индивида в этом наличном можно выразить краткой формулой орфиков: ΒΙΟΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ-ΒΙΟΣ-ΑΛΗΘΕΙΑ [212, с. 87-90]. Жизнь и смерть как противоположности неизбежно (κατα φυσιν) переходят друг в друга. Мировое целое (το παν) регулярно распадается на части (индивиды), как Дионис-Загрей, растерзанный титанами; однако затем эти индивиды возвращаются в целое, как возрождается расчленённый Дионис [212, с. 91-93]. Жизнь, таким образом, есть кара, наказание за титанический грех, локализованный в человеческом теле. Преодоление индивидуальной жизни возможно через смерть этого греховного тела и освобождение души, однако закон-δικη возвращает душу в новую плоть вплоть до окончательного "возмещения неправды" отдельности [40, с. 482; 212, с. 90-91, 94]. Бессмертие души, реинкарнация, отдельное тело как тюрьма или могила, преступность индивидуальности и её конечное уничтожение во всеобщем, вот основные темы орфической метафизики, звучащие в высказывании Анаксимандра120 и получившие решающее оформление у Платона121.
В "Кратиле" Сократ говорит о душе как носительнице "природы" тела, а также о том, "что и всякую другую природу тоже поддерживает и упорядочивает (то есть выражает, оформляет. - С.А.) одновременно с умом душа" (Кратил 400 а). "В таком случае по этой силе, что поддерживает и несёт на себе природу [вещей], она правильно называется "природоносительница" (φυσεχη), а для красоты можно говорить просто "душа" (ψυχη)" (Кратил 400 b). "Многие считают, что тело (σωμα) подобно могиле (σημα), скрывающей погребённую в ней в настоящей жизни душу122. В то же время эта могила представляет собою также и знак (σ123ημα), ибо с её помощью душа обозначает то, что ей нужно выразить (σημαινει), и потому тело правильно носит также название σωμα. И всё же мне кажется, что скорее всего это имя установил кто-то из орфиков вот в каком смысле: душа терпит наказание - за что бы там она его ни терпела - а плоть служит ей оплотом, чтобы она смогла уцелеть (σωζηται), находясь в теле как в застенке. Так вот, тело есть так называемая плоть для души, пока та не расплатится сполна" (Кратил 400 с; ср. 1 B 3 DK)124.
Та же мысль встречается и в диалоге "Горгий": "И правда, - говорит Сократ, соглашаясь с мнением Эврипида о тождестве жизни и смерти, - как-то раз я слышал от одного мудрого человека, что теперь мы мертвы, и что тело (σωμα) наша могила (σημα)" (Горгий 493 а)125. Этот "мудрый человек" видимо, пифагореец Филолай, с которым общался Платон (44 A 1 DK; 44 A 5 DK; ср.: 44 B 14 DK) и который выражал общее мнение пифагорейцев по этому поводу, а именно: "что души всех людей привязаны к телу и здешней жизни и что бог постановил: если они не останутся здесь до тех пор, пока он не освободит их по собственной воле (то есть по закону справедливости. - С.А.), то будут ввергнуты в ещё более многочисленные и страшные напасти. Поэтому все опасаются господской угрозы и боятся самовольно уйти из жизни и лишь смерть в старости приемлют с радостью, убеждённые, что освобождение души происходит по решению господ" (44 B 14 DK).
Такое орфико-пифагорейское обоснование запрета, налагаемого на самоубийство, мы как раз и встретим у самого Платона в "Федоне" (Федон 61 de), где Сократ говорит об этом со слов Филолая, а Кебет вспоминает, что слышал у себя в Фивах нечто подобное от самого упомянутого пифагорейца. Как видим, фундаментальная идея о преступности частного, мифологически выраженная у Орфея-Гесиода-Филолая-Платона и метафизически оформленная у Анаксимандра, не так уж "чужда ионийцам" [203, 1, с. 806]. Кстати, согласно схолии к "Горгию", тот "мудрый человек" и "хитроумный слагатель притч, вероятно сицилиец или италик" (Горгий 493 а), это Эмпедокл из Акраганта, близкий к пифагорейцам [203, 1, с. 806-807; ср.: 31 A 1 DK] и назвавший однажды тело "землёй, в которую облачён человек" (31 B 148 DK), то есть могилой души. (О Платоне и Эмпедокле в связи с темой самоубийства речь пойдёт ниже.) Правда, необходимо заметить, что даже у Платона душа не абсолютно противопоставлена телу и даже после смерти своей плоти продолжает оставаться "теловидной", σωματοειδης (Федон 83 d) [ср.: 236, с. 371-372]; склонность же к тому или иному "овеществлению души" выражает собой типичную для пантеизма установку на "монистическое" понимание человека [103, с. 126], не способное различить природу и личность126.
В высказывании Анаксимандра, таким образом, мы имеем дело с концептуальной обработкой орфико-эпической "теокосмогонии" (онтологии). Философия Анаксимандра "понятна лишь на фоне орфических учений" [40, с. 485]. Эта философия, заключённая в краткой фразе, поднимает "самые важные вопросы человеческого духа" [40, с. 487], прежде всего - "проблему греха и смерти, возведённую <...> до степени мировой проблемы"; подняв вопросы "о неправде и смерти", эта философия выразила себя в виде "эстетико-телеологического представления о космосе" [40, с.488], диалектика бытия-небытия которого утверждает смерть в качестве необходимого момента универсальной гармонии себе довлеющей природы127. Орфическое "бессмертие души" (реинкарнация и восхождение в божественные сферы) производно от "бессмертия" Космоса128; поскольку же Космос приговорён законом-δικη к уничтожению в хаотической "бездне", постольку индивидуальная душа в конце концов повторяет путь каждого из своих тел - путь отхода отдельного конечного в то неразличимо-беспредельное ничто, которое извне-изнутри (тотально) схватывает всякое нечто. Это отдельное "что" в своём полном выражении оказывается лишь вот-бытием (Dasein), но ещё не существованием, не трансцендированием природно данного [ср.: 42, с. 52]. Натурфилософия, ориентированная и соматически, и эйдетически, но в любом случае - только "в сторону" природы, - такая "натурфилософия находила эгоизм во всём творении" [145, с. 175] и в то же время с облегчением открывала для себя относительность и условность этого бесчинного "эгоизма": вещи, существа, души, начала и миры изначально и навсегда "приведены к послушанию в соответствии с законами Вселенной" [145, с. 175]. Господство этих "законов" превращает смерть всякого отдельного сущего в обычный физический (стихийный) процесс, лишь изменяющий состояния, но не задевающий сущности вечно воспроизводящей себя природы [103, c. 126-127]129. Смерть лишена персонального измерения: это не "чья-то" смерть, а гибель "чего-то". Такая гибель частного - закономерность, а не случай; она неизбежна, как неизбежно рождение [103, с. 127]. Жизнь и смерть в природе регулярно обмениваются друг на друга (22 B 88 DK; 22 B 62 DK), демонстрируя тем самым свою взаимную эквивалентность130.
В свете идеи непреодолимого господства Хроноса-природы131 появление единичных вещей, главным образом живых существ, рассматривается как "изъян в природе" [179, с. 12], как преступное "дерзновение", справедливым "возмездием" за которое является смерть [269, с. 406]132. Истина гибели всего определённого принуждает к отречению от такого бытия [269, с. 406], не имеющего никакой ценности. Но и в самóм отречении человек остаётся, как и был, пассивным; в любом своём действии он редуцирован к природе, то есть является в определённом смысле "вещью"133. Та "справедливость", в соответствии с которой всё про-исходит, представляется не как должное (то есть не этически), а как необходимое134, как такой порядок хода вещей, в котором "физическая" вина с неизбежностью вызывает "физическое" же возмездие (и "вина", и "возмездие" суть исключительно натурфилософские термины135; наполниться этическим содержанием им мешает отсутствие идей личности и свободы)136. Ясно, что всякое "активное" прекращение собственной жизни в таком мировоззрении обязательно окажется пассивным следованием предустановленному чину "происхождения присутствующего из присутствия" [254, с. 61] и отхода частного во всеобщее137. По удачному выражению Жака Деррида, "обоснование чистого присутствия есть одновременное обоснование и абсолютной утраты, смерти" [80, с. 148]. Справедливо умирать κατα την του χρονου ταξιν, согласно порядку Хроноса, то есть κατα φυσιν (κατα το χρεων); справедливо и чинно разрушаться в бесчиние само-разрушением. Природа настолько тотальна, что самоубийство неотличимо от убийства и вообще от всякой гибели, являя собой лишь один из вариантов смерти-по-природе. Более того, само-убийство невозможно ни представить, ни совершить в виду сущностной пассивности самого гибнущего: "распоряжается" [255, с. 47] любой вещью только φυσις. Но это означает также, что смерть от собственной руки всегда - κατα το χρεων, всегда объективно справедлива. Самоубийство с необходимостью оказывается в порядке вещей.
В мире, захваченном судьбой-справедливостью, закрытом (закольцованном) в своих перспективах, утверждающем неизбежную преступность любого отдельного "что", всегда наличны те предпосылки, которые приводят к "законному" самоубийству. Невозможность трансцендирования наличного оставляет человека-вещь в полном распоряжении природы, растворяет его в "положении дел"138. Суицид, ускользающий из поля зрения этики, оказывается "натуральным" явлением, следовательно, всегда предполагает для себя естественную причину. Как бы при этом ни понималась "природа" (соматически или эйдетически), существенной во всех случаях остаётся установка на тотальность и континуальность φυσις-бытия, автономизирующая наличное-в-целом и тем самым утверждающая вечную неизбежность смерти. В этом и заключается общая позиция античной философии, мешающая увидеть самоубийство как поступок и соотнести его со свободой и ответственностью (в мета-"физическом" смысле), заставляющая прямо или косвенно связывать его с судьбой и тем самым натуралистически оправдывать139. Такой тип культуры репрезентируется мыслью, выразившей себя в высказывании Анаксимандра.
Лекция 4. Божественность и самоубийство:
"тайна вулкана, тайна мятежа"
Своим высказыванием Анаксимандр высветил отличительную суть античной философии как философии природы. Видимая гармония небес и тел для неё условна и преходяща, ибо всякое "что" заранее обречено: последнее слово всегда остаётся за "природой", отправляющей конечное в Хаос и тем исполняющей порядок истинной, наивысшей и уже ничем не превосходимой гармонии. Такой исход всякой отдельности ионийские натурфилософы признают высочайшей, хотя и прискорбной (трагической) правдой. Справедливость уничтожения всякой формы состоит в компенсации зла и неправды самого этого мира форм, Космоса. Анаксимандр, предрекавший неизбежное возвращение всех вещей в то, из чего они возникли, имел в виду именно эту универсальную справедливость [220, с. 75-76]. Такая онтологическая обречённость подчиняет себе и антропологию: человек, вещь среди вещей, во всех своих проявлениях захвачен тотальной необходимостью. Заворожённый вселенской механикой, милетец падает в яму (Диог. I, 37)140;, а по истечении положенных сроков выпадает в Хаос. Всем ясен неизбежный исход; для ускорения же событий ионийским меланхоликам недостаёт страсти. Фалес говорил, что между жизнью и смертью нет разницы. "Почему же ты не умрёшь?" - спросили его. "Именно поэтому!" - ответил Фалес (Диог. I, 35)140. Нужен был "изумительно могучий темперамент" Эмпедокла [72, с. 40], чтобы устроить метафизический бунт.
Борьба с роком (как "героический фатализм") вполне допустима как раз на почве уверенности в господстве универсальной судьбы. Пантеистическое единство природы (онтологический монизм) предоставляет человеку и такой радикальный способ выражения героизма, как человекобожие прямое слияние индивида с космическим началом. Однако этот "бунт" не способен нарушить порядок наличного бытия, лишь подтверждая собой ту единоприродность конечного и бесконечного, которая для античной мысли дана изначально и навеки. Человекобог не преодолевает наличное к иному (φυσις допускает лишь ино-природное), в своей самоубийственной активности оставаясь там же и так же. Не обретая себя в качестве личности, человек может через отречение от себя оказаться богом-демиургом; природа при этом лишь сменит маску (вид, лик), так и не отпустив человека в сверх-природное, сверх-естественное. Обожествление, достигаемое через неизбежное самоубийство, как раз и демонстрирует случай Эмпедокла. "Путешествуя в качестве врача, он требовал, чтобы ему воздавали божеские почести, которые суеверный народ и воздавал ему в виду совершаемых им чудесных исцелений и пророчеств. Гордый и бескорыстный, он отказался от тирании в своём родном городе Агригенте, но в то же время носил жреческую одежду и дельфийский венец, что доказывало, что он считает себя богом. Для подтверждения этого, как говорит предание, он ринулся в кратер Этны" [130, с. 28]. Самоубийство Эмпедокла стало последним и необходимым шагом на пути самообожествления. Гораций писал о нём:
...Сицилийца поэта
Гибель поведаю я. Желая богом бессмертным
Страстно прослыть, Эмпедокл холодный в жаркую Этну
Прыгнул...
[цит. по: 31 А 16 DK].
По мнению М. Гаспарова, легенда об апофеозе Эмпедокла на Этне перенесена на философа из мифа о самосожжении и апофеозе Геракла [92, с. 489-490]142. Однако то, что в памяти потомков смерть "божественного" Эмпедокла осталась именно как торжественное самосожжение в жерле вулкана, уже говорит о многом. В книге Диогена Лаэртского об Эмпедокле не случайно более четверти текста занимают описания его смерти; эта смерть во многом и сохранила в веках его имя. Главное, что должно привлечь наше внимание, это ясное утверждение необходимости, "законности" самоуничтожения Эмпедокла именно в силу того, что он заявил претензию на божественность. Человек, становящийся богом, кончает с собой, подтверждая тем самым своё человекобожие. Человекобог должен убить себя. Мнения о причине взаимной обусловленности самоубийства и "божественности" в связи со случаем Эмпедокла расходятся (мистификация, гордыня, логическая неизбежность); но обязательность связи между ними вряд ли кто-нибудь решится оспаривать. Если я бог, то я убиваю себя; свидетели же получают "последний аргумент" [220, с. 10] в пользу моей мировоззренческой самоопределённости.
Смерть Эмпедокла, очевидно, является главной причиной его популярности, причём скорее скандальной, чем научно-академической [220, с. 14]. Последний салют философа на Этне, однако, не должен заслонить от нас содержание его жизни и его мышления. Если мы соглашаемся, что жизнь Эмпедокла (как увидим) достаточно строго обусловлена его философией, то и смерть его не представляется сложным основать на том же философском фундаменте. При этом не столь уж важна правдивость сообщаемых о смерти Эмпедокла подробностей: меня сейчас интересует в первую очередь взаимная координация его философии, жизни и смерти, данная в самом культурфилософском феномене "Эмпедокл". Я здесь рассматриваю, как сказал бы Кьеркегор, "внутреннюю диалектику героя" [145, с. 83]143. "Наиболее правильная оценка человека, - пишет Г. Якубанис, - должна состоять, очевидно, в том, чтобы оценивать его с точки зрения его собственных стремлений, тех конечных идеалов, какими он руководствуется в своей деятельности. Какому богу мы служим, таковы мы и сами. Счастливый случай даёт нам возможность применить этот критерий к Эмпедоклу" [290, с. 54].
Эмпедокл, известный в историко-философском предании и как философ, и как поэт, и как врач, и как физик, и как маг144, связал в своей мысли и практике фисиологические145, пифагорейские146 и орфические147 идеи, объединив их в горизонте φυσις. В двух его поэмах ("Περι φυσεως" и "Καθαρμοι") обнаруживаются и непривычным образом сочетаются "натурализм" и "профетическая религия спасения", "научный рационализм" и "мистика метемпсихоза", "экспериментальный опыт" и "демонология"148 [219, с. 22-23]. Такое сочетание часто казалось исследователям неразрешимой загадкой149. Однако натурализм и эсхатологизм, философия и поэзия, наука и мистика соединяются у Эмпедокла довольно органично; это происходит потому, что основой данной органичности выступает всепоглощающее единство природы, не позволяющее действительно различить, как и у Анаксимандра, физическое и этическое. Внешнее и внутреннее происходит и движется по одним и тем же законам. Тело и душа, мир видимый и мир потусторонний соединены в неразрывный предметно-человеческий ряд воспроизводящего себя бытия [219, с. 32]. Физика и антропология у Эмпедокла совпадают в горизонте его "поэтического природоведения", "интуитивно-рапсодической метафизики" [219, с. 28], выливающейся в "полумистическое, полурационалистическое мировоззрение" [290, с. 65]. Циклическая космогония объединяет в едином "генезисном" ритме вселенную вещей и мир человеческой души [219, с. 32]. Эта душа (субъективно-антропологическая реальность) величина онтологическая, она идентифицируется с предсуществующим демоном [219, с. 32], который, в свою очередь, является элементом мирового процесса. Общегреческая идея тождества макрокосмоса и микрокосмоса [219, с. 35] указывает и здесь на единство универсального порядка, выражающего себя как на макро-, так и на микроуровне. Субъект философии Эмпедокла не столько познаёт бытие-природу как нечто ему, как субъекту, внеположное (объективное), сколько узнаёт в нём "однотипную" с ним реальность, а потому с полным правом выражает и моделирует физическое в категориях индивидуально-психического, социального, логического и мистического опыта [219, с. 34]. Поэтому-то и тема нравственного действия оказывается логически и практически в одном порядке с темой роковой данности мирового процесса, а религиозно-этическая программа очищений является прямым следствием познания природы.
Мировоззренческое и концептуальное единство мышления Эмпедокла устанавливается и путём вскрытия "внутренней противоречивости греческого духа" [219, с. 33], традиционно соединявшего в себе иррационально-романтическое (дионисийское) и рационально-гармоническое (аполлонийское) начала, которые, при всей их кажущейся разнородности, неотделимы друг от друга: в монистически устроенном бытии господствует высшая гармония гармонии и дисгармонии. За привычным "классическим" оптимизмом греков, за светлым и пластическим фасадом греческой культуры всегда можно расслышать ноту сомнения и отчаяния [219, с. 25], опознать чувство роковой близости Хаоса.
"Божественная" смерть акрагантского мудреца гармонически завершила собой его "божественную" жизнь. Неземной, над-человеческий уровень этой жизни (можно, наверное, измерить его в масштабе, заданном Ницше) опирается на то знание, которое выделяет посвящённого из толпы и возносит его (пока только в фигуральном смысле) над нею. Эмпедокл считает, что смог достичь истины: "Друзья! Я знаю, что в словах, которые я выскажу, истина" (31 В 114 DK). Все мудрецы, овладевшие высшим знанием, достигают равенства богам:
А под конец они становятся прорицателями, песнопевцами, врачами
И вождями у живущих на земле человеков,
Откуда вырастают в богов, всех превосходящих почестями
(31 В 146 DK)
Тут Эмпедокл говорит и о себе150, и о таких, как Заратустра, однажды вскочивший с ложа "как пророк и песнопевец" [189, с. 58]. О божественности, проявляемой в душе знанием, свидетельствовал и Сенека: "Ты спросишь, что делает человека мудрым? То же, что бога - богом". Это "нечто божественное", достающееся мудрецу, "благо" (Ep. LXXXVII, 19). Овладеть благом можно только путём познания: "Лишь одно делает душу совершенной: незыблемое знание добра и зла" (Ep. LXXXVIII, 28; ср.: Быт 3:5). Таким образом, согласно Сенеке, достигнуть предела совершенства в разграничении добра и зла значит стать мудрецом и, следовательно, пребывать среди богов (Ep. XCIII, 8). Мудрость сообщает человеку олимпийское спокойствие и божественную уверенность в себе; отныне различие между мудрецом и небожителем перестаёт носить качественный характер: "Чем Юпитер превосходит добродетельного человека? Он добродетелен дольше. Мудрый ценит себя ничуть не ниже оттого, что его добродетелям отмерено недолгое поприще. Так из двух мудрецов умерший в старости не блаженнее того, чья добродетель была ограничена немногими годами; так и бог берёт над мудрецом верх не счастьем, а долгим веком" (Ep. LXXIII, 13).
Ту же мысль утверждает и Платон. Душа мудреца "уходит в подобное ей самой безвидное место, божественное, бессмертное, разумное и, достигши его, обретает блаженство, отныне избавленная от блужданий, безрассудства, страхов, диких вожделений и всех прочих человеческих зол, и - как говорят о посвящённых в таинства - впредь навеки поселяется среди богов" (Федон 81 а); "в род богов не позволено перейти никому, кто не был философом и не очистился до конца, - никому, кто не стремился к познанию" (Федон 82 с)151.
Какое же именно знание сделало Эмпедокла божественно мудрым, наделив и особенными возможностями, и особыми правами? Сам он говорит, что это знание "Всего"; овладение им свидетельствует об удалении души от земного и перемещении её в сферу божественного:
Узки способности (познания), разлитые по членам.
Много обрушивается напастей, притупляющих мысли.
Повидав на своём веку лишь малую часть Целого,
Обречённые на раннюю смерть, они улетают, взметнувшись словно дым,
Поверив лишь тому, на что каждый (случайно) наткнулся,
...Гонимый во все стороны. А (кто) похвалится, что открыл Всё?
Таким образом, не постичь это (Целое) людям ни зрением, ни слухом,
Ни умом не объять. Но ты - поскольку ты удалился сюда (от всех) -
Узнаешь. Во всяком случае, человеческая мудрость выше (этого) не поднималась
(fr. 10 Bollack = 31 B 2 DK).
Принятие знания в качестве главного основания мировоззрения и деятельности характерно для монистически ориентированного сознания. По самой своей сути знание исключает онтологическую вариативность, утверждая повторение всегда имеющегося в наличии закона (порядка). Знаемое однозначно; оно определяет положение дел как тотальное "так", обрывая все прочие варианты развития событий и тем самым закрывая перспективу свободного существования и деятельности. Человек, полагающий знание в основание своей активности, оказывается в безвыходном положении, в рабстве у однозначности знаемого; для него закрыта возможность превосхождения наличного152. Такое превосхождение задают человеку ценности (понимаемые и принимаемые в нормативно-онтологическом смысле); знание же в этом отношении являет совершенное бессилие, будучи способным дать человеку лишь "когнитивный стандарт" [170, с. 68]. В соответствии с этим стандартом знание в его "идее" - всегда о и никогда для или ради [170, с. 68-69]. Поэтому субъект в своём когнитивном отношении к наличному в конечном (и главном) счёте пассивен, он включён в регулярно-универсально-закономерное бытие, но не участвует в нём как деятель, не изменяет к иному его данный характер. Указанное отношение поглощает саму субъективность знающего, ибо оно всегда стремится к осуществлению коммуникации "объект - объект" [170, с. 69], к растворению субъективного как случайного в объективном как закономерном и тотальном. Ценность же требует свободного и субъективного (личного) отношения деятеля к объективному: субъект "неустраним" из ценностного "стандарта" [170, с. 68]. Тогда как знание всегда указывает на то, как во всяком случае всё должно быть, нормативная онтология, опирающаяся на ценность-идеал, пред-полагает ещё и должное как заданное, как активно желаемое и созидаемое субъектом.
Знание, таким образом, даёт человеку картину необходимого порядка вещей, а самого человека отдаёт тем самым в полное распоряжение этому наличному. Знание о прошлом очерчивает ясный круг возможного на все времена. В случае так называемых "знаний о будущем" человек, этими знаниями обладающий, относит себя к тому моменту будущего, о котором эти знания, как к факту, которым он уже располагает, то есть как к наличному, в котором различие прошлого и будущего стёрты. То настоящее, откуда знающий знает, не может выпасть из тотальной фактичности, поэтому оно с необходимостью включается в неё наряду с прошлым и будущим. Только в случае такой универсальной "однородности" (одноприродности) времени знающий может обладать высокой степенью уверенности в единственно возможной (известной ему) конфигурации событий будущего (которое, в силу своей фактичности, никак не может действительно наступить, ибо во всякий момент уже наступило). Знание, как видим, требует перевода событий из координат "было-есть-будет" в горизонт бывания; оно устраняет реальное время, взамен будущего и настоящего устанавливая вечное повторение наличного [170, с. 69-70]. Ценностям, в отличие от знаний, присуща другая форма времени: так как субъект неустраним из нормативного отношения, то неустранимо из него и настоящее время. Переживание ценности субъектом всегда можно отличить от самого объекта этого переживания. Ценность ценится в настоящем именно потому, что она сама как норма (идеал) вынесена за пределы настоящего и помещена в будущее как в иное наличному, то есть в онтологически должное. Анагогический характер ценности позволяет времени разомкнуться; бытие тем самым возвращает себе перспективность, подавленную тотальным господством знания.
Итак, знание (в том числе знание-предвидение, знание-предсказание) есть по сути предопределение, соответствующее стандартам онтологического монизма. Знание "Всего" (Целого) есть тотальное предопределение, подчиняющее знающего универсальной судьбе (природе-справедливости). Такое-то знание Целого и способно "возвысить" человека до проникновения к началам космической гармонии, определяющей для каждой вещи её суть и её участь:
Так вперяйся же всеми способностями, с какой стороны ясна каждая вещь,
Ничуть не более доверяй зрению, нежели слуху,
Ни громкошумливому слуху больше, чем очевидностям языка,
И не отнимай веры ни у одного другого члена, поскольку имеется путь к познанию,
Но познавай каждую вещь оттуда, откуда она ясна
(fr. 14 Bollack = 31 B 3 DK).
С так обозначенной "божественной" позиции Эмпедокл увидел вселенную, то разделяемую на противоположности силой Ненависти (νεικος), то сводимую Любовью (φιλία) в совершенный Шар-Сфайрос153. Жизнь и смерть в этой пульсирующей вселенной не означают ни возникновения нового, ни окончательного уничтожения:
Из того, чего нет нигде, не может возникнуть (нечто),
Равно как недостижимо и неосуществимо, чтобы изничтожилось то, что есть:
Сколько и откуда его ни выталкивай, всякий раз (на его месте) окажется (другое сущее)
(fr. 46 Bollack = 31 B 12 DK).
Несмышлёныши! Сколь недальновидны их мысли,
Ежели они полагают, что может родиться то, чего прежде не было,
Или же нечто умереть и изничтожиться совершенно
(fr. 57 Bollack = 31 B 11 DK).
Эмпедокл не видит никакого "таинства" в рождении и смерти [89, с. 32]; их чередование в этом мире есть только "смешение и разделение" (fr. 52 Bollack) физических элементов:
Ещё скажу тебе: изо всех смертных вещей ни у одной нет ни рожденья (φυσις),
Ни какой бы то ни было кончины от проклятой смерти,
А есть лишь смешение и разделение смешанных (элементов),
Люди же называют это "рождением"
(fr. 52-53 Bollack = 31 B 8 DK).
Эмпедокл, по словам Плутарха, утверждает здесь, что нет ни возникновения из не-сущего, ни уничтожения сущего и что "возникновение" - всего лишь имя, которое дают взаимному соединению некоторых сущих, а "смерть" их разложению154. Противопоставив "природе" (φυσις) "смерть", Эмпедокл ясно дал понять, что под "природой" он разумеет "рождение" (fr. 50 Bollack). Но, отвергая φυσις-происхождение, Эмпедокл тем самым утверждает φυσις-бытие, бывание Целого, неподвижного в самом себе, одного и того же в вечном повторении ему принадлежащего частного. "Природа" не рождение, а только трансформация наличного155. "Подобно атомистам, - пишет кн. С.Н. Трубецкой, - Эмпедокл признаёт основное положение элейцев, то есть совершенное отрицание генезиса, всякого рождения и разрушения, всякого возникновения и уничтожения <...>. Истинно сущее не может стать не сущим или же возникать из несуществующего. Истинно сущее есть абсолютно, оно было и будет. Из ничего не может стать нечто и нечто не может обратиться в ничто" [241, с. 304]. Значит, гибель всякого отдельного (индивида) не есть непоправимое исчезновение, но есть "расторжение частиц стихий, из которых состоит живое существо" [290, с. 62], переход тех же αγεννητα ("нерождённых") (fr. 66 Bollack) в очередную предписанную мировым порядком форму, смена вида. Поэтому и умершие, и ещё не родившиеся не менее реальны, чем живущие ныне (fr. 55 Bollack): все они включены в круг природы и подчинены роковому закону Хроноса. Эта "милая Непреложность" (31 B 122 DK) полагает и границу Космоса (fr. 336 Bollack = 31 A 50 DK), и предел индивидуальной жизни. Всё сущее в равной степени подчинено этому чину бывания:
Под действием Злобы все [элементы] разно-образны и все порознь.
Под действием Любви они сходятся и вожделеют друг друга.
Из них - всё, что было, что есть и что будет:
[Из них] произрастают деревья, мужчины, и женщины,
Звери, и птицы, и водокормные рыбы,
И долговечные боги, всех превосходящие почестями156
(fr. 63 Bollack = B 21 DK).
Таким образом, всякое существо, с необходимостью включённое в порядок природы, есть вещь, обособившаяся на время из "суммы" наличных элементов, и на него распространяется то самое "физическое" понятие вины, о котором говорил Анаксимандр. Всякое отдельное "обречено на гибель. Оно материал для убийства или самоубийства и ради торжества косных разобщённых масс и ради нирваны космоса любви" [71, с. 117]. Жизнь это сцепление частиц огня, воздуха (эфира), воды и земли; смерть - это распадение, растворение организма в природе, из которой затем "родится" новое существо:
Таким образом, поскольку они навыкли сращиваться в Одно из многого
И, наоборот, образуют многое при распаде Одного,
Постольку они рождаются и жизненный век их нестоек,
Но поскольку это непрерывное чередование никогда не прекращается,
Постольку они есть всегда, неподвижные в круге
(fr. 68 Bollack = 31 B 26 DK).
Так говорил и Заратустра:
Всё идёт, всё возвращается; вечно вращается колесо бытия.
Всё умирает, всё вновь расцветает, вечно бежит год бытия.
Всё погибает, всё вновь устрояется; вечно строится тот же дом бытия.
Всё разлучается, всё снова друг друга приветствует;
вечно остаётся верным себе кольцо бытия
[189, с. 158]157.
Почти дословно повторяя Анаксимандра, Эмпедокл говорит о том, что элементы Космоса "господствуют по очереди", по мере того как "оборачивается круг" Хроноса; они "убывают друг в друга" и "возрастают" взаимно по "предназначению судьбы" и в установленный срок (fr. 68 Bollack = 31 B 26 DK). Эмпедокл, по утверждению Аристотеля, "не указывает никакой причины для самого этого изменения, кроме того, что так установлено от природы"; "изменение, таким образом, выступает как необходимое" (Метафизика III 4, 1000 b 15): и взаимопереход сущих, и чередование Любви и Вражды подчинены ритму вечно себя повторяющей природы.
Космос и составляющие его формы, как видим, не возникают из ничего; они творятся из всегда наличных элементов и разрешаются в них же под действием усилий двух "демиургов" (31 В 115 DK) Любви и Вражды (Ненависти, Распри)158. Эти космогонические силы, с одной стороны, "существуют отдельно от космического процесса, который ими организуется", но с другой стороны "вполне тождественны с этим организуемым ими космическим процессом" [156, с. 16], точнее, имманентны общему порядку природы. При этом космос творение Вражды (fr. 204 Bollack), место, где она руководит перевоплощениями вещей и существ, переменой их эйдосов [156, с. 95]:
Из живых она [Ненависть] творила мёртвых, меняя обличья,
А из мёртвых - живых...
(31 B 125 DK).
Первоначальное состояние Космоса без всякого внутреннего разделения, с полным взаимопроникновением всех элементов (то есть Шар) Эмпедокл связывает с господством Любви. Расчленение же этой слитности есть результат действия Вражды. Но без такого расчленения не представляется возможным возникновение того прекрасно упорядоченного Космоса, красоту которого воспевает вся античность [156, с. 36]. Именно этот прекрасный Космос и есть плод Вражды. Этот мир Ненависти, несмотря на видимую гармоничность, есть нечто несовершенное и временное, достойное сожаления и уничтожения: "Распря <...> творит этот космос", а Любовь "уничтожает космос Распри и творит из него Сфайрос" (fr. 117 Bollack = A 52 DK), в котором упраздняется всякое различие вещей [156, с. 34]. Скрытый в лоне Космоса божественный Шар в положенное время, "по исполнении срока" (fr. 126 = B 30 DK) катастрофически высвобождается (выделяется) Любовью; Космос при этом гибнет, распадаясь в Хаос. Очевидно, считает Аристотель, что у Эмпедокла "Вражда выступает причиною для уничтожения нисколько не больше, чем для бытия. Так же и Любовь по отношению к бытию; ибо, соединяя в одно, она губит всё остальное" (Метафизика III 4, 1000 b 10-15). Поэтому очищающая Сфайрос от Космоса Любовь "акосмична" [262, с. 167]159.
Очищение (καθαρσις)160 есть, как видим, гибель разного (отдельного, частного) во имя утверждения божественно однообразного. Дуализм Вражды и Любви поглощается при этом, как и следовало ожидать, монизмом Целого-природы: "Распря и Любовь" лишь "формы" Необходимости, которая и есть "Одно" (fr. 114 Bollack = A 32 DK).
Следуя общегреческой натурфилософской (монистической, псевдо-динамической) программе, Эмпедокл предпринимает усилия развернуть праксиологические установки, которые в ней имплицитно заключены. Душа, испытавшая тягу к божественному, вкусившая высшего знания, хочет успокоиться в безразличной неподвижности Любви, то есть хочет "прыгнуть" из Космоса в Сфайрос и раствориться в нём. Таким образом, смерть для Космоса может пониматься как жизнь для Сфайроса, которая достигается отталкиванием от собственного (космического) тела, сбрасываемого в Хаос. Это тело недостойно жалости, ибо оно есть выражение множественности, отдельности индивида от Всего и, значит, есть след присутствия Вражды, знак несовершенства Космоса. Стремясь же к совершенству без всякого изъяна (у Эмпедокла это Сфайрос), человек, по логике вещей, обязан избавиться от наличного продукта относительности, "скрыть тело" [71, с. 115], сбросить "чужую рубашку плоти" (31 В 126 DK).
Но такой "большой скачок" представляется возможным лишь тогда, когда человек ясно осознаёт, что в его силах самостоятельно ускользнуть в ино-природное, "прокрасться в другое бытие" [189, с. 23]. Именно на это Эмпедоклу позволяет рассчитывать его мировоззрение, в границах которого бытие понимается как объект морально-эстетической и религиозной воли [220, с. 22]. Человек может стать "противником очевидности" [187, с. 250], если станет обладателем того знания, которое есть результат взгляда "оттуда", куда смогла "от всех удалиться" душа. Эта точка зрения на мир есть "божественная" позиция в отношении мира. Принятие этой точки зрения для Эмпедокла равносильно возвращению на исходную позицию161. Такое знание даёт человекобогу главное право право распоряжаться своей жизнью: "знать значит владеть" [71, с. 119]. У мудреца, равного богам, есть и возможность осуществить это право, то есть выйти из пульсирующего Космоса, из вражды Вражды и Любви в спокойную самодостаточность Сфайроса. Речь идёт, следовательно, о самостоятельном прекращении "переселений" божественной души, однажды падшей в Космос162 и теперь "добровольно" возвращающейся обратно (fr. 201, 6 Bollack)163. Эта душа когда-то оторвалась от Сфайроса "бога" (см. fr. 80-82 Bollack), в котором она пребывала, и родилась в Космосе, в "мире множества, соответствующем мирострою Ненависти", пала в телесность:
Есть оракул Необходимости, древнее постановление богов,
Вечное, скреплённое, словно печатью, пространными клятвами:
Если какой-нибудь демон осквернит свои члены кровью по прегрешению,
И, следуя Ненависти, поклянётся преступной клятвой,
Из тех, кому досталась в удел долговечная жизнь,
Тридцать тысяч лет скитаться ему вдали от блаженных,
Рождаясь с течением времени во всевозможных обличьях смертных,
Сменяя мучительные пути жизни.
...По этому пути и я иду ныне, изгнанник от богов и скиталец,
Повинуясь бешеной Ненависти...
(31 В 115 DK).
От какой чести и сколь великой глубины счастья
Мы пришли в эту закрытую сверху пещеру...
(31 В 119-120 DK).
Внезапно стали рождаться в виде смертных те, что прежде навыкли быть бессмертными,
И разбавленными те, что прежде были беспримесными, сменив пути,
И от их смешения отливались мириады племён смертных [существ],
Уснащённых всевозможными формами чудо на вид!
(fr. 201, 14-17 Bollack).
Подобно Пифагору (ср. 14. 2 DK; 14. 8 DK), Эмпедокл говорит о своих реинкарнациях:
Некогда я уже был мальчиком и девочкой,
Кустом, птицей и выныривающей из моря немой рыбой
(31 В 117 DK)164.
При этом порядок перевоплощения определяют не заслуги индивида, а "судьба" (31 B 126 DK) и "жребий" (31 B 127 DK), то есть всё та же φυσις. Учение о "круговращении душ" у Эмпедокла это лишь этическое истолкование основных онтологических аксиом греческого мышления: "если бытие нерушимо, то нерушимы и души как субстанциальные составляющие бытия" [220, с. 150], выражающие собой единую природу всего сущего. Поэтому теория космоса и теория душевной жизни суть "два аспекта единой психокосмической онтологии"; "психогенез и генезис вещества аналогичные, синхронно-родственные, боле того, тождественные процессы, различающиеся лишь по характеру своего проявления" [220, с. 151]. Онтология естественно совпадает с антропологией [220, с. 23], а физику венчает догматика [72, с. 40-42].
Эмпедокл имел все основания вслед за орфиками рассматривать всякое "своё" тело прямо как зло, поскольку оно связывает душу, принадлежа целиком к миру-злу, миру-раздору. Идея реинкарнации, принятая Эмпедоклом (31 B 127 DK), побуждает его проповедовать отказ от убийства живых существ (31 B 135-137 DK) и даже от употребления в пищу некоторых растений (31 B 140-141 DK), однако не предохраняет его от убийства собственной плоти. Человек, как "бог, обладающий смертным телом" (22 B 62 DK), избавлением от последнего возвращает себе божественную чистоту. Освободившись от тела, душа, вошедшая в Сфайрос Любви, очищается и от зла Ненависти. Более того, Ненависть уничтожается с уничтожением тела органа её познания: для божественно чистой души Ненависти не существует, она её не знает, она знает только Любовь. Если подобное познаётся через подобное (fr. 5 Bollack) и Ненависть воспринимается лишь "злой Ненавистью" (fr. 522 Bollack = 31 B 109 DK), то я могу победить Ненависть мира путём уничтожения Ненависти (то есть телесности) в самом себе165.
Значит, можно говорить не только о личном, но и о вселенском значении добровольной смерти акрагантца. Человек, рассматриваемый как космический деятель, а в своём высшем положении как бог-демиург, как единственный источник и гарант космодицеи [ср.: 220, с. 84], человек может не просто улизнуть из мира, но преобразить его. Вот из этого исходя, Эмпедокл идею физического развития мира ставит в связь с идеей совершенствования человека, космогонию объединяет с этикой [220, с. 89; ср. с. 23], создавая некую "психокосмическую онтологию" [220, с. 151] и физическую магию. Мистериальный смысл самоубийства Эмпедокла состоит в очищении не только души от тела, но и универсума от зла.
Бегство Эмпедокла из Космоса, как видим, может быть осознано и как индивидуальное спасение самого философа, и как подвиг избавления мира от зла, как сообщение этому миру его совершенного (одно-родного) состояния. Это "иное" бытие, совершенный божественный Шар, этот утраченный дом высших душ можно вернуть с помощью очищения собственной природы от Ненависти. А это значит вернуть элементам их исходное взаимопроникновенное состояние, нарушенное Враждой, то есть преодолеть Космос. На такое действие способна душа, открывшая Любовь, узнавшая, что "умопостигаемый" Сфайрос состоит буквально из тех же элементов, что и "чувственный" Космос, но если первый "парадигматически", то второй "иконически" (как, например, всегда есть два Солнца: одно архетипическое, другое отражённое) (fr. 82 Bollack; fr. 322 Bollack = 31 A 56 DK). Поскольку творящей причиной умопостигаемого мира полагается Любовь, а творящей причиной чувственного мира Ненависть (fr. 82 Bollack, 31 B 131 DK), постольку, уничтожив телесные условия проявления Ненависти (а других условий нет, поскольку нет понятия о грехе), я соединяюсь своей извечно (по природе) божественной душой с Любовью и добиваюсь тем самым предельного совершенства бытия. Космос, очищенный от Хаоса, выпускает из себя Сфайрос. Я спаситель мира! Поэтому я должен убить своё тело, ибо иного способа уничтожения Ненависти я не знаю.
Когда отождествляются сама плоть и "похоть плоти" (1 Ин 2:16), то есть грех, тогда убийство тела представляется необходимой ступенью на пути к спасению166. Похоть плоти и сама плоть настолько "уравниваются и сливаются", что разделение их, не только реальное, но даже мысленное, становится невозможным. "А поскольку с подобной точки зрения умерщвление плоти, в смысле искоренения похоти, есть основная задача, то смерть всегда окажется венчающим это дело концом" [73, с. 265]167. Если плоть как таковая признана не выражением, а искажением совершенства, то уничтожение этого искажения должно быть закономерно признано человеком за единственный способ спасения. Тело в этом случае рассматривается как естественная добыча "огня и смерти"; смерть для тела оказывается необходимой, чтобы могла спастись хотя бы душа [73, с. 265]. Губитель тела и "спаситель" мира богоравный человек, обладающий высшим знанием и фантастическими возможностями. Он способен погрузиться в мировое начало и стать им, тем самым сообщив миру его высшее, совершенное (сферическое) состояние.
"Коронный номер Эмпедокла" [220, с. 52] имеет и "педагогический" смысл, показывая всякому желающему, как можно распорядиться собой, дабы стать при этом не только земным пеплом, но и небесным божеством. Эмпедокл способен "увлечь и потрясти" [72, с. 40]; он "вождь" (προμος) (31 B 146 DK), открывающий очистительный путь "не только для себя самого, но и для всего человечества" [72, с. 46]. Пример жизни и смерти философа, по мнению его почитателей, является тем фактом, который, будучи адекватно осознанным, уже тем самым обожествляет душу. Цицерон утверждал, что прочитавший об Эмпедокле может быть признан "уже не человеком, но богом" (31 А 27 DK). Здесь просвечивает та своеобразная педагогика, ведущая "до самого жерла Этны" [101, с. 198], которую мы встретим и в "Заратустре", и в "Бесах" Ф.М. Достоевского: "Так хочу я сам умереть, чтобы вы, друзья, ради меня ещё больше любили землю; и в землю хочу я опять обратиться, чтобы найти отдых у той, что меня родила" [189, с. 53].
Итак, для божественного мудреца, сравнявшегося знанием с богами, становится насущным выход из Космоса, возвращение тела Хаосу и вознесение души в Сфайрос. Земное существование для него превращается в приготовление к этому торжественному акту практического синтеза, который освещает из будущего всю оставшуюся мудрецу жизнь и сообщает этой жизни божественный смысл: "Я трепещу от божественных порывов" [189, с. 117]. "Изгнанник от богов" возвращается на небо: "на собственных крыльях в собственные небеса" [189, с. 169]. Шествие начинается на земле:
Друзья! Вы, что живёте в большом городе на берегах золотистого Акраганта,
На самом Акрополе, радеющие о добрых делах,
Вы почтенные гавани для чужестранцев, не ведающие худа,
Привет вам! А я уже не человек, но бессмертный бог для вас
Шествую, почитаемый всеми как положено,
Перевитый лентами и зеленеющими венками:
Ими едва лишь я прихожу в цветущие города
Почитают меня мужчины и женщины. Они следуют за мной
Тьмы и тьмы чтобы выспросить, где тропа к пользе:
Одним нужны предсказания, другие по поводу болезней
Всевозможных спрашивают, чтобы услышать целительное слово,
Давно уже терзаемые тяжкими муками
(31 В 112 DK).
Да что я напираю на это? Будто я делаю что-то важное,
Если превосхожу смертных, гибнущих от множества напастей людей
(31 В 113 DK).
Самообожествление сопровождается "доходящим до мании самообожанием" [220, с. 62; ср. Диог. VIII, 66]. Рождённый летать не может ползать. Отныне сверхчеловек наделяет себя знаками божественного отличия: "С золотым венцом на голове, бронзовыми амиклами на ногах и Дельфийской гирляндой в руках он ходил по городам, желая снискать себе славу как о боге" (31 А 2 DK). "Повязав вокруг волос повязку чистейшего пурпура, Эмпедокл важно шествовал по улицам греческих городов, слагая песни о том, что станет богом из человека" (31 А 18 DK). "Эмпедокл из Акраганта носил багряницу и бронзовые сандалии" (31 А 18 DK). Он "облачился в багряницу, подпоясывался золотым поясом", "носил медные сандалии и дельфийский венок; длинноволосый, всюду сопутствуемый служителями, с виду он был всегда сумрачен и всегда одинаков" (Диог. VIII, 73). В этом Эмпедокл являлся прямым последователем Анаксимандра: "Диодор Эфесский в сочинении об Анаксимандре утверждает, что именно его ревнителем был Эмпедокл, культивируя трагедийную высокопарность и облачаясь в помпезную одежду" (Диог. VIII, 70)168. Отличало Эмпедокла от смертных, однако, не только внешнее убранство, но и особые (божественные) способности:
Сколько ни есть лекарств от болезней, защиты от старости,
Ты их узнаешь все, ибо я исполню всё это для одного тебя.
Ты прекратишь неутомимые ветры, которые налетают на землю
И губят своим дыханием нивы.
А если захочешь, то наведёшь и ветры возмездия.
Из чёрного ливня ты сделаешь людям своевременное вёдро,
А из летней засухи ты сделаешь
Древопитающие потоки, обитающие в эфире.
Ты вернёшь из Аида умершего человека
(fr. 12 Bollack; ср.: 31 А 2, А 13, А 14 DK, а также: Диог. VIII, 59-61, 67, 69).
Как видим, человеку, который посредством знания приблизился к состоянию божества, присуща "сверхчеловеческая власть над природой"169; отсюда - способность Эмпедокла к "чародейству" [290, с. 60], подкреплённая обучением у профессиональных магов (31 A 14 DK)170. Магическое действие, как особого рода технология, основывается именно на знании, но не на вере171. Такая базовая установка роднит науку и магию; этим родством и объясняется та естественность, с которой Эмпедокл соединял в себе учёного с колдуном. В магии, как и в науке, практика выступает критерием истины: от точности знания зависит результативность (технологичность) действия172. Магия открывает связь всего со всем, всеобщую взаимозависимость и всеобщий взаимопереход; но она закрывает перспективу трансцендирования природного. От мага требуется знание устройства мирового целого и своих наличных возможностей, укоренённых в этом устройстве, дабы наиболее результативно вмешиваться (а по сути встраиваться) в это целое. Поэтому магическое всемогущество мудреца по сути лишь подтверждает его личное бессилие, ибо магия действительна и действенна только в ситуации безраздельного господства вселенского детерминизма. Преобразование сущего средствами науки-магии оставляет это сущее в границах тотальной имманентности: распорядиться низшей природой можно только в случае подчинения себя природе высшей (тоже "видимой", но уже иным зрением) тому универсальному закону, в соответствии с которым и наличествует низшее. Магия, как и наука, не выводит и не может вывести человека за рамки онтологического континуитета в отличие от теистической религии, которая задаёт онтологическую прерывность, не заполняемую естественным путём173. Маг соглашается с данным порядком, принимает его как неизменный, и только поэтому он получает способность трансформировать сущее в границах возможностей, предоставленных ему самой природой всяких трансформаций. Таким магом (и даже "столпом магической науки" и демонологии [290, с. 60]) считался в древности наш акрагантский философ (Диог. VIII, 59).
Когда пришло время последнего и высшего акта теургической магии, Эмпедокл "бросился ночью в огнедышащий кратер, так что могила его была неизвестна. Так он погиб, а сандалию его выбросило огнём" (31 А 2 DK). Произошло это после жертвоприношения и пира, без свидетелей. "Гиппобот уверяет, что, встав от застолья, Эмпедокл отправился на Этну, а там бросился в огнедышащее жерло и исчез этим он хотел укрепить молву, будто он сделался богом; а узнали про это, когда жерло выбросило одну из его сандалий, ибо сандалии у него были медные" (Диог. VIII, 69). Мечтая "считаться богом", "из-за надежды на славу" [50, с. 105, 179], "от безумия гордости" [71, с. 115], желая, чтобы "впечатление" о нём как о боге у современников "осталось навсегда, Эмпедокл и бросился в огонь" (Диог. VIII, 70)174. Поскольку никто не наблюдал это событие, вывод о восшествии Эмпедокла к богам приходилось делать, основываясь на догадках и косвенных свидетельствах (например, чудесных знамениях): "После пира гости отошли отдохнуть в стороне, под деревьями ближнего поля или где кому хотелось, а Эмпедокл остался лежать, где лежал; когда же наступило утро и все встали, его уже не было. Стали искать, допрашивать слуг, те твердили, что ничего не знают, как вдруг кто-то сказал, что в полночь он услышал сверхчеловечески громкий голос, призывавший Эмпедокла, вскочил, увидел небесный свет и блеск огней, и больше ничего. Все были поражены; Павсаний (любовник Эмпедокла. С.А.) вышел и послал лошадей (то есть, конечно, не лошадей, а всадников. С.А.) на розыски, но потом велел всем отложить тревогу, ибо, сказал он, случилось такое, что впору лишь молиться: Эмпедоклу теперь надо приносить жертвы как ставшему богом" (Диог. VIII, 68).
Именно такие жертвы обещал приносить Эмпедоклу Менипп, герой лукиановского "Икаромениппа", взлетевший однажды на Луну и встретивший там акрагантского философа. Оказывается, последний был заброшен туда силой извержения вулкана, о чём свидетельствовал его внешний вид: "весь в пепле и словно поджаренный, он весьма напоминал собою головню". Менипп даже испугался, "приняв его за духа Луны". Философ успокоил воздухоплавателя: "Я Эмпедокл, философ. Лишь только я бросился в кратер Этны, дым вулкана охватил меня и забросил сюда. С тех пор я живу на Луне, питаюсь росою и странствую всё больше по воздуху..." [167, с. 201]175.
Не все, однако, признали подлинность самого факта сожжения Эмпедокла в Этне, принимая его за "сказочный рассказ" [241, с. 331]. Так, Страбон утверждает: "Особенно баснословно то, что некоторые рассказывают про Эмпедокла: будто он прыгнул в кратер и оставил след случившегося один из бронзовых башмаков, которые он носил. Якобы его нашли снаружи, чуть поодаль от края кратера, поскольку де его выбросило наверх силой огня. На самом деле, к этому месту нельзя подойти, да и не видно его. Они (люди, совершившие восхождение на Этну [см.: 220, с. 54]. С.А.) предполагают также, что оттуда вообще ничего не может выбросить..." (31 А 16 DK; ср.: 220, с. 54-55). Есть версия, что Эмпедокл покончил с собой не столь экзотическим образом: он просто повесился (Диог. VIII, 74)176. Иные "трезвые амузические умы" [71, с. 116] сообщают, что он погиб в результате несчастного случая (Диог. VIII, 73, 74) либо умер своей смертью в изгнании (Диог. VIII, 67, 71-72). "Насмешливые стихи" Диогена по этому поводу гласят:
Некогда ты, Эмпедокл, чтоб очиститься пламенем быстрым,
Огнь бессмертный вдохнул из огнедышащих жерл.
Но не хочу я сказать, что сам ты низринулся в Этну,
Вольным был твой уход, но ненамеренной смерть.
А также:
Истинно так говорят: упав Эмпедокл с колесницы,
Правую ногу сломал, в том и была его смерть.
Если бы в горный огонь он бросился, жизни взыскуя,
Как же гробница его встала в мегарской земле?
(Диог. VIII, 75).
Из семи вариантов рассказа о гибели Эмпедокла177 лишь один несёт сообщение о естественной смерти, два о случайной гибели, три о самоубийстве как подтверждении божественности. Один рассказ описывает призвание философа на небеса, ничего не говоря о способе вознесения. "Но, - пишет Я. Голосовкер, - вдумываясь в самый великолепный жест прыжка в огненную стихию, сопоставляя с учением Эмпедокла с творческим смыслом огня, с проповедью вечного перевоплощения живых существ решаешь: быть может, прыжок и не легенда"; во всяком случае, само "учение" акрагантского философа вполне "осмысливало прыжок" [71, с. 116]. Эмпедоклу "оставался только один шаг до блаженного сожительства с богами"; в необходимости этого шага и кроется "наиболее естественное объяснение пресловутого аутоапофеоза Эмпедокла" [290, с. 59].
Нельзя сказать, что у Эмпедокла не было последователей. Известный авантюрист киник Перегрин178 по прозвищу Протей179, "ради славы" принимавший различные обличья180 (побывавший и "христианином")181, "в конце концов превратился даже в огонь", как пишет о нём ядовитый Лукиан. "А теперь этот почтенный муж превращён в уголь по примеру Эмпедокла, с тою лишь разницей, что Эмпедокл, бросаясь в кратер Этны, старался это сделать незаметно; Перегрин же, улучив время, когда было самое многолюдное из эллинских собраний (Олимпийские игры. С.А.), навалил громаднейший костёр и бросился туда на глазах всех собравшихся" [167, с. 140]. Соратники-киники заранее прославили Перегрина как нового Эмпедокла [167, с. 141]; по слухам же, сам Перегрин рассчитывал на посмертное поклонение и почитание: "он уже домогается, чтобы ему поставили алтари, и надеется, что будут воздвигнуты его изображения из золота" [167, с. 148], как и Эмпедоклу (Диог. VIII, 72); ученики, надо полагать, "устроят на месте сожжения и храм и прорицалище", посвящённые этому то ли богу, то ли "ночному духу-хранителю" [167, с. 148], добровольно "соединившемуся с эфиром" [167, с. 150]. Для посмертного распространения собственной славы Протей "назначил" и ангелов, и апостолов [167, с. 152]182.
Лукиан не уставал развенчивать и самого Эмпедокла, проявляя к его судьбе редкое неравнодушие. В "Разговорах в царстве мёртвых" киник Менипп, который, согласно Диогену, "впал в отчаянье и удавился" (Диог. VI, 100), встречается после смерти с другим умершим "по собственной воле" [167, с. 184]. "А кто же этот, весь в золе, как скверный хлеб, покрытый пузырями?" - удивляется Менипп. Подземный судья Эак объясняет: "Это Эмпедокл; он пришёл к нам из Этны наполовину изжаренный"183. "Что на тебя нашло, меднообутый мудрец? - восклицает Менипп. - Отчего ты бросился в кратер вулкана?" Эмпедокл отвечает: "Меланхолия, Менипп". На это киник отзывается целым обвинительным заключением: "Нет, клянусь Зевсом, не меланхолия, а пустая жажда славы, самомнение и немалая доля глупости всё это обуглило тебя вместе с медными сандалиями. Так тебе и надо! Но только всё это не принесло тебе ни малейшей пользы: все видели, что ты умер" [167, с. 182]184.
Стихия огня, с которой слился Эмпедокл, искавший очищения от ограниченности частного, играет особую роль в его мировоззрении. Философ признавал четыре αρχη сущих, однако, как указывал ещё Аристотель, в учении Эмпедокла начáл в точном смысле "только два: у него отдельно огонь, а противоположные земля, воздух и вода как одно вещество" (Метафизика I 4, 985 b 1-2). Недаром именно огонь Эмпедокл именовал не только Гефестом (fr. 461, fr. 462 Bollack), но и самим Зевсом (Диог. VIII, 76). Плутарх замечает, что "огонь обладает свойством разъединять и разделять, а вода склеивать и скреплять <...>. Поэтому Эмпедокл и дал нам аллегорическое толкование, называя всякий раз огонь гибельной Распрей, а влагу связующей Любовью" (fr. 401 Bollack). В жертву Вражде и приносит Эмпедокл собственное тело как космическое выражение этой силы, мешающее душе слиться с Любовью185. "Древние сжигали тела мёртвых, - пишет Иоанн Лидийский, - превращая их в эфир вместе с душой: подобно тому, как душа огненна и стремится вверх, так тело тяжёлое, холодное и клонится вниз. Стало быть, они думали, что истребляют самый образ тела огненным очищением" (12 B 1 a DK). Эмпедокл откликнулся на этот очистительный "зов огня"; не веря в реальность смерти, он видел в разрушении "нечто большее, чем просто изменение, обновление" [31, с. 32]. В акте такого обновления сливаются воедино огонь, любовь и смерть [31, с. 33-34]. Гастон Башляр находит в таком отношении к огню некий "комплекс Эмпедокла": в нём "слиты любовь к огню и его почитание, инстинкт жизни и инстинкт смерти" [31, с. 32]186.
Огонь, по выражению А.Ф.Лосева, это "жуткий и трагический символ древнегреческого эстетического мироощущения" [156, с. 184]. Вся классическая античная гармоничность, так ярко обнаруживающая себя в природе и культуре, есть только периодическое оформление Хаоса, который выше и могущественнее самих богов. Эта временная гармония приобрела в античности чёткие пластические формы именно потому, что античному человеку в его опыте была постоянно дана та хаотическая бездна, из которой и в которую про-ис-ходят все вещи. Космос и Хаос всегда противо-стоят в наличном; и как раз огонь, более чем какое-либо другое начало, демонстрирует эту бытийную диалектику формы и бесформенности [156, с. 184]. Так, согласно Гераклиту, "быть для любого существа, поскольку оно есть, значит быть огнём", формой горения, "смертью иного", и само его бывание есть умирание в ином [24, с. 122], у-бывание в своё ничто. Потому-то Эмпедокл, стремясь к выражению понятия о мировой гармонии, опирался не только на "количественный" метод этого выражения у Пифагора, но и на "качественный" метод Гераклита, известного почитателя огненной первостихии [156, с. 16].
Огонь уничтожает оформленное, в самом акте уничтожения свидетельствуя наличие уничтожаемого, но сам наличествует только в силу этого уничтожения [156, с. 184]. "Мировой пожар, в котором гибнет всё живое и который постоянно возможен, вырываясь из неисповедимых бездн судьбы, вот то мрачное, торжественное и величественное эстетическое мироощущение, которое мы с ужасом почерпаем из <...> досократовских фрагментов" [156, с. 185]. Высшим предметом такой эстетики предстаёт не Космос, а Сфайрос "первоогонь" [156, с. 35] чистой Любви. Отдавая тело огню и вознося душу в первоогонь, философ совершает деяние вселенского масштаба. "Умирающий в огне, в отличие от других, умирает не в одиночку. Это поистине космическая смерть, когда вместе с мыслителем гибнет вся Вселенная" [31, с. 36].
Итак, "торжественное самоубийство" Эмпедокла [220, с. 175] является строгим практическим выводом из его философского монизма, который опирается на знание целого, в самом себе повторяющего себя замкнутого круга сущего. Знающему открыта природа-сущность бывания как диалектического континуитета, в границах которого обращается всякая вещь, про-ис-ходя из ничто в ничто. В самóм "рождении" частного заключена вина, влекущая естественное возмездие [72, с. 42]. Знание этого имманентного порядка целого есть условие возвращения себе своей изначальной божественности путём прерывания жизни в теле. Такое знание не только оказывается основой магической технологии, но и открывает его обладателю возможность радикальной трансформации: не очередного перевоплощения, но "освобождения" (очищения) души от космической плоти. При этом душа полагается как вечная по природе, по своей-универсальной сущности; манифестация этой всегда уже оказывающейся имплицитно наличной сущности лишь подтверждает данное положение дел: "Ты должен стать тем, кто ты есть" [186, с. 623]. Эмпедокл, ставший "как бог", познавший Любовь и Вражду187, добивается окончательного осуществления своей-всеобщей божественности через акт вольной смерти, растворяющий личностную перспективность в безлично наличной φυσις. Знание, как и утверждал змей, сообщает человеку равенство богам (Быт 3:5); значит, искуситель сказал правду. Но истина состоит в том, что знание есть необходимое условие смерти (Быт 2:16-17). Человекобог есть в конце концов самоубийца. Вот о чём "из глубины Этны громко вопиет" [101, с. 198] божественный акрагантец188.
Этот клич был подхвачен в XIX веке Фридрихом Ницше, который давал высокую оценку философии "божественного" Эмпедокла [220, с. 22]. Явные параллели к Эмпедоклу приведены выше. Здесь же отмечу сюжет из "Заратустры"189, прямо перекликающийся с темой чудесного вознесения Эмпедокла на небеса посредством Этны.
"Есть остров на море недалеко от блаженных островов Заратустры, на нём постоянно дымится огнедышащая гора; народ и особенно старые бабы из народа говорят об этом острове, что он привален, подобно камню, перед вратами преисподней; а в самом-де вулкане проходит вниз узкая тропинка, ведущая к этим вратам преисподней."
Однажды люди, высадившиеся на этом острове, увидели человека, который по воздуху ("подобно тени") пролетел мимо них "в направлении, где была огненная гора". В этом человеке узнали Заратустру.
"Смотрите, - сказал старый кормчий, - это Заратустра отправляется в ад!"
"В то же самое время, как эти корабельщики пристали к огненному острову, разнёсся слух, что Заратустра исчез; и когда спрашивали друзей его, они рассказывали, что он ночью сел на корабль, не сказав, куда хочет он ехать.
Так возникло смятение, а через три дня к этому смятению присоединился ещё рассказ корабельщиков и теперь весь народ говорил, что чёрт унёс Заратустру. Хотя ученики его смеялись над этой болтовнёй, <...> как же велика была их радость, когда на пятый день Заратустра появился среди них" [189, с. 94].
Итак, имеют место и остров с вулканом (Сицилия), и сам вулкан как дверь в иной мир. А ведь именно Этной Зевс прикрыл спуск в Тартар, заключив туда Тифона, о чём сообщают Гесиод (Теогония ХХ, 868) и Аполлодор (Мифологическая библиотека I, 6, 3)190. Есть и ночное исчезновение героя, и неверие учеников в связь этого исчезновения с "горным огнём": Павсаний тоже не поверил в самосожжение Эмпедокла (Диог. VIII, 69). Справедливости ради надо заметить, что близость эмпедокловой Этны к блаженным островам Заратустры всё же не перерастает в их совпадение. Герой Ницше не бросается в огнедышащее жерло, а, побеседовав с духом вулкана ("огненным псом"), возвращается к ученикам. К тому же Заратустра, в отличие от Эмпедокла, не видит никакого небесного существования в конце пути, который открывается броском в кратер; этот путь ведёт в преисподнюю, которая Заратустру не пугает, но и не привлекает.
Тем не менее, не может не обнаружиться явная общность главной мировоззренческой установки обоих философов. "Подобно Эмпедоклу, бросившемуся в кратер Этны, чтобы отыскать истину там, где она существует, то есть в недрах земли, Ницше предлагает человеку броситься в космическую бездну, чтобы обрести там свою вечную божественность и самому стать Дионисом" [113, с. 175]. Это генеральное направление движения духа к собственному растворению (аннигиляции) в ничтожащей личное бытие общности природы Н.А. Бердяев назвал "космическим прельщением", противопоставляя его преображению (сублимации) человека. Такая одержимость природой есть "экстатический выход за пределы личного существования в космическую стихию" в стремлении слиться с ней. "Но это всегда было не столько выходом из замкнутого существования личности к мировому общению, сколько снятием самой формы личности и её растворением" [36, с. 60]. Происходит "порабощение человека космосом, основанное на иллюзии приобщения к его внутренней бесконечной жизни"; природа, как "душа мира", становится силой, поглощающей личность человека. Однако это прельщение небеспричинно, и потому оно может быть понято как неверный ответ на очевидно насущный вопрос. Человека "справедливо мучит его отчуждённость от внутренней жизни природы", ставшей ему непонятной и противо-стоящей: "отпадение человека от Бога повело за собой отпадение космоса от человека". Метафизически одинокий человек хочет "вернуть себе космос", "хочет возвращения космоса внутрь человека" [36, с. 60]; но, потеряв ориентацию в бытии, добивается своими силами лишь возвращения человека внутрь космоса, отдаёт себя наличному, чтобы "добровольной жертвой низвергнуться обратно в природу, в поток её метаморфоз" [71, с. 127]. "От рабства у механизма природы он возвращается к рабству у пандемонизма природы" [36, с. 60], к тотальной одержимости наличным. Искатель и осуществитель "универсального синтеза" и "примиряющей гармонии" [220, с. 64] приходит к самоубийству. Слияние с универсальным началом не освобождает личность, а уничтожает её в безличности φυσις: меняется лишь "форма рабства" [36, с. 61]191.
В противовес "космическому прельщению" тотальной одержимости природой персоналистически ориентированный теизм утверждает перспективу теономного трансцендирования данного, предлагая не "совлечься" в безличную неразличимость наличного, но "облечься" преображённой (сублимированной) телесностью, возведя данное к заданному. "Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворённый, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище; только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа" (2 Кор 5:1-5. Курсив мой. С.А.). Напротив, к поглощению смертного смертью призывает "инцидент" [71, с. 115] Эмпедокла.
В бытии, где гармония не задана, но дана, где она положена не как идеальное, но как эйдетическое, смерть всякого "этого" неизбежна, она требуется эстетикой наличного чина. Человек, для которого отход не-обходим, может отнести себя к этому необходимому только одним способом пожелать его. Беспокоиться об упразднении смерти нет оснований, поэтому надо спокойно смотреть ей в лицо и с увлечением делать шаг навстречу. Роковая неизбежность гибели, принятая как "торжественно-героическая обречённость", как "желанная неотвратимость" [220, с. 58-59], превращается в любовь к року, в любовь к природной деструктивности, подавляющей и разрушающей частное. "Я хочу всё больше учиться смотреть на необходимое в вещах, как на прекрасное, - говорит Ницше. - Amor fati: пусть это будет отныне моей любовью!" [186, с. 624]. Эта болезненная "любовь" свидетельствует о безысходности монистически устроенного бытия, в котором тоска по иному может реализовать себя только таким рабским образом: "пойти самому навстречу судьбе, рьяно и исступлённо любя и благословляя самый губящий закон (вроде ты свободно его выбираешь, своей волей таков тут самообман!). Элемент извращённой, "мазохистской" сласти погибели при этом очевиден" [216, с. 27], ибо для человека любовь к судьбе есть в конечном счёте любовь к собственной смерти. Amor fati это влечение к ненавистному, сладострастное подчинение силе; это, по словам Н.Ф. Фёдорова, "подлый страх, не позволяющий себе даже спросить: точно ли неизбежно это рабство разумного у неразумного192, не суеверие ли и эта любовь к тому, что должно быть ненавистным, то есть к рабству?" [цит. по: 216, с. 26]. Любви к року может быть противопоставлена ненависть к судьбе (odium fati), спасающая от порабощения и аннигиляции. Не тому учит пример Эмпедокла: "Не ждать, пока Рок тебя настигнет, а самому спеть ему восторженный гимн и с ним на устах добровольно сгореть, ринуться в тёмную бездну, кратер вечности нечто подобное совершил <...> и герой Гёльдерлина, любимого поэта Ницше" [216, с. 27]. Этот герой Эмпедокл.
Лекция 5. Божественность и самоубийство (окончание):
тоска по страшномУ
I
Связь между монистическим мировоззрением, уверенностью в собственной божественности и самоубийством, обнаруженная в истории смерти Эмпедокла, получает художественно-философское подтверждение в образе Кириллова, бунтующего человека из "Бесов", который несёт в себе и ницшеанские, и "абсурдные" черты. Но прежде чем обратиться к этому образу, созданному Ф.М. Достоевским, надо разобрать те эмпедокловско-ницшеанские параллели, которые позволяют пролить дополнительный свет на указанную связь. Опыт Эмпедокла, как известно, своеобразно осмыслен ещё одной жертвой собственного бунта - Фридрихом Гёльдерлином, отошедшим в мир иной (как и Фридрих Ницше) после долгих лет помрачения ума. Вот как Гёльдерлин выражает своё отношение к Эмпедоклу:
Жизнь вопрошал ты. Словно в ответ тебе,
Из глубины священный огонь блеснул,
И ты, обуреваем жаждой,
Бросился в пламя шумящей Этны.
Не так ли в час надменности царственной
Царица скрыла в кубке жемчужину?
Всё, чем ты был и горд и славен,
Всё растопилось в сей бурной чаше.
Ты стал бессмертным, ты разделил удел
Богов, и Мать-Земля приняла тебя.
И если б я любви не ведал,
Прянул бы я за тобою в бездну
[69, с. 91].
Несмотря на известную оригинальность осмысления Гёльдерлином судьбы Эмпедокла, это осмысление сохраняет связь между божественностью и необходимостью самоуничтожения. Оказавшись между миром людей и миром богов, философ выбирает смерть как единственно возможный способ разрешения возникшей трагической напряжённости: "великая личность, отпавшая от закономерного хода бытия, стремится уйти в природу, соединиться с ней" [88, с. 13]. При этом смерть для Эмпедокла - такое же его творение, как и любое из его сочинений; она - естественное и закономерное продолжение его поэзии. В ней поэт-философ находит своё последнее удовлетворение. Убивая себя, он поэтически священнодействует, сочиняет свою судьбу, совершает ритуально-поэтическое жертвоприношение, где жрец и жертва, поэт и поэма - он сам. Отсюда и весь эпатаж; отсюда и выбор Этны в качестве алтаря для самозаклания [см.: 220, с. 58-59]. Желание делать себя самому влечёт суицид как предельное выражение последовательной автономности и принципиального аутоцентризма.
Итак, смерть, как своё собственное произведение, Эмпедокл использует в качестве средства преодоления косного, враждебного ему мира; он возвращается туда, откуда пришёл: в первореальное всеединство, во всепримиряющее материнское лоно природы. Такой Эмпедокл - не только поэтический образ, романтический герой, чьим именем Гёльдерлин воспользовался для того, чтобы описать трагическую судьбу художника в обществе [см.: 220, с. 59-60]. Судьба Эмпедокла явилась, видимо, тем культурным образцом, который помог Гёльдерлину наиболее адекватно эксплицировать свои философские интуиции. Во всяком случае, важно то, что именно акрагантский философ дал повод для подобных художественно-мировоззренческих переживаний.
Тема Эмпедокла, собравшая в себе такие переживания, к концу сознательной жизни полностью поглощает Гёльдерлина [126, с. 6; 88, с. 32]. "Тайна вулкана, тайна мятежа"193 увлекает поэта. Он чувствует необходимость снова и снова толковать судьбу философа, дабы разобраться в собственной судьбе, - разобраться на примере Эмпедокла, в загадочной истории жизни и смерти которого он поэтическим своим чутьём уловил созвучие собственным настроениям [126, с. 7].
Гёльдерлин называет несколько мотивов добровольного ухода Эмпедокла из жизни; эти мотивы появляются друг за другом, постепенно наслаиваясь один на другой. Во-первых, это ощущение необходимости слияния с природой, понимаемого как исполнение высшей правды космической безличной жизни и как преодоление ограниченности, несовершенства, порочности и мелочности [ср.: 88, с. 33] человеческого существования. Во-вторых, это конфликт гения с чернью, человекобога с не признавшей его толпой. В-третьих, это конфликт человекобога с богами (возмездие за гордыню).
Поначалу Гёльдерлин истолковывает поступок Эмпедокла в духе излюбленной романтиками "мистики природы", в русле идеи свободного единения с этой природой, приобщения к её "тайнам"; он усматривает в жизни и смерти Эмпедокла некую парадигму осуществлённой романтической судьбы, пример самого радикального слияния с природой, возвращения в неё, растворения в ней194. Тут всё соответствует возвышенному романтическому идеалу - не только упомянутое слияние, но ещё и пылание, и вознесение к небесам в очищающей стихии пламени [126, с. 5].
Данный мотив эмпедокловой смерти особенно сильно подчёркнут в романе "Гиперион", где Эмпедокл присутствует в намёках, отзвуках и воспоминаниях. Гиперион пишет своей возлюбленной Диотиме: "Меня с давних пор привлекало больше всего на свете величие души, не подвластной судьбе; я не раз жил в великолепном одиночестве, уйдя в себя; я приучался стряхивать с себя, как хлопья снега, всё внешнее; мне ли бояться так называемой смерти? Разве я тысячу раз не освобождал себя мысленно, неужто я теперь не сделаю это без всяких колебаний один раз в действительности? Неужели мы, точно крепостные, прикованы к земле, которую пашем? Неужели мы уподобимся домашней птице, которая не смеет убежать со двора, потому что её там кормят? Нет, мы подобны орлятам, которых отец гонит из гнезда, чтобы они искали себе добычу в горнем эфире" [69, с. 393-394].
Правда, Гиперион, человек чести, как будто не хочет касаться Диотимы своим смертоносным дыханием: "Тогда я хотел умереть, Диотима, и думал, что свершу святое дело. Но есть ли святость в том, что может разрушить праведное счастье нашей жизни?" [69, с. 403]. Это опасение заставляет его спохватиться: "Но не слушай меня, молю тебя, пропусти это мимо ушей! Я сказал бы, что я совратитель, если бы ты стала слушать. Ты ведь знаешь и понимаешь меня. Ты знаешь, что окажешь мне самое глубокое уважение, если не будешь меня жалеть, не станешь слушать" [69, с. 392]. Но запоздалые предупреждения уже не в силах нейтрализовать то семя саморазрушения, которое посеяно Гиперионом в душе Диотимы. Вот её предсмертное письмо, регулярно отсылающее читателя к словам и делам акрагантского мага (курсив всюду мой. - С.А.):
"Всё в природе очищается, и всюду цвет жизни постепенно освобождается от грубой материи" [69, с. 415]. Диотима тоже мечтает освободиться от увядающей плоти. "Скажи, уж не богатство ли чувств причина моего разлада с земной жизнью? А может, моя душа благодаря тебе, прекрасный, так возгордилась, что не захотела больше мириться с этой заурядной планетой? Но ты научил её летать, что ж не научишь её, как можно вернуться к тебе? Ты зажёг этот огонь стремление в эфир, что ж не уберёг меня от огня?"
"Благодаря тебе душа моя приобрела слишком большую власть...Ты оторвал мою жизнь от земли" [69, с. 417].
"Солнце, земля и эфир со всеми живущими, играющими вокруг вас, как и вы играете с ними, вечнолюбивые! О примите людей, стремящихся всё изведать, примите их, беглых, опять в вашу божественную семью, примите их в отчий дом природы, который они покинули!"
Люди, раболепствующие перед необходимостью и глумящиеся над гением, не способны чтить "младенческую жизнь природы". "Ничего лучшего, чем свои обязанности раба, они не знают, потому и страшатся божественной свободы, которую дарует нам смерть.
А я не страшусь! Я поднялась над жалкими творениями рук человеческих, я постигла чувством жизнь природы, которую не постичь мыслью... Если я стану даже растением, что за беда? Я пребуду вечно. Как я могу исчезнуть из круговорота жизни, в котором вечная любовь, присущая всем, объединяет все создания? Как я могу расторгнуть союз, связующий меня со всеми существами? Его не разорвёшь так легко, как слабые узы нашего времени (что означает: смерть для пантеиста не является чем-то необратимым. - С.А.)."
"Мы разлучаемся лишь для того, чтобы крепче соединиться, быть в божественном согласии со всем и с собою. Мы умираем, чтобы жить.
Я пребуду вечно; я не спрашиваю, чем буду. Быть, жить - этого довольно, ибо это честь и для богов, вот почему все жизни, какие ни есть, равны в божественном мире."
"Скоро, скоро ты станешь счастливей, скорбный юноша! - обращается Диотима к Гипериону, как к новому Эмпедоклу. - Твои лавры ещё впереди, а мирты твои отцвели, потому что ты будешь жрецом божественной природы, и твоё время - время поэзии - приспело" [69, с. 419].
От одного из свидетелей смерти Диотимы Гиперион узнаёт о последнем желании "греческой девушки": она "хотела бы покинуть землю, уносимая пламенем, а не лежать в могиле" [69, с. 420].
Потерявший Диотиму (а по сути - своими речами её убивший) Гиперион, этот сын Земли и Неба, вдруг получает возможность снова её обрести; обещание такого чуда исходит всё от того же Эмпедокла, тень которого является несчастному герою, как явилась она лукиановскому Мениппу, и так же, как и ему, открывает глаза на истину. "Вчера я был на вершине Этны. Там вспомнился мне великий сицилиец, который однажды, устав вести счёт часам и познав душу мира, бросился, охваченный дерзкой жаждой жизни, в прекрасное пламя вулкана; холодный поэт решил погреться у огня, сказал о нём один острослов" [69, с. 422]. Гиперион и сам был бы рад дать повод для такой остроты. Но он считает себя не вполне созревшим для того, чтобы "броситься природе на грудь" [69, с. 422]. Однако не всё потеряно: процесс созревания идёт полным ходом, и финал романа позволяет предполагать скорое превращение Гипериона в "жреца божественной природы". Всё больше и больше покоряется он "благосклонной природе"; ему хочется "стать ребёнком" (как хотелось этого и Ницше), чтобы "поменьше знать" и "стать чистым" [69, с. 428-429]. Он видит, что все достижения человеческой культуры, всё "выдуманное" - непрочно, эфемерно, лживо; всё это тает, как поддельный жемчуг из воска, вблизи "огня" истинной жизни природы. Тоска, усталость, одиночество способствуют его утверждению в этих мыслях. Нельзя не заметить, что слова, сопровождавшие это прозрение Гипериона, "были как шорох пламени, когда оно взлетает, оставляя после себя пепел" [69, с. 429].
Итак, на наших глазах превращающийся в Эмпедокла Гиперион теперь знает: "всё совершается по свободному побуждению"; умирающий "возвращается вновь", не в силах нарушить или разрушить "гармонию природы", её "нетленную красоту"; не составляет никакой трагедии "смерть и всё горе людское", ибо всё "кончается миром". "Все диссонансы жизни - только ссоры влюблённых. Примиренье таится в самом раздоре, и всё разобщённое соединяется вновь" [69, с. 430]. Так из "лирико-философского тела" [71, с. 122] романа "выныряет" [71, с. 126] герой единственной драмы Гёльдерлина [126, с. 4] "Смерть Эмпедокла". В этом последнем произведении поэта звучит всё та же тема радостного слияния с природой, обретения утерянной божественности через погружение в "родную стихию":
О многотерпеливая природа!
Теперь я твой, теперь я снова твой,
Любовь былая ныне оживает
Между тобой и мной! Меня зовёшь ты,
Влечёшь меня к себе - всё ближе, ближе...
[69, с. 267].
В рёве вулкана Эмпедокл слышит призыв богов, обещание небесного блаженства:
О грозная, родная мне стихия,
Огонь волшебный!..
Животворящий, ты теперь мне ведом.
Дух сокровенный, мне открылся ты.
Ты свет мой ныне, ибо ты не страшен
Тому, кто смерти ждёт, и ждёт по праву
[69, с. 267].
Для колебаний места нет. Зовут
Бессмертные...
[69, с. 268].
О Гении вселенной!
Вы были в дни, когда я начинал,
Так близки мне! И вам я благодарен,
Что вы судили мне окончить путь
Моих страданий здесь, где я не знаю
Иного долга, даровали смерть
Свободную, по божеским законам!
[69, с. 281].
Экстаз из жизни в смерть явлен как величайшее счастье:
Иду. Смерть - это только шаг
Во тьму. А вы хотите видеть, очи?
Нет, верные, вы срок свой отслужили.
Теперь наступит ночь - и темнотою
Укроет мне главу. Но из груди,
Ликуя, рвётся пламя. О тоска
По страшному!.. От смерти жизнь опять
Воспламенится, ты же, о природа,
Ты чашу мне даёшь, в которой, пенясь,
Клокочет ужас, чтобы жрец твой мог
Испить последний из земных восторгов!
Доволен я, и больше ничего
Не нужно мне, - лишь тот алтарь, где в жертву
Я мог бы принести себя. Я счастлив...
[69, с. 258-259].
Античная "универсалистическая тенденция", явленная у Гёльдерлина в "патологическом" размере [56, с.138], захватывает собой всё "творчество и существо" поэта [56, с. 127]. Тоска романтика по "тотальности и гармонии" [71, с. 116] как раз и выражена в драматическом образе Эмпедокла на Этне. Трагический мотив "Смерти Эмпедокла", сходный с мотивом "Фауста", заключается в том, что "личность погибает в своём стремлении расшириться до пределов всего сущего", в своей жажде "охватить всё земное и в особенности слиться со всею жизнью человечества"; так ориентированная личность "кончает сознанием неосуществимости этого стремления" [56, с. 139]. Скажем более: личность, стремящаяся осуществить свою установку на тождество микрокосмоса и макрокосмоса, необходимо должна уничтожить себя, растворившись в макрокосмической (природной) стихии.
Драма Гёльдерлина, занимавшая собой все его последние сознательные годы, так и осталась неоконченной, фрагментарной; однако она обретает внутреннюю целостность исключительно благодаря тому, что в ней звучит всё тот же "комплекс Эмпедокла" [31, с. 36]. Тогда как Гиперион остаётся жить в природе, Эмпедокл в природе умирает, растворяясь в чистой стихии вулкана. Эти поступки, по замечанию Пьера Берто, не так уж далеки друг от друга по своему смыслу [31, с. 36]. Действительно, Эмпедокл Гёльдерлина - это его Гиперион, избавившийся от меланхолической рефлексии и непоследовательности, решительно (героически) приводящий в исполнение собственный приговор всему частному.
Замысел автора относительно сюжета драмы постоянно менялся, о чём свидетельствует наличие трёх редакций "Смерти Эмпедокла" [88, с. 34; 126, с. 6]; но одна проблема, особенно сильно волновавшая самого Гёльдерлина, сохранялась в этих вариантах неизменной: это проблема положения в обществе высокоодарённой личности (гения). Гёльдерлин, по словам А. Карельского, стремился "додумать до конца логику романтического гениоцентризма", заданную Новалисом и иенскими романтиками [126, с. 8, 9]. Эта логика ведёт героя драмы к самоубийству в жерле Этны, и она же приводит автора к почти сорокалетнему безумству в Неккарской башне195.
"Социально-этическое" [126, с. 12] измерение конфликта Эмпедокла с внешним окружением настоятельно подчёркивается Гёльдерлином, ибо это его личная проблема, насущный вопрос романтика о соотношении богоподобного гения и толпы посредственностей. Сия неблагодарная толпа, уличив философа и тавматурга в гордыне (в её социальном, а не метафизическом значении), изгоняет своего благодетеля, дарует ему одиночество. Всё, что может пожелать Эмпедокл отвернувшейся от него черни: "Пусть будет медленною ваша смерть" [126, с. 12]. Свою же смерть Эмпедокл избирает сам:
Не смертные принудили меня.
Я сам схожу бесстрашно, мощью вольной
Туда мной избранной тропой -
В том счастье мне, и то право моё
[68, с. 98-99].
Однако это узурпированное Эмпедоклом право перейти из людей в боги переживается им и как самопревознесение, могущее вызвать не только человеческое непонимание, но и гнев небожителей. "Дерзновенная претензия на равенство богам" [126, с. 11] вызывает напряжение в отношениях человека с "гениями" космоса. Союз с природой грозит превратиться в конфликт с ней. На Этне "божественный человек" [126, с. 8] переживает нечто вроде раскаяния:
Ты, ускользающая от грубого ума природа!
Я пренебрёг тобой, себя возвёл,
Высокомерный варвар, во владыки,
Рассчитывал на вашу простоту,
Вы, чистые! Вы, силы вечно юные!
Меня вы пестовали, меня вскормили,
Упоевая. Да, я познал её,
Природу-жизнь: могла ли для меня
Она священной быть, как встарь? Богов
Я допустил прислуживать, и только.
Один стал бог - и этот бог был я!
Так высказана гордость. О, поверь!
Мне б лучше не родиться!
[68, с. 36].
Кто возносился взором выше смертных,
Теперь, слепец, бредёт во тьме наощупь.
Я нищий, нищий...
[126, с. 11].
Павсаний поддерживает Эмпедокла в этих мыслях:
Ты прав,
Чудесный человек! Так глубоко
Любить и видеть вечный мир, как ты!
И гении его, и силы сил -
Никто не мог, не смел. И потому
Ты был один, кто вдруг дерзнул на слово ("бог". - С.А.),
И потому - так страшно вдруг сознал,
До ужаса! за гордый звук единый
Отторгнутость от сердца всех богов,
И сам себя им отдаёшь любовно
В жертву, о, Эмпедокл!
[68, с. 37].
Об этой же "метафизической вине" [126, с. 11] говорит и жрец Гермократ:
Он был любим бессмертными. Однако ж
Не первый он, кого они затем
С вершины своего благоволенья
Низринули в беспамятную ночь
За то, что дерзкий в преизбытке счастья
Забыл меж ними и собой различье,
В себя лишь верил одного. И вот
Его удел - безмерная пустыня
[126, с. 11].
Итак, "самообожествление Человека" [71, с. 126] может быть понято и как величественный подвиг, и как опасная гордыня. Если человек окончательно осознал себя богом, у него нет больше возможности сохранять своё шаткое человекобожие: люди извергнут из своей среды бога, а боги не потерпят рядом с собой человека. Гордость упорствующего в своём человекобожии Эмпедокла искупается только смертью. Так подтверждается необходимость самоубийства для всякого последовательного человекобога.
Поскольку тема Эмпедокла поставлена нами в связь с темой самоубийства Кириллова, нелишним будет отметить, что Гёльдерлин попытался определить и некое всемирно-историческое значение смерти Эмпедокла, а именно - роль его как религиозного "спасителя" человечества. Во фрагменте "Эмпедокл на Этне" перед главным героем является "египтянин" Манес с предупреждением о "гневе неба" [69, с. 277]. Этот гнев вызван тем положением, которое вольно или невольно занял Эмпедокл между миром богов и миром людей. В человекобожеском образе, нарисованном Манесом, мешаются черты Прометея и Христа; по сути же роль Эмпедокла описана как роль антихриста.
Лишь одному твоя отрадна слабость,
Лишь одному твой чёрный грех на благо.
Я рядом с ним ничтожен: как лоза,
Связуя землю с небом, прозябает
На тёмной почве под высоким солнцем,
Так он растёт, рождённый тьмой и светом -
Вокруг него клокочет мир, и силы,
Которые живут в груди у смертных,
Кипят и вырываются наружу;
Взирая с небосвода на мятеж,
Отец времён за свой престол страшится.
Его огонь чадит, перуны гаснут;
От молний, низвергаемых с небес,
Междоусобный бой пылает ярче.
А он, Спаситель Новый, безмятежно
Те молнии бестрепетной рукой
Подхватывает, и к своей груди
Всё бренное с любовью прижимает,
И вот уже стихает битва в мире,
Он примиряет смертных и бессмертных;
Как древле, их любовь соединяет.
И вот тогда, чтоб Сын-Освободитель
Родителей не превзошёл величьем
И чтоб священный гений жизни не был
Из-за него, великого, забыт,
Он сам, кумир людей, сам разбивает
Своё же собственное счастье: пусть
Его рукою чистою свершится
Предустановленное - с Чистым, с ним;
Чрезмерное он сам развеет счастье
И возвратит клокочущей стихии
То, чем он ей обязан, - бытие.
Ты - этот муж великий? Ты? Ответь.
Эмпедокл отвечает:
По тёмной речи узнаю тебя,
И я тебе, всезнающий, известен
[69, с. 278-279];
иначе говоря, он вполне согласен с характеристикой, данной ему Манесом. По мнению Г. Ратгауза, в цитируемом фрагменте присутствуют "элементы различных религий (древнейшей доолимпийской, олимпийской, египетской и христианской) и Эмпедокл оказывается как бы предтечей Христа" [69, с. 531]. С последним предположением никак нельзя согласиться по следующим соображениям. Христу не может быть "отрадна" греховная слабость, препятствующая спасению. Христос был рождён по плоти, но безгрешно, следовательно, о Нём нельзя говорить как о родившемся от "тьмы и света": Он - "Свет от Света" (Символ Веры). Христос не соперник Отцу (здесь имеющему все атрибуты Зевса Олимпийского), тем более не защитник "бренного" как такового от возможного осуждения, но Сам осуществляет суд Божий (Ин 5:27, 30). Не отвращает Он людей и от "гения жизни" (Духа Святого), но Сам же Его посылает людям (Ин 15:26). И какое Своё "чрезмерное счастье" мог разбить Христос? Нищету, бездомность, предательство со стороны народа и ученика? И не "стихии" (природе) Он обязан Своим бытием, а, наоборот, "стихия" Ему (как Логосу) бытием обязана. Понятно, что образ Христа здесь искажён до степени полного совпадения с образом антихриста, "кумира людей", князя мира сего. И сущность "чёрного греха" Эмпедокла вполне верно отражена в монологе Манеса: это грех самообожествления, грех богоборчества, результатом имеющий "слабость" самоуничтожения, "отрадную" одному диаволу. Поэтому по меньшей мере странно видеть здесь Христа или Его предтечу; Гёльдерлин однозначно говорит об Эмпедокле (устами Манеса) как об антихристе. Определения, традиционно относимые ко Христу, - "лоза" (Ин 15:5)196, "Спаситель", "Сын" - вполне уместны на знамени искусителя; они-то и вводят в соблазн, предлагая отождествить антихриста со Христом. Очень силён в данном монологе элемент манихейства с его дуализмом света и тьмы, земного и небесного (ср. с именем египтянина - "Манес")197, не отмеченный Г. Ратгаузом.
Следовательно, Эмпедокл представлен Гёльдерлином (скорее невольно, чем сознательно) как псевдо-освободитель, ложный спаситель, как вместо-Бог, как противообраз Христа Спасителя. Поэт близко к сердцу принял судьбу Эмпедокла, он словно сам прожил его жизнь; он вошёл в роль, он сжился с душой давно умершего философа; и вот он уже вещает его устами, от его имени. В Гёльдерлине говорит Эмпедокл, или, ещё точнее, в Гёльдерлине звучит то же, что звучало в Эмпедокле. Гёльдерлин не лгал, воспевая подвиг Эмпедокла; он не лукавил, говоря о смысле этого искренне превозносимого им подвига; вот тут-то и становится явной вся разрушительная сила этого примера! Эмпедокл - человекобог, антихрист, сеятель смерти, "бунтующий человек" (Альбер Камю не случайно использовал в качестве эпиграфа к своему труду цитату из "Смерти Эмпедокла"). В этом и заключается его всемирно-историческая роль. На такую-то роль и претендует Кириллов.
II
Ещё одну иллюстрацию связи самообожествления с самоубийством можно найти в пьесе Леонида Андреева "Тот, кто получает пощёчины". Здесь носителем "идеи" выступает клоун Тот (который и получает пощёчины); он недавно принят в цирк "с улицы" по его собственной настойчивой просьбе. В прежней своей жизни этот человек был, видимо, достаточно известен (но не как клоун) [см.: 19, с. 359, 383]; но затем произошла некая "история" [19, с. 358]: от него ушла жена [19, с. 379] и случились все связанные с этим неприятности. В результате он намеренно "потерял имя" [19, с. 359] и "умер" для мира [19, с. 383]; кладбищем был избран цирк. И вот на арене - всё тот же Эмпедокл, но на этот раз - в клоунском наряде:
"На мне маска и я играю. Я могу говорить всё, как пьяный... Когда я вчера, с этой дурацкой рожей, играл великого человека - философа!.. И шёл так, - и говорил, как я велик, мудр, несравнен, - какое живёт во мне божество, - и как я высок над землёю, - и как слава сияет вокруг моей головы!" [19, с. 366-367].
Однако оторваться от земли в одиночку новому богу не удаётся; происходит некоторое осложнение - он влюбляется в наездницу Консуэллу. Последняя готовится выйти замуж за барона Реньяра (по добровольному согласию). Свою последнюю земную привязанность, это препятствие на пути к чистой божественности, Тот обезвреживает своеобразным способом: не преодолевает, но берёт с собой, перерождая земное в небесное. Превосходит гёльдерлиновское "И если б я любви не ведал..." [69, с. 91] гёльдерлиновским же "Я взял бы в смерть всё то, что здесь любил" [69, с. 275]. Убивая себя, убивает и её.
Знаменательно, что в самом начале драмы Консуэлле предсказывают столь печальные последствия увлечения язычеством. Директор цирка говорит отцу девушки: "Теперь твоя Консуэлла превосходная артистка, а когда ты её научишь мифологии и она станет читать, она сделается дрянью, развратной девчонкой, а потом отравится. Я знаю их книги, я сам читал, они только и учат, что разврату, да как потом убивать себя" [19, с. 349].
Клоун Тот, увлекающий за собою в смерть свою любовь, уже, конечно, больше, чем одинокий Эмпедокл; это уже новый Самсон - "Самсон, которого бьют по щекам" [18, с. 343].
Согласно Тоту, человек, в котором бог "погружён в глубокий сон", не способен самостоятельно подняться над земным, вырвать душу из временной темницы. Таков, например, цирковой наездник Альфред Безано, "заблудившийся божок, который никогда не найдёт дороги на небо", хотя он и "на земле чужой" [19, с. 376]. "А ведь ты божок ... бог, юноша! - обращается Тот к сему недобогу. - Отчего ты не хочешь поверить мне?.. Да, лицо моё безобразно, я корчу гримасы и рожи, меня окружает смех ... но не видишь ли ты за этим бога, как и ты? Ну, смотри же на меня!" [19, с. 396]. Нет, не увидел в клоуне пробудившегося бога молодой наездник Безано. "И чтобы я никогда не слыхал ... что ... я бог, не сметь! Знаешь - это противно!" [19, с. 397]. Агитация Тота не дала здесь результата. Но сколь доверчива наивная наездница! Вот что она узнаёт:
"Консуэлла, знаешь, кто может спасти тебя - единственный, кто может спасти тебя? Я!.. Тот - это переодетый (в клоуна. - С.А.), старый бог, который спустился на землю для любви к тебе. К тебе, глупая Консуэлла!" Но над богом-клоуном скорее можно посмеяться, чем поверить ему. "Не смейся! Боги не любят пустого смеха, когда уста прекрасны. И боги тоскуют и умирают, когда их не узнают. О Консуэлла, о великая радость и любовь, узнай бога и прими его! Подумай: вдруг однажды бог сошёл с ума!.." Но разве боги сходят с ума? "Да - когда они наполовину люди (т.е. человекобоги. - С.А.). Вдруг увидел величие своё - и вздрогнул от ужаса, от одиночества беспредельного, от тоски сверхчеловеческой. Ужасно, когда тоска коснётся божьей души!" Поэтому: "Консуэлла, узнай и прими бога, брошенного с вершины как камень (или как Эмпедокл. - С.А.)! Прими бога, приникшего к персти, чтобы жить, чтобы играть, чтобы быть бесконечно и радостно пьяным!" [19, с. 376].
Но как бедной циркачке опознать бога в клоуне? Человеку слушать такого "бога" - только "неприятно". Однако бога узнает богиня! Надо лишь пробудиться от сна земной суеты [19, с. 376]: "Засни - и снова пробудись, Консуэлла! И, пробудившись, - вспомни то время, когда с пеною морскою ты возникала из лазурного моря!" И Консуэлла начинает поддаваться, она как будто что-то вспоминает: "Мне кажется ... погоди ... я что-то припоминаю". И далее, не в силах вспомнить всё до конца: "Помоги мне, Тот! Напомни!" [19, с. 377]. О, Тот поможет ей!
Правда, вскоре Тот вынужден представить игрой свою гибельную идею [см.: 19, с. 378], хотя делает он это совсем не убедительно. Финал пьесы демонстрирует всю смертельную серьёзность "божественной" клоунады: "Ах, Тот, какой же ты негодяй: разве так играют?" [19, с. 416]. Конечно, игра - только маскировка. Тот - человек, решивший уйти из жизни; но его душа, ощутившая свою божественность, захваченная сладкой перспективой самоопределения, требует трибуны. Добровольная смерть нуждается в публичном оправдании, душа самоубийцы - в демонстрации божественности. Но тебе дадут говорить на эту тему, только если ты пьяный или клоун. Этим обстоятельством и обусловлен выбор последнего поприща.
Казалось бы, сам Тот обнаруживает вполне земную подоплёку своих притязаний: "Богиня, ты не должна принадлежать земнорожденному! И если ты вздумаешь выйти за барона, то ты погибнешь, ты умрёшь, Консуэлла!" [19, с. 375]. Но вспомним, что Тот, с одной стороны, - человек, подверженный земным слабостям, но с другой, - пробуждающийся бог, наделяющий себя правами, несравненно большими, чем те, которыми располагает простой смертный. Такому высшему существу позволительно не только убить себя во имя очищения от пут жизни-сна, но и захватить с собой в небытие Консуэллу, принудительно обожествив и её. Самоубийца-человекобог чувствует себя неуязвимым, ведь ключ от входа в область божественной невинности уже в его руках. Земной суд не властен над его душой ("Отрубят голову - а дальше что ... ваше сиятельство?" [19, с. 415]); в загробное воздаяние он не верит. Руки преступника развязаны.
Поскольку Консуэлла не успевает самостоятельно созреть для самоубийства, Тот помогает ей своими силами, то есть попросту отравляет её. Они пьют вино с ядом из одного бокала, причём Консуэлла уверена, что в бокале нет ничего, кроме шампанского. "Смотри в мои добрые глаза и пей, отдайся моим чарам, богиня! Ты уснёшь и снова пробудишься, как тогда, помнишь? - и увидишь твою родину, небо... Пробудись, богиня, - и вспомни то время, когда с пеною морскою ты возникала из лазурного моря" [19, с. 412].
И вот жертва человекобога между жизнью и смертью. Тот признаётся: "Я убил тебя" [19, с. 413]. Консуэлла удивлена: "Ты сам говорил, что я ... буду ... жить вечно ..." Но ведь смерть и является способом самовольно проникнуть в вечность - таков однозначный мотив разрушительной деятельности Тота: "Да, Консуэлла! Ты будешь жить вечно, - наделяет её бессмертием человекобог, - усни! успокойся!" Он вздымает над нею руки и вытягивает её душу: "Как тебе легко, как светло, сколько огней горит вокруг тебя" (ср.: Диог. VIII, 68). "Это арена?" - спрашивает Консуэлла. "Нет, это море и солнце ... какое солнце! Разве ты не чувствуешь, что ты пена - белая пена морская, и ты летишь к солнцу. Как тебе легко - у тебя нет тела - ты летишь! Ещё выше, моя любовь!" И Консуэлла легко и свободно умирает [19, с. 414].
Умирает и Тот. Но его успевает опередить барон Реньяр, избравший не столь экзотический способ самоубийства (барон застрелился). Тот возмущён этим последним осложнением: "Ты так любил её, барон? Ты так любил? Мою Консуэллу? И ты хочешь обогнать меня и там? Нет! Я иду! И мы ещё там поспорим с тобою - чья она навеки" [19, с. 416].
Самоубийство (заметил ещё Ницше) зачастую чревато не одним трупом: "Себя самого приношу я в жертву любви своей и ближнего своего, подобно себе" [189, с. 64]. Вот и здесь - три мёртвых тела. Между прочим, есть и завидующие. "Он был мужчина и любил, - вздыхает укротительница львов и мужей Зинида. - Счастливая Консуэлла!" [19, с. 416]. Вполне резонно предположить и симпатию самого автора к своему герою; во всяком случае это отношение не определено как негативное198.
Итак, самообожествление, проведённое до конца, заканчивается как минимум самоубийством. Метафизическое одиночество есть оторванность от Источника жизни, и потому в себе самом можно обнаружить только источник смерти. Самообожествление подрывает основу человеческого бытия, делает его ущербным, могущество - мнимым, совершенство - ложным. Явный мятеж твари - самообожествление - есть, таким образом, способ ложного преображения собственными силами в пустоте метафизического одиночества, есть свое-волие, рабство себе как вместо-Богу, созидание диавола из себя самого. Поэтому самоубийство в данном смысле всегда есть акт сатанизма. "Бог мёртв", - сказал Ницше [189, с. 8]. "Не умирают боги иначе как для воскресения", - заметил Вячеслав Иванов [106, с. 101]. Скажу и я своё слово: не рождаются боги иначе как для смерти.
Лекция 6. Атеизм и самоубийство: amor mortis
I
Обнаруженная в казусе Эмпедокла взаимная обусловленность человекобожия и смерти особенно ярко выявлена, как уже было отмечено, в романе Ф.М. Достоевского "Бесы". Одним из центральных персонажей этого романа является самоубийца Кириллов, на примере которого Достоевским тщательно проработана "модель" классического самоубийства "из идеи", модель смерти по убеждению. Кириллов, конечно, рассуждает и действует в совершенно других культурных обстоятельствах, нежели Эмпедокл; однако совпадение практического результата рассуждений Эмпедокла и Кириллова позволяет заподозрить возможность некоторой конгениальности этих двух персонажей. Исследование показывает, что как раз такое "парадигмальное" совпадение имеет место. И если инженер Алексей Нилович Кириллов неизбежно мыслит в поле действия христианской, а не языческой культуры, то всё же - вопреки христианству и вопреки Христу. Кириллов - богоборец в самой крайней степени: он не просто становится богом, как это мог сделать Эмпедокл; он должен прежде убить Бога [108, с. 41-43]. Самое же радикальное средство такого богоборчества - вольная смерть, к осознанию необходимости которой он неизбежно приходит.
Главный вопрос, который хочет решить Достоевский на примере своего героя, - это вопрос о бессмертии199. От решения этого вопроса, по мнению Достоевского, зависит готовность человека жить дальше или покончить с собой. "Без веры в свою душу и в её бессмертие бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо" [95, с. 348]. Человек не может существовать без высшей идеи. "А высшая идея на земле лишь одна и именно - идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные высшие идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из неё одной вытекают" [95, с. 349]. Ясно, что такая высшая идея не требует для себя никаких оснований (наоборот, она сама является основанием всех прочих экзистенциальных идей)200. "Мысль, что Я не может умереть, не доказывается, а ощущается201, как живая жизнь" [184, с. 555]. Уверенность в бессмертии - это "сама жизнь, живая жизнь, её окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества" [95, с. 351]. Если же такой уверенности нет, то теряется всякая "вера в правду", "вера в какой-нибудь долг" и происходит "полная потеря высшего идеала существования" [95, с. 245]. Отсюда ясно, что "самоубийство, при потере идеи о бессмертии, становится совершенною и неизбежною даже необходимостью для всякого человека, чуть-чуть поднявшегося в своём развитии над скотами" [95, с. 351], ибо без этой "идеи" жизнь теряет всякий смысл. Таким образом, Достоевский не задаётся вопросом о том, что есть самоубийство (и каковы его метафизические последствия); его занимает другой вопрос: что случается с человеком, если он обнаруживает отсутствие Бога и бессмертия. "Ответ был ясен: это значит смерть" [199, с. 161]. Самоубийство - таков отрицательный ответ героев Достоевского на вопрос о бессмертии души202.
Однако вопрос о бессмертии души требует существенного уточнения смысла того, о чём спрашивается. Ведь бессмертие может быть понято и как природное свойство, и как возможность (как предмет надежды). Уточнение смысла вопроса имеет и "теологическое" (религиозное) измерение: является ли бессмертие признаком врождённой "божественности" человека, либо оно есть цель синергийного (Бого-человеческого) возрастания твари? Субстанциально данное бессмертие против Бога или личное бессмертие с Богом? Так прояснённый вопрос вскрывает всю неопределённость положения человека, стремящегося к бессмертию, ибо a priori не гарантировано тождество всякой формы бессмертия с полнотой личной жизни, с сохранностью существования. Бессмертие, понятое в пантеистическом смысле, приводит от существования к личной смерти. Достоевский явно обозначил одну проблему (бессмертие вообще), а решал совсем другую (личное бессмертие, не являющееся необходимым и, следовательно, представляющее собой норму). Другими словами, он решал не субстанциально, а экзистенциально поставленную проблему смерти, требующую персоналистического (аксиологического, нормативно-онтологического) подхода203. Отсюда ясно, почему у Достоевского кончают с собой как неверующие в вечную жизнь ("логический самоубийца), так и верующие в неё, но лишь как в продолжение этой жизни, то есть не в личностном, а в субстанциальном смысле (Ипполит Терентьев, Кириллов); и то и другое должнó вести к суициду.
В процессе решения обозначенной проблемы Достоевский пользуется методом, заимствованным у позитивистов - экспериментальным методом. "Пространство романа - это лаборатория, в которой растёт идея, подлежащая опытной проверке" [199, с. 162]. Эксперимент Достоевского связан с метафизической ситуацией "смерти Бога" и с возможностью существования человека в этой ситуации. Правда, позитивизм способствовал диагностированию смерти "метафизического человека". Однако в своих сочинениях Достоевский применил экспериментальный метод именно к метафизическому человеку, тем самым "отказавшись удостоверить его смерть" [199, с. 162]. Каждая личность, изображённая Достоевским, "пронизана его взором до такой глубины, на которой открывается отношение её к Богу и зависимость от идеала абсолютного совершенства" [165, с. 171]. Эта глубина взгляда и дала повод В.В. Розанову назвать Достоевского "глубочайшим аналитиком человеческой души" [209, с. 71]204.
Однако под взглядом человека, для которого "смерть Бога" является не проблемой, а убеждением, открывается совсем другая картина. Вдумчивый, но предубеждённый наблюдатель, анализируя "явления жизни", способен открыть для себя бесплодность и абсурдность самогó такого анализа. Эти явления, пишет Достоевский, "до того иной раз озаботят, что (случается даже и нередко) - не в силах, наконец, их обобщить и упростить, вытянуть в прямую линию и на том успокоиться, - он прибегает к другого рода упрощению и просто-запросто сажает себе пулю в лоб, чтоб погасить свой измученный ум вместе со всеми вопросами разом" [95, с. 323]. Идея абсурдности жизни (Достоевский именует подобные идеи "несоответственными"), как видим, способна подтолкнуть "честного человека" к смерти. "Идея вдруг падает у нас на человека, как огромный камень, и придавливает его наполовину, - и вот он под ним корчится, а освободиться не умеет. Иной соглашается жить и придавленный, а другой не согласен и убивает себя" [95, с. 243].
Логику человека, не согласного быть "придавленным", Достоевский воспроизводит в своём знаменитом "Приговоре" из "Дневника писателя" за октябрь 1876 года205. Это рассуждение некоего N.N., самоубийцы "от скуки" (имеется в виду метафизическая скука), "разумеется, матерьялиста" (то есть сторонника монистического мировоззрения) [95, с. 325]. "Логический самоубийца" [95, с. 348] возмущён тем обстоятельством, что само его существование положено без участия его собственной воли, согласно неким законам целого, по непонятному плану мировой гармонии. Такая "гармония" подавляет человека, поглощая и включая в себя его самогó со всеми его переживаниями и страданиями [95, с. 325]206. Но страдать во имя этой непонятной гармонии целого мыслящий человек не согласен, ибо не видит в этом никакого смысла: страдания индивида не могут быть разумно оправданы благоденствием целого (человечества, мира), да и само гармоничное целое в любой момент может обратиться "в ничто, в прежний хаос" [95, с. 326]. "И хоть это почему-то там и необходимо, по каким-то там всесильным, вечным и мёртвым законам природы, но поверьте, что в этой мысли заключается какое-то глубочайшее неуважение к человечеству, глубоко мне оскорбительное и тем более невыносимое, что тут нет никого виноватого" [95, с. 326]207. Человеку, не согласному терпеть "тиранию косной причины, с которой нельзя помириться" [95, с. 324], даже "некого проклясть" [95, с. 326]; ему остаётся только не соглашаться с наличным положением дел самым радикальным (и самым деструктивным) образом. Сохранение собственной жизни свидетельствовало бы о недоразвитости сознания, о близости к животному (вседовольному и беспроблемному) состоянию [95, с. 325]. Самоубийство оказывается единственно возможным в этой ситуации способом сохранить остатки собственного достоинства, "самым достойным способом ухода" [16, с. 404].
"Ergo:
Так как на вопросы мои о счастье я через моё же сознание получаю от природы лишь ответ, что могу быть счастлив не иначе как в гармонии целого, которой я не понимаю, и, очевидно для меня, и понять никогда не в силах -
Так как природа не только не признаёт за мной права спрашивать у неё отчёта, но даже и не отвечает мне вовсе - и не потому, что не хочет, а потому, что и не может ответить -
Так как я убедился, что природа, чтоб отвечать мне на мои вопросы, предназначила мне (бессознательно) меня же самого и отвечает мне моим же сознанием (потому что я сам это всё говорю себе) -
Так как, наконец, при таком порядке я принимаю на себя в одно и то же время роль истца и ответчика, подсудимого и судьи и нахожу эту комедию, со стороны природы, совершенно глупою, а переносить эту комедию, с моей стороны, считаю даже унизительным -
То, в моём несомненном качестве истца и ответчика, судьи и подсудимого, я присуждаю эту природу, которая так бесцеремонно и нагло произвела меня на страдание, - вместе со мной к уничтожению...208 А так как природу я истребить не могу, то и истребляю себя одного, единственно от скуки сносить тиранию, в которой нет виноватого" [95, с. 326].
Итак, человеческая душа, восставшая против "прямолинейности явлений" [184, с. 580], не обнаруживая для себя перспективы реального преображения (трансцендирования наличного), обрывает жизнь. "Логический самоубийца" кончает с собой, в частности, из-за того, что не может найти разумных оснований для веры в бессмертие [100, с. 18]209. В этом состоит его не столько логическая, сколько экзистенциальная ошибка: вера не должна и не может базироваться на разумном основании, но присутствует и действует вопреки претензиям разума на такую фундаментальность. Отсутствие веры лишает человека жизненной перспективы: "Нет высшего сознания жизни, то есть сознания долга и правды, что единственно составляет счастье" [184, с. 535]. Это состояние "безначалья" вне и внутри человека [184, с. 537], этот онтологический вакуум разрывает, разносит, аннигилирует личность.
Вывод самого Достоевского таков: отсутствие "высшей идеи существования" (то есть веры в бессмертие) чревато гибелью; напротив, "из одной этой веры <...> выходит весь высший смысл и значение жизни, выходит желание и охота жить" [95, с. 352]. Только благодаря вере в бессмертие человек постигает "всю разумную цель" своего бытия; без убеждения в бессмертии такой смысл теряется, "а потеря высшего смысла (ощущаемая хотя бы лишь в виде самой бессознательной тоски)210 несомненно ведёт за собою самоубийство". Если же "убеждение в бессмертии" настолько необходимо для человеческого бытия, "то, стало быть, оно и есть нормальное состояние человечества, а коли так, то и самоё бессмертие души человеческой существует несомненно" [95, с. 351].
Казус "логического самоубийцы" высвечивает два существенных момента в событии сознательной и вольной смерти. Во-первых, это борьба с ретроспективно выявленной бытийной пассивностью субъекта; во-вторых, претензия на универсальную значимость действий указанного субъекта, предпринимаемых в связи со своим открытием. С одной стороны, человека "травмирует" неучастие в собственном рождении, "несвобода жизни в самом начальном акте её" [273, с. 4]. Человек, как стремящееся к свободе существо, "всю жизнь будет нести в себе рану неучастия в выборе собственного рождения"; самоубийство - это человеческий ответ на указанную проблему. "Если самоубийца говорит, что он пресекает жизнь из-за того, что его так нагло произвели на страдания, то, видимо, на каком-то более глубоком уровне его травмирует неучастие в выборе рождения" [273, с. 4]211. Эта идея сквозит в поведении и рассуждении Ипполита из романа "Идиот". С другой стороны, предсмертная исповедь "логического самоубийцы", как отмечает сам Достоевский, заключает в себе не только "оправдание" собственного поступка, но и "назидание" [95, с. 344-345], что делает эту "исповедь" близкой к "идее" Кириллова с её "педагогическим" смыслом. Об этих двух персонажах сейчас и пойдёт речь.
II
Ипполит - "молодой человек, лет семнадцати, может быть и восемнадцати" [96, 8, с. 215], который, как ему известно, умрёт через две недели [96, 8, с. 239]. Он не верит в Бога [96, 8, с. 238], а себя принимает (со слов студента Кислородова, "материалиста, атеиста и нигилиста") за "всеотрицающее высшее существо", которому "умереть, разумеется, ничего не стоит" [96, 8, с. 323]. Кажется, на какое-то время он оставляет мысль о самоубийстве, владевшую им: "Знаете ли вы, что, если бы не подвернулась эта чахотка, я бы сам убил себя" [96, 8, с. 248]. Чахотка "подвернулась", и Ипполит удержался от самовольного распоряжения собой. Но затем "идея о том, что не стоит жить несколько недель", вернулась и полностью овладела им [96, 8, с. 325].
Достоевский создаёт историю Ипполита как своего рода "экспериментальный проект" по изучению мыслей и действий человека, "убеждённого в своей неминуемой и окончательной смерти, т.е. атеиста". Оказавшись в безнадёжном положении, "подопытный логическим путём приходит к мысли об убийстве и к попытке самоубийства" [199, с. 165]. Будучи "нигилистом", Ипполит рассуждает о смерти так, как будто законы природы являются единственной силой, организующей миропорядок; понятно, что в этих условиях господства общего (природы) "каждый человек находится в положении приговорённого к смерти" [199, с. 165]. Если Ипполит и верит в нечто организующее жизненный порядок, то, скорее, в какую-то "бесконечную силу" [96, 8, с. 340], во что-то подобное судьбе, року или закону. Поскольку личного Бога нет, а над всем господствует безличный закон (это и есть суть атеизма), постольку явление Ипполита с его объяснением происходящего - "это свидетельство нового язычества" [199, с. 169].
Ипполит, по его же словам, признаёт "вечную жизнь" и верит в некую "высшую силу" [96, 8, с. 343]. Этой силой, как он догадывается, "предписано" уничтожение всего индивидуального во имя "пополнения какой-нибудь всеобщей гармонии в целом" [96, 8, с. 343-344]; речь опять идёт об универсальном бессмертии за счёт отрицания индивидуальной жизни. Ипполит уверен в том, что есть и "провидение", и "будущая жизнь"; но он столь же уверен в том, что "мы ничего не понимаем в будущей жизни и законах её", а такая невозможность "осмыслить непостижимое" снимает с человека всякую ответственность перед этим "провидением". С другой стороны, поскольку Ипполит верит в будущую жизнь, подозревая при этом, что человеку вообще невозможно иметь о ней какого-либо положительного суждения, постольку у него нет жёстких "логических" оснований для самоубийства [100, с. 20]; очевидно, поэтому, Ипполит и не идёт до конца в своём предприятии (сознательно или бессознательно желая, чтобы пистолет не выстрелил)212.
Итак, Ипполит возвращается от христианского персонализма к пантеистическому монизму. В горизонте пантеизма смерть имеет особый смысл: она означает абсолютный конец личности как подтверждение неизменного порядка бытия целого. Поэтому для Ипполита Христос не воскрес: Бог умер, самим непреложным фактом своей гибели указав, как "ужасна смерть" и как "сильны законы природы", делающие эту смерть неизбежной [96, 8, с. 339]. Мёртвый Христос (увиденный им на картине Ганса Гольбейна) утвердил в душе Ипполита "понятие о тёмной, наглой и бессмысленно-вечной силе, которой всё подчинено" [96, 8, с. 339]. Бессмертие, в которое верит Ипполит, - это не персональное воскресение и бессмертие как другая жизнь того же человека, который здесь умирает, а там преображается; это не личная жизнь без смерти. Его "воскресение" безлично, а "бессмертие" субстанциально. Такое бессмертие требует, чтобы жизнь всегда была "уравновешена", "гармонизирована" смертью; это такое бесконечное взаимное обращение жизни и смерти, в котором действительно бессмертен лишь наличный порядок обращения, безличная карма. В таком мире природа побеждает Христа: она бессмертна, а Он не воскрес. Поэтому Ипполит и не может поверить в то, что Христос воскрес и победил природу213. Трагедия Ипполита связана с противоречием, которое он не в силах примирить: "он верит в бессмертие вообще, но не может поверить в бессмертие как преодоление смерти и тления" [100, с. 21]. Иными словами, Ипполит способен принять идею бессмертия только в субстанциальном (платоническом) значении, но не в личностном (христианском). В этом пункте с Ипполитом солидарны все самоубийцы Достоевского - за исключением "логического самоубийцы", который является не образом реального человека, а скорее "некоторой абстракцией [100, с. 21].
Уверенность в закономерности всего совершающегося и, следовательно, в неизбежности собственной смерти (тем более, если срок этой смерти точно известен) влечёт соблазн освобождения от морали. Суицид оказывается самым верным средством такого "освобождения". Самоубийца способен "сделать, умирая, какой-нибудь выверт померзче и погрязнее" [95, с. 356]. Иной, пишет Достоевский, "застрелится, предварительно выкинув какую-нибудь скандальную мерзость, скверность, чудовищность" [95, с. 352-353]. В таком направлении движется и рассуждение Ипполита, намеревающегося умереть окончательно. "Я не признаю судей над собою и знаю, что я теперь вне всякой власти суда. Ещё недавно рассмешило меня предположение: что если бы мне вдруг вздумалось теперь убить кого угодно, хоть десять человек разом, или сделать что-нибудь самое ужасное, что только считается самым ужасным на этом свете, то в какой просак поставлен бы был предо мной суд с моими двумя-тремя неделями сроку" [96, 8, с. 342]. Aprиs moi le dйluge - таков эпиграф Ипполита к его "Необходимому объяснению" [96, 8, с. 320]. "Какое нам всем до того дело, что будет потом" [96, 8, с. 318], если для конечного человека нет никакого "потом"214. Когда самоубийство принято как неизбежное, тогда "всё равно" [96, 8, с. 326]215. Не зря ещё один герой "Идиота", Евгений Павлович, замечает, что вся идеология Ипполита сводится "к теории восторжествования права, прежде всего и помимо всего, и даже с исключением всего прочего, и даже, может быть, прежде исследования, в чём и право-то состоит". Отсюда один шаг до признания права "личного захотения" единственным принципом действия [96, 8, с. 245]. Так самоубийство уводит человека "по ту сторону добра и зла".
Ипполит в своём рассуждении чётко различает необходимое условие самоубийства ("последнее убеждение") и его достаточное основание ("окончательную решимость"); в этом различении надо видеть ещё один вклад Достоевского в философию суицида. Ипполит говорит, что в его сознании созрело "последнее убеждение" в том, что жить не стоит [96, 8, с. 325], поскольку "приговор" ясен и отмене не подлежит [96, 8, с. 328]. Это "последнее убеждение" родилось из "логической цепи выводов". Однако "окончательная решимость" привести в исполнение свой приговор возникла "вовсе не из логического вывода", а из "одного странного обстоятельства", далёкого от всякого рассуждения [96, 8, с. 337]216. Ночью Ипполиту явилось привидение Рогожина, оскорбившее его насмешливым взглядом; этого оказалось достаточно, чтобы "решиться" [96, 8, с. 341]. Как видим, согласно Достоевскому, необходимое условие суицида (каковым является отчаяние, потеря смысла жизни) можно логически выяснить и выразить в общедоступных рациональных понятиях; достаточное же его основание оказывается иррациональным, индивидуальным, случайным (если оно рассматривается само по себе, в отрыве от необходимого условия самоубийства), поддающимся не столько обобщению или прогнозу, сколько регистрации. Тем самым указан истинный предмет философской суицидологии - необходимое условие самоубийства.
Любопытно сравнить это мнение Достоевского с рассуждением Альбера Камю о достаточных основаниях суицида (он называет их "причинами" самоубийства). "Причин для самоубийства много, и самые очевидные из них, как правило, не самые действенные. Самоубийство редко бывает результатом рефлексии (такая гипотеза, впрочем, не исключается). Развязка наступает почти всегда безотчётно" [116, с. 224]. При этом и "малости" бывает достаточно, "чтобы горечь и скука, скопившиеся в сердце самоубийцы, вырвались наружу" [116, с. 224]. "Человек страдает, - пишет Камю в эссе "Между да и нет", - на него обрушивается несчастье за несчастьем. Он всё выносит, свыкается со своей участью. Его уважают. А потом однажды вечером оказывается - ничего не осталось; человек встретил друга, когда-то близкого и любимого. Тот говорит с ним рассеянно. Возвратясь домой, человек кончает самоубийством. Потом говорят о тайном горе, о душевной драме. Нет. Если уж необходимо доискиваться причины, он покончил с собой потому, что друг говорил с ним рассеянно" [115, с. 341]217.
Шопенгауэр склонен считать такое внешне парадоксальное основание самоубийства следствием физиологического расстройства. "Если δυσκολια (тяжёлый характер, дурное расположение духа. - С.А.) вследствие телесных ненормальностей (которые лежат большей частью в нервной и пищеварительной системе) достигает очень высокой степени, то малейшая неприятность является достаточным мотивом для самоубийства". И лишь значительная "величина" несчастья может довести до самоубийства человека, чьей психической характеристикой является ευκολια [277, с. 455-456]218. Однако главное условие вольной смерти всё же следует искать в более серьёзном расстройстве - в болезни духа. Атеизм, утрата смысла жизни, чувство абсурдности происходящего, потеря ценностной ориентации, - всё это можно именовать, по мнению С. Великовского, "пантрагическим настроением". При таком "расположении духа" экзистенциальный срыв "отнюдь не обязательно вызывается обстоятельствами, из ряда вон выходящими. Отныне достаточно и толчков обыденно-житейских: доверие к бытию настолько подточено, что опрокидывается иной раз мелочами быта. И даже совсем вроде бы пустяками" [53, с. 47-48]. Таким смертельным "пустяком" стал для Ипполита его сон, давший ход его давно созревшему "убеждению".
Это убеждение Ипполита выражает осознанную им невозможность вынести потерю достоинства, неспособность выдержать унижение беспомощностью. "Знайте, что есть такой предел позора в сознании собственного ничтожества и слабосилия, дальше которого человек уже не может идти" [96, 8, с. 343]. Отсюда и соответствующее отношение к собственной перспективе: "дайте я с собой сделаю, а только чтоб не со мной делали" [184, с. 546]. Единственно возможным самостоятельным делом оказывается самоубийство. "Главная причина, приведшая Ипполита к его решению, - это бессмысленность продолжения жизни, когда известно, что жить осталось слишком мало, чтобы успеть совершить что-то значительное" [100, с. 19]. Он относится к тем самоубийцам, кто (говоря словами Достоевского) "прежде дела умирает от соображения, что, дескать, век мой короток, всё равно ничего не успею сделать" [184, с. 626]219. Природа, говорит Ипполит, "до такой степени ограничила мою деятельность своими тремя неделями приговора, что, может быть, самоубийство есть единственное дело, которое я ещё могу успеть начать и окончить по собственной воле моей. Что ж, может быть, я и хочу воспользоваться последнею возможностью дела? Протест иногда не малое дело" [96, 8, с. 344]. Такой протест ("бунт") вызван метафизическим одиночеством человека перед лицом неизбежной смерти. Когда не можешь распорядиться своим возникновением, крайне соблазнительно распорядиться хотя бы своим отходом. "Если б я имел власть не родиться, то наверно не принял бы существования на таких насмешливых условиях. Но я ещё имею власть умереть, хотя отдаю уже сочтённое. Не великая власть, не великий и бунт" [96, 8, с. 344].
С последним заявлением Ипполита явно перекликаются некоторые мысли Ницше. "Не в наших силах, - пишет он, - воспрепятствовать нашему рождению: но эту ошибку - ибо порою это ошибка - мы можем исправить. Если уничтожаешь себя, то делаешь достойное величайшего уважения дело: этим почти заслуживаешь жить..." [188, с. 612]220. Право распоряжения собственной смертью связано у Ницше, как и в рассуждении Ипполита, с правом на чужую жизнь: "Существует право, по которому мы можем отнять у человека жизнь, но нет права, по которому мы могли бы отнять у него смерть" [190, с. 285].
Один из героев романа (Евгений Павлович) называет рассуждение Ипполита "откровенностью слабосилия" [96, 8, с. 350]. Н.О. Лосский видит в случае Ипполита распространённое сочетание "самолюбия и тщеславия", свойственное человеку со слабым характером, который не способен любить, но требует от других людей любви к себе [165, с. 170]. В общем, в случае Ипполита нам показана безнадёжная попытка проявить личное согласие с неизбежным под маской активного участия в собственной судьбе. Так организованный "бунт" всегда содержит в себе изначально запрограммированное поражение.
III
"Кульминацией" размышлений Достоевского над "высшей идеей" человеческого бытия является образ Кириллова [100, с. 19]. Самоубийство Кириллова - это "смерть атеиста, имеющая парадигматическое качество" [199, с. 180]. Оно стало моделью смерти современного человека, живущего "после смерти Бога" [199, с. 189]. Атеизм в этом самоубийстве достигает уровня "экзистенциального проекта жизни и мира"221; исток и смысл его - "борьба против Бога, против трансценденции" [108, с. 37], иначе говоря, деперсонализация бытия.
Прежде всего Кириллов ищет ответ на вопрос, "почему люди не смеют убить себя" [96, 10, с. 92], почему "все остаются в живых" [96, 10, с. 470]. В горизонте этих поисков он действительно "философ" [96, 10, с. 428], стремящийся прийти к универсальным, общезначимым выводам. По его мнению, лишь два "предрассудка" [96, 10, с. 92] удерживают человека от самоубийства: иррациональная боязнь физической боли и "тот свет" [96, 10, с. 93]. Если бы этих предрассудков не было, исчезли бы всякие препятствия для самоубийства.
Всех самоубийц Кириллов делит на два "рода". К первому он относит тех, кто убивает себя "или с большой грусти, или со злости, или сумасшедшие, или там всё равно" (иначе говоря, всех тех, в основании суицидного деяния которых лежат по преимуществу психологические причины); ко второму - тех, которые идут на самоубийство не "вдруг", а "с рассудка" [96, 10, с. 93], то есть всех совершающих метафизическое самоубийство. Себя Кириллов относит ко второму типу; он - самоубийца "из убеждения" [96, 10, с. 468]. И хотя он "терпеть не может рассуждать" [96, 10, с. 77], всё же "думает" всю жизнь "об одном" - как избавиться от Бога [96, 10, с. 93]. Способ избавления, найденный Кирилловым, - самоубийство. При этом продуманная и рационально обоснованная идея абсолютной эмансипации настолько овладела своим автором, что вся кирилловская логика в конце концов превратилась в "логику безумия" [108, с. 43]. Знаменательна реплика Петра Верховенского о том, что Кириллова "съела идея" [96, 10, с. 426]. Действительно, он утратил контроль над собственной идеей, попал к ней в полное подчинение (хотя и продолжает считать, что "вся воля" теперь принадлежит ему самому). Поэтому и можно говорить о том, что Кириллов "одержим идеей свободной смерти" [108, с. 37]222.
Самоубийство выступает для Кириллова как "результат экзистенциальной дилеммы" [199, с. 159]: Бог необходим, но Его нет. "Бог необходим, а потому должен быть, - говорит Кириллов. - Но я знаю, что Его нет и не может быть"223. "Неужели ты не понимаешь, - обращается Кириллов к Петру Верховенскому, - что человеку с такими двумя мыслями нельзя оставаться в живых?" [96, 10, с. 469]. Только из-за неразрешимости этой дилеммы, считает Кириллов, "можно застрелить себя" [96, 10, с. 469]. Как объяснить такое положение дел, при котором "Его нет, но Он есть"? Кириллов находит объяснение: Богом именуется определённое метафизическое расположение человека. "Бог есть боль страха смерти" [96, 10, с. 94]. Если же Бог есть, то Кириллов - не бог. Для атеиста это мучительное предположение. "Меня Бог всю жизнь мучил", - признаётся Кириллов [96, 10, с. 94]224. "Бог есть предположение, - пишет Ницше, - но кто испил бы всю муку этого предположения и не умер бы?" [189, с. 61]225. Кириллов не выдерживает "предположения" и умирает. Его смерть - "демонстрация смерти Бога" через самоубийство человека [108, с. 42].
К решению убить себя приводит Кириллова "именно озабоченность Богом, необходимость удостовериться в небытии Божьем. Зачем ему самоубийство? Если он умрёт свободно, если испытает и докажет себе, что в смерти он свободен, что его смерть свободна, то он достигнет абсолюта, сам станет этим абсолютом, абсолютным человеком, и вне его не будет больше ничего абсолютного. На самом деле тут нечто большее, чем простое доказательство, - идёт невидимый бой, где на карту поставлено не только знание Кириллова относительно существования Божьего, но и само это существование" [41, с. 203]. Самоубийство Кириллова, по определению Камю, - "высшее самоубийство" [116, с. 296]. В этом случае (в отличие от казуса "логического самоубийцы") "речь идёт не о мщении, а о бунте" [116, с. 296]. Суицид должен продемонстрировать "абсолютную свободу человека, то есть его независимость от Бога"; таким образом, данный акт имеет отношение не только к ограниченному смертью человеку, но и к Богу: он призван ограничить Его "бесконечность" [131, с. 114]. Так в самоубийстве Кириллова начинают высвечиваться черты теургии; правда, в отличие от случая Эмпедокла, здесь присутствует обязательность богоубийства. "Кто победит боль и страх, тот сам Бог будет. А тот Бог не будет" [96, 10, с. 93]. Однако преодоление страха смерти (если оно происходит не в христианской парадигме) влечёт привычку к смерти, впускает её в бывание жизни-смерти и заканчивается определённого рода "влечением к смерти", amor mortis [108, с. 42].
Это влечение к собственной смерти представляет собой лишь следствие влечения к смерти Бога. "Самоубийство Кириллова, - пишет Морис Бланшо, - оказывается смертью Бога" [39, с. 203]. Точнее, должно было оказаться. Вернее же будет сказать, что "смерть Бога" оказывается самоубийством Кириллова, являет себя как гибель богоубийцы. Доминирующим мотивом в замысле Кириллова является то, что, "убивая себя, он хочет не просто восстать против Бога, но смертью своей доказать несуществование этого Бога, доказать для себя и показать другим" [39, с. 202]. "Для меня нет выше идеи, что Бога нет", - утверждает Кириллов [96, 10, с. 471]. В этом своём убеждении он "поразительно близок миру Ницше" [108, с. 41].
Для Кириллова, как и для Ницше, убить Бога значит самому стать богом [116, с. 297]. Ведь "если бы существовали боги, как удержался бы я, чтобы не быть богом!" [189, с. 61]. Убившие Бога должны "сами обратиться в богов" [186, с. 593]. Чувство богоутраты ("смерти Бога") порождает стремление "приписать божественные атрибуты человеку" [86, с. 187], как это случилось и у Фейербаха. "Не в силах вынести отсутствие Бога, - пишет Ирина Паперно, - Кириллов пытается заполнить пустоту, поставив на место Бога - человека, самого себя"; однако операция "обращения" человека в бога "приводит к самоубийству как к моральной необходимости" [199, с. 181]. Скорее, это необходимость метафизическая. "Кто смеет убить себя, тот бог", - утверждает Кириллов [96, 10, с. 94]. "Если вы застрелитесь, то станете богом?", - спрашивает Верховенский. Кириллов не сомневается: "Да, я стану богом" [96, 10, с. 468-469]. Освободившийся от Бога сам занимает Его место; анти-Бог оказывается не только противо-Богом, но и вместо-Богом226. Так самоубийству приписывается метафизическая цель: "Кто убьёт себя только для того, чтобы страх убить, тот тотчас богом станет" [96, 10, с. 94]. "Если нет Бога, то я бог" [96, 10, с. 470]227. Итак, Кириллов "хочет быть противобогом, соперником Бога", хочет утвердить самого себя "вместо Бога" [48, с. 515].
В поле действия христианской (теистической) культуры соперничество с Богом должно было так или иначе выразиться в негативном отношении к Иисусу Христу. Правда, Кириллов Христа даже любит и по-своему жалеет (приписывая Ему человеческие, то есть собственные, слабости); этот пример унижающей, "неверующей любви" [48, с. 514] созвучен поступку того человека, которому Христос сказал: "Целованием ли предаёшь Сына Человеческого?" (Лк 22:48).
Кириллов верит в историчность Христа, но не верит в Его сверх-историчность (тем самым разрывая антиномию христологического догмата). Он полностью уверен, что воскресения не было [100, с. 24]. Христос (как и казнённый с Ним разбойник), конечно, получил некое посмертное бытие; но это бытие не имеет ничего общего с телесным воскресением, с "тем светом", уверенность в котором, как "больший" предрассудок, способна удерживать людей от самоубийства [96, 10, с. 93]. "Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения" [96, 10, с. 471]. Значит, Кириллов всё же верит в некое "бессмертие вообще" [100, с. 25], но только не в личное бессмертие. Такова его "большая идея" [96, 10, с. 471]. Это кирилловское бессмертие вообще "стоит выше противоположности жизни и не-жизни" и потому с необходимостью включает в себя смерть как свой собственный момент [100, с. 25]. Отсюда и равнодушное отношение к смерти, которое является "центральным элементом веры Кириллова" [100, с. 29]. Иначе говоря, личная смерть в такой системе взглядов ничего не значит; правда, оказывается, что в таком случае и личная жизнь ничего не стоит.
Итак, Бог умер. Законы природы "не пожалели" Самого Христа [96, 10, с. 470]. Кириллов (как и Ницше) "останавливает ход событий" в момент телесной смерти Иисуса [199, с. 192]. Так же поступил Иуда, не дождавшийся воскресения228. "Бог мёртв", - утверждает Заратустра [189, с. 8]. Приговор о смерти Бога представляется окончательным и несомненным. "Бог умер! Бог не воскреснет! - пишет Ницше. - Мы Его убили" [186, с. 593]229. Однако "смерть Бога возвестила не весну человечества, а наступление эры мрачного, трагического одиночества" [178, с. 84], метафизического одиночества230.
Этот метафизический провал надо было заполнить. И человек стал "как бог". Для Кириллова речь идёт "о присвоении роли Христа" [116, с. 297], о том, чтобы "занять место Богочеловека" и стать "новым спасителем и творцом нового человека" [199, с. 182]. Правда, Христос у Кириллова (как и у Ницше) оказывается в конце концов самоубийцей231. Вместо "да будет воля Твоя" (Мф 6:10; Мф 26:42) и "не как Я хочу, но как Ты" (Мф 26:39), Кириллов утверждает: "вся воля стала моя" [96, 10, с. 470]. Вместо безусловного основания жизни, предложенного Христом232, Кириллов сообщает основание смерти. Лишено какой бы то ни было убедительности мнение И. Евлампиева о том, что Кириллов "оказывается реальным двойником Иисуса Христа" [100, с. 19]233; это заявление нуждается в существенном уточнении: Кириллов является не "двойником", а, скорее, оборотнем, антиподом, антихристом. Образ Кириллова представляется "во всём противоположным образу Христа" [35, с. 13], "карикатурным зеркальным отражением Христа" [108, с. 43]. Главное содержание крестной жертвы Иисуса есть воскресение и жизнь [35, с. 13]; Христос жертвует Собой "во искупление грехов человеческих" и ради примирения человека с Богом [108, с. 43]. Кириллов тоже жертвует собой, но с противоположной (деструктивной) целью: "ради отмены самого понятия греха и окончательного разрыва человека с Богом", жертвует собой ради "убийства Бога". В этом смысле Кириллов - "антихрист" [108, с. 43]. В "пустынной гордыне духа" он совершает "свою антихристову, свою антиголгофскую жертву" [107, с. 311]234.
Кириллов-бог, который должен родиться через смерть инженера Кириллова, - это не Богочеловек, а человекобог235. В этом пункте Кириллов особо подчёркивает своё противостояние Христу [100, с. 28], выступая как пророк и предтеча антихриста: "Он придёт, и имя ему человекобог". "Богочеловек?" - уточняет Ставрогин. "Человекобог, в этом разница", - настаивает Кириллов [96, 10, с. 189]. Достоевский показал, насколько серьёзные последствия имело изменение порядка слов: "оно означало разницу между жизнью и смертью" [199, с. 184].
"Новый Христос" [100, с. 30], которого ждёт и призывает Кириллов и которым он сам пытается стать, - это человек, являющий в самом себе "божественную силу", способную мистически "преобразить" мир. Кириллов "соединяет Бога и человека"; именно человек в своей ограниченной "сущности" является носителем "Божественного начала", абсолютом, определяющим всё то, что существует, и обусловливающим возможность "преображения" (трансформации) этого сущего [100, с. 28]. Таким образом, "идея" и практика Кириллова являют собой воплощённое гегельянство (или даже фейербахианство как наиболее радикальную его ветвь). Кириллов восстанавливает целостность бытия, сливая в одно человека и Бога (тело и отчуждённую от него душу, если следовать суждению Фейербаха) "в акте смерти-преображения" [199, с. 185]. Сущностное слияние человека с пантеистически понимаемым божеством (а только такое понимание и делает возможным не причастие, а именно полное отождествление)236 и теоретически, и практически означает гибель человеческой личности, растворяющейся в бесконечности безличного абсолюта. Самоубийство, следовательно, есть тотальный (и потому нулевой в персоналистическом отсчёте) синтез, "преображение" в ничто.
Такой метафизический переворот ожидается Кирилловым как достижение абсолютной свободы воли. "Я обязан неверие заявить", - говорит Кириллов [96, 10, с. 470]; "я обязан уверовать, что не верую" [96, 10, с. 472]. Неверие в Бога выливается в полную автономию человеческой воли. "Если Бог есть, то вся воля Его, и из воли Его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие" [96, 10, с. 470]. Свобода (автономия) воли понимается, таким образом, как обязанность. Человек, "кончив Бога" и "уверовав" (вместо Бога) в безграничное своеволие, должен "заявить" это своеволие, причём в абсолютном значении, "в самом полном пункте". Этот "высший пункт" означает самоубийство "безо всякой причины, а только для своеволия" [96, 10, с. 472]. В этом заявлении обнаруживает себя атеистическая диалектика свободы и смерти. Бог как таковой должен быть мыслим абсолютно свободным от чего бы то ни было, ибо Он есть Абсолют. Человекобог, самоутверждаясь в этом качестве, в первую очередь должен осуществиться как свобода (по Кириллову - как неограниченное своеволие). Более того, в объективном смысле он может стать богом (вместо-Богом) только в момент предельной самореализации, а таковая возможна лишь как абсолютно свободное деяние. Предел такой деятельной независимости есть отрицание не только всего "внешнего", но и себя самого. Акт "верховного отрицания" может быть понят только как "власть, которая может всё, даже упразднить себя как власть (взрыв самого ядра власти - одно из начал нигилизма)" [38, с. 73-74]. Таким образом, чтобы стать богом, надо убить Бога; но став богом, надо убить себя.237 Исходное условие кирилловского дискурса ("Бог мёртв") превозмогает его результат ("я бог"): зачатый в человеческом сознании бог рождается мёртвым и может быть только "богом мёртвых" (Лк 20:38). Итак, в отсутствие Бога абсолютная свобода оказывается смертельной.
Эту ложь "абсолютной" свободы чувствует и по-своему выражает сам Кириллов. "Я обязан себя застрелить, - говорит он, - потому что самый полный пункт моего своеволия - это убить себя самому" [96, 10, с. 472]. Эта обязанность быть свободным представляется Кириллову источником страха и несчастья: "Я ужасно несчастен, ибо ужасно боюсь. Страх есть проклятие человека" [96, 10, с. 472]. Кириллов переживает "ужас быть в средоточии мира - ужас быть богом" [27, с. 241]. "Я три года искал атрибут божества моего и нашёл: атрибут божества моего - своеволие! Это всё, чем я могу в главном пункте показать непокорность и новую страшную свободу мою. Ибо она очень страшна. Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою" [96, 10, с. 472]. В этом своём переходе к божественному состоянию Кириллов не становится счастливым. "Я несчастен, ибо обязан заявить своеволие" [96, 10, с. 472]238. Такова вся суть "преображения" человека в бога: "Я хочу высший пункт и себя убью" [96, 10, с. 470]. Своеволие оказывается "карикатурой свободы" [48, с. 515]. Самоубийство Кириллова должно было стать "метафизическим экспериментом", в котором человек хотел убедиться в своей силе, в том, что он один "хозяин жизни и смерти" [35, с. 13]. Но религиозный бунт есть только "пародия мощи" [48, с. 515]. Кстати, эта немощь выражается не только на метафизическом, но и на вполне эмпирическом уровне. Срок и обстоятельства самоубийства зависят не от самого Кириллова: "Это не от меня, как знаете; когда скажут" [96, 10, с. 187].
Так своеволие обнаруживает рабство наличному как свою сущность (пусть это даже рабство себе самому). Если Бога нет, то я - бог, и атрибут моей божественности - своеволие. Абсолютная свобода в этом случае - только в самоубийстве. Если же полная моя свобода есть свобода и от моей собственной воли, то вся воля одна - Божия. Таким образом, надо признать, что Кириллов производит эксперимент освобождения, но не совершает опыта освобождения от свободы. Настоящая же свобода, по Достоевскому, состоит "лишь в одолении себя и воли своей" [95, с. 416], а значит - в утверждении воли Божией.
Справедливости ради надо отметить, что сам Кириллов не считает себя атеистом. Он зажигает лампадку [96, 10, с. 189, 471]; он даже молится, правда, не Богу, а "всему" (даже пауку) [96, 10, с. 189]. Всякий же атеист, по его мнению, должен непременно себя убить. "Я не понимаю, как мог до сих пор атеист знать, что нет Бога, и не убить себя тотчас же? Сознать, что нет Бога, и не сознать в тот же раз, что сам Богом стал, есть нелепость, иначе непременно убьёшь себя сам. Если сознаешь - ты царь и уже не убьёшь себя сам, а будешь жить в самой главной славе" [96, 10, с. 471]. Субъективно Кириллов не атеист, а верующий особого рода - он верит в свою собственную божественность; эта вера предохраняет от самоубийства; однако первый человекобог, возвещающий человечеству свою "идею", должен убить себя: таков ритуал богозаместительства. "Но один, тот, кто первый, должен убить себя сам непременно, иначе кто же начнёт и докажет? Это я убью себя сам непременно, чтобы начать и доказать" [96, 10, с. 471]. Поэтому Кириллов и несчастен. "Я ещё только Бог поневоле и я несчастен, ибо обязан заявить своеволие" [96, 10, с. 472].
Кириллов, убивающий "старого" Бога и сам становящийся на Его место, хочет возвестить человечеству эту весть о "преображении" и тем спасти людей: "всё спасение для всех - всем доказать эту мысль" [96, 10, с. 471]. "Я начну, и кончу, и дверь отворю. И спасу" [96, 10, с. 472]239. Таким образом, Кириллов осознаёт себя спасителем человечества (являющимся, конечно же, вместо Христа). Следовательно, своё самоубийство Кириллов склонен считать "прорывом в борьбе против религии", первым шагом к "убийству Бога" и "антропологической революции", начинающейся вследствие этого убийства [108, с. 43]. Суицид при этом выступает как наилучший метод убеждения. Альбер Камю замечает, что убедить людей в собственной правоте, "в искренности, в мучительных своих страданиях можно только своей смертью. Пока ты жив, ты, так сказать, сомнительный случай, ты имеешь право лишь на скептическое к тебе отношение. <...> Чтобы не давать повод к сомнениям, нужно просто-напросто умереть" [114, с. 419]. Так и поступает Кириллов.
В этом своём смертельном деянии он сам утверждает некий педагогический смысл. Максима личной воли Кириллова (по его же мнению) должна стать принципом всеобщего законодательства. Кириллов видит свою задачу в том, чтобы "помочь людям занять место Бога" [108, с. 41], сделать всех "точно такими же самоправными и счастливыми" [96, 5, с. 79], как он сам (мы уже выяснили, насколько "счастлив" и "свободен" человекобог). Собственно говоря, Кириллов должен убить себя "из любви к человечеству"240. Это "педагогическое самоубийство" [116, с. 298]. Кириллов как просветитель человечества - это "явная культовая пародия на святого Кирилла - просветителя славян" [273, с. 5]241. Он "осознаёт себя носителем откровения о подлинном смысле воскресения и, значит, чувствует потребность принести жертву, подобную жертве Христа, для того чтобы донести до людей смысл этого нового откровения" [100, с. 26]. Акт самоубийства необходим не столько для него самого, сколько для других людей [100, с. 29]. "Пусть узнают раз навсегда", что Бог умер [96, 10, с. 471].
Однако "акт величайшего самопожертвования" [100, с. 29] сопряжён с явным злодейством: Кириллов соглашается после собственной смерти принять участие в убийстве Шатова. Но столь "отвратительные детали", как нас пытаются убедить некоторые исследователи, "не принижают Кириллова и не лишают смысла его жертву, они лишний раз подсказывают парадоксальную, но вполне обоснованную аналогию - аналогию с жертвой Христа" [100, с. 29]. Вся "парадоксальность" этой аналогии объясняется тем, что автор приведённого пассажа (И. Евлампиев) перепутал архетипы: по всем признакам, Кириллов воспроизводит не жертву Христа за человеческий грех, а жертвоприношение Иуды в честь сатаны, во имя которого на жертвенник полагается и душа самоубийцы, и Сам Христос. Не случайно же один из главных бесов романа (Пётр Верховенский), увязывая в один "план" предательство (участие Кириллова в убийстве Шатова) и самоубийство, почти прямо называет Кириллова Иудой: "вы обязались, вы слово дали, деньги взяли" [96, 10, с. 468]. Богоубийство, оплаченное предательство и самоубийство, совершённые Кирилловым, ясно указывают на тот тип, который он в себе во-ображает.
Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что самоубийство Кириллова есть для него самогó демонстрация силы и манифестация смысла (в противоположность установке "логического самоубийцы")242. В своих "идеях" он продолжает жить и после своей смерти (правда, уже по ту сторону добра и зла, но, однако же, не по ту сторону наличного). Он строит глобальные планы, замышляет метафизический бунт, однако, по мысли Бланшо, оказывается фатально погрязшим в низменных обстоятельствах этого мира (принимает посмертное участие в "плане" Верховенского и компании). "Умирая, он думал затеять высокий поединок с Богом, а в конечном счёте сталкивается с Верховенским - куда более правдивым олицетворением той отнюдь не возвышенной власти, с которой приходится состязаться на уровне зверства" [39, с. 208]. Убивающий себя даже в своём шаге "по ту сторону" всё-таки остаётся "на почве посюстороннего мира с его смыслами и ценностями" [105, с. 174], не в силах его трансцендировать и потому только подтверждая его власть над всяким действием человека. Итак, и смысл вольной смерти Кириллова располагает его в посмертном бытии-для-других вполне "здесь", и сила, с которой он встречается в этой смерти - вполне "земная". Самоубийца оказывается "великим утвердителем нынешности" [39, с. 209].
Поэтому-то Кириллов и соглашается "взять на себя" задуманные Верховенским "мерзости" [96, 10, с. 426]. "Диктуй, всё подпишу, - кричит Кириллов Верховенскому. - Диктуй, пока мне смешно" [96, 10, с. 472]. Смех есть отрицание всех ценностей, аксиологический нигилизм, выражение такого состояния, когда "всё равно" [96, 10, с. 92, 94, 466]243 и "ничего не жаль" [96, 10, с. 228]. "Они, - издевательски (но не без основания) утрирует суть кирилловской программы Липутин, - даже самую нравственность совсем отвергают, а держатся новейшего принципа всеобщего разрушения для добрых окончательных целей" [96, 10, с. 77]; как это похоже (вопреки протестам Кириллова) на смысл кирилловской "педагогики" и на содержание его "откровения". Кстати, для Петра Верховенского Кириллов - "независимый и прогрессивный человек" [96, 10, с. 228]; ясно, что этим определением он помещает Кириллова в разряд нигилистов.
Аксиологический нигилизм "прогрессивного человека" (который, кстати, не сомневается, что человек произошёл "от гориллы" [96, 10, с. 94])244 позволяет поместить источник и высшую инстанцию морали в самом индивиде. Эта операция выносит за скобки понятия греха и покаяния. "И чтобы не надо раскаяния, - говорит Кириллов. - Не хочу, чтобы раскаиваться" [96, 10, с. 472]. Свобода, изначально не предполагающая раскаяния (а значит, ответственности), "оборачивается произволом" [41, с. 45], прежде всего - в отношении себя самого. "Вся свобода будет тогда, - заявляет Кириллов, - когда будет всё равно, жить или не жить. Вот всему цель" [96, 10, с. 93]. На возражение, что "если будет всё равно, жить или не жить, то все убьют себя", Кириллов отвечает, что ему "всё равно", что он только констатирует факт: "кто хочет главной свободы, тот должен сметь убить себя" [96, 10, с. 94]. Так свобода, деградировавшая до своеволия, становится принуждением к самоубийству.
Истинным источником и гарантом свободы человека может быть признан только Бог (ибо без ответственности нет свободы, а без высшей ответственности нет и высшей свободы); "изгнание Бога" лишает человека свободы. Поэтому "устранение мнимого порабощения человека Богом ведёт к действительному порабощению человека" (собственными страстями или другими людьми). "Лишённая внутреннего содержания свобода своеволия, которую Кириллов верно называет страшной свободой, ведёт к страшному рабству" [108, с. 46]. Однако Кириллову это рабство представляется состоянием высшей свободы, на основании которой состоится рождение "нового" человека. Он стремится совершить самоубийство как "религиозный эксперимент", как такое доказательство своеволия, с которого начнётся новая эра в истории человечества [48, с. 516]. "Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет всё равно, жить или не жить, тот будет новый человек" [96, 10, с. 93]245. Тогда будет "всё новое", - говорит Кириллов [96, 10, с. 94], пародируя Апокалипсис (Откр 21:5). Так Кириллов раскрывает "метафизическую предпосылку своей идеи человеческого самообожествления через самоубийство" [86, с. 234].
Закономерен вопрос, о каком "новом" говорит Кириллов, и вообще возможно ли "новое" в его мире? Во всяком случае, никакой возможности онтологически иного здесь предположить невозможно. Ведь мысль о трансценденции Кирилловым отвергается. Ему мешает "тот свет" не из-за связанной с ним идеи "наказания", а как таковой ("один тот свет") [96, 10, с. 93]. Преображение, планируемое Кирилловым, - не трансценденция, а трансформация, "физическая" перемена [96, 10, с. 94, 272], то есть событие, имеющее место в границах природы. Такова трансформация единого (потока "сознания") в буддийской доктрине пратитьясамутпады.
У Кириллова случаются секунды, когда он чувствует "присутствие вечной гармонии", причём "совершенно достигнутой" [96, 10, с. 450]. И хотя это гармоничное состояние - "не земное" (то есть не совпадает с эмпирически наличным), но в то же время и не "небесное" [96, 10, с. 450], то есть (как приходится думать) не является и идеальным. Описываемое Кирилловым состояние (гармония) "есть как раз такое преображение земного бытия, которое не выводит за его пределы, а только меняет его законы" [100, с. 26]. Это некая "физическая" трансформация, сопряжённая с чувством слияния с природой [96, 10, с. 450]. В такие секунды человеку становится "ужасно ясно", что "цель достигнута" [96, 10, с. 451]. В момент погружения в эту "вечную гармонию" Кириллову открывается, что "жизнь есть, а смерти нет совсем" [96, 10, с. 188]. Это вера "не в будущую вечную, а в здешнюю вечную" жизнь [96, 10, с. 188], иными словами, не в возможность личного существования за пределами данного, но в вечное возобновление наличного бытия (природы).
"Жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен", - заявляет Кириллов [96, 10, с. 93], повторяя Будду и Шопенгауэра. Однако страдание имеет место лишь до тех пор, пока человек не поймёт, что избавление от несчастий не просто в его руках, но в его сущности. "Всё хорошо, - говорит Кириллов. - Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Это всё, всё! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту" [96, 10, с. 188]. Счастье, как и в доктрине буддизма махаяны, оказывается результатом перемены психической установки. "Всё хорошо, всё. Всем тем хорошо, кто знает, что всё хорошо. Если б они знали, что им хорошо, то им было бы хорошо, но пока они не знают, что им хорошо, то им будет нехорошо. Вот вся мысль, вся, больше нет никакой!" [96, 10, с. 189]. Эту-то идею Кириллов и хочет сообщить людям. "Надо им узнать, что они хороши (то есть все уже спасены. - С.А.), и все тотчас же станут хороши, все до единого" [96, 10, с. 189]. Кириллов об этом уже узнал; поэтому он и говорит о себе: "Я хорош" [96, 10, с. 189].
Программа окончания мира, конечно же, связана с идеей о том, что "времени уже не будет" (Откр 10:6); однако и эта трансформация осмысливается Кирилловым в буддийском духе. "Время не предмет, а идея, - говорит он. - Погаснет в уме" [96, 10, с. 188]. Такого рода психологизм бросает свой отсвет и на весь мир, обращающийся в тень, призрак, иллюзию. "Если Бог, - пишет С.Н. Булгаков, - лишь идея, которая, подобно времени, может погаснуть в человеческом уме, то и человек в своём духовном мире окутан призрачной майей, которая может меняться по желанию" [48, с. 517]. Только от желания самогó человека зависит, какое будущее его ожидает [100, с. 26]: таков эталон пратьека-будды. Упование на помощь Божию Кириллов считает главной "ошибкой" Иисуса [100, с. 28]. Отвергая такую помощь, Кириллов полагает, что вся сила, достаточная для земного "преображения", заключена в самóм человеке: эта человеческая сила - не "дополнение" к Божественной благодатной помощи, но "сама суть действия Божественной силы, её истинное и окончательное явление в мире" [100, с. 28]. Взамен христианского учения о Бого-человеческой синергии Кириллов предлагает учение о единосущности человека и Бога, то есть проповедует самый обыкновенный пантеизм. Таким образом Кириллов исправляет "ошибку" Христа.
Тот Бог, о котором постоянно говорит Кириллов, не есть личный Бог теизма. "Да и о Боге ли у него речь? - задаёт риторический вопрос Морис Бланшо. - Ведь всемогущая сила, в тени которой блуждает Кириллов, то охваченный блаженством, разбивающим рамки времени, то скованный ужасом, от которого защищается наивными идейками, - это сила глубоко анонимная, и его самого она превращает в существо безымянное и бессильное, по сути своей трусливое и обречённое на раздробленность. Эта сила - сама смерть" [39, с. 204]. Такую безличную силу невозможно любить, можно только бояться её и желать её гибели. Более того, сказать "Бог мёртв" можно лишь о пантеистическом боге Платона или Аристотеля. Богоубийца Фридрих Ницше, если верить Хайдеггеру (хотя верить ему не обязательно), именно так и понимал Бога - как сферу метафизических сущностей [257, с. 147].
Как было указано, человекобог-самоубийца, согласно Кириллову, "заканчивает" мир. "Кто научит, что все хороши, тот мир закончит" [96, 10, с. 189]. Здесь узнаётся не только буддизм; это вообще пантеистическая установка пробуждения, открытия истины в собственной сущности, идея возвращения к себе246. "В этом пункте, - отмечает Ирина Паперно, - герой Достоевского следует за Гегелем - за его рассуждениями о новом состоянии сознания, принесённом Просвещением и Французской революцией, которое отмечает начало конца истории" [199, с. 182]. Это состояние "абсолютной свободы", совершенной несвязанности индивидуальной воли; такое состояние "способно породить лишь негативное действие" - насилие, уничтожение и смерть. "Достоевский увидел в рассуждениях Гегеля модель нигилистической смерти - смерти, вызываемой сознанием абсолютной свободы человеческой воли, не ограниченной Божественной волей. Такой смертью было самоубийство" [199, с. 182].
Каким же предстаёт "божественный" Кириллов в момент "преображения" и полного освобождения? Одержимость идеей перерастает в тотальную одержимость. "В лихорадочной возбуждённости Кириллова, - пишет Бланшо, - в его неустойчивости, в его никуда не ведущих шагах сказывается не жизненное волнение, не какая-то вечно живая сила, но принадлежность к такому пространству, где невозможно пребывать, то есть к пространству тьмы, в котором никто не принят и ничто не остаётся" [39, с. 208]. Оказывается, "падение в смерть - это грязная штука" [27, с. 229]. "Страшная свобода" выражается предсмертными "страшными криками" [96, 10, с. 476]. Животный ужас247 и смертельная тоска сквозят в этих криках248. Выясняется, что не весь человек сводим к "теории" [102, с. 35], даже если он отдал себя ей по собственной воле249.
Вывод Достоевского ясен: "самоубийство есть конечный и неизбежный результат внутреннего опыта нигилиста" [199, с. 190]. "Достоевский обнаруживает через метафизический эксперимент Кириллова, - пишет Н.А. Бердяев, - что самоубийство, по природе своей, атеистично, есть отрицание Бога, есть постановка себя на место Бога" [35, с. 13]. В этом смысле самоубийство Кириллова являет собой настоящий архетип радикально осуществлённого безбожия250. Для меня сейчас не является существенным вопрос о том, осуждает ли сам Достоевский своего героя (к чему я склоняюсь) или, напротив, выражает через этот образ "самые сокровенные свои убеждения", как считает, например, И. Евлампиев [100, с. 19, 28-29]. Важно, что хотел сказать Достоевский. А сказал он следующее: Кириллов есть проводник связанных друг с другом идей пантеистического (субстанциального, имперсонального, "природного") бессмертия, атеизма и богозаместительства (человекобожия), и именно в силу таких (по сути дублирующих друг друга) идей он и является с необходимостью самоубийцей. Таким образом, можно заключить, что "комплекс Эмпедокла", перенесённый в область прямого бунта против личного Бога, усиливает свои суицидные акценты и, с другой стороны, ещё ярче обнаруживает свою нигилистическую (анти-персоналистическую) тенденцию. Выпадая из теистического мировоззрения в монизм, человек обнаруживает в себе необходимое условие суицида.
IV
Рассказ "Сон смешного человека" (Дневник писателя, 1877) может быть понят как дальнейшая авторская интерпретация образа Кириллова. Видимо, Достоевский сознательно вернулся к этому образу, дабы прояснить "некоторые принципиальные моменты проблемы бессмертия" [100, с. 30]. Здесь он наглядно показывает тот "идеал", который проповедовал Кириллов в "Бесах" [100, с. 31]. "Райское" (совершенное) состояние человечества оказывается тут "состоянием всеединства" - единства людей друг с другом и с природой. [100, с. 30]. Всеединство поглощает собой ценность индивидуальности [100, с. 32], снижает до минимума значение личной свободы, "подавленной силой любви" [100, с. 33]. Это "любовь" в эмпедокловском смысле.
В "совершенном" мире присутствует смерть, но ей никто не противится, её необходимость принимают как должное. Люди ощущают "единение с целым вселенной"; при этом у них нет веры, но зато есть "твёрдое знание" [96, 25, с. 114]. Как видим, это блаженное состояние не исключает индивидуальную смерть; однако эта смерть становится здесь "подчинённым элементом самóй жизни" и осознаётся как форма перехода к большему совершенству (ещё большему соприкосновению с целым) [100, с. 31]. Нетрудно видеть, что обитатели этого идеального мира и суть те "человекобоги", о которых говорит Кириллов: они преодолели страх смерти, "возвысились над противостоянием жизни и смерти и, значит, стали воистину бессмертными" [100, с. 31] (бессмертными в пантеистическом смысле). Осознанная (принятая) смерть стала не исчезновением сознания, а "сознанием исчезновения"; исчезновение собственного сознания оказалось "всецело включённым" в это сознание [39, с. 204]. Тем самым люди превратились "в воплощённую целостность, в воплощение целого, в абсолют" [39, с. 204-205], точнее, в пантеистический псевдо-абсолют.
Такие при жизни мёртвые люди не нуждаются в Боге: в самих себе они несут ту универсальную божественность, которая обеспечивает "единство и гармонию вселенной" [100, с. 31]. "Понятно, - пишет И. Евлампиев, - что полностью слившись с этой божественной силой, полностью выявив её в себе и став ею, люди не нуждались больше в вере, поскольку вера есть упование, надежда на преображение земного бытия и бессмертие, а они уже обладали преображённым бытием и бессмертием" [100, с. 31]. Отсюда самый радикальный вывод: "Можно сказать, что их вера стала, наконец, абсолютной, но это и означает, что она исчезла как вера и превратилась в знание - в окончательное обладание истиной" [100, с. 31]. Существование закончилось. Свобода обернулась необходимостью. Кириллов стал "добычей чёрта" [108, с. 42].
Тот факт, что "идеальный" мир в конце концов оказался подверженным порче, указывает на его принципиальную единосущность миру эмпирическому [ср.: 100, с. 32]. Переход от одного мира к другому осуществляется в границах единой природы и потому не требует реального преображения. Поскольку "идеальный" мир под воздействием "смешного человека" изменился к несовершенному состоянию, постольку можно полагать возможность и обратного изменения - то есть возведения нашего несовершенного мира к совершенному состоянию [100, с. 32]. Однако в таком выводе мало оптимизма; скорее, наоборот, здесь сквозит безнадёжная пантеистическая идея пульсации наличного, бесконечно переходящего от несовершенства к совершенству и обратно. Все "усилия по преображению собственного бытия" [100, с. 32] превращаются в сизифов труд, бессмысленный и бесконечный. Так в творчестве Достоевского в связи с вопросом о смысле самоубийства окончательно выявляется проблема абсурда.
Лекция 7. Абсурд и самоубийство: и жертвы и палачи
I
Самому яркому представителю философии абсурда - Альберу Камю - принадлежит та знаменитая фраза, которую (в рамках данного исследования) мы никак не можем игнорировать: "Есть лишь одна по-настоящему серьёзная философская проблема - проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы её прожить, - значит ответить на фундаментальный вопрос философии" [116, с. 223]251. Все остальные вопросы в свете этого главного оказываются второстепенными, их решение всегда можно отложить. "Как определить бóльшую неотложность одного вопроса в сравнении с другим? Судить дóлжно по действиям, которые следуют за решением", - пишет Камю [116, с. 223]. Только суицид демонстрирует окончательное, радикальное решение. В известном смысле, самоубийство "равносильно признанию". Покончить с собой - значит признаться, что "жизнь кончена", что она окончательно "сделалась непонятной" [116, с. 224]. Вольная смерть демонстрирует "осознание отсутствия какой бы то ни было причины для продолжения жизни, понимание бессмысленности повседневной суеты, бесполезности страдания" [116, с. 225]. Поэтому-то вопрос о смысле жизни Камю считает "самым неотложным из всех вопросов" [116, с. 223]. При решении этого вопроса желательно опираться "как на здравый смысл, так и на симпатию" [116, с. 224], сочетая трезвость взгляда с участием и заинтересованностью (ибо вопрос прямо касается самого решающего).
Вопрос о смысле (или абсурдности) жизни связан с проблемой перспективности существования в отсутствие Бога. По большому счёту, Камю хочет ответить только на один вопрос: "Что делать, когда умер Бог?" [134, с. 53]. Философу, как и его герою Мёрсо, требуется "узнать, есть ли выход из неизбежного" [114, с. 121]. Ведь в распоряжении человека - только два варианта поведения: "либо уйти, либо остаться. Необходимо знать, как уходят и почему остаются". Так определяется проблема самоубийства, с которой связан интерес Альбера Камю "к выводам экзистенциальной философии" [116, с. 241].
Самоубийство, утверждает Камю, всегда рассматривалось исключительно в качестве социального феномена (это, конечно, не совсем так). Камю, напротив, с самого начала ставит "вопрос о связи самоубийства с мышлением индивида", а не с его социальными обстоятельствами. "Самоубийство подготавливается в безмолвии сердца" [116, с. 224]. Именно в сердце человека находится убийственный "червь", там его и нужно искать. "Необходимо понять ту смертельную игру, которая ведёт от ясности в отношении собственного существования к бегству с этого света" [116, с. 224]. Такое понимание становится особенно насущным перед лицом прогрессирующего и становящегося массовым нигилизма и атеизма: "Во времена отрицания небесполезно поставить перед собой вопрос о самоубийстве" [113, с. 121].
Итак, Камю хочет знать, "может ли человек без помощи вечности или рационального мышления творить в одиночестве свои собственные ценности" [294, p. 111]. Этот вопрос Камю решает не посредством экзистенциальной философии (выводами которой он "интересуется", но которая для него слишком религиозна), а посредством абсурдной философии [ср.: 116, с. 300]. Более того, Камю называет экзистенциальный подход "философским самоубийством" [116, с. 250], противополагая ему свой собственный метод. В исследовании самоубийства Камю требует ясности, "полной ясности" [116, с. 246]. Но всякий человек, намеревающийся "найти утешение в ясности", в конце концов, как справедливо полагает Мунье, "обожествляет разум" [178, с. 76]. "Исключение требования ясности ведёт к исчезновению абсурда", - говорит Камю [116, с. 247]; какое многозначительное признание: смысл является тогда, когда человек перестаёт заявлять от своего имени претензии разума на всеобщее знание и законодательство, претензии на полное уничтожение тайного, претензии на тотальную имманентность. "Абсурд - это ясный разум, осознающий свои пределы" [116, с. 256], и ничего сверх того. Камю хочет сохранить эту "ясность интеллекта" (то есть самодостаточность чистого разума и, следовательно, его бессильную ограниченность). "Если в этом его гордыня, то я не вижу достаточных оснований, чтобы от неё отрекаться" [116, с. 249]252.
Ясность достигается не метафизическим, а феноменологическим подходом к реальности. Главное методологическое правило Камю требует "сообразовываться с непосредственно данной очевидностью" [116, с. 262]. Там, где господствует ясность, шкала ценностей бесполезна [116, с. 266]. "Описание - таково последнее притязание абсурдного мышления", - заявляет Камю [116, с. 288]. Абсурдный ум "нацелен на перечисление того, что не в состоянии трансцендировать, и единственное его утверждение сводится к тому, что за отсутствием какого-либо объяснительного принципа мышление находит радость в описании и понимании каждого данного в опыте образа" [116, с. 252]. Однако феноменология гуссерлианского типа не устраивает Камю: "Во вселенной Гуссерля мир прояснился настолько, что сделалось бесполезным присущее человеку стремление понять его" [116, с. 256]. Мир же не может стать понятным; мир (как таковой) должен оставаться чужим, он должен отрицать человека, постороннего ему. Итак, ясность требуется не в отношении познания мира, а в отношении бесплодности человеческих усилий его познать.
Эта "гносеологическая" непроницаемость мира оказывается главным источником сознания абсурдности бытия-в-мире. Человек способен заметить, "с какой интенсивностью нас отрицает природа" [116, с. 230], и для него становится очевидной "первобытная враждебность мира" [116, с. 231]. Чтобы понять мир, человеку приходится сводить его к человеческому, измерять собственной меркой, налагать на него печать своего интеллекта [116, с. 233]. "Нетрудно объяснять мир, если заранее известно, что он объясним" [116, с. 251]. Но как только мир перестаёт быть для нас тем, чем мы сами его делаем, он "становится непостижимым" и потому недоступным и чужим253. "Становясь самим собой, мир ускользает от нас" [116, с. 231]. Эта "плотность и чуждость мира" (для нас) и есть абсурд [116, с. 231]. Совершенно бесконфликтным способом "присутствия в мире" была бы "отрешённость от себя самого" [114, с. 531], то есть преодоление себя как разумного и социального существа, растворение в природе. Но тогда в этом присутствии потерялся бы сам человек (присутствующий). Поэтому абсурд является единственно возможным человеческим образом отношения к нечеловеческому миру.
Но, конечно, не мир сам по себе абсурден; абсурд - как убеждение в "совершенной нелепости существования" [95, с. 348] - есть результат встречи человека с этим миром. "Если абсурд и существует, то лишь во вселенной человека", - утверждает Камю [116, с. 246]. Сам по себе мир просто неразумен, и это всё, что о нём можно сказать. Абсурдно "столкновение между иррациональностью и исступлённым желанием ясности" [116, с. 236] - встреча молчащего мира с "человеческим зовом осмысленности" [243, с. 155]. "Я не понимаю уникального смысла мира, - пишет Камю, - а потому он для меня безмерно иррационален" [116, с. 240]. "Человек сталкивается с иррациональностью мира. Он чувствует, что желает счастья и разумности. Абсурд рождается в этом столкновении между призванием человека и неразумным молчанием мира" [116, с. 240-241]254. Познавательное усилие ограниченного (смертного) человека наталкивается на "равнодушие и спокойствие того, что не умирает" [115, с. 338]. Всякая абсурдность "порождается сравнением"; его нет ни в одном из сравниваемых сторон, он "рождается в их столкновении". Поэтому "абсурд не в человеке и не в мире, но в их совместном присутствии" [116, с. 242]. Абсурд в равной степени зависит и от человека, и от мира [116, с. 236]; поэтому именно абсурд есть то единственное, что "скрепляет" [116, с. 236] и "объединяет" [116, с. 242] человека и мир и тем самым оказывается единственно возможным (исключительным) способом бытия-в-мире.
Человек, по мнению Камю, имеет в своём распоряжении лишь две достоверности: "моё желание абсолюта и единства, с одной стороны, и несводимость этого мира к рациональному и разумному принципу - с другой. И я знаю, что не могу примирить эти две противоположные достоверности" [116, с. 258]255. Одна из возможных перспектив преодоления такой разорванности разума и мира - рациональное утверждение "всеединства" [116, с. 233], которое могло бы представить человеческое бытие, органически слитое со всем остальным миром, в качестве "цельного и единого" [142, с. 78]. Камю предполагает: "Если бы мышление открыло в изменчивых контурах феноменов вечные отношения (природу видимой природы. - С.А.), к которым сводились бы сами феномены, а сами отношения резюмировались каким-то единственным принципом, то разум был бы счастлив" [116, с. 233]. Однако все варианты такого "счастья" оказываются питательной почвой для суицида. "Когда всё кончено, жажда жизни иссякает. Быть может, это и зовут счастьем" [115, с. 337]256. Открытие разумом конечного принципа бытия заканчивает существование, обрывая все экзистенциальные перспективы: "в иные минуты хочется умереть, потому что видишь жизнь насквозь - и тогда всё теряет значение и смысл" [115, с. 341]. К тому же, сам человек остаётся для себя совершенно неизвестным. Собственное "я" человека недоступно познанию, оно "ускользает, подобно воде между пальцами"; его можно попытаться уловить в тех "образах", в которых оно "выступает". Но эти образы не складываются в единое целое, ибо сущность человека всегда оказывается "вне всех определений". Человек "навсегда отчуждён от самого себя" [116, с. 234]: я, как и мир, не могу обрести достоверности257. Как выразился по этому поводу Батай, "чувство моей фундаментальной недостоверности располагает меня в мире, в котором я остаюсь ему посторонним, абсолютно посторонним" [27, с. 226]258.
"Отчуждённый от самого себя и от мира, - пишет Камю, - вооружённый на любой случай мышлением, которое отрицает себя в самый миг собственного утверждения, - что же это за удел, если я могу примириться с ним, лишь отказавшись от знания и жизни, если моё желание всегда наталкивается на непреодолимую стену?" [116, с. 235]. Эта стена отчуждения лишает человека счастья полного слияния с миром и вселяет в него страх перед собственным будущим, перед смертью. Единственное, что человеку известно о своём будущем, - это неизбежность умирания. Такая перспектива способна внушить ужас перед зловещим молчанием мира [243, с. 155]. "Я боюсь смерти в той мере, в какой я отделяю себя от мира, в той мере, в какой я связываю свою судьбу с судьбою живых, вместо того чтобы созерцать вечное небо" [114, с. 533]. Абсурд, выражающий собой неустранимое противоречие между серьёзным, целенаправленным характером человеческой активности и ощущением "нулевого значения" её конечного результата, может показаться "издевательством над человеком" и в качестве ответной реакции вызвать мысль о вольной смерти [102, с. 290]259.
Смерть представляется Камю главным свидетельством бессмысленности бытия-в-мире. Вера в смысл жизни "опровергается абсурдностью смерти" [116, с. 262]. Человек живёт проектами и перспективами. Но единственная и главная перспектива человека - смерть. Точнее, по словам Э. Левинаса, "смерть - это невозможность того, чтобы у меня был проект" [цит. по: 89, с. 61]. Смерть невозможно проектировать, ибо по отношению к человеку активна именно она. Обнаружение этого положения дел есть открытие абсурда [116, с. 230]. "Время страшит нас своей доказательностью, неумолимостью своих расчётов, - пишет Камю. - На все прекрасные рассуждения о душе мы получали от него убедительные доказательства противоположного" [116, с. 231]. Конечность человека есть "очевидность" [116, с. 233], не подлежащая преодолению. Живому человеческому сердцу суждено остановиться - "вот и всё, что говорит моя прозорливость" [114, 1969, с. 531]. Элементарность и определённость происходящего в наличном (а главное - очевидная неизбежность смерти) составляют содержание того "абсурдного чувства", которое переживает и о котором говорит Камю. "В мертвенном свете рока становится очевидной бесполезность любых усилий. Перед лицом кровавой математики, задающей условия нашего существования, никакая мораль, никакие старания не оправданы a priori" [116, с. 231-232].
Смерть неуловима и невыразима [114, с. 532]; о ней можно вести речь, но при этом она регулярно "ставит нас в тупик" [114, с. 533]26. И хотя о смерти "всё уже сказано", но все живут так, как будто ничего о ней не знают [116, с. 231]. Это происходит потому, что "у нас нет опыта смерти" [116, с. 231]: "Я говорю себе: я должен умереть. Но это ничего не значит, потому что я не в состоянии в это поверить и могу быть лишь свидетелем смерти других" [114, с. 533]. Смерть окончательна. Перед её лицом исчезают все иллюзии [116, с. 264]. Для Камю она - "запертая дверь", исключающая бессмертие [114, с. 531]. Человеку абсурда не укрыться "от той несомненной истины, что он умирает весь" [114, с. 532]. "Всё завершается смертью" [116, с. 285], даже абсурд: "Помимо человеческого ума нет абсурда. Следовательно, вместе со смертью исчезает и абсурд, как и всё остальное" [116, с. 243]. Итак, выбор живущего невелик: либо абсурд, либо смерть. Если не забывать о том, что смерть есть главный показатель абсурдности, то выбор окончательно исчезает.
Если мир, в котором привычно находит себя человек, оказывается не поддающимся объяснению (абсурдным), человек становится в нём "посторонним" [116, с. 225]. "Человек, - пишет Камю, - изгнан навек, ибо лишён и памяти об утраченном отечестве, и надежды на землю обетованную. Собственно говоря, чувство абсурдности и есть этот разлад между человеком и его жизнью, актёром и декорациями. Все когда-либо помышлявшие о самоубийстве люди сразу признáют наличие прямой связи между этим чувством и тягой к небытию" [116, с. 225]. Поэтому философ ощущает настоятельную потребность выяснить, насколько жёстко увязаны друг с другом чувство абсурда и стремление к смерти. "Необходимо знать, можно ли жить абсурдом или эта логика требует смерти. Меня интересует не философское самоубийство (то есть, по определению Камю, измена разуму в пользу веры. - С.А.), а самоубийство как таковое" [116, с. 257]. Предметом "Мифа о Сизифе" как раз и является эта связь между абсурдом и самоубийством, "выяснение того, в какой мере самоубийство есть исход абсурда": не должен ли суицид с неизбежностью следовать за открытием "абсурдности существования"? [116, с. 225]. "Разумеется, - уточняет Камю, - речь идёт о людях, способных жить в согласии с собой" [116, с. 225].
Принято считать, "будто взгляд на жизнь как на бессмыслицу равен утверждению, что она не стоит того, чтобы её прожить". На деле, считает Камю, между этими суждениями нет никакой необходимой связи; более того, "самоубийцы часто уверены в том, что жизнь имеет смысл" [116, с. 226]. Поэтому связь между абсурдным чувством и самоубийством представляется ему не очевидной, а лишь проблематичной. "Ведёт ли абсурд к смерти? Эта проблема первая среди всех других" [116, с. 227]. Абсурдность жизни, с точки зрения Камю, вовсе не требует того, чтобы от неё бежали - "к надежде или к самоубийству". Вопрос, следовательно, не может стоять так: "Добровольно умереть или же, несмотря ни на что, надеяться?" [116, с. 232]. И суицид, и надежда представляются Альберу Камю изменой фундаментальному чувству абсурдности как единственному подлинному способу бытия-в-мире. "Абсурдному человеку, - пишет Андрей Демичев, - предлагается проявить упорство, настойчивость, ибо он подвержен постоянным провокациям - к смерти или к надежде" [90, с. 131]. При этом надежда у Камю, как видим, по своему экзистенциальному значению приравнена к самоубийству.
В переживании абсурда "рвётся цепь каждодневных действий и сердце впустую ищет утерянное звено" [116, с. 229]. Осознание абсурда жизни ("скука") в качестве следствия может повлечь самоубийство. "Ибо всё начинается с сознания, и ничто помимо него не имеет значения" [116, с. 230]. Но важно то, что абсурдный человек, по убеждению Камю, отвергает самоубийство [116, с. 267], ибо стремится сохранить абсурд.
"Нам известно, - пишет Камю, - что абсурд предполагает равновесие, что он в самóм сравнении, а не в одном из терминов сравнения" [116, с. 246]. Уничтожение одной из сторон этого абсурдного равновесия выражает собой отказ от решения проблемы человеческого бытия. "Если я намерен решить какую-то проблему, то моё решение не должно уничтожать одну из её сторон. Абсурд для меня единственная данность. <...> Первым и по сути дела единственным условием моего исследования является сохранение того, что меня уничтожает, последовательное соблюдение всего того, что я считаю сущностью абсурда. Я определил бы её как противостояние и непрерывную борьбу". Эта борьба предполагает "полное отсутствие надежды" [116, с. 243]. В том и состоит "правда отчаяния", что даже если "больше не известны резоны для борьбы", сохраняется уверенность, что "бороться надо" [294, p. 15]. Прекращение борьбы ("согласие") "разрушает абсурд". Но "абсурд имеет смысл, когда с ним не соглашаются" [116, с. 243]. Поддержание жизненности при отсутствии надежды, одинокое балансирование на лезвии абсурда - единственно возможный человеческий образ жизни. Самоубийство было бы выходом из игры, поражением абсурдного человека. Но такой человек должен жить из одного упрямства. В этом и состоит содержание экзистенциального опыта Камю, изложенное в его "юношеском сочинении" [174, с. III].
Несогласие с абсурдом сохраняет его в наличии: "для своего сохранения абсурд требует несогласия" [116, с. 244]. Не соглашаясь с абсурдом, человек тем самым "констатирует" (утверждает) его как ясно осознанную очевидность [116, с. 246]261. "Осознавший абсурд человек отныне привязан к нему навсегда. Человек без надежды, осознав себя таковым, более не принадлежит будущему" [116, с. 243]; точнее говоря, такому человеку больше уже не принадлежит надежда на неочевидное. Ведь, по глубочайшему (и ничем не обоснованному) убеждению Камю, "абсурд противоположен надежде" [116, с. 246]. Сознание абсурдности человеческой ситуации влечёт "не надежду на лучшие дни, а спокойное, первобытное равнодушие ко всему на свете и к самому себе" [115, с. 342]; такая безнадёжность позволяет заблаговременно и надёжно предотвратить возможные разочарования [53, с. 76]. Иными словами, абсурд, утверждаемый в качестве отрицаемого, обрывает перспективность экзистенции и тем самым ликвидирует существование, редуцируя его к данности.
Да человек (если это абсурдный человек, как его понимает Камю) и не может выйти из состояния абсурда, которое ему имманентно. "Абсурд не освобождает, - признаётся Камю, - он привязывает" [116, с. 269]. Замечание Сартра о "мучении имманентности" содержит именно эту мысль: "человек видит только то, что сам освещает, ему решать о значении вещей. А если где-нибудь он столкнётся с абсурдным бытием, пусть даже будет им сам, абсурдность эта всё равно человечна, ибо человек решает, что она абсурдность. Человек имманентен человеческому <...> И если в самом деле есть "мучение" человеческое, то состоит оно в том, что не может человек выйти из своего универсума, чтобы судить себя, не может подсмотреть извне свои карты: не потому, что кто-то прячет их, но потому, что он и так их видит, видит их в своём свете" [213, с. 43]. Абсурд - это тюрьма, и всё "мужество" (courage) абсурдного человека состоит в том, что он запрещает себе в мышлении и на деле выходить за её стены [ср.: 294, p. 110]. Ему остаётся только "хранить верность собственным пределам и ясновидящую любовь к своей земной судьбе" [115, с. 374]. Но именно в этом заключении, в этом рабстве наличному, "где нет ничего возможного, но всё дано" [116, с. 264], такой человек находит "вино абсурда и хлеб безразличия, которые питают его величие" [116, с. 259], величие раба262.
Рабство и свобода диалектически сплетены в абсурдной жизни. Абсурд способен развеять человеческие иллюзии по поводу будущих возможностей и дать понять, что "завтрашнего дня нет"263. Такое положение дел становится основанием "абсурдной свободы" [116, с. 263]. Эта свобода сродни "добровольному согласию на рабство". Именно так свободен "человек абсурда", обнаруживший себя "лицом к лицу со смертью (взятой как наиболее очевидная абсурдность)"; эта принудительная конечность, подчиняя человека себе, освобождает его от всего другого. Человек теряет главное - перспективу. Зато "по отношению ко всем общим правилам он совершенно свободен" [116, с. 263]264. Абсурд "предоставляет мне свободу действия и даже увеличивает её. Отсутствие свободы и будущего равнозначно росту наличных сил человека" [116, с. 262]. "Думать о завтрашнем дне, ставить перед собой цель, иметь предпочтения - всё это предполагает веру в свободу"; но человек абсурда уверен, "что нет высшей свободы, свободы быть, которая только и могла бы служить основанием истины. Смерть становится единственной реальностью, это конец всем играм. У меня нет свободы продлить бытие, я раб, причём рабство моё не скрашивается надеждой" [116, с. 262]. Такова цена абсурдной "свободы": она куплена за отказ от существования.
Итак, Камю обнаруживает себя "в замкнутой, ограниченной вселенной человека", которая, именно в силу своей замкнутости (бесперспективности), лишает человека всякой надежды [116, с. 244], предоставляя ему "довольствоваться тем, что есть" [116, с. 268]. Поскольку смерть "непоправима", постольку у человека "нет выбора". Он отчуждён от собственного будущего: его абсурдная жизнь ни в какой степени не зависит от его воли, но полностью находится в распоряжении смерти; смерть же - "дело случая" [116, с. 266]. Как видим, смерть решает всё. Она устанавливает границы жизни и определяет человеческий удел. Абсурдный человек, наталкиваясь на эти непреодолимые границы, "выносит приговор самому себе" [116, с. 267] (конечно, под диктовку указанных обстоятельств): "подчиниться" тому, что "неизбежно" [116, с. 267]. Вместо свободы быть, побеждающей всевозможные необходимости, в горизонте абсурда обнаруживается только необходимость не быть, развязывающая руки. Абсурдный человек "знает одно: в его сознании нет более места надежде" [116, с. 247], ибо "абсурд, будучи метафизическим состоянием сознательного человека, не ведёт к Богу" [116, с. 249]265. Таков "метод упорства" [116, с. 259]: без конца повторять, что выхода нет.
"Последним итогом абсурдного рассуждения, - пишет Камю в "Бунтующем человеке", - является отказ от самоубийства и участие в отчаянном противостоянии вопрошающего человека и безмолвной вселенной. Самоубийство означало бы конец этой конфронтации, в то время как абсурдное рассуждение видит в самоубийстве отрицание собственных предпосылок" [113, с. 122]. Казалось бы, что это за "предпосылки", которые не допускается отрицать? А это именно та система противоречивых взаимоотношений, из которой, ради её священной стабильности, нельзя изъять ни одну из сторон, дабы не разрушить эту диалектическую гармонию (известную человеку со времён Гераклита). Универсальное бытие должно быть только нелогичным, человек должен быть только разумным: вот чего требует абсурд266. И во имя этого абсурда человек, оказавшийся у него в подчинении, должен оставаться принудительно логичным и отчаянно воинственным без всякой надежды на иное: он вынужден вести "безнадёжную, но необходимую борьбу со смыслом" [105, с. 179]. Камю запрещает аннигиляцию, но запрещает и сублимацию, настаивая на необходимости удерживать себя в данном. Однако он понимает онтологическую сублимацию, о которой говорят его подвергаемые критике оппоненты (Кьеркегор, Шестов, Достоевский), не теистически, но пантеистически, при этом безосновательно (но безапелляционно) приписывая и им это своё понимание [116, с. 246, 253, 307]267. Но здесь Камю, говоря словами Виктора Ерофеева, "не совсем компетентен" [102, с. 306]. Сам "богоубийца" Камю [102, с. 307-308] не различает Бога и мир [см.: 116, с. 245-250]; атеистическую философию религии, которая выстраивает себя на таком неразличении, Бердяев справедливо именовал "религиозным идиотизмом"268.
Таким образом, на долю абсурдного человека остаётся только выпавшая ему "судьба", исход которой предрешён. "За исключением единственной фатальности смерти, во всём остальном царит свобода" [116, с. 304]269. Эта свобода перед лицом неизбежности есть свобода Сизифа, который знает, что его "обманчивый камень" (Одиссея XI, 598) всякий раз покатится вниз. Счастье Сизифа - в этом знании270. "Ему принадлежит его судьба. Камень - его достояние" [116, с. 307]. Сизиф достиг предельной и окончательной ясности; не зная смысла, он знает порядок: камень вверх, камень вниз. Когда ничего нельзя изменить, остаётся тихо радоваться тому, что есть, и получать удовольствие от того, что можешь. Такова практическая программа "высшей верности" [116, с. 308] наличному положению дел.
Что значит жить в этой абсурдной вселенной, в мире, где "ни жертв, ни палачей" (ni victimes ni bourreaux)?271 "Ничего, кроме безразличия к будущему и желания исчерпать всё, что дано272. Вера в смысл жизни всегда предполагает шкалу ценностей, выбор, предпочтение. Вера в абсурд, по определению, учит нас прямо противоположному" [116, с. 264]. Эта вера учит "как можно полнее" переживать данное [116, с. 266], меняя качественный подход к деятельности на количественный [53, с. 85]. "Если я убеждён, что жизнь абсурдна, что жизненное равновесие есть результат непрерывного бунта моего сознания против окружающей его тьмы; если я принимаю, что моя свобода имеет смысл только в положенных судьбой границах, то вынужден сказать: в счёт идёт не лучшая, а долгая жизнь273. И мне безразлично, вульгарна эта жизнь или отвратительна, изящна или достойна сожаления. Такого рода ценностные суждения раз и навсегда устраняются, уступая место суждениям фактическим" [116, с. 264]. Испуганный человек со своими случайными прихотями остаётся один на один с окружающим его хаосом.
Оказавшись в таком метафизическом одиночестве, "перед физически осязаемым тупиком будущего" [294, p. 142], абсурдный человек освобождает себя "от любого суда, кроме его собственного" [116, с. 268]. "Если ни во что не веришь, - пишет Камю, - если ни в чём не видишь смысла и не можешь утверждать какую-либо ценность, всё дозволено и ничто не имеет значения" [113, с. 121-122]. Под "замолкшими небесами"274 невозможна никакая иерархия ценностей, ибо для неё нет точки отсчёта - нет Бога, а значит - нет смысла [53, с. 85]. Следовательно, любой выбор оправдан, если осознаётся это отсутствие смысла [53, с. 85]; иными словами, если уж грешить, так грешить откровенно. Неизбежная смерть "уже сама по себе достаточная кара, дающая отпущение всех грехов" [114, с. 428]. Правда, абсурд, как утверждает Камю, "не рекомендует совершать преступления"; он лишь демонстрирует "равноценность последствий всех действий"275 и тем самым "выявляет бесполезность угрызений совести" [116, с. 269]. Если же все поступки равноценны (иначе говоря, не подлежат аксиологической квалификации), то "опыт долга" не более законен, чем любой другой. "Можно быть добродетельным из каприза" [116, с. 269]; но можно быть и злодеем по убеждению. При этом абсурдный человек готов отвечать за свои действия (таковы правила игры, которым он добровольно подчинился, оставшись в живых), однако никакой вины за собой он никогда не признает [116, с. 269]. Это невинность раба, вечно ссылающегося на принуждение объективного.
II
Несмотря на многочисленные атаки на суицид, предпринятые Альбером Камю с позиции абсурдного сознания, самоубийство получает с его стороны и некоторое (во многом знаменательное) оправдание. В поле абсурдного рассуждения суицид - это "свидетельство примирения с проклятой судьбой", а потому он должен быть осуждён и отвергнут человеком абсурда; но в то же время самоубийство (как и бунт) "может стать попранием враждебных человеку богов" [178, с. 88], а значит, содержит в себе и некий положительный (для атеистического сознания) момент. Видимо, так понимаемая амбивалентность самоубийства и не даёт Камю занять однозначно негативную позицию по отношению к вольной смерти. Он чувствует (в 1939 году), "что единственный прогресс цивилизации, к которому время от времени приобщается личность, состоит в том, что он создаёт людей, умирающих самостоятельно" [114, с. 532]. "Создавать людей, умирающих самостоятельно, - поясняет сам автор, - значит уменьшать расстояние, которое нас отделяет от мира, и безрадостно вступать в свершающийся круговорот, сознавая всю пленительность бытия, которое нам суждено навсегда утратить" [114, с. 533-534]. "Самостоятельная" смерть, таким образом, подтверждает то положение дел, согласно которому "мир всегда побеждает историю" [114, с. 534].
Воздержание от самоубийства бывает даже преступным: "иной раз не так преступно предать смерти, как не умереть самому!" [114, с. 441]. Всё дело в том, считает Камю, каковы конкретные обстоятельства суицида (которые он согласен обсуждать). Так, например, самоубийства "из протеста" являют пример "благороднейшего движения человеческой души" [113, с.130]. "Всякое самоубийство в одиночку, если только оно совершается не в отместку, по-своему великодушно или же исполнено презрения" [113, с.123], что в глазах абсурдного философа сообщает ему положительное значение. Презрение указывает на то, что самоубийца, отрицая эту жизнь, утверждает нечто в качестве превосходящей её ценности (пусть даже и не в этом состоит его осознанная цель) [113, с.123].
Самоубийцы, высказывает сходную мысль Владимир Соловьёв, "невольно свидетельствуют о смысле жизни", который они в акте суицида берутся вольно отрицать. Отчаяние и смертельное разочарование в жизни "происходит оттого, что она не исполняет их произвольных и противоречивых требований"; однако само требование исполнения всех желаний есть требование абсурда; следовательно, неисполнение жизнью абсурдных желаний отдельных людей говорит как раз о присутствии в ней смысла [224, с. 48]. "Ясно, - пишет Соловьёв, - что смысл жизни не может совпадать с произволом и изменчивыми требованиями каждой из бесчисленных особей человеческого рода. Если бы совпадал, то был бы бессмыслицею, т.е. его вовсе бы не было"; значит, самоубийца разочаровался и отчаялся не в смысле жизни, а как раз наоборот - в своём расчёте на её абсурдность [224, с. 86]. "Серьёзный пессимизм" практических самоубийц276, будучи субъективно призванным манифестировать абсурд, оказывается объективной демонстрацией необходимости полагания смысла. Так самоубийство разочарованного в смысле жизни человека от противного подтверждает её осмысленность [224, с. 48]. Однако там, где Соловьёв подразумевает отказ от самоубийства, Камю пытается найти какие-то варианты его оправдания (в самом деле, если суицид абсурден, то жизнь имеет смысл; но если жизнь абсурдна, то имеет смысл суицид).
Очевидно, что в наиболее общем (и даже не обязательно философском) смысле сознательное самоубийство обычно связывают с утратой смысла жизни. Смертельность этой смыслоутраты объясняется сохраняющейся всё же потребностью в смысле277. Потеря внешних "гарантий" такого смысла - то есть общественных интересов, семейного долга, бессмертия и т.п. - ведёт к полаганию этих гарантий и ценностей только в самом человеке вне зависимости от его отношения к упомянутому "внешнему". Здесь возможен двоякий результат такого "интроспективного" переноса: либо человек, привыкший измерять свою ценность полезностью для "общего дела", ощущает своё ничтожество и ненужность; либо человек возвышается над "общим делом", начинает оценивать себя как гения и сверхчеловека, в котором только и может быть заключена вся истинная ценность мира. Однако очевидно, что первый из указанных результатов есть лишь вариант второго. Какова логическая связь между негативной самооценкой и самоубийством? Ясно, что такая самооценка ("трезвый" взгляд на реальное положение дел) может быть убийственной, если она противоречит претензиям. Значит, самоубийство вследствие осознания своего бессилия, своей зависимости, "вещности" и т.п. - это оборотная сторона стремления к абсолютности, к абсолютной значимости, независимости и всесилию. Самоубийца из бессилия (разочарования) есть несостоявшийся абсолют; однако, как выяснилось ранее, и "состоявшийся" абсолют есть также самоубийца. И в том, и в другом случае самоубийство указывает на одиночество человека - одиночество не только в смысле психологическом или социальном. Одиночество есть обнаружение необходимости поиска абсолютного основания собственного бытия только в себе самом, есть само-опора, оправдание собственной жизни лишь из неё самой, признание себя само-ценностью и само-целью. Одиночество в высшем, метафизическом смысле - это утрата Бога. Следовательно, теория и практика самоубийства могут быть рассмотрены как результаты "эксперимента" [ср.: 35, с. 13] по достижению человеком метафизического одиночества, то есть безбожия.
"Самоубийца полагает, - пишет Камю в "Бунтующем человеке", - что он всё разрушает и всё уносит с собой в небытие, но сама его смерть утверждает некую ценность, которая, быть может, заслуживает, чтобы ради неё жили" [113, с.123]. Камю, таким образом, даже в своём позднем творчестве не смог избавиться от симпатии к "педагогическому" самоубийству Кириллова, логика которого просвечивает в только что приведённом рассуждении. Самоубийство Кириллова, как полагает Камю, - вполне абсурдно. Тема самоубийства является Достоевскому именно как "тема абсурда" [116, с. 298], и сам Кириллов - абсурдный герой ("с той оговоркой, что он всё-таки совершает самоубийство") [116, с. 296]. Логика Кириллова - "абсурдная логика", но именно она в этом случае и "необходима" [116, с. 296]. Он, по словам Камю, совершает "неслыханное деяние духа" [116, с. 298]. Кириллов (как и другой самоубийца - Ставрогин) утверждает "логику, идущую вплоть до смерти", демонстрирует самозаконную и "страшную" свободу, проявляет власть распоряжения собой. Кириллов занимает место в галерее абсурдных героев Достоевского наряду с Иваном Карамазовым и Ставрогиным. "Всё хорошо, всё дозволено и нет ничего ненавидимого: таковы постулаты абсурда" [116, с. 299]278. Первый из этих постулатов принадлежит Кириллову. Таким образом, самоубийца Кириллов остаётся абсурдным героем, несмотря на указанную "оговорку". Камю не сомневается в его абсурдности, не находит в его поведении никаких противоречий программе абсурда, указывая лишь на то, что сам Достоевский не сохранил верности этой изложенной через Кириллова программе. "Это противоречие позволяет разглядеть, что перед нами не абсурдное произведение, а произведение, в котором ставится проблема абсурда" [116, с. 300]. Достоевский, в отличие от Кириллова, недостаточно абсурден; зато сам Кириллов - вне подозрений279.
Камю присваивает Кириллову титул "абсурдного героя", а это высшая степень одобрения. Его самоубийство искупается "педагогическим" значением этого акта [102, с. 304]. Философия Кириллова, как считает Виктор Ерофеев, обретает завершённость именно в эссе Альбера Камю - ту завершённость, "которой ей не хватало в романе, но которую она была вправе иметь" [102, с. 305]. И эта "философия" принимается Камю как "абсурдная", как своя, даже вопреки тому, что она безоговорочно включает в себя самоубийство. Сам же Камю и указал на подоплёку такого принятия: если самоубийство может быть воспринято в качестве "ценности", значит в этом виновата "логика нигилизма", с неизбежностью заключающая в себе "безразличие к жизни" [113, с.123]. А значит, абсурдная логика есть вид логики нигилизма.
Эта логика отрицания (включающая в себя, по моему мнению, и логику "бунта") характеризует как нигилиста, так и "бунтующего человека". Это такой человек, который способен отрицать себя: та часть его "натуры", к которой он требует безусловного уважения (право, гордость, достоинство и т.п.), "теперь ему дороже всего, дороже даже самой жизни" [113, с.128]. Далее происходит вот что: "Обуянный бешенством нигилизм смешивает воедино Творца и тварь. Устраняя любое основание для надежды, он отбрасывает все ограничения и в слепом возмущении, затмевающем даже его собственные цели, приходит к бесчеловечному выводу: отчего бы не убить то, что уже обречено смерти" [113, с. 338]. Логика нигилизма, таким образом, оказывается питательной почвой для суицида.
Представляется, что такое вопиющее противоречие Камю своим же собственным анти-суицидным декларациям является неизбежным и прямо вытекающим из его философской (мировоззренческой) позиции. Его установка на "ясность", рациональность и однозначность помещает человека в замкнутый горизонт наличного положения дел. В этом горизонте всегда оказывается расположенной и человеческая смерть. Так, например, Камю признаёт силу "истинной природы вещей", согласно которой "солнце светит, а я когда-нибудь умру" [114, с. 525], доминирующей силой в бытии. Всякий "порядок вещей определяется смертью" [114, с. 235]. Этот природный "привкус смерти" - единственное, что "объединяет" человека и мир [114, с. 531]. Мы помним, что именно абсурд есть тот горизонт стабильности, в котором обретают своё противоречиво-гармоничное единство человек и мир. Тем самым ещё раз декларируется жёсткая связь (вплоть до тождества) абсурда и смерти, выступающих как разные лики одного и того же наличного. Мир Камю - это "мир, не имеющий ни конечной цели, ни будущего, - это однородный, монотонный мир, где всё повторяется" [178, с. 102]. Сизиф - символ этого мира [178, с. 103].
В таком замкнутом мире и обитают люди абсурда. Они "умеют жить соразмерно вселенной без будущего. Этот абсурдный и безбожный мир населён утратившими надежду и ясно мыслящими людьми" [116, с. 286]. Ясное мышление позволяет "осознать своё настоящее", а значит - "ничего больше не ждать" [114, с. 531]. Эта "ясность" сознания собственного удела как раз и подводит ближе всего к суициду. "В самоубийстве, - считает Морис Бланшо, - существенно намерение упразднить будущее, то есть устранить тайну смерти; в известном смысле убивают себя затем, чтобы в будущем не осталось загадок, чтобы сделать его ясно читаемым" [39, с. 210]. Так смерть совпадает с ясностью. Окончательное прояснение перспективы есть утрата этой перспективы (так же, как актуализация свободы есть её исчерпание). Камю уверен: "Большинство людей (за исключением верующих всякого рода) лишено будущего" [294, p. 142]. Пусть действительная жизнь невозможна "без проектирования будущего"; пусть жизнь в замкнутом пространстве ("перед стеной") - это "жизнь собак". "Ну так что же! - восклицает Камю. - Люди моего поколения жили и всё больше живут как собаки" [294, p. 142]. Жизнь подле стен имеет киническое содержание: "Воля к жизни, принимающая действительность без оговорок и ограничений, - вот добродетель, которую я ставлю выше всего на свете" [114, с. 541]. Такова добродетель пожизненно заключённого.
Эта добродетель (как у стоиков или киников) состоит, в конечном счёте, в приспособлении к наличному, в экзистенциальной адаптации к нему. "Я очень хорошо ко всему приспособился", - заявляет Мёрсо [114, с. 99], герой, представляющий собой "самораскрытие духа абсурда" [102, с. 294]; действительно, не имея надежды, "в конце концов можно привыкнуть ко всему" [114, с. 100]. Такая привычка к данному полагает предел всякому стремлению к иному (кстати, абсурдное сознание настолько теряет ориентацию, что путает будущее с иным). Для абсурдного человека нет никаких оснований для подобного предприятия: "Теперь уж поздно, и всегда будет поздно. К счастью!" [114, с. 460]. Это счастье Сизифа.
Итак, абсурд "оставляет нас в тупике" [113, с. 125]. "L'homme révoltй" Альбера Камю - это псевдо-бунтарь: вместо того, чтобы поднять "мятеж против всего данного" [107, с. 54], он бунтует против своей собственной возможности бунтовать против невозможности преодоления наличного и потому остаётся "рассудительным рабом необходимости" [107, с. 54]. Это рабство вплотную придвигает абсурдного человека к согласию с самоубийством, несмотря на все попытки отказаться от такой саморазрушительной "перспективы". Абсурд, как результат атеистической эмансипации, располагает смерть в наличном и, более того, настаивает на её определяющей роли в человеческой судьбе. Такова цена смерти Бога и утверждения "божественности" человека. Лишь в одном Камю позволяет нам сохранить оптимизм: "обожествление человека ещё не закончено и будет достигнуто не раньше чем в конце времён" [113, с.233].
Абсурдность бытия-в-мире можно пытаться преодолевать, если находить смысл в родстве с природой сущего. Тогда как у Камю полное слияние с природой недопустимо, у стоиков, например, оно представлено как высшая гарантия сохранения человеческого достоинства и способ утверждения божественного статуса человека. Божественность (имманентная всякому индивиду универсальная сущность) в стоицизме не отнесена, как у Камю, к "концу времён", а может быть проявлена в любой момент времени. Однако утверждение взамен абсурда именно такого (пантеистического) "смысла" бытия чревато не меньшим фатализмом и, самое главное, не снижает, а увеличивает энергию вольной смерти.
Лекция 8. Пантеизм и самоубийство: смех исчезновения
I
Анаксимандровское "в назначенный срок", обозначающее порядок схода вещи, отсылает к природному закону смерти всякого частного. Умирать значит следовать природе. Естественность умирания равнозначна его справедливости: правозаконно умереть (в назначенный срок). Порядок Хроноса обнаруживает себя не только в механически идущих процессах про-ис-хождения, но и в очевидных для мыслящего существа знаках судьбы, принуждающих выйти из тела. Эти роковые императивы утверждают всё то же господство природы над свободой: не стоит уходить из жизни самовольно, но беззаконно продолжать жить после явного указания природы на исполнение сроков. На такой сигнал к самоубийству всегда готов откликнуться стоический мудрец.
Стоицизм, как род античной философии, притязает на то, чтобы "сдерживать постыдные претензии индивидуального существования во имя вселенского порядка" (или "Природы") [174, с. V]. Индивидуальная воля здесь утверждает себя исключительно в перспективе самоотрицания, а руководителем этого отрицания частного в пользу господства всеобщего выступает познающий природу разум. Людям, как разумным существам, разум дан в качестве совершенного "вождя", и для них жить согласно природе (ομολογουμενως τη φυσει ζην) - значит "жить по разуму", ибо разум это "наладчик (τεχνιτης) побуждения" (Диог. VII, 86). Более того, разум не просто ориентирует индивида
в универсальности космической жизни; он является тем, что по сути соединяет человека и мир в одно целое, ибо "человеческий разум является выражением и воплощением разума, правящего в мире" [83, с. 166]. Разум природная характеристика индивида, свидетельствующая о его причастности космосу и его родстве с божественной сущностью этого космоса [83, с. 167; 245, с. 177].
Знание, сообщаемое разумом, представляет собой основу всякой добродетели и начало пути к нормативному для стоика состоянию атараксии (αταραξια). Добро (благо) есть "естественное совершенство разумного существа в его разумности" (Диог. VII, 93), а величие души это "знание или самообладание, позволяющее быть выше всего, что с тобой происходит, как хорошего, так и дурного" (Диог. VII, 93). По стоикам, "истинное знание есть уже добродетель" [183, с. 4]; таким образом, стоическая добродетель это добродетель повторения. Заблуждения же "вызывают извращение мысли, а отсюда происходят многие страсти, причина душевной неустойчивости. Страсть (по словам Зенона) есть неразумное и несогласное с природой движение души" (Диог. VII, 110). Любое возмущение против принудительного порядка природы, отрицающего личность, любое несогласие с автоматическим быванием сущего объявляется стоиками "страстью", следствием ошибки разума. Стоический философ стремится понять и усвоить законы вселенского логоса, испытывая к нему своеобразный amor fati. "Эта высшая воля, максимально выраженная в объективном бытии, находит полное соответствие во внутреннем субъективном состоянии философа и приводит его к эстетическому наслаждению, когда всё в мире оказывается целесообразно понятым, включая любые несчастья и катастрофы" [237, с.387]. Разум позволяет философу постичь порядок природы как единственное основание для жизни и спокойно встроить себя в этот порядок; именно такое основание имел в виду Хрисипп, когда сказал: "Надо жить, верно понимая ход мировых вещей (δει ζην κατ' εμπειριαν των φυσει συμβαινοντων)" [см.: 276, с. 124]. Разумное познание открыло стоикам, что от мировой необходимости некуда бежать, и предложило человеку "идеал покорности" [268, с. 67]. "Мудрость, - пишет Лев Шестов, - благословила открытую ей познанием истину: от этой истины бежать не нужно, не нужно с ней спорить и бороться, нужно её принять, нужно её полюбить, нужно её вознести. Ей и небеса поют славу: человек должен вторить небесам. Такова была "экзистенциальная" философия греков от Сократа до Эпиктета" [268, с.191].
Истина, открываемая разумом, утверждает единосущность человека, мира и божества. Клеанф (Гимн к Зевсу, 2-4) провозглашает:
Зевс, владыка природы, правящий всем по закону,
Радуйся! Ибо к тебе взывать подобает всем смертным.
Мы - порода твоя.
[249, с. 256].
Диоген Лаэртский так излагает эту монистическую метафизику стоиков: "Бог, ум, судьба и Зевс - одно и то же, и у него есть ещё много имён. Существуя вначале сам по себе, он всю сущность обращает через воздух в воду" (Диог. VII, 136). Традиционные боги в стоицизме оказываются природными силами, то есть проявлениями единого бога, Зевса-разума [245, с. 179]. Этот бог - "живое существо, бессмертное, разумное, совершенное или же умное в счастье, не приемлющее ничего дурного, а промысл его - над миром и над всем, что в мире; однако же он не человекоподобен. Он - творец целокупности и словно бы родитель всего: как вообще, так и той своей части, которая проницает всё; и по многим своим силам он носит многие имена". Он называется и Зевсом, и Дием, и Афиной, и Герой, и Гефестом, и Посейдоном, и Деметрой (Диог. VII, 147). Бог, как космический ум, как "сеятельный разум мира" (Диог. VII, 136), "вечен, и он творец всего", что имеет место в вещественном мире (Диог. VII, 134). Бог - "обособленная качественность всей сущности; он не гибнет и не возникает. Он творец всего мироустройства, через определённое время расточающий в себя всю сущность и вновь порождающий её из себя" (Диог. VII, 137). Таким образом, бог стоиков это принимающий на себя разные личины, но по сути деперсонифицированный закон-природа, из небытия в небытие обращающий весь космос вещей.
Теология стоиков типичный пантеизм [183, с. 16]. "Бог и мир у них вовсе не были двумя началами" [276, с. 125]. Стоический бог имманентен миру; он закон этого мира; это разумный огонь, или "огненный дух" [183, с. 17], внутренне присущий космосу280. Богом поэтому считается весь мир; если же и допускается относительный (диалектический) дуализм, то говорится о боге-дыхании как душе (активном начале) мира и о мире как о теле (пассивном начале) бога [245, с. 177]. Божественный "промысл" в сущности совпадает с судьбой, а целесообразность с необходимостью [183, с. 21]; иными словами, целесообразность это осознанная необходимость, то есть такая необходимость, с которой сознательно согласились. При этом стоическая теология стремится предохранить гордость человека от ранения смирением: разум человеческий и разум божественный это один и тот же разум. Повиноваться богу значит повиноваться голосу собственного разума [183, с. 82].
Бог, судьба, мудрость и справедливость281 слиты в единой φυσις282, властно втягивающей в себя и человека. Судьба обнимает индивида и извне (как жизненные обстоятельства), и изнутри (как врождённые задатки, в том числе и способность сопротивления жизненным обстоятельствам); таким образом, человек тотально захвачен природой, и его свобода оказывается иллюзорной [183, с. 29-30]. "Судьба определяет возникновение всего на свете <...>. Судьба есть причинная цепь всего сущего или же разум, по которому движется мир" (Диог. VII, 149). В таком мире всё действительное разумно (целесообразно), а потому, например, невозможно строго противопоставить добро и зло, гармонически уравновешенные в диалектике вселенской разумной необходимости. "Стоическая судьба Огненное Слово узаконивает стихийность космоса и превращает его роковую данность во всеобщую целесообразность"; эта целесообразность катастрофически пылающего мира, осознанная человеком, есть подлинная красота, подлинный миро-порядок. Человеку, невозмутимо созерцающему этот роковой порядок, не только не страшен мрачно пылающий огонь, но даже и желателен - как "очистительная сила" [237, с. 387-388].
Следовательно, мир (а соответственно и человек, поскольку он включён в мир) не подлежит квалификации с точки зрения противоположности добра и зла. Необходимость, не-умолимая судьба определяет внешний "рисунок жизни" человека, те сопряжённые со страданиями и удовольствиями события и ситуации, которые выпадают на его долю. Они совершенно не зависят от воли человека, который ничего не может изменить в этом конкретном стечении жизненных обстоятельств, определяемых единой причинностью, всем ходом вещей в природе. Но отношение к необходимо данным вещам и событиям человеческой биографии, как и в целом к необходимости природы, может быть различным. Человек, конечно, не властен над обстоятельствами собственной жизни, но он ничем не ограничен в своей оценке этих событий, во внутреннем отношении к ним. Для нас при этом важно не то, находится ли такое отношение в историческом стоицизме, а то, какое отношение представлено в нём как должное; поскольку стоики рекомендуют отношение согласия с природой, спокойное покорение наличному, постольку можно сказать, что задатки личности в стоицизме добровольно подавляются во имя безличного закона природы. Привилегия разумного существа (присущая ему "свобода"), состоит в том, что оно имеет собственное внутреннее отношение к необходимости, к неотвратимому ходу событий [83, с. 168]; для стоика это отношение покорности, "свободного" согласия с необходимостью. Свобода, таким образом, оказывается не экзистенциальным измерением личности, а лишь психологической установкой индивида283.
Неизбежность упорядоченного хода событий во вселенной осмысливается стоиками на "физическом" уровне через понятия начала и основы (элемента). "Начала (αρχαι) и основы (στοιχεια) вещи разные: первые не возникают и не подвержены гибели, вторые же погибают в воспламенении (об-огневении). Далее, начала бестелесны и не имеют формы, основы же имеют форму" (Диог. VII, 134-135). "Начал во всём сущем они признают два: деятельное и страдательное. Страдательное начало есть бескачественная сущность, то есть вещество; а деятельное - разум, в ней содержащийся, то есть бог" (Диог. VII, 134). "Основа есть то, из чего первоначально возникает всё возникающее и во что оно в конце концов разрешается" (Диог. VII, 136-137). Рождения и уничтожения (смерти) в полном смысле слова нет. Есть только изменение и переход одних вещей в другие [183, с. 32] в пределах одного и того же вечно себя повторяющего мира.
Такой мир "един, конечен и шарообразен" по своему эйдосу; его окружает "пустая беспредельность" (Диог. VII, 140). Мир понимается трояко. "Во-первых, это сам бог <...>. Во-вторых, само это мироустройство, то есть звёздный мир. В-третьих, это совокупность того и другого. Таким образом, мир это особая качественность всеобщей сущности" (универсальное "как" целого бытия, то есть его природа. С.А.); он включает все "естества", в том числе богов и людей (Диог. VII, 137-138). Внутри этого мира "всё едино в силу единого дыхания и напряжения, связующего небесное с земным" (Диог. VII, 140). Как проявление совершенного божества, мир, по учению стоиков, есть абсолютное совершенство. Всё в нём на своём месте, всё является в своё время; всё служит ко благу целого [183, с. 24]. "Мир устрояется умом и провидением (так говорят Хрисипп в V книге "О провидении" и Посидоний в III книге "О богах"). Ибо ум проницает все части мира, как душа - все части человека" (Диог. VII, 138).
Этот-то ум (закон, бог, судьба) регулярно приводит к небытию и тот самый мир, в котором пре-ходят все вещи. "Мир, по их учению, подвержен гибели, как всё, имеющее начало: таковы ведь и чувственно воспринимаемые вещи. Когда подвержены гибели части, то подвержено и целое; но части мира подвержены гибели, ибо переходят друг в друга; стало быть, подвержен гибели весь мир" (Диог. VII, 141). Космос, представляющий собой единое тело (вещь), "происходит из огня и возвращается в него" [83, с. 167].
Таким образом, мир (κοσμος) стоиков можно рассматривать как организм, как "тело" с имманентной структурой, являющейся одновременно и "программой" его развития. Эта программа сама себя осуществляет, а цель и смысл находятся в самóм развитии. "Природа" это одновременно и внешняя данность, и внутреннее целесообразное и целенаправленное устроение. "Общая природа" является самопорождающей внутренней силой мира, она отождествляется с промыслом и судьбой, которые в разных аспектах выражают одно и то же действие бога-разума, или Зевса. Природа как действующая сила в начале каждого космогонического цикла представляется "творческим огнём" (πυρ τεχνικον), порождающим всё, в виде разумного огненного дыхания (πνευμα) проницающим тело мира и объединяющим весь мир в единое целое [245, с. 177]285. "Природой, - сообщает Диоген, - они называют иногда то, чем держится мир, иногда то, чем порождается всё земное. Природа есть самодвижущееся самообладание, изводящее и поддерживающее свои порождения в назначенные сроки по сеятельному разуму, и от чего что взято, так то и творится" (Диог. VII, 148).
Человек ни телом ни душой не превосходит это данное. Душа есть "чувствующая" природа, а также "дыхание, врождённое в нас" по порядку той же природы. В этом смысле душа "телесна", то есть принадлежит наличному космосу, как любая вещь (тело). И хотя она "остаётся жить после смерти", однако в конце концов "подвержена разрушению", а неразрушима только "душа целого, частицами которой являются души живых существ". Перспектива растворения души в мировом огне представляется неизбежной, разногласия же касаются лишь точных сроков этого растворения: "Клеанф считает, что все души продолжают существовать до самого об-огневения, Хрисипп что таковы лишь души мудрецов" (Диог. VII, 156-157). Конечная гибель души, как и гибель космоса, необходима [183, с. 30-33] и потому справедлива.
Душа мудреца, проникшая в эту высшую справедливость, впадает в полную экзистенциальную пассивность. "Мудрец, и только он, живёт в согласии с природой, по законам разума. А разум говорит ему, что всё в мире фатально предопределено и потому мир, собственную судьбу надо воспринимать с покорностью" [83, с. 174-175]. Именно такая сознательная покорность наличному и сообщает мудрецу божественный покой и невозмутимость (бесстрастие): как говорит о богах жрица Диотима у Платона, "тот, кто мудр, к мудрости не стремится" (Пир 204 а)285. "Стоики называют мудреца бесстрастным, потому что он не впадает в страсти" (Диог. VII, 117). Лишь воля, руководимая разумом, избавляет от страстей, к каковым стоики относят любовь и жалость. Любовь есть "неразумное возбуждение" (желание), а потому должна быть определена как страсть (Диог. VII, 113). Воля же "противоположна желанию и представляет собой разумное возбуждение" (Диог. VII, 116). Мудрец "непогрешим, ибо не подвержен ошибкам. <...> Он нежалостлив и не знает снисхождения ни к кому, так как не отменяет никаких наказаний, следующих по закону" (Диог. VII, 123)286. Иначе говоря, он справедлив, как судьба, как языческий немилосердный бог287.
Мудрец, более того, "божествен, потому что как бы имеет в себе бога, между тем как дурной человек безбожен" (Диог. VII, 119). "Далее, только мудрец есть настоящий священнослужитель, потому что он сведущ в жертвоприношениях288, основании храмов, очищениях и прочих заботах, относящихся к богам" (Диог. VII, 119-120). "Он один свободен, тогда как дурные люди рабы, ибо свобода есть возможность самостоятельного действия, а рабство его лишение" (Диог. VII, 121)289. Мудрый человек, ставший как бог, "должен владеть знанием добра и зла" (Диог. VII, 122). Такое знание призвано победить страх перед внешним, ибо "страх есть ожидание зла" (Диог. VII, 112); мудрец же не ждёт ни зла, ни добра, изначально и навсегда присутствующих в гармонии наличного бывания. "Мудрецам принадлежит всё на свете, ибо закон дал им всесовершенное обладание" (Диог. VII, 125). Они обладают и собой, но только в силу того, что ими обладает природа. Тогда как апатия мудреца у Эпикура является результатом бегства от мира, бесстрастие стоиков следствие безусловной покорности ему [83, с. 175]290.
В этом поглощающем личность мире царит однозначная, неумолимая, не знающая исключений необходимость. В её роковой, заранее предначертанный ход включён и человек. Однако человек обладает разумом и может осознать неотвратимость судьбы; в этом-то и состоит его настоящая свобода, источник невозмутимости и спокойствия. Такова основная мысль этики стоицизма [83, с. 165]. Стоическая мораль, представляющая собой "наиболее развитую и детально разработанную этическую систему греков" [72, с. 225]291, в конечном счёте является программой бездействия, предлагающей эталон не-поступка, лишь подтверждающего наличное положение дел и оставляющего всё как оно есть292. "Надлежащее, по словам стоиков, это такое дело, которое имеет разумное оправдание: например, последование жизни; таков, например, рост растений и животных" (Диог. VII, 107). "Это действие, свойственное устроениям природы" (Диог. VII, 108), то есть такая активность, которая полностью вписана в порядок бывания293. Ещё Клеанф высказал мысль, ставшую известной благодаря Сенеке и Цицерону: "fata volentem ducunt, nolentem trahunt" (послушных судьба ведёт, непослушных тащит). Мудрость, которую превозносили стоики, заключается именно в данном утверждении; эта мудрость, по словам Льва Шестова, "никогда не шла за пределы такой свободы, которая выражается в радостной готовности покориться неизбежному" [271, с. 399].
Исповедуя мораль, основанную на "самостоятельном разуме" [174, с. VII], стоицизм связывает добродетель с пониманием (а следовательно, и принятием) царящей в природе необходимости [83, с. 165]. Так как добродетель совпадает с разумным основанием действий, то она тождественна апатии (απαθεια) состоянию свободы от страстей [83, с. 172]. В этой добродетели прямо отождествляются разум и природа. Жить "по своей природе" и означает стремиться к добродетели, которая достигается таким усовершенствованием человеческого разума, при котором он становится тождественным с разумом природы, с объективным природным законом [245, с. 177]. Стоицизм видит "высший смысл человеческого существования" в жизни, согласованной с природой. "Из жёсткого хода природных событий нельзя вырваться ни при каких обстоятельствах, а поэтому высшая мудрость состоит в том, чтобы полностью, не только физически, но и душевно, идти навстречу природной необходимости" [83, с. 165]294.
Стоическая добродетель носит строго рациональный характер и имеет строго физическое основание. Этика у стоиков, пишет Шопенгауэр, "во что бы то ни стало должна была обосновываться физикой", поскольку "стоики всюду стремились к единству принципа" [276, с. 125], то есть к монизму. "Добродетель есть согласованность предрасположения с природою. Она заслуживает стремления сама по себе, а не из страха, надежды или иных внешних причин. В ней заключается счастье, ибо она устрояет душу так, чтобы вся жизнь стала согласованной" (Диог. VII, 89)295. Удержание мира в состоянии гармонии даже ценой гибели личности такова та добродетель, которой требует "общий закон жизни" [183, с. 63] и к которой стремится стоик. Такая этическая программа (как сказал Ницше, "натурализм в морали" [188, с.575]) неспособна вывести ценности из-под определяющей установки "соответствия природе"; причина этого коренится в господстве натуралистической парадигмы, которая в принципе враждебна всякой аксиологии [278, с. 306].
Поэтому и в стоической морали, основанной на разумном принятии и вольном воспроизводстве наличного, мы встречаемся с вырождением этического в эстетическое. "Совершенное благо, - сообщает Диоген, - они называют прекрасным, потому что оно имеет от природы все необходимые величины, или же совершенную соразмерность" (Диог. VII, 100). Клеанф (Гимн к Зевсу, 20-21) так выражает подчинение этики эстетически созерцаемой диалектике мирового целого:
Столь гармонично сопряг ты добро и зло воедино,
Что у всего возник вечносущий разум единый
[249, с. 256].
Для стоиков, как и для всех античных философов (особенно периода классики) "вечность, красота и постоянство движений небесного свода были идеалом также и для внутренней жизни человеческой личности" [155, с. 117]. Следовательно, для стоического мудреца "звёздное небо надо мной" и "нравственный закон во мне" выражают один и тот же порядок закона-судьбы-природы.
Этика стоиков антиперсоналистична. Категория ценности здесь лишена связи с "субъективным бытием" как интимно-личностным миром человека по причине отсутствия в античной философии в целом самой личностной антропологии [278, с. 306]296. Мораль (как и у Канта) оказывается силой, стоящей над человеческой личностью и подчиняющей её себе. Более того, добродетель (как принцип необходимости) может потребовать в качестве жертвы и самого индивида; но и такую жертву мудрец должен приносить "с радостью" [83, с. 175]. Стоическая этика представляет собой модель поведения в условиях, когда человек уже потерял власть над обстоятельствами своей жизни [83, с. 175]; она указывает, "что делать человеку, когда он ничего не может сделать"297; это указание заключается в том, чтобы "покориться судьбе" [83, с. 176]. Такова античная пантеистическая этика рабства; недаром раб Эпиктет считал себя "крепостным этического" [268, с. 142]. Такая этика, действительно, исключает личную свободу, заменяя её покорностью если и не эмпирическим обстоятельствам, то всё же высшему обстоятельству - судьбе298. Стоическая "праведность" прикрывает собой "бессилие неверия" [268, с. 144]. Это бессилие "пред необходимостью", в которой Эпиктет видел "начало философии" [268, с. 147-148]. "Жить с мыслью о необходимости всего существующего, без надежды видеть другой исход, кроме предопределённого, подчиниться всецело закону природы, - вот что внушал стоицизм своим последователям" [183, с. 83]299.
Смерть, как предопределённый природой исход всякого сущего, вписан в универсальную гармонию, а потому она практически не поддаётся этической квалификации в категориях добра и зла. Всё сущее, как сообщает Диоген Лаэртский, стоики считают либо благом, либо злом, либо ни тем ни другим; блага - это добродетели; зло - это "противоположное" благу; ни то ни другое - "это всё, что не приносит ни пользы, ни вреда", например жизнь или смерть (Диог. VII, 102). Тогда как благо есть безусловная ценность, ибо ему свойственно "содействование согласованной жизни" (то есть гармонии целого), то сама жизнь индивида имеет ценность только тогда, когда она приносит пользу, "содействующую жизни, согласной с природой" (Диог. VII, 105); жизнь (как и здоровье) относится к разряду "относительных благ" [83, с. 170]; таким образом, если жизнь перестаёт быть полезной для всеобщей гармонии, она ничего не стоит.
В мире господствует однообразие; всё совершается по справедливости и разуму; поэтому "самая смерть не есть зло, а необходимый закон природы" [183, с. 50]. Вечность (несотворённость) космического порядка высвобождает человека из-под всякого возможного влияния Творца, делает его самого богом, знающим добро и зло; но этот же порядок как вечная истина лишает человека свободы от данного; автономная истина "превращается в свою противоположность и не животворит, а умерщвляет, не освобождает, а порабощает" [268, с. 182]. Именно здесь человека "подстерегает величайшая опасность", отсюда "грозит ему гибель" [268, с. 182]. Обещая большее (весь мир), такая "истина" даёт меньшее (только этот мир, который в онтологическом смысле меньше личности).
Поскольку смерть вписана в судьбу всего отдельного, постольку мудрец, соглашаясь с разумностью природного устройства, всегда готов признать и даже подтвердить эту роковую неизбежность гибели. Умирая, мудрец "подчиняется общему закону природы" [183, с. 64]. Стоическая этика включает в своё "наставление к блаженной жизни" и рекомендацию к самоубийству - "именно на тот случай, - пишет Шопенгауэр, - когда телесные страдания, не устранимые никаким философствованием, никакими принципами и умозаключениями, одержат победу и окажутся неисцелимыми, и единственная цель человека, благополучие, не будет всё-таки достигнута, и не останется другого средства уйти от страдания, кроме смерти, которую и надо тогда принять спокойно, как всякое другое лекарство" [276, с. 126].
Получив сигнал к отходу из жизни, ставшей препятствием для добродетели, мудрец самостоятельно возвращается в природное единство300. Стоик, не желающий переносить несчастья и терять при этом собственное достоинство, совершает самоубийство, именуемое в стоической этике εξαγωγη выходом из жизни. Смысл εξαγωγη состоит в следующем: если человек станет подвергаться несчастьям и житейским невзгодам, то для сохранения своего достоинства и свободы он может добровольно лишить себя жизни; если встретятся какие-нибудь препятствия, затрудняющие достижение высших целей (например, болезнь, старость), то лучше перестать жить, чем жить недостойно [183, с. 50]: "гордо умереть, если уже более нет возможности гордо жить" [188, с. 611].
Стоики указывали и главные основания вольной смерти. "Уйти из жизни, по их словам, для мудреца вполне разумно и за отечество, и за друга, и от слишком тяжкой боли, или увечья, или неизлечимой болезни" (Диог. VII, 130). Жертва в пользу друзей и отечества - вполне в духе стоического универсализма; положение о том, что часть должна уступать целому, может считаться "естественным" в стоическом смысле [72, с. 222]. Но что касается остальных мотивов, указанных Диогеном, то здесь принцип стоической атараксии как будто нарушен. Хрисипп уточняет: поскольку жизнь и смерть сами по себе безразличны, постольку мудрец может "естественно" предпочесть смерть боли; но интерсубъективные критерии такого предпочтения установить, по-видимому, невозможно, а потому оно представляется крайне произвольным [72, с. 223]. Однако противоречие между индивидуализмом и универсализмом в определении оснований вольной смерти снимается утверждением совпадения частного разума, руководящего волей мудреца, с мировым разумом; при этом любое разумное решение (предпочтение) должно считаться "естественным", то есть выражающим собой требования природного закона301.
Давид Анахт перечисляет шесть причин для такого разумного предпочтения смерти стоическим мудрецом. Во-первых, это недостаток средств к существованию, во-вторых, телесный недуг (болезнь, сильная боль), в-третьих, безвыходная ситуация (например, плен или угроза пытки), в-четвёртых, глубокая старость, в-пятых, принуждение к нечестивому или унизительному действию, в-шестых, "общая беда" (например, явная перспектива взятия города врагами) [85, с. 63-64].
Самоубийство по внушению судьбы не может нарушить гармонию мира-целого. Необходимое (законное) самоубийство божественно, ибо оно вписано в совершенный (божественный) мир; оно служит только выражением этого тотального разумного совершенства. "Стоики утверждают, что для мудреца жить по велениям природы значит вовремя отказаться от жизни, хоть бы он и был в цвете сил; для глупца же естественно цепляться за жизнь, хотя бы он и был несчастлив" [177, 2, с. 24]. Поэтому серьёзных аргументов против самоубийства стоики не находят [183, с. 51]. Более того, разумный взгляд на жизнь заставляет в любом случае стремиться к вольной смерти: тот, кто живёт хорошо или средне, рано или поздно понимает, что так не может продолжаться вечно, а потому "поступает правильно, налагая на себя руки"; тот, кто живёт плохо, имеет ещё больше рациональных оснований для самоубийства [85, с. 64-65].
Итак, разумное познание размещает человека в монистически замкнутом на себя (континуальном) мире, схваченном судьбой как собственной не-обходимой природой (богом, законом, справедливостью). Человеческий разум, тождественный разуму мировому, сообщает индивиду божественное достоинство и невозмутимость, крайняя степень выражения которых состоит в полном согласии с природой как наличным порядком. Поскольку же этот порядок (имманентная, "физическая" программа) с необходимостью включает в себя гибель отдельного (вещи, существа, мира), постольку стоическая этическая норма заключает в себе, в конечном счёте, подчинение человека смерти. Суицид и означает такое подчинение, в котором получает подтверждение не личный деятель, но та безличная природная конечность, которая "действует" в нём. В стоической вольной смерти обнаруживается "предельная пассивность" человека; "под маской деяния здесь фактически происходит заворожённая самоутрата" [39, с. 208]. Самоубийство "мудреца", таким образом, есть следствие экзистенциальной пассивности и онтической бесперспективности индивида, его окончательная деперсонализация.
Сами отцы стоицизма постарались оставить в истории образцы поведения "мудреца". Зенон, сломав палец на ноге, воспринял это происшествие как сигнал к самоубийству и умер, задержав дыхание (Диог. VII, 28)302. Клеанф скончался в результате отказа от пищи303, подобно джайнскому "святому"304. Хрисипп же умер от приступа смеха над собственной остротой305.
II
Упоминание джайнизма в связи со способом самоубийства Клеанфа может считаться случайным лишь отчасти. Джайнская доктрина, выстроенная на тех же монистических (пантеистических) основаниях, что и стоицизм, включает в себя идею допустимости и даже желательности суицида для мудреца. Поэтому будет полезным кратко изложить именно здесь философскую позицию джайнизма в отношении вольной смерти.
Относительный онтологический дуализм джайнизма, выраженный в утверждении наличия двух субстанций ("джива" и "аджива") [81, с. 66; 43, с. 91], снимается в высшем единстве. Универсальная связь сущего устанавливается здесь путём полагания единого порядка бывания (того, что можно было бы обозначить термином "природа" в его античном смысле). "Общим признаком всех индийских систем, - пишет Ф.И. Щербатской, - будет то, что они допускают существование центральной силы, которая управляет жизнью, происходящей не только в этом мире, но и во всех воображаемых мирах"; эта сила именуется кармой [279, с. 256]. Под воздействием указанной силы на души всех ранее живших поколений формируются психические качества индивида [81, с. 68]. При этом в джайнизме карма "материальна" [81, с. 66; 43, с. 93], а нравственный прогресс или регресс объясняется как процесс загрязнения тонко-материальной души грубой материей через поры тела и как операция "закупоривания отверстий" с целью не допустить такого загрязнения [279, с. 69-70]. Иными словами, этика джайнов сугубо натуралистична.
Душа (джива) предстаёт в джайнизме как "вечная" субстанция [81, с. 67], пронизывающая собой весь космос вещей (аджива) и обитающая во всех сущих. Эта душа проявляет себя в индивиде как способность познания, высшим уровнем которого признаётся "кевала" совершенное всезнание, освобождающее мудреца (кевалина) от мира вещей [43, с. 90-91]. Душа мудреца, очищаясь познанием и практикой, способна подняться выше богов. При этом джайны отрицают существование Бога как личного трансцендентного Духа [43, с. 94]; вселенная, по их мнению, не сотворена, а всё, что есть, всегда было и всегда будет [81, с. 69]; джайнская метафизика должна быть охарактеризована поэтому как натуралистический пантеизм (ниришваравада). На базе такой метафизики можно выстроить только индивидуалистическую сотериологию и нигилистическую эсхатологию.
Процесс очищения души от кармы не выводит мудреца из мирового континуитета; оказывается, что катартическая практика способна лишь видоизменить (дематериализовать) карму, но не ликвидировать её совсем. В результате индивид выпадает из одного (низшего) порядка, но попадает в другой (высший). Материальная (субстанциальная) карма (дравья-карма) заменяется "душевной" (бытийной) кармой (бхава-кармой); первая характеризуется в джайнизме как "ачетана" (бессознательная, стихийная), а вторая - "четана" (сознательная) [43, с. 93]. Цель очищения, таким образом, представляется как итог пути (марга) от относительного (случайного для индивидуальной воли) подчинения судьбе к абсолютному подчинению, то есть к совпадению, вольному слиянию с ней (такое слияние именуется "мокша").
Путь к "освобождению" души от низшей кармы включает соблюдение определённых норм, первой из которых является ахимса ненанесение вреда живым существам, а последней (высшей) "полное отречение от земных интересов" [43, с. 94]. Дабы избежать невольного убийства, адепты джайнизма предпринимают поистине героические усилия (процеживание питьевой воды, подметание дороги перед собой и т.п.) [43, с. 95]. Джайны всегда превозносили и культивировали терпеливость и старались аскетически переносить любые страдания; джайнские философы-гимнософисты, пишет Диоген, "презирали даже смерть" (Диог. I, 6)306. Стремившиеся к святости аскеты предавались жестоким постам и беспощадно умерщвляли плоть [43, с. 95]. Невозмутимость ценилась ими не ниже, чем стоиками. Нужно было не желать ни жизни, ни смерти, чтобы в конце концов "перешагнуть через круг рождений" [133, с. 531]. "Самое лучшее учение, - говорил джайн Манданий, - то, которое избавляет душу от радости и печали" [43, с. 86]. Однако, как и стоики, джайны знают о пределе претерпевания страданий, совпадающем с пределом этического возрастания индивида. Отсюда ясно, почему джайнизм, подобно индуизму, допускает "религиозное" самоубийство, но, в отличие от индуизма, считает быстрые способы совершения суицида недостойными [81, с. 75]: самоубийство понимается здесь не как способ облегчения, а как завершающая стадия "пути" к совершенству.
Джайны полагают, что жизнь человека, достигшего совершенства, уже не нуждается в продолжении [43, с. 87], иначе говоря, теряет перспективу. Самоубийство (то есть деяние, формально нарушающее исходный этический принцип ахимсы) естественное для мудреца завершение "земного" существования. Иногда старость или неизлечимая болезнь тоже представляются достаточным основанием самоубийства [43, с. 87; 133, с. 531-532], но, видимо, только для "святых". Религиозное самоубийство разрешено лишь монахам-аскетам; любое другое самоубийство строго осуждается джайнами [133, с. 531] как насильственное прекращение процесса освобождения души от власти дравья-кармы [81, с. 75]. Высшей ступенью аскезы считается "смерть от добровольного голода" [43, с. 95], наступающая в результате двенадцатилетнего "предсмертного поста" [133, с. 525, 531]307. При этом не сама смерть является целью "святого"-кевалина, а умение отказаться от всех потребностей тела и таким образом "искупить все грехи", связанные с "материальной кармой" [81, с. 75]. Среди многочисленных и сочувственных греческих описаний самоубийств джайнов наиболее известно сообщение Мегасфена (которое цитирует и Лукиан [167, с. 147-148]) о самосожжении джайнского мудреца ("гимнософиста") Калана. Последнему исполнилось уже 73 года, но его самоубийство было вызвано не столько сознанием неизбежной старческой немощи, сколько уверенностью в полной реализации религиозно-этического эталона [43, с. 87]. Таким образом, пример джайнизма ещё раз демонстрирует правильность заключения о том, что там, где высшее совершенство полагается достижимым, открывается возможность и даже желательность самоубийства.
Джайны, утверждая высший стандарт мокши как слияния конечного с абсолютным, тем самым полагают этот абсолют в качестве пассивного начала; на эту его пассивность указывает как раз тот факт, что джайны признают право совершенного мудреца на самоубийство, то есть на самовольное и своими силами произведённое слияние индивида с абсолютом. Результатом же такого крайнего проявления активного своеволия оказывается погружение отдельного сущего в это состояние внеличностной (природной) пассивности абсолютного308. Таким образом, джайнская метафизика и основанная на ней практика совместно предстают как образец экзистенциальной установки на деперсонализацию в пользу тотальности наличной и себе тождественной природы.
III
Теперь вернёмся к стоикам. Смерть Хрисиппа от смеха указывает на тот же "логический предел свободы" [13, с. 67], который был достигнут Зеноном и Клеанфом в акте прямого самоубийства. Смех и суицид в греческом мировоззрении оказываются двумя сторонами одного и того же отношения к жизни. "Смеясь, человек разделывается со страхом, а убивая себя, разделывается с надеждой" [13, с. 67]. Мораль героизма, эллинское "величие духа" (μεγαλοφροσυνη) предполагают презрение к страху и надежде [13, с. 65]309. Страх и надежда сигнализируют о неопределённости вот-бытия, о его открытости и перспективности. Утрата надежды и страха означает окончательную определённость сущего его предопределённость-к-смерти.
Символы взаимно связанных смеха и самоубийства, в общем не характерные для греческого "национального темперамента"310, тем не менее, в соответствии с логикой античного мировоззрения, получили статус "духовного ориентира" [13, с. 67-68], имеющего исключительное значение в момент самообожествления человека. Умирающий от смеха человек уподобляется богам; ведь боги, обладающие свободой и от страха, и от надежды, не могут убить себя и потому замещают самоубийство "гомерическим" смехом [13, с. 68]. Так этот неугасимый (ασβεστος) хохот олимпийцев описан Гомером:
Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба,
Видя, как с кубком Гефест по чертогу вокруг суетится
(Илиада I, 599-600).
Гефест, захватив свою жену Афродиту в постели с Аресом, зовёт Зевса и прочих богов:
Дий вседержитель, блаженные, вечные боги, сберитесь
Тяжкообидное, смеха достойное дело увидеть ...
(Одиссея VIII, 306-307).
В двери вступили податели благ, всемогущие боги:
Подняли все они смех несказанный, увидя, какое
Хитрое дело ревнивый Гефест совершить умудрился
(Одиссея VIII, 325-327).
Обсуждая это происшествие, "бессмертные поняли смех несказанный" (Одиссея VIII, 343)311.
Прокл (в своих комментариях на "Государство" Платона) отмечает, что смех (γελως) присущ богам именно в силу их пребывания "над" космосом отдельных вещей, обращающихся от рождения к смерти и постольку "достойных забавы"; эту-то забаву ("промысл") богов "мифотворцы нарекли смехом" [13, с. 68]. Демиургическая деятельность (космогоническая игра) богов неистощима, и смех их поэтому "неугасим" [156, с. 495]. Смех достался роду богов как свидетельство отрешённости от частного и совпадения с целым; смертным достались в удел слёзы. Стоический мудрец, равный богам, отношение к жизни уподобляет игре; жизнь, как и игру, можно прекратить в любой момент [83, с. 171-172]. Плач указывает на ценность отдельного, смех - на ценность только всеобщего, растворяющего в себе всякое частное и превращающего это частное в средство своего утверждения. Человек может достичь божественности, заняв именно такую отрешённую позицию по отношению к индивидуальному бытию, то есть растворив себя в смерти-смехе.
Ирония Сократа, который для стоиков был эталоном отношения к жизни [83, с. 172], отголосок смеха богов; его самоубийственный поступок подобен героическому самоубийству героя-фаталиста [13, с. 69]312. Один из учеников Сократа, Аристипп Киренский, родоначальник философии гедонизма [83, с. 87], учил наслаждаться всем и не связывать себя ни с чем; он превратил философию в искусство непринуждённого смеха. А последователь Аристиппа Гегесий сделал из этой весёлой науки однозначный вывод: если цель жизни свобода от страданий и совершенная несвязанность, то человеку дан лишь один метод достижения этой цели самоубийство313. За этот вывод Гегесий и получил своё прозвище Πεισιθανατος убеждающий умирать [13, с. 69]. Последовательное проведение гедонистического принципа обернулось противоположным (но закономерным) результатом: благо индивида признаётся неосуществимым, жизнеутверждение оборачивается жизнеотрицанием [83, с. 89]. Как наиболее последовательный представитель "чистого гедонизма", Гегесий был убеждён, что жить вообще не стоит, потому что стремление к наслаждению тщетно: либо цель такого стремления оказывается недостижимой, либо достигнутое удовлетворение тотчас порождает новое желание314. Поскольку счастье неосуществимо, постольку сама жизнь для мудрого "безразлична" [224, с. 208]; ценностное отношение к такой жизни неприменимо: "предпочтительны как жизнь, так и смерть (η ζωη και ο θανατος αιρετος)" (Диог. II, 94-95)315. Отсюда следует безразличное, равнодушное отношение ко всему (αδιαφορια). "При невозможности достигнуть настоящего удовольствия следует стараться об избавлении себя от неудовольствий, а для этого вернейшее средство умереть" [224, с. 208]316.
Проповедь смеха, как видим, органично переходит в проповедь самоубийства [13, с. 70]; а в конце стоически-сократического ряда (Хрисипп-Сократ-Аристипп-Гегесий), образованного дискурсом невозмутимости-смеха-смерти, уже предчувствуются имена Эпикура и Лукреция.
Ироническое (насмешливо-игривое) отношение ко всему частному предполагает занятие такой "метапозиции", с которой страшное (например, неизбежная гибель индивида) переосмысляется как смешное. Страшное представляется страшным только в определённой системе ценностей, задающих серьёзное отношение к индивидуальной жизни. "Метапозиция" нивелирует такую систему ценностей и даже более того она ликвидирует всякую аксиологию. Смерть, которая может переживаться как угроза или как жизненная трагедия, с точки зрения универсальной "метапозиции" теряет свой ценностный смысл, а вместе с ним утрачивает и свой трагический характер317. Образ смерти (как, например, у Рабле) тогда лишается всякого трагического и страшного оттенка, когда гибель представляется как необходимый и естественный момент в процессе всеобщего возобновления [30, с. 450]. Смерть оказывается амбивалентной (пугающе-весёлой), ибо она связана с рождением [30, с. 453]; она вызывает не страх, а смех, и сама вызывается смехом.
Однако надо понять, что именно страх метафизически одинокого человека перед лицом извне-изнутри поглощающего его космоса и порождает этот смех. Страх смерти снимается растворением индивида в той общности (роде), к которой он объективно принадлежит [206, с. 42]; выделение человека из коллективной жизни обнаруживает в нём самосознание и при этом ставит его в новые условия, требующие адаптации к макрокосмосу [206, с. 42-44; 169, с. 81-82]. Вселенского ужаса перед безмерными силами природы человек не может выдержать, а потому спасается от него в смех (в конечном счёте в весёлую смерть). "Космический" страх гораздо существеннее и сильнее индивидуально-телесного страха гибели [30, с.371]; потому-то перед лицом такого страха даже самоубийство не вызывает сильного трепета ведь есть куда более существенная причина трепетать. Этот страх выражает бессилие человека [30, с. 371], оказавшегося один на один с природными силами. Смех, таким образом, есть реакция бессильного индивида на страшное на угрожающее ему всеобщее. Смехом вытесняется сама память об этой угрозе частному со стороны универсума, однако угроза при этом не уничтожается. В смехе человек не столько расстаётся со страхом, сколько остаётся при нём. Замещая космическое комическим, иронически сливая себя со стихиями, человек "снижает" саму катастрофичность бытия [30, с. 370-372], не побеждая её, но отдаваясь ей.
Снижение страшного через смех позволяет принимать его не только в отрицающем, уничтожающем значении, но и в положительном, возрождающем; это "страшное" амбивалентно по своей сути оно диалектически отрицает и утверждает одновременно [30, с. 28]. Смерть индивида, достойного лишь божественного смеха, есть низвержение в лоно природы, в её испражняющийся, но и плодотворный "низ". Такова "рождающая и смеющаяся смерть" [30, с. 29], ασβεστος γελως олимпийцев и языческих мудрецов.
Ирония и вольная смерть две способности, отличающие человека от животного и составляющие предельную гарантию человеческого достоинства, как его понимает античность. Самоубийство в случае "надобности" (то есть в том случае, когда обладающий "достоинством" человек не может поступить иначе) становится последним жестом, завершающим собою жизнь "великого душою мужа" [13, с. 70]. В мире, где боги впадают в смех, как в смерть, а герои и мудрецы убивают себя, всякий мудрец-герой может стать богом, убивая себя смехом, растворяя свою индивидуальность в тотальности божественной истерики. В таком мире, обращающемся в самом себе, отсутствует сверх-наличный центр, могущий стать высшей ценностью и целью человеческой деятельности, а потому вся активность оказывается метафизически бесцельной - игрой, иронией, героизмом, невозмутимостью. Вместо заинтересованности конечного в абсолютном здесь господствует абсолютная незаинтересованность в конечном, заставляющая полагать благо в том, чтобы ничего не бояться, но и ни на что не надеяться. Свобода от страха и надежды это этическое выражение того онтического положения дел, при котором сверх-данное (трансцендентное) пусто, а реально дано лишь отсутствие бытийной вертикали. Именно так становится достижимым эталон стоической атараксии [13, с. 71-72]318.
Этот античный эталон "внутреннего мира и спокойствия духа" [276, с. 123], утверждаемый не менее радикальными средствами, обнаруживает себя и в современной (точнее в постсовременной) мысли319. Потеря истинного Абсолюта с необходимостью ведёт к абсолютизации наличного положения дел, диктующего неизбежность слияния конечного с природой. "Но для меня окончательная смерть ознаменовывает какую-то странную победу, - пишет Ж. Батай. - Смерть освещает меня своим слабым мерцанием, она отдаёт меня во власть (! С.А.) непомерно радостного смеха: смеха исчезновения!.." [28, с. 295]. Момент наступления одержимости смертью как смехом Батай описывает так: "Прошло уже пятнадцать лет <...> я возвращался, не помню откуда, поздно в ночи <...> При переходе через улицу Дю Фур я стал внезапно в этом "ничто" неизвестным <...> я отрицал эти стены, что замыкали меня, я бросился вперёд, охваченный каким-то восхищением. Я божественно смеялся <...>. Я смеялся так, как никогда, наверно, не смеялись; глубины всех вещей, обнажившись, открывались мне, будто я уже умер" [цит. по: 213, с. 20-21].
Сартр, сообщающий об этом происшествии, называет смех Батая "откровением" откровением безбожия. "Батай пережил смерть Бога. Причём смерть эту, которую он пережил, выстрадал, превозмог, пережило всё наше время. Бог умер: не следует понимать это так, что Он не существует, даже так, что Он больше не существует. Он умер: Он говорил с нами, теперь молчит, мы можем коснуться только Его трупа (иначе говоря, Бог есть, но Он мёртв. С.А.) <...> Гегель пытался заменить Его системой, система рухнула, Конт - новой религией человечества, позитивизм тоже рухнул. <...> Бог умер, но человек не стал из-за этого атеистом. Безмолвие трансцендентного, сомкнувшись с неизбывной религиозной потребностью человека, составляет ныне, как и прежде, великое дело мысли. Этой проблемой терзаются Ницше, Хайдеггер, Ясперс. Это внутренняя драма нашего автора (то есть Батая. С.А.). По выходе из "долгой христианской набожности" его жизнь "растворилась в смехе"" [213, с. 20].
Мысль Ж. Батая, отправляясь в странствие "на край возможностей человека"320, увлекается моментами потери смысла, наступающими как раз в смерти и в состоянии "безумного смеха" [28, с. 273]. В эти мгновения экстаза человек выходит за границы собственного "я" и "сливается с чем-то более грандиозным, величественным, подлинно сакральным", реализуя "желание существовать сей же час и во всей целостности" [213, с. 32]. Конечный индивид при этом испытывает "провал, разочарованность" - "и тогда раздаётся смех", уничтожающий этого индивида [213, с. 32]. Человек, открывающий для себя "недостаточность всеобщего строения", смеётся над всякой уверенностью в надёжности собственного статуса; однако "смех, достигая пароксизма, повергает нас вдруг в ужас: нет больше покрывала между нами и тёмной ночью нашей недостаточности. Мы не можем быть всем, никто не может быть всем, нет больше нигде бытия" [213, с. 34]. Следовательно, целостность открывается в смехе как ничто личного бытия (существования). Смех является способом "потеряться", раствориться в целом, но "никоим образом не спастись" [213, с. 35]. Целое (ничто личности), не достигаемое через сотериологический "проект", но обнаруженное и экстатически эксплицированное, указывает на знакомую пантеистическую (тотальную) установку: "мы думали, что потеряем себя безвозвратно, а на самом деле реализуем собственную сущность" [213, с. 36]. "Я" человека, "как только ставится вопрос о субстанциальном существовании, оказывается как раз тем, чем оно хотело быть" [27, с. 227]. Увлекая себя к ничто, человек открывает это ничто в себе самом (увлекать никуда и значит никуда не увлекать, оставаться самим собой в своей наличной никуда не увлекаемой сущности).
"Божественный" смех [213, с. 32], который столь же стихийно экстатичен, как оргазм или опьянение [ср.: 28, с. 277-278], имеет с ними общий корень - "предвкушение конечной смерти" [28, с. 272]; поэтому смех и смерть "неразрывно связаны" [28, с. 286]321. Поскольку смеховой "пантеистический экстаз" [213, с. 42] совершается вне всякой системы координат (то есть стихийно, как одержимость)322, постольку для личности он может быть лишь способом самоубийственной аннигиляции.
Такая экстатическая (шизофреническая) [192, с. 182] дезориентация поступка - одна из характеристик человеческой реальности в постмодернизме. Здесь игра заменяет сознательное движение к цели, ирония разрушает метафизику, а ценностная иерархия отрицается в пользу анархии [192, с. 182]. Отказ от принудительной целостности мира и несогласие с объективной неизбежностью наличного порядка ведут постмодерниста не к ре-конструкции экзистенциальной полноты, а к её окончательной де-конструкции. Освобождающий катарсис [222, с. 57, 59] переживается здесь, как и в случае Эмпедокла, на пути погружения в хаотичность. Вместо конструктивной неопределённости теизма постмодернизм исповедует деструктивную неопределённость разъединения и исчезновения. Эта тенденция к дезинтеграции и "беспорядку" [222, с. 55] может быть выражена и как установка на имманентность [192, с. 182-183], которая реализуется через "диффузию" человека в природу и всё большее превращение личности в своё собственное "окружение" [192, с. 183]. Предельная же имманентность есть (как у стоиков) совершенное растворение индивида в наличном.
Деконструкция как главный концепт постмодерна является неизбежным следствием аксиологической и онтологической децентрализации: отрицание трансцендентного "центра" влечёт принятие хаоса и поиск возможных способов "взаимодействия" с ним [192, с. 183]. Децентрированное мировоззрение не может задать должное отношение к фактическому положению дел и потому оставляет человека в состоянии пассивной неопределённости: либо освоить феноменально данный мир и позволить ему освоить себя, либо принять абсурдность (хаотичность) мира как данность и отказаться от всяких попыток освоения. В любом случае такая позиция в конечном счёте ведёт к размыванию "я", к стиранию индивидуальности [192, с. 202] и к экзистенциальной пассивности. В отсутствие "правил игры" человек неизбежно сталкивается с интеллектуальным и моральным хаосом [222, с. 62]. Однако в постмодерне отсутствует негативное отношение "к отчуждению и расщеплению личности", нет сожаления о потере порядка ценностей, в том числе моральных. Аксиологический релятивизм рассматривается как освобождение, как "прелюдия" к новым идентичностям [192, с. 202], к всевозможным перевоплощениям.
Та же "программа" высвобождения природно-хаотического в человеке через смертеподобный смех обнаруживается в чань-буддизме. Чань утверждает онтологический монизм [1, с. 88], ставит задачей индивида в отношении к миру видеть вещи такими, как они суть, в их "таковости" (татхата) и их гармоничности [1, с. 116], культивирует снятие аксиологических оппозиций (высшее-низшее, добро-зло, свобода-несвобода, жизнь-смерть) [1, с. 90, 116, 119-121], рекомендует спонтанное соответствие природе [1, с. 103, 118-120], насаждает ироническое и деструктивное отношение к собственным и вообще любым святыням [1, с. 102]. Все эти установки на несвязанность синтетически выражаются в смехе "просветления", в "безумном хохоте, который сотрясает небо и землю" (Линьцзи-лу, 66) [1, с. 89]. Смех выступает и как стимулятор, и как свидетельство пробуждения "истинной природы" человека [1, с. 93]. Обычно такому пробуждению предшествует долгий период тяжёлой внутренней работы (включающей и "шокотерапию"), который можно сопоставить с рекреационным процессом в архаическом обряде инициации, представляющем собой символическое умирание (погружение в хаос) и новое рождение [1, с. 93-94]. Чань-буддист тоже переживал наступление смерти, когда хаотическое состояние в нём, вызванное "великим сомнением" (да-и), достигало опасного для жизни апогея. За "великой смертью" (да-сы) следовало "великое пробуждение" (да-цзюэ), то есть новая жизнь в слиянии с истинной природой; это "возрождение" закономерно именовалось "великой радостью" (да-лэ), выражавшейся в смехе [1, с. 94]. Чаньский смех, отмечавший собой переход от жизни к жизни через смерть, может быть понят, конечно, и как "отрицание смерти" [1, с. 95], но только в том смысле, что здесь отрицалась смерть вечной природы за счёт отрицания жизни сливающегося с ней человека. Так воспроизводилась архаическая традиция превращения гибели в новое рождение [1, с. 97], и тем самым не разрешалась, но просто устранялась проблема жизни и смерти. Смех, не спасая от действительной гибели, позволял психически компенсировать страх перед смертью [1, с. 97] за счёт редукции личности к сумме природных сил, овладевающих ею в этом смертельном хохоте.
Всё обстоит противоположным образом в мире теистического персонализма. Человеку здесь задано конкретное обладание абсолютной ценностью, требующее сверхчеловеческих усилий. Эта ценность (спасение, обóжение) может быть как навсегда обретена, так и навсегда утрачена; в такой перспективе (либо абсолютное спасение, либо абсолютная гибель) все поступки человека оказываются значимыми и экзистенциально напряжёнными. Ирония, расслабленность, апатия означают отказ от "стяжания" высшей ценности и, следовательно, от перспективности личной жизни323. Совершенной беззаботности античного мудреца, отрицающего заботу о здешнем и не знающего иного предмета заботы, теизм противопоставляет заботу о главном. В этой заботе человек не одинок: если с точки зрения стоика (или киника) потребности единичной человеческой жизни до того ничтожны, что о них не стоит беспокоиться даже человеку (а богу можно лишь смеяться над ними), то в горизонте теизма они до такой степени важны, что ими непосредственно занимается Бог в актах провидения и промысла [13, с. 72-74]. Такая со-направленная активность (синергия) Абсолюта и твари является для последней метафизическим основанием её надежды на то, чтобы не быть поглощённой безличным ритмом природы, такой надежды, для которой в самóй этой природе не находится никаких оснований. Но против стоической максимы, гласящей, что "стремление к невозможному безумно" [13, с. 75], теистическое мировоззрение выдвигает такое положение: "сверх надежды вера с надеждою" (Рим 4:18).
Надежда сверх всякой "объективной" возможности надеяться представляет собой прямую помеху и для атараксии, и для иронически-расслабленной "божественности"; сохраняя перспективу осуществления невозможного, она является главным условием ориентации деятельности на абсолютную ценность. Теистически переживаемый Бог, вопреки закону открывающий Себя в подзаконном (именно открывающий Себя, а не создающий иллюзию Своего присутствия), открывает и для этого подзаконного невозможную возможность стать вне закона, прорваться в сверх-природное. Потерять надежду означает поэтому потерять жизненную перспективу, прервать существование, замкнуть себя в пустоте достойной смеха тотальности. Сохранять надежду значит стоять в бытии так, чтобы свободно присутствовать перед лицом Божиим в страхе перед возможностью не удержаться в этом стоянии. В таком смысле надежда не только связана со страхом, но и есть страх324. Страх и надежда - два разных названия для одного и того же: для заинтересованности; а поскольку абсолютная ценность требует абсолютной (полной) заинтересованности, постольку путь к её "стяжанию" оказывается путём страха и надежды [13, с. 75]325, но не путём смертельной атараксии или убийственного смеха326.
Лекция 9. Фатализм и самоубийство: смерть вне добра и зла
Философия Зенона, Клеанфа и Хрисиппа, как философия согласия с наличным (с судьбой, с природой), в качестве крайнего (наиболее радикального) способа такого согласия указывает на вольно "избираемую" смерть. Поздние стоики тоже призывают покоряться судьбе; но они покоряются ей не с тем гордым и величественным вызовом, который позволял (в случае необходимости) играючи расставаться с жизнью, а с плачем и душевным сокрушением [83, с. 181]. Чувство беспомощности доходит здесь "почти до христианского учения о смирении" [155, с. 117]; правда, на месте смирения оказывается отчаяние. "Здесь было весьма далёкое от христианства, но всё-таки весьма настойчивое и духовно-интимное чувство человеческого ничтожества, доходившее до какой-то жажды искупления, - пишет А.Ф. Лосев. - Это было, несомненно, новшеством в стоицизме, хотя его философская основа в нём оставалась непоколебимой" [155, с. 117].
В то время как ранние стоики однозначно настаивали на праве и даже необходимости вольной смерти мудреца, поздние начали замечать некоторое противоречие в стоической позиции по отношению к такому "философскому" самоубийству. Это противоречие Кант передал так: "стоик считал преимуществом своей личности (мудреца) добровольно, со спокойной душой уйти из жизни (как из полного дыма помещения), не будучи вытесненным ни настоящим злом, ни опасением будущего зла, поскольку он уже ничем не может быть полезным в жизни. - Но именно это мужество, эта душевная стойкость, отсутствие страха смерти и стремление познать нечто, что человек может ценить выше своей жизни, должны были бы служить ему ещё сильнее побудительной причиной к тому, чтобы не разрушать себя, существо со столь большим превосходством сил над могущественнейшими чувственными мотивами, следовательно, не лишать себя жизни" [120, с. 464-465]. Как раз эта проблема ясно обозначена (хотя и не решена) Сенекой, который отличился наибольшей среди поздних стоиков последовательностью и настойчивостью в живописании смерти и самоубийства.
Главная тема поздней стоической философии - это, безусловно, этика (проблемы блага, добродетели, достижения счастья и т.п.). Добродетель "сообразна с природой" (Ep. L, 8) постольку, поскольку опирается на знание, которое само по себе и есть благо (Ep. XXXI, 6). Добродетель и мудрость (обладание знанием), как подлинные и универсальные блага, "неизменны и постоянны", то есть поставлены выше личности: "в уделе смертного только они бессмертны" (Ep. XCVIII, 9). Мудрец, постигший закон природы и достигший "сообразности" с ним, оказывается по ту сторону добра и зла: что бы ни происходило в наличном, всё происходит законно и по справедливости, благом же является только удержание достигнутой позиции знания. "Фортуна" не посылает ни хорошего ни дурного - она только даёт повод действовать "ко благу или ко злу". Душа человека в определённом смысле сильнее случая: она способна и спокойно принять данное как законное и неизбежное (то есть в конце концов как "необходимое благо"), и обернуть его "к худшему", пытаясь оказать сопротивление этому данному. "Душа прямая и чуждая порчи исправляет зловредность фортуны и знанием смягчает с трудом переносимые тяготы" (Ep. XCVIII, 2-3). Рациональное (психологическое) противостояние судьбе выражается, как видим, в добровольном подчинении неизбежному. "Человек добра" всегда "благочестив перед богами", а значит, что бы с ним ни произошло, он перенесёт это спокойно, "ибо знает, что случилось оно по божественному закону, по которому всё совершается в мире" (Ep. LXXVI, 23).
Согласно данному закону, жизнь регулярно и неизбежно переходит в смерть. В природе сущего - обращаться; "вечность состоит из противоположностей" (Ep. CVII, 8). В этом порядке обращения всякая жизнь замкнута, не имеет перспективы. Поэтому некоторые, пишет Сенека, "устав и делать и видеть одно и то же, пресыщаются и чувствуют даже не ненависть, а отвращение к жизни"; человек имеет основание спросить себя: "Доколе всё одно и то же? Снова просыпаться и засыпать, чувствовать голод и утолять его, страдать то от холода, то от зноя? Ничто не кончается, всё следует одно за другим по замкнутому кругу. Ночь настигает день, а день - ночь, лето переходит в осень, за осенью спешит зима, а ей кладёт предел весна. Всё проходит, чтобы вернуться, ничего нового я не делаю, не вижу, - неужто же это не надоест когда-нибудь до тошноты?" Такая жизнь (как повторение) многим "кажется не горькой, а ненужной" (Ep. XXIV, 26).
Смерть, однако, не представляет собой чего-то принципиально иного жизни, поскольку включена в тот же порядок повторения. Есть только одна и единая "данность", имющая "своими неделимыми аспектами жизнь и смерть" [173, с. 358]. "Смерть - это небытие; но оно же было и раньше, и я знаю, каково оно: после меня будет то же, что было до меня", - утверждает Сенека327. Если перспектива "не быть" для живого связана с будущим претерпеванием неудобств и мук, то надо предположить, что небытие "было мучительно и до того, как мы появились на свет"; однако тогда (до нашего рождения) мы никаких мук не чувствовали. "Скажи, - пишет Сенека Луцилию, - разве не глупо думать, будто погашенной светильне хуже, чем до того, как её зажгли? Нас тоже и зажигают, и гасят: в промежутке мы многое чувствуем, а до и после него - глубокая безмятежность". Заблуждение большинства людей состоит в следующем: "мы думаем, будто смерть будет впереди, а она и будет и была. То, что было до нас, - та же смерть". Поэтому всё равно - умереть или вовсе не родиться. "Ведь и тут и там - итог один: небытие" (Ep. LIV, 4-5).
Поэтому переход от жизни к смерти есть переход от одного типа повторения к другому, точнее - возвращение к первоначальному. Кто "помнит, откуда он явился", тот "знает, куда уйдёт" (Ep. CXX, 15). Этот отход совершенно неизбежен (смерть должна повториться, небытие не может не возобновиться), поэтому глупо сопротивляться возвращению в ничто. "Часто мы должны умереть - и не хотим умирать, умираем - и не хотим умирать. Нет такого невежды, кто не знал бы, что в конце концов умереть придётся; но стоит смерти приблизиться, он отлынивает, дрожит и плачет. Разве не счёл бы ты глупцом из глупцов человека, слёзно жалующегося на то, что он ещё не жил тысячу лет назад? Не менее глуп и жалующийся на то, что через тысячу лет уже не будет жить. Ведь это одно и то же: тебя не будет, как не было раньше. Время и до нас, и после нас не наше" (Ep. LXXVII, 10-11). Более того, для человека этот выход в первоначальное состояние всегда открыт: "Тебе нравится жизнь? Живи! Не нравится - можешь вернуться туда, откуда пришёл" (Ep. LXX, 15).
К этому закону обращения всего сущего должен приспособиться индивид, ему он должен следовать и повиноваться; что бы ни случилось, он считает, что иначе быть не могло, и не находит оснований "бранить природу". Самое лучшее - "перетерпеть то, чего ты не можешь исправить, и, не ропща, сопутствовать богу, по чьей воле всё происходит" (Ep. CVII, 9). Нет налога, который мудрец платил бы против воли; а все трудности и удары судьбы - всего лишь неизбежный "налог на жизнь" (Ep. XCVI, 1-2).
Всё в этой жизни, обложенной налогом, "предопределено, а не случайно" (Ep. XCVI, 1). Фатализм неизбежен для мудреца, познавшего неизменный порядок совершающегося в мире. "Какова цепь причин, из которых, как мы говорим, сплетается судьба, такова и цепь желаний: одно родит другое" (Ep. XIX, 6)328. Поэтому богу (олицетворённому фатуму) мудрый не повинуется против воли, а соглашается с ним и следует за ним "от всей души" (Ep. XCVI, 2) и до самой смерти329. Изменить наличный порядок вещей (в том числе и свой жребий) человек не в силах, "зато в силах обрести величье духа, достойное мужа добра, и стойко переносить все превратности случая, не споря с природой" (Ep. CVII, 7). Величие духа и чистота души состоят в стремлении "следовать природе" и не поддаваться влиянию случайного (Ep. XCVIII, 14). Однако борьба со случайным выражается только как подчинение необходимому в тех обстоятельствах, когда принципиально невозможно трансцендировать наличное (в наличном же другого выбора нет, ибо "нет" Бога). Человек, согласившийся с роком, на всё готов и ко всему расположен. Таков "великий дух, вручивший себя богу" (то есть природе). В противоположность этому эталону величия, согласно Сенеке, "ничтожен и лишён благородства" тот, кто сопротивляется необходимому и "плохо думает о порядке вещей в мире" (Ep. CVII, 12).
Этот непреодолимый порядок подчиняет себе человека, навязывая ему автономную этическую программу: способ организации индивидуальной деятельности есть только моральное выражение универсального (природного) строя, не допускающего никакой (ни онтологической, ни этической) гетерономии. "Две вещи, - пишет Сенека, - больше всего укрепляют дух: вера в истину и вера в себя" (Ep. XCIV, 46); у мудреца, самостоятельно познавшего истину, такая вера едина. Эта вера позволяет считать именно себя самого источником блаженства (Ep. CXX, 24; XXXI, 3), делает совершенно ненужными молитвенные обращения к божествам (Ep. XXXI, 5)330. Действительно, "глупо молить о том, чего можно добиться от себя самого", ведь "бог близ тебя, с тобою, в тебе!" (Ep. XLI, 1). Поэтому мудрец "доволен собою, доверяет себе"; он знает, что для блаженной жизни ничего не дают "все молитвы смертных" (Ep. LXXII, 7). Такой человек опирается только на себя (Ep. XCII, 2). Однако тот, кто хочет опираться на себя, не имеет действительной опоры, и его экзистенциальное положение становится до крайности шатким.
Этическая автономия базируется на том знании, которое открывает мудрецу наличное положение дел. "Лишь одно делает душу совершенной: незыблемое знание добра и зла" (Ep. LXXXVIII, 28)331. Действие не будет правильным без правильного намерения, которым такое действие и вызывается. Но намерение, в свою очередь, не будет верным без правильного строя души, которым и порождается намерение. А строй души не будет наилучшим, если она своей разумной способностью не постигнет универсальных законов жизни. "Спокойствие достанется на долю только тем, кто пришёл к незыблемым и твёрдым сужденьям" (Ep. XCV, 57). Такая невозмутимость, сообщаемая знанием, позволяет установить достойные отношения с роком.
Заявлять героическую непокорность судьбе (как чему-то внешнему, чуждому, принуждающему) можно "только познав и себя, и природу" (Ep. LXXII, 6) и обнаружив последнюю в качестве собственной-универсальной сущности (иначе говоря, впустив судьбу в себя, приняв её как "внутреннее"). "Человек добра" таков, что "ум его ясен, прям и согласен с волей природы. Такой ум и зовётся добродетелью или же честностью, он и есть единственное благо человека" (Ep. LXXVI, 15-16; ср.: Ep. LXXVI, 8-9). Опираясь на свой познающий истину разум, "человек добра" всё, что бы с ним ни произошло, перенесёт спокойно, "ибо знает, что случилось оно по божественному закону, по которому всё совершается в мире"; поэтому он всегда готов "повиноваться богам", "не оплакивать свою участь, но терпеливо принимать рок и подчиняться его велениям" (Ep. LXXVI, 23). Душа мудреца "ценит все вещи по их природе" (Ep. LXVI, 6), то есть в их данности (что в принципе противоречит аксиологическому отношению). Только такую "свободу" и может сообщить человеку "мудрость" (Ep. LXXXVIII, 2).
Совершенная добродетель, по Сенеке, есть достижение душой такого знания и искусства самоуправления, которые сделают её "ровней богам" (Ep. XXXI, 8)332. Достигнуть мудрости - значит пребывать среди богов (Ep. XCIII, 8). Равенство богам обеспечивает сама природа. "Она дала тебе всё, чтобы ты стал наравне с богом, если не пренебрежёшь данным" (Ep. XXXI, 9). Ни богатство, ни власть, ни слава, ни красота, ни сила не сделают человека божественным (Ep. XXXI, 10). Мнение, возводящее в сверхчеловеческий эталон силу, власть или красоту, "умирает с каждым покойником и погребено на всех кладбищах" [224, с. 89]. Надо искать нечто такое, над чем не властна телесная смерть. "Что же это? Душа, но душа непреклонная, благородная, высокая. Можно ли назвать её иначе как богом, нашедшим приют в теле человека?" (Ep. XXXI, 11). Итак, знание истины (то есть знание наличного в его сущности) позволяет открыть (пробудить) в себе бога.
Бог у Сенеки представлен чисто пантеистически. "Первая", "общая" и "простая" причина видимого мира - "деятельный разум, то есть бог" (Ep. LXV, 12). Он так же "прост", как "проста" (несводима ни на что другое) материя. Всё сущее в целом "состоит из материи и бога", двух начал, первое из которых пассивно, а второе - активно (Ep. LXV, 23). Такой же структурой наделён и микрокосмос: богу в нём соответствует душа, а материи - тело (Ep. LXV, 24). Открытие мудрецом единосущности индивида и мира обнаруживает перед ним его собственную врождённую божественность. Сенека утверждает: "Есть четыре рода существ: деревья, животные, люди, боги. Последние два обладают разумом, и, значит, они одной природы, а разница между ними та, что боги бессмертны, люди смертны. Благо одних довела до совершенства сама природа, - я имею в виду богов; благо других - то есть людей - совершенствуется их усилиями" (Ep. CXXIV, 14), однако в согласии с той же самой универсальной природой. Как видим, Сенека полагает единосущность (едино-при-родность) людей и богов в единстве их разума: "разум у людей и богов один: в них он совершенен, в нас поддаётся совершенствованию" (Ep. XCII, 27)333.
Мудрец, равный богам, помнит о своём небесном "происхождении" и стремится вернуть себе божественный статус. "Ни для кого не зазорны старания подняться туда, откуда спустился. Какие у тебя причины не верить в божественность того, кто сам есть частица бога? Всё окружающее нас едино, оно и есть бог, мы же - и его соучастники, и члены его тела"; беспорочная душа мудреца способна вознестись в это единство. "Как положение нашего тела - прямое и устремлённое к небу, так и душа наша, которой можно подняться, насколько она хочет, с тем и создана природой, чтобы желать равного с богами" (Ep. XCII, 29-30). В том и состоит мудрость, чтобы "обратиться к природе" и в конце концов "вернуться туда, откуда изгнало нас всеобщее заблужденье" (Ep. XCIV, 68)334. В самообожествлении мудреца совершается встреча временно разошедшихся сторон мирового единства. "Я заслужил быть принятым в их число, - рассуждает мудрец, - и уже был среди них: я послал к ним мою душу, а они мне ниспослали свою" (Ep. XCIII, 10). Итак, душа божественна изначально и неизменно; поэтому её надо не преображать (трансцендировать к идеалу), а только очищать (выявлять имманентное).
В чём же состоит истинное благо изначально божественного мудреца? "В том, чтобы исправить и очистить душу, которая соперничала бы с богами и поднялась выше человеческих пределов, видя всё для себя только в себе самой. Ты - разумное существо! Что же есть твоё благо? Совершенный разум!" (Ep. CXXIV, 23). "Только то подлинно совершенно, - пишет Сенека, - что совершенно в согласии со всеобщей природой, а всеобщая природа разумна" (Ep. CXXIV, 14). Исправленная и очищенная душа, как видим, есть совершенный (всезнающий и в этом божественном всезнании успокоившийся) разум. Такой разум видит "в себе" всё, кроме перспективы: мудрец, живущий "наравне с богами", всегда доволен собою, и никакая надежда "не будоражит" его душу "ожиданием будущего" (Ep. LIX, 14). Достижение божественности, таким образом, оказывается замыканием бытия.
В этом замкнутом (в себе оборачивающемся) бытии смерть и жизнь не исключают друг друга; смерть - только необходимый для универсальной гармонии антитезис к жизни. С момента рождения человек начинает движение к гибели (Ep. IV, 9), умирая "с каждым часом" (Ep. I, 2). Погибают люди не от болезней, а только потому, что живут (Ep. LXXVIII, 6). Последний день жизни - лишь завершение перехода к смерти; сам же переход совершается каждый день (Ep. CXX, 18). Об этом надо всегда помнить, если мы хотим "безмятежно дожидаться последнего часа, страх перед которым лишает нас покоя во все остальные часы" (Ep. IV, 9). Смерть постоянно присутствует в жизни. Всякий живущий - лишь "в двух шагах" от смерти (Ep. XXX, 17). Не только в море (или в какой-либо другой опасной ситуации) "жизнь отделена от смерти тонкою преградой: повсюду грань между ними столь же ничтожна. Не везде смерть так близко видна, но везде она стоит так же близко" (Ep. XLIV, 11).
Самым наглядным свидетельством такого присутствия смерти является тленность нашего тела. "Я удивляюсь нашему безумию, - пишет Сенека, - вспоминая, до чего мы любим тело - самую быстротечную из вещей - и боимся однажды умереть, меж тем как каждый миг - это смерть нашего прежнего состояния. Так не надо тебе бояться, как бы однажды не случилось то, что происходит ежедневно" (Ep. LVIII, 23). Гибель всякого "прежнего состояния" необратима: "Вплоть до вчерашнего дня всё минувшее время погибло, да и нынешний день мы делим со смертью" (Ep. XXIV, 20). Так простое внимание к собственной жизни позволяет различить в ней постоянное присутствие смерти, обесценивающей любую человеческую деятельность и обрывающей всякую перспективу. "Каждый день, каждый час показывает нам, что мы - ничто. Всё новые доказательства напоминают об этом людям, забывшим о своей бренности, и заставляют их от простирающихся на целую вечность замыслов обратиться взглядом к смерти" (Ep. CI, 1). Именно смерть выступает в качестве высшей инстанции, выносящей окончательный приговор о жизненных заслугах человека: "Смерть покажет, чего я достиг, ей я и поверю" (Ep. XXVI, 5). В сравнении с этим последним заключением любое мнение живых представляется недостоверным. "Отбрось людское мнение: оно всегда ненадёжно и двойственно. Отбрось науки, которыми ты занимался всю жизнь. Смерть вынесет тебе приговор" (Ep. XXVI, 6)335.
Присутствие смерти в жизни лишает человека всяких оснований бояться собственной гибели. "Мы боимся не смерти, - утверждает Сенека, - а мыслей о смерти - ведь от самой смерти мы всегда в двух шагах" (Ep. XXX, 17). Смерть считают величайшим злом, "хотя если есть в ней что-то плохое, так только одно: её боятся раньше, чем она приходит" (Ep. CIV, 10). Даже если человек убеждается, что "усопших ничего не ждёт из того, что внушало им ужас", возникает новая боязнь: "ведь одинаково страшно и быть в преисподней, и не быть нигде" (Ep. LXXXII, 17). От такого страха спасает презрение смерти как средство сохранения достоинства. "Презирай смерть! - призывает Сенека. - Кто ушёл от страха смерти, тому ничто не печалит душу" (Ep. LXXVIII, 5). Кто способен "мужественно пойти на смерть наперекор всему, что внушено нам давним убеждением", тот совершает "один из самых славных и великих подвигов человеческого духа" (Ep. LXXXII, 17).
Да и откуда возьмётся страх у того, кто знает, что умрёт? "Поверь мне, Луцилий, - пишет Сенека, - смерть настолько не страшна, что благодаря ей ничто для нас не страшно" (Ep. XXIV, 11). Утешить человека может и то, что именно достойное отношение мудреца к смерти сохранит в памяти потомков его образ. "Ведь и утверждающий, будто душа существует лишь до тех пор, покуда удерживается в оковах плоти, а отделившись, тотчас рассеивается, всё же старается и после смерти быть полезен. <...> Подумай сам, до чего нам полезны добрые примеры, - и ты поймёшь, что память о великих людях не менее благотворна, чем их присутствие" (Ep. CII, 30).
Победа над страхом смерти (конечно, не над самóй смертью) открывает перед человеком возможность вольного перехода к ней. ууоооооооооооо
"Самое жалкое, - утверждает Сенека, - это потерять мужество умереть и не иметь мужества жить" (Ep. LXXVIII, 4). Большинство живущих "так и мечется между страхом смерти и мученьями жизни; жалкие, они и жить не хотят, и умереть не умеют" (Ep. IV, 5). Мудрец должен стараться преодолевать такое состояние. "Только бы перестать бояться смерти! Чтобы этого достичь, надо познать пределы добра и зла - тогда и жизнь не будет нам тягостна, и смерть не страшна" (Ep. LXXVIII, 25). Поэтому, советует Сенека, "чтобы никогда не бояться смерти, всегда думай о ней" (Ep. XXX, 18). Каждый день жизни мудрый должен проводить так, "словно он замыкает строй, завершает число дней нашей жизни" (Ep. XII, 8). Неизвестно, когда, где и при каких обстоятельствах человека ожидает смерть; "так что лучше сам ожидай её везде" (Ep. XXVI, 7). Надо постоянно думать о том, что "смертны и мы, и любимые нами"; все рано или поздно погибнут, ибо "для смерти нет закона" (она сама - закон природы). "Что может случиться всякий день, может случиться и сегодня" (Ep. LXIII, 15). "Ничто так не способствует умеренности во всём, как частые мысли о краткости нашего века и ненадёжности срока. Что бы ты ни делал, не упускай из виду смерть!" (Ep. CXIV, 27)336.
Мудреца, считает Сенека, должны занимать рассуждения не только о том, "как жить", но и о том, "как умирать". "Вот к чему следует направить все мысли" (Ep. XLV, 5). "Всем нам неумолимая неизбежность судеб поставила некий предел, но никто из нас не знает, близко ли он. Настроим же душу так, словно мы дошли до конца; не будем ничего откладывать, чтобы всякий день быть в расчёте с жизнью" (Ep. CI, 7). Кто "приладился" жить в постоянном рассуждении о смерти, кто постоянно ожидает конца и всегда готов к нему, "тот не знает страха" (Ep. CI, 10). Душа такого человека поднимается настолько высоко, что выше неё - "только дух бога, частица которого и излилась в эту смертную грудь. А она никогда не бывает более божественной, чем в то время, когда думает о своей смертности, знает, что человек затем и рождён, чтобы выполнить труд жизни, и что это тело - приют не постоянный, а временный и даже кратковременный, который придётся покинуть, едва хозяин сочтёт тебя тягостным гостем". Поэтому душа мудреца никогда "не боится выйти вон" (Ep. CXX, 14-15), всегда готова принять собственную смерть как неизбежность.
Действительно, смерть у Сенеки представлена как природная необходимость и потому как принудительный факт, который не допускает однозначной аксиологической квалификации. "Для нас, - пишет он, - коль скоро мы родились, нет избавления" (Ep. XXXVII, 2). "Все мы связаны общим уделом: кто родился, тому предстоит умереть. Сроки разные, исход один" (Ep. XCIX, 8-9). "Есть вещи, Луцилий, - замечает Сенека, - от которых ничьей добродетели не уйти: ими природа напоминает о неизбежности смерти"; невольное содрогание у края бездны - одно из таких напоминаний о всеобщем конце (Ep. LVII, 4). С необходимостью глупо не соглашаться или бороться. Лучше "прикажем душе быть спокойной и без жалоб заплатим налог, причитающийся со смертных" (Ep. CVII, 6). Желаемое, таким образом, должно совпасть с наличным. "Кто не хочет умирать, тот не хотел жить. Ибо жизнь дана нам под условием смерти и сама есть лишь путь к ней. Поэтому глупо её бояться: ведь известного мы заранее ждём, а страшимся лишь неведомого.337 Неизбежность же смерти равна для всех и непобедима. Можно ли пенять на свой удел, если он такой же, как у всех? Равенство есть начало справедливости. Значит, незачем защищать от обвинения природу, которая не пожелала, чтобы мы жили не по её закону. А она созданное уничтожает, уничтоженное создаёт вновь" (Ep. XXX, 10-11). Следовательно, и у Сенеки мы снова встречаемся с физическим обоснованием этики.
В смерти, несомненно, заключено "нечто ужасное", поражающее души, охваченные любовью к самим себе; но именно поэтому и надо культивировать в собственной душе постоянную готовность к смерти ("ведь не было бы нужды готовиться к смерти и собирать силы, если бы мы добровольно стремились к ней по безотчётному побуждению, как стремятся к сохранению жизни")338. В смерти как таковой нет ничего плохого - ведь "должен быть некто, кому было бы от неё плохо" (а субъект как раз и исчезает в смерти). "А если в тебе, - пишет Сенека, - так сильно желание жить дольше, то продумай вот о чём: ничто исчезающее с наших глаз не уничтожается - всё скрывается в природе, откуда оно появилось и появится снова. Есть перерыв, гибели нет. И смерть, которую мы со страхом отвергаем, прерывает, а не прекращает жизнь. Опять придёт день, когда мы снова явимся на свет, хоть многие отказались бы возвращаться, если б не забывали всё. А кому предстоит вернуться, тот должен уходить спокойно" (Ep. XXXVI, 8-12)339.
Итак, жизнь и смерть взаимно обратимы в горизонте природного единства. "Всё несётся стремглав и, по велению фортуны, превращается в нечто противоположное, и в таком коловращении человеческих дел нет ничего заранее известного, кроме смерти. И однако все жалуются на то единственное, в чём никто ещё не обманулся" (Ep. XCIX, 9), именуя его злом. Однако "смерть не есть зло. - Ты спросишь, что она такое? - Единственное, в чём род людской равноправен" (Ep. CXXIII, 16). Для мудреца, руководимого разумом, "сама смерть - не добро и не зло", и потому она, как "любая вещь", пусть даже в ней нет ничего прекрасного, "становится прекрасной вкупе с добродетелью" (Ep. LXXXII, 13). Так, "смерть становится честной благодаря тому, что честно само по себе: добродетели и душе, презирающей всё внешнее" (Ep. LXXXII, 14). Итак, "смерть - не зло, но имеет обличье зла". В телесном существе есть "любовь к себе, и врождённая воля к самосохранению, и неприятие уничтоженья"; поэтому и кажется, что смерть лишает многих благ и уводит от привычного. "И вот чем ещё отпугивает нас смерть: здешнее нам известно, а каково то, к чему все перейдут, мы не знаем и страшимся неведомого. И страх перед мраком, в который, как люди верят, погрузит нас смерть, естествен". Так что даже если смерть и принадлежит "к вещам безразличным", пренебречь ею не так просто: "нужно закалять дух долгими упражнениями, чтобы вынести её вид и приход. Презирать смерть больше дóлжно, чем принято: слишком много насчёт неё суеверий, слишком много даровитых людей состязалось, как бы пуще её обесславить" (Ep. LXXXII, 15-16).
Если сама смерть есть фатальная неизбежность, то срок смерти оказывается в распоряжении человека. Хорошо, пишет Сенека, пройти весь путь жизни (то есть выполнить всю норму совершенства) раньше наступления смертного часа, а потом, подведя своеобразный итог жизни, "безмятежно ждать, пока минует остаток дней, ничего для себя не желая, ибо ты достиг блаженства и жизнь твоя не станет блаженнее, если продлится ещё" (Ep. XXXII, 3). "Довольно ли мы прожили, определяют не дни, не годы, а наши души"; тот, кто "прожил, сколько нужно", ждёт смерти "сытый" (Ep. LXI, 4). Эта насыщенность жизнью лишает человека всяких оснований продолжать существование. "Жизнь - как пьеса: не то важно, длинна ли она, а то, хорошо ли сыграна. К делу не относится, тут ли ты оборвёшь её или там. Где хочешь, там и оборви - только бы развязка была хороша!" (Ep. LXXVII, 20)340. Именно этого Сенека и желает Луциллию: "А я желаю тебе распоряжаться самим собой, чтобы твой дух, волнуемый смутными мыслями, противился им, обрёл уверенность и довольство собою, чтобы, поняв, в чём истинное благо (а понять - значит овладеть им), он не нуждался в продлении жизни. Только тот поистине уволен со службы и свободен, тот ушёл из-под власти необходимости, кто живёт, завершив путь жизни" (Ep. XXXII, 5).
Так Сенека подходит к мысли о сроке смерти как смерти вóвремя. К слову, Ницше устами своего Заратустры вполне в стоическом духе решает вопрос о сроке "свободной" смерти: "Умри вовремя - так учит Заратустра" [189, с. 51]. "Своею смертью умирает совершивший свой путь, умирает победоносно, окружённый теми, кто надеются и дают священный обет" [189, с. 51]. "Иные, - пишет Ницше, - становятся для своих истин и побед слишком стары; беззубый рот не имеет уже права на все истины. И каждый желающий славы должен уметь вовремя проститься с почестью и знать трудное искусство - уйти вовремя" [189, с. 52]. Смерть должна стать свидетельством достижения предела совершенства, а не признаком упадка и деградации. "В вашей смерти должны ещё гореть ваш дух и ваша добродетель, как вечерняя заря горит на земле, - или смерть плохо удалась вам" [189, с. 53]. Однако "умереть вовремя" означает лишь то, что я подчинился смерти, которая расположена во временности, я подчинил себя времени, я окончательно встроил себя во временное. Моя смерть, подчинённая времени, перестала быть возможной. Утрата возможности смерти обрывает существование, ибо возможность никогда не расположена во времени. Смерть вовремя есть, таким образом, окончательная объективация личности.
Отношение к смерти для стоика должно быть таким же, как и отношение к жизни, а именно - ранодушным и невозмутимым отношением фаталиста к неизбежному. Жизнь не имеет цели для себя вне наличного; "ведь у нас нет другой цели, как только жить в согласии с природой" (Ep. V, 4). Поскольку жизнь сама по себе - не благо и не зло, а лишь "вместилище блага и зла" (Ep. XCIX, 12), постольку человеку надо избавляться и от чрезмерной любви к жизни и от чрезмерной ненависти к ней (Ep. XXIV, 24). Жизнь даётся не по воле живущего, но мудрец знает, что "неизбежное нужно принимать равнодушно" (Ep. XCIX, 22). Разумные люди считают время своей жизни "сроком службы", а разумность их проявляется именно в том, "что жизнь они принимают без любви и без ненависти и терпеливо несут смертную долю" (Ep. LXV, 18). Поэтому всякий мудрец как своей смерти не боится, так и о смерти близких не горюет (Ep. LXXIV, 30), а при определённых обстоятельствах умеет "равнодушно расстаться с жизнью" (Ep. IV, 5).
Это равнодушие могло бы быть нарушено угрозой посмертного воздаяния. Однако (о чём уже упоминалось) посмертное состояние индивида представляется Сенеке не вполне определённым. "Так мне и не узнать, откуда я вышел? Однажды ли я должен всё это видеть, или мне предстоит рождаться много раз? Куда я отправлюсь отсюда? Какое жилище ждёт душу, избавившуюся от рабского человеческого состояния?" (Ep. LXV, 20). Вот этой неопределённостью и "отпугивает" смерть: "здешнее нам известно, а каково то, к чему все перейдут, мы не знаем и страшимся неведомого (Ep. LXXXII, 15). С одной стороны, божественная душа имеет основания рассчитывать на сохранение после смерти. Если душа переживает тело, "то никоим образом погибнуть не может", ибо "тому, что вечно, невозможно повредить" (Ep. LVII, 9). Всю жизнь "мы зреем для нового рождения. Нас ждёт новое появленье на свет и новый порядок вещей" (Ep. CII, 23). Природа вечна, душа - часть природы, поэтому душа субстанциально вечна. Человеческие души, если они сохраняются после отделения от тел, "ожидает удел более счастливый, чем был в пору пребыванья их в теле" (LXXVI, 25). Ведь "согласно природе наш дух должен стремиться в бескрайнюю ширь" (Ep. CII, 21), то есть сливаться с мировой душой (богом). "Тот день, которого ты боишься как последнего, будет днём рождения к вечной жизни" (Ep. CII, 26).
С другой стороны, Сенека называет идею бессмертия души "красивым сновиденьем" (Ep. CII, 2). Однако отсутствие бессмертия также имеет свои преимущества. Погибший ничего плохого уже не чувствует (а если чувствует, то он ещё не погиб). "Ничто не задевает того, кто стал ничем; а если задевает, значит, он жив" (Ep. XCIX, 29). "Допустим, - рассуждает мудрец, - что я исчезаю совершенно, что от человека ничего не остаётся; моё мужество не меньше, даже если я ухожу в никуда" (Ep. XCIII, 10). По большому счёту, конкретный результат умирания не так уж важен. "Что такое смерть? Либо конец, либо переселенье. Я не боюсь перестать быть - ведь это всё равно, что не быть совсем; я не боюсь переселяться - ведь нигде не буду я в такой тесноте" (Ep. LXV, 24), как в этом наихудшем из миров. "Смерть, - пишет Сенека, повторяя Сократа (ср.: Апология 40), - или уничтожает нас, или выпускает на волю. У отпущенных, когда снято с них бремя, остаётся лучшее, у уничтоженных не остаётся ничего, ни хорошего, ни плохого - всё отнято" (Ep. XXIV, 18). Самоубийца, таким образом, "покидает жизнь либо для лучшей доли - светлого и спокойного пребывания среди богов, либо уж наверняка чтобы не чувствовать ничего неприятного, смесившись со всей природой и вернувшись в её целокупность" (Ep. LXXI, 16). В обоих случаях посмертное состояние индивида является естественным и потому необходимым, обусловленным не его личными "заслугами", но распоряжением рока.
Природа (рок) "требует немногого, а мудрец сообразуется с природой. Если же у него и необходимого не останется, он уйдёт из жизни и не будет самому себе в тягость" (Ep. XVII, 9). Сенека приводит слова Эпикура, которые он считает истиной: "Malum est in necessitate vivere; sed in necessitate vivere necessitas nulla est" (жить в нужде плохо, но только нет нужды жить в нужде). А почему возможно не жить в нужде? "Потому что к свободе повсюду открыты дороги, короткие и лёгкие. Поблагодарим бога за то, что никто не может навязать нам жизнь и мы в силах (смертью. - С.А.) посрамить нужду" (Ep. XII, 10-11). Жизнь не бывает несовершенной, если прожита честно. Где бы её ни прервать, она уже вся позади, "лишь бы хорошо её прервать". А прерывать её часто приходится "и не по столь уж важным причинам, так как и то, что нас держит, не так уж важно" (Ep. LXXVII, 4).
Сенека указывает на некоторые причины прерывания жизни. Стоик, "запутавшись в делах", никогда не станет "терпеть до конца" все неудобства, с ними связанные. "Едва увидев, как тяжко, сомнительно и ненадёжно всё то, в чём он погряз, он отступит и, не бросаясь в бегство, незаметно отойдёт в безопасное место" (Ep. XXII, 8). Такой отход "в безопасное место" совершил, например, Катон Утический, покончив с собой (см.: Ep. XXIV, 6-8). Мудрец либо победит беды, либо (если это не удалось) положит им конец (Ep. XXIX, 12). "Выслушай же мой тебе приговор: выбирай, уйти ли тебе от такой жизни или вообще из жизни. Но притом, я полагаю, идти надо не спеша и то, что ты на горе себе запутал, - распутать, а не разорвать, и только, если уж ничего нельзя будет распутать, тогда всё оборвать. Даже самый робкий предпочёл бы один раз упасть, нежели всё время висеть" (Ep. XXII, 3).
Наряду с внешними неудачами причиной самоубийства могут стать и внутренние недостатки (несовершенства) человека. Если нельзя избавиться от пороков, которые "терзают сердце", то их надо вырвать вместе с ним (Ep. LI, 13). Причиной самоубийства бывает и одиночество. Мудрец, "хоть ни в ком не нуждается, не станет жить, если придётся жить, не видя ни единого человека. К дружбе влечёт его не собственная польза, а естественная тяга" (Ep. IX, 17). Для мудреца дополнительным стимулом к самоубийству является то, что многие простые люди отказываются продолжать жизнь по самым "ничтожным" причинам. "Один повесился перед дверью любовницы, другой бросился с крыши, чтобы не слышать больше, как бушует хозяин, третий, пустившись в бега, вонзил себе клинок в живот, только чтобы его не вернули. Так неужели, по-твоему, добродетели не под силу то, что делает чрезмерный страх?" (Ep. IV, 4)341.
"Итак, - заключает Сенека, - нам надо вынести решение, следует ли, гнушаясь последними годами старости, не дожидаться конца, а положить его собственной рукой. Тот, кто в бездействии ждёт судьбы, мало чем отличается от боязливого <...>. Ведь всё дело в том, чтó продлевать - жизнь или смерть. Но если тело не годится для своей службы, то почему бы не вывести на волю измученную душу? И может быть, это следует сделать немного раньше должного, чтобы в должный срок не оказаться бессильным это сделать. И поскольку жалкая жизнь куда страшнее скорой смерти, глуп тот, кто не отказывается от короткой отсрочки, чтобы этой ценой откупиться от большой опасности". Не так уж страшно "потерять кусочек жизни", которая и без того всё равно кончится (Ep. LVIII, 32-34). Мудрец не оставит тела даже при наступлении старости, если она сохранит "в целости" его "лучшую часть" - разум; но если она "поколеблет ум", неуклонно отнимая его по частям, то стоик будет готов выброситься "из трухлявого, готового рухнуть строения". "Я, - пишет Сенека, - не стану бежать в смерть от болезни, лишь бы она была излечима и не затрагивала души; я не наложу на себя руки от боли, ведь умереть так - значит сдаться. Но если я буду знать, что придётся терпеть её постоянно, я уйду, не из-за самой боли, а из-за того, что она будет мешать всему, ради чего мы живём. Слаб и труслив тот, кто умирает из-за боли; глуп тот, кто живёт из страха боли" (Ep. LVIII, 35-36).
Тема претерпевания боли заставляет обратить внимание на восприятие телесности в позднем стоицизме. С одной стороны, благосостояние тела занимает важное место среди практических ориентиров мудреца. "Телесные блага сами телесны, а значит, и душевные блага тоже, потому что и душа есть тело. Благо человека не может не быть телом, потому что он сам телесен" (Ep. CVI, 4). Страсти и добродетели тоже телесны, ибо "что повелевает телом, то и само есть тело, что даёт человеку силы, то тоже тело. Благо человека есть и благо его тела; значит, оно телесно" (Ep. CVI, 9-10). Поэтому собственное тело нужно беречь, но, с другой стороны, не нужно "рабски ему служить". Чрезмерная любовь к нему "тревожит нас страхами, обременяет заботами, обрекает на позор. Кому слишком дорого тело, тому честность недорога. Нет запрета усердно о нём заботиться, но когда потребует разум, достоинство, верность, - надо ввергнуть его в огонь" (Ep. XIV, 1-2). В тех случаях, когда тело препятствует совершенству мудреца, оно не стоит никакой заботы. "Эта плоть, - заявляет Сенека, - никогда не принудит меня страшиться, не принудит к притворству, недостойному человека добра, или ко лжи во славу этого ничтожного тела. Я расторгну союз с ним, как только мне заблагорассудится" (Ep. LXV, 22).
Поднявшись на божественную высоту, душа мудреца заботится о плоти только как о неизбежном грузе, но не любит её и не подчиняется ей, будучи "поставлена" выше собственного тела. "Не бывает свободным раб своей плоти" (Ep. XCII, 33). Поэтому, рекомендует Сенека, "в чём можешь, притесняй тело и освобождай место для духа" (Ep. XV, 2); ведь "презрение к собственному телу наверняка даёт свободу" (Ep. LXV, 22). "Я не так мал и не ради такой малости рождён, - пишет Сенека, - чтобы быть только рабом своему телу, - на него я гляжу не иначе как на цепь, сковавшую мою свободу. Его подставляю я судьбе, чтобы не шла дальше, и не позволяю её ударам, пройдя через него, ранить и меня. Если что во мне и может потерпеть ущерб, так только тело; но в этом открытом для опасностей жилище обитает свободный дух" (Ep. LXV, 21).
Когда наступит "последний день", разделяющий божественное и человеческое, "перемешанные" в мудреце, душа оставит это тело "там, где нашла его", а сама вернётся "к богам" (Ep. CII, 22). "Так не страшись, прозревая впереди этот решительный час: он последний не для души, а для тела. Сколько ни есть вокруг вещей, ты должен видеть в них поклажу на постоялом дворе, где ты задержался мимоездом" (Ep. CII, 24). Философствующая душа уже при жизни покидает скрывающее её тело, несмотря на то, что её удерживает "тяжкая земная темница" (Ep. CII, 22). Для философа "уже не внове" отделять себя от того, "частью" чего он был; поэтому он способен "равнодушно расставаться с ненужными уже членами и сбрасывать это давно обжитое тело". Это тело "рассекут, закопают, уничтожат. А ты чего печалишься? Это дело обычное!" Надо только радоваться тому, что "придёт день, который сдёрнет покровы и выведет тебя на свет из мерзкой зловонной утробы" (Ep. CII, 26-27), то есть позволит наконец родиться в смерть.
Это "рождение", предполагает Сенека, может совершиться и собственными силами человека. "Из своей плоти, - пишет он, - душа либо выходит спокойно, либо отважно спешит прочь и не спрашивает, что случится потом с останками. Как мы пренебрегаем остриженными волосами и бородой, так и божественная душа, собираясь покинуть человека, не заботится, куда перенесено будет её прежнее вместилище; спалит ли его огонь, покроет ли земля, растерзают ли звери, - всё это, на её взгляд, имеет к ней так же мало касательства, как послед - к новорожденному" (Ep. XCII, 34). Природа "сама заботится, чтобы никто не лишался погребенья" (Ep. XCII, 35). Итак, вольная смерть может быть представлена в качестве освобождения души.
Кто размышляет о смерти, тот размышляет о свободе: "И теперь взлети отсюда, насколько можешь; привязывайся к самым дорогим и близким не больше, чем чужой человек; уже здесь помышляй о более высоком и величавом" (Ep. CII, 28). Кто научился смерти, "тот разучился быть рабом"; такой человек выше всякой власти и вне всякой власти (то есть он автономен). "Что ему тюрьма, и стража, и затворы? Выход ему всегда открыт!342 Есть лишь одна цепь, которая держит нас на привязи, - любовь к жизни. Не нужно стремиться от этого чувства избавиться, но убавить его силу нужно: тогда, если обстоятельства потребуют, нас ничего не удержит и не помешает нашей готовности немедля сделать то, что когда-нибудь всё равно придётся сделать" (Ep. XXVI, 10). "Повелевать собою - вот право величайшего из повелителей" (Ep. CXIII, 30); поэтому "пока смерть подвластна нам, мы никому не подвластны" (Ep. XCI, 21).
Свобода означает для человека возможность "не быть рабом ни у обстоятельств, ни у случая; низвести фортуну на одну ступень с собою; а она, едва я пойму, что могу больше неё, окажется бессильна надо мною. Мне ли нести её ярмо, если смерть - в моих руках?" (Ep. LI, 9). Как можно стать свободным, если для человека "нет избавления" от смерти? "Избежать неизбежного нельзя - его можно только победить" (Ep. XXXVII, 3), то есть согласиться с ним, не сопротивляться ему; это победа в стиле даосов. Сенека прямо говорит, что освобождение через самоубийство есть опережающее и вольное (внутреннее) подчинение внешней необходимости: "Воздавай хвалы и подражай тому, кому не тяжко умереть, хоть жизнь его и приятна. А велика ли доблесть уйти, когда тебя выбрасывают за дверь? Впрочем, и тут есть доблесть: если ты будешь выброшен так, будто сам уходишь. Поэтому мудрого выбросить за дверь невозможно: ведь выбросить - значит прогнать оттуда, откуда уходишь против воли. А мудрый ничего не делает против воли и уходит из-под власти необходимости, добровольно исполняя то, к чему она принуждает" (Ep. LIV, 7). Возможность самоубийства, таким образом, представляется как гарантия свободы от эмпирических обстоятельств; победить же тотальную необходимость можно только путём слияния (сущностного отождествления) с нею.
Нельзя достичь общего суждения о том, надо ли при угрозе смерти "спешить навстречу или дожидаться"; но сравнить виды грозящей человеку смерти и выбрать из них самый достойный способ мудрец всегда в силах. "Если одна смерть под пыткой, а другая - простая и лёгкая, то почему бы за неё не ухватиться? Я тщательно выберу корабль, собираясь отплыть, или дом, собираясь в нём поселиться, - и так же я выберу род смерти, собираясь уйти из жизни". Мудрец уверен, что "жизнь не всегда тем лучше, чем дольше, но смерть всегда чем дольше, тем хуже". Поэтому он ни в чём так не угождает душе, как в смерти: "пускай, куда её тянет, там и выходит; выберет ли она меч, или петлю, или питьё, закупоривающее жилы, - пусть порвёт цепи рабства, как захочет. Пока живёшь, думай об одобрении других; когда умираешь, - только о себе. Что тебе по душе, то и лучше". Не имеет смысла заранее полагать, что самоубийцу могут обвинить в отсутствии мужества, в испуге перед жизнью или в неблаговидности избранного способа смерти. "Неужели тебе невдомёк, - спрашивает Сенека, - что тот замысел в твоих руках, к которому молва не имеет касательства? Смотри на одно: как бы побыстрее вырваться из-под власти фортуны, - а не то найдутся такие, что осудят твой поступок". Есть такие "мудрецы по ремеслу", которые утверждают, что "нельзя творить насилие над собственной жизнью", и потому считают самоубийство нечестием: "дóлжно, мол, ожидать конца, назначенного природой" (имеются в виду академики и перипатетики [см.: 217, с. 442]). "Кто так говорит, тот не видит, что сам себе преграждает путь к свободе". Поэтому мудрец может сказать: "Мне ли ждать жестокости недуга или человека, когда я могу выйти из круга муки, отбросить все бедствия? В одном мы не вправе жаловаться на жизнь: она никого не держит". Такому человеку "ланцет открывает путь к великой свободе", так же как и "ценою укола покупается безмятежность" (Ep. LXX, 11-16). "Для решившегося умереть нет иной причины к промедленью, кроме собственной воли" (Ep. LXX, 21).
Так неужели, спрашивает Сенека, мудрый будет "думать о том, что живому фортуна всё может сделать, а не о том, что с умеющим умереть ей ничего не сделать?" (Ep. LXX, 7). Смерти никому не избежать, ибо она - "непреложный закон" (Ep. XCIV, 7); сколько бы человек ни настаивал на своём нежелании следовать за прежде умершими, всё равно его "поведут" за ними насильно. "Так возьми в свои руки то, что сейчас в чужой власти!", - восклицает Сенека. Жизнь, которую человек не имеет "мужества" оборвать, - "это рабство" (Ep. LXXVII, 15). Мудрец же обладает "полной свободой", которая заключается в том, "чтобы не бояться ни людей, ни богов; чтобы не желать ни постыдного, ни лишнего; чтобы стать полновластным повелителем самого себя. А принадлежать самому себе - неоценимое благо" (Ep. LXXV, 18). Поэтому мудрец, "когда ему угодно, положит конец и слезам, и наслаждениям" (Ep. CXVI, 4). Он способен "не ждать последнего и неизбежного предела жизни, а бежать из неё по собственному решению". По-моему, - пишет Сенека, - самое постыдное - это звать к себе смерть. Если ты хочешь жить, зачем звать её? а если не хочешь, зачем просить у богов того, что дано тебе от рождения? Ведь установлено, что когда-нибудь ты умрёшь и против воли; добровольная смерть - в твоих руках. Одно для тебя неизбежно, другое дозволено" (Ep. CXVII, 21-22). К такому вольному "освобождению" от жизни и призывает Сенека: "Уходи, когда заблагорассудится! Выбери любую часть природы и прикажи ей открыть перед тобою выход" (Ep. CXVII, 23). "Велики духом" люди, "знающие, что не заперт тот, для кого открыт путь смерти, и умирающие неразлучно со свободою" (Ep. LXVI, 13). Стоик всегда помнит, что "за человеком сохраняется спасительная возможность самоубийства" [173, с. 353]. "Это и есть мудрость" (Ep. CXVII, 25).
И всё же, несмотря на декларативную связь самоубийства со свободой, Сенека не может избавиться от фатализма в своём взгляде на вольную смерть. Суицид оказывается выражением желания неизбежного, демонстрацией согласия с необходимостью; ведь "умереть - это одна из налагаемых жизнью обязанностей" (Ep. LXXVII, 19). Мудрец может попытаться обмануть необходимость (хотя на самом деле, конечно, он обманывает только себя). "Пока не пришла старость, я заботился о том, чтобы хорошо жить, в старости - чтобы хорошо умереть; а хорошо умереть - значит умереть с охотой. Старайся ничего не делать против воли! Всё предстоящее предстоит по необходимости тому, кто сопротивляется; в ком есть охота, для того необходимости нет. Я утверждаю: кто добровольно исполняет повеленье, тот избавлен от горчайшего в рабской доле: делать, чего не хочется. Несчастен не тот, кто делает по приказу, а тот, кто делает против воли. Научим же нашу душу хотеть того, чего требуют обстоятельства; и прежде всего будем без печали думать о своей кончине" (Ep. LXI, 2-3). Таков предлагаемый способ достижения свободы.
Эта "свобода" (как и у ранних стоиков) оказывается в конце концов самым радикальным способом подчинения наличному. "Если хочешь меня послушаться, - пишет Сенека, - думай об одном, готовься к одному: встретить смерть, а если подскажут обстоятельства, и приблизить её. Ведь нет никакой разницы, она ли к нам придёт, мы ли к ней. Внуши себе, что лжёт общий голос невежд, утверждающих, будто "самое лучшее - умереть своей смертью". Чужой смертью никто не умирает. И подумай ещё вот о чём: никто не умирает не в свой срок. Своего времени ты не потеряешь: ведь то, что ты оставляешь после себя, то не твоё" (Ep. LXIX, 6). Лучшее из того, что "устроено" вечным законом, - "то, что он дал нам один путь в жизнь, но множество - прочь из жизни" (Ep. LXX, 14). "Великий дух послушен божеству и не медлит претерпеть то, что велит закон вселенной" (Ep. LXXI, 16). Поэтому надо "мужественно встречать всё, что приказывает нам мировая неизбежность (mundi necessitas)" (Ep. XCIV, 7). "Молю тебя, - призывает Сенека, - рассуди по справедливости: ты ли должен подчиниться природе, или природа тебе?343 Какая разница, скоро или нескоро уйдёшь ты оттуда, откуда всё равно придётся уйти? Заботиться нужно не о том, чтобы жить долго, а о том, чтобы прожить довольно. Будешь ли ты жить долго, зависит от рока, будешь ли вдосталь, - от твоей души. Полная жизнь всегда долгая, а полна она, если душа сама для себя становится благом и сама получает власть над собою" (Ep. XCIII, 2).
Для мудреца, достигшего такой высоты жизни, нет вопроса, "до каких пор нам жить?": тотальное знание есть обнаружение предела существования. "Мы, - пишет Сенека, - насладились знанием всего и вся. Мы знаем, от какого начала поднимается природа, как она устраивает вселенную, как всё по тем же кругам возвращает год, как замыкает всё, что было прежде, и сама себе становится пределом" (Ep. XCIII, 9). Это универсальное знание, в каком бы многообразии оно ни заключалось, для человека значимо только тем одним своим положением, которое обращено прямо и непосредственно к нему самому: "жизнь в силу тяготеющего над ней приговора несёт в себе смерть" [173, с. 358]344. Знание всего оказывается (как и в случае Эмпедокла) методом поглощения микрокосмоса макрокосмосом; мудрецу остаётся только "отправиться" в природу, "чтобы всё увидеть вблизи" (Ep. XCIII, 9).
Итак, онтологическая свобода здесь потеряна, и в распоряжении человека остаётся лишь психологическая "свобода" согласия с наличным, способность "применяться к условиям существования" [268, с. 33]. Руководителем в этой смертельной адаптации к наличному выступает разум. Только то самоубийство достойно благородного человека, считает Сенека, которое совершается по внушению разума. Лишь разум властен выносить окончательный приговор о прекращении или продолжении жизни (Ep. CXXIV, 4)345. Закалённый против всяческих бедствий долгими раздумьями, наставленный "всеобщим учителем - разумом", мудрец знает, что рок обнаруживает себя по-разному, но в конце концов выносит единый приговор. Этот-то разум и учит, чтобы человек умирал, как ему нравится, если это возможно; если же такой возможности не предоставляется, то разум всегда подскажет, как "учинить над собой расправу", схватившись за первое попавшееся средство (Ep. LXX, 27-28). "Если хочешь взять власть над всем, - советует Сенека, - отдай власть над собою разуму! Многим будешь ты повелевать, если разум будет повелевать тобою" (Ep. XXXVII, 4). И прежде всего разум, сущностно соединяющий мудреца с природой (богом), отдаёт ему его самого (как отдельное существо) в полное и окончательное распоряжение.
Однако такое радикальное распоряжение собой, согласно Сенеке, никогда не должно быть поспешным и чрезмерно эмоциональным. "Даже когда разум убеждает нас, что пора кончать, нельзя поступать необдуманно и мчаться очертя голову. Мудрый и мужественный должен не убегать из жизни, а уходить. И прежде всего нужно избегать той страсти, которой охвачены столь многие, - сладострастной жажды смерти" (Ep. XXIV, 25). Бывает, что некоторые "зовут смерть с бóльшим пылом, чем обычно молят о продлении жизни". Однако не они должны быть признаны образцами для подражания, ибо такими искателями гибели движут "смятение чувств и внезапное негодование". Лишь тот, кто ждёт смерти "весело и спокойно", опираясь на "непреложное суждение" разума, достоин быть эталоном мужества. "Иногда человека гонит к смерти гнев; но весело встретит её приход только тот, кто готовился к ней задолго" (Ep. XXX, 12). Мудрец идёт к смерти без ненависти к жизни, он "принимает, а не призывает кончину" (Ep. XXX, 15), сохраняя невозмутимость как согласие со всем данным346.
Имея в виду это радикальное согласие (фатализм), Сенека часто представляет самоубийство как самый верный способ достойного завершения жизни. "Если что мешает тебе жить хорошо, то хорошо умереть не мешает ничто" (Ep. XVII, 5). Например, Сципион, потерпев поражение, "пронзил себя мечом"; этот поступок сравнял его с предками и не дал прекратиться славе Сципионов: "Немалый подвиг - победить Карфаген, но ещё больший - победить смерть" (Ep. XXIV, 9-10)347. Однако здесь, наоборот, смерть победила Сципиона. Но Сенека придерживается противоположного мнения: "Цикута окончательно сделала Сократа великим348. Вырви у Катона меч, отстоявший его свободу, - и ты отнимешь у него немалую часть славы" (Ep. XIII, 14)349. Катон, Сократ, "Зенон с Клеанфом" призываются Сенекой в качестве свидетелей его правоты. "Ведь я перед ними преклоняюсь, их великие имена возвышают и меня самого" (Ep. LXIV, 10). Поэтому, "если тебе по душе греки - побудь с Сократом, с Зеноном. Один научит тебя умереть, когда это необходимо, другой - раньше, чем будет необходимо" (Ep. CIV, 21)350.
Благо, утверждает Сенека, состоит не в том, чтобы жизнь была долгой, а в том, чтобы ею достойно распорядиться (Ep. XLIX, 10). За жизнь "не всегда нужно держаться: ведь благо - не сама жизнь, а жизнь достойная". Так что мудрый "живёт не сколько должен, а сколько может". Он озабочен тем, как жить, а не сколько прожить. "А если встретится ему много отнимающих покой тягот, он отпускает себя на волю, и не в последней крайности: чуть только фортуна становится подозрительной, он внимательно озирается - не сегодня ли надо всё прекратить. На его взгляд, нет разницы, положить ли конец, или дождаться его, раньше он придёт или позже: в этом мудрец не видит большого урона и не боится. Что капает по капле, того много не потеряешь. Раньше ты умрёшь или позже, - неважно, хорошо или плохо, - вот что важно". А хорошо умереть - значит "избежать опасности жить дурно" (Ep. LXX, 4-6). Поэтому нужно "избавиться от жажды жизни и заучить одно: безразлично, когда случится с тобою то, что всё равно когда-нибудь случится. В жизни важно благо, а не долгий век; и нередко в том и благо, что он короток" (Ep. CI, 15).
Смерть должна привлекать, а не отталкивать мыслящего человека. Никто из обличителей смерти никогда самой смерти не испытывал, а осуждать то, чего не знаешь, - безрассудно. Зато известно, сколь многим она принесла "пользу", избавив от пыток, нищеты, казни или тоски (Ep. XCI, 21). Смерть - "пристань" в житейском море, и войти в неё "иногда надо поспешить и никогда нельзя отказываться" (Ep. LXX, 3). Таковы рекомендации мудрецу. Да и самому Сенеке довелось реализовать на практике так тщательно и подробно разработанный им идеал. Приказ Нерона, который нельзя было не исполнить, явился тем не-обходимым внешним принуждением, которое совпало со спокойной решимостью стоической апатии (Тацит, Анналы XV, 60-64). Своей смертью Сенека подтвердил ту мысль, что "бессмертие государства выше смерти индивида" [195, с. 327].
"Свободная", полезная, сознательная смерть, с "приятностью" для остающихся в живых и с верностью себе самому, - это, по выражению Бланшо, "смерть, не повстречавшая смерти" [39, с. 207]. Здесь много эстетики - ритуализованной заботы о позе, о стилистическом единстве начала и конца, о позитивном впечатлении, производимом на свидетелей351; так смерть через стоический дискурс опять подтверждает свой над-индивидуальный характер. "Сохранить власть над собой перед лицом смерти" не значит ещё "совладать со смертью", ибо та "безразличная власть, что находит себе выражение в стоической невозмутимости" [39, с. 206] есть власть смерти над человеком.
Нельзя сказать, что Сенека не пытался выдвинуть рациональные доводы против самоубийства. Однако найденные им аргументы позволяют не отказаться от суицида, а только отложить срок его совершения. Может случиться так, что мудрец, зная о предстоящей казни, не прилагает никаких усилий для приближения смерти; в противном случае появился бы повод обвинить его в малодушии и торопливости. "Сократ мог покончить с собой, воздерживаясь от пищи, и умереть от голода, а не от яда, а он тридцать дней провёл в темнице, ожидая смерти, - не в мыслях о том, что всё может случиться, не потому что такой долгий срок вмещает много надежд, но чтобы не нарушать законов, чтобы дать друзьям напоследок побыть с Сократом. Что было бы глупее, чем презирать смерть, а яда бояться?" (Ep. LXX, 8-9). Не надежда на невозможное, не перспектива превосхождения данного порядка вещей, но стремление не уронить "стандарт" пассивной невозмутимости побуждает Сократа на время отодвинуть неизбежность смерти, с которой он давно согласился.
Кроме того, Сократ, по всей видимости, не хотел отказывать себе в удовольствии напоследок пообщаться с друзьями для их же пользы. Бывает, что человек "уже сыт жизнью, а если и желает её продленья, то не ради себя, а ради тех, кому он полезен" (Ep. XCVIII, 15). Так и сам Сенека, испытывая тягу к самоубийству, удерживал себя мыслями о немощи своего старого отца. "Поэтому я и приказал себе жить: ведь иногда и остаться жить - дело мужества" (Ep. LXXVIII, 2). Ради спокойствия собственной жены (Паулины) Сенека должен был заботиться о своём здоровье и продлевать свою жизнь. "Ведь высоким чувствам нужно идти навстречу, и порой, вопреки напору обстоятельств, во имя близких возвращаться к жизни даже и с мукой, зубами удерживая вылетающий дух; ведь человеку добра нужно жить, сколько велит долг, а не сколько приятно. Кто ни жены, ни друга не ценит настолько, чтобы ради них продлить себе жизнь и не упорствовать в намерении умереть, тот просто избалован. Если польза близких требует, душа может даже приказать себе положить конец не только желанию смерти, но и самой смерти, когда она началась, - только бы угодить близким. Вернуться к жизни ради других - признак наибольшего величия души, и величайшие мужи часто так поступали. Но и то, по-моему, свидетельствует о высочайшей человечности, что ты оберегаешь свою старость, величайшее благодеяние которой - возможность беспечнее относиться к себе и смелее пользоваться жизнью, и заботиться о ней, зная, что кому-нибудь из твоих она мила, полезна и дорога" (Ep. CIV, 2-5)352. В этом рассуждении наконец-то мы слышим человеческий голос, а не "голос разума"353.
Итак, фаталистическая установка Сенеки, указывающая на неизбежность человеческой конечности (как высшей степени определённости индивидуального бытия), фундирует полагание суицида не только как наличного факта, но и как способа сохранения достоинства, как крайнего (экстремального) решения, позволяющего сохранить свободу от обстоятельств. Однако при этом Сенека уже понимает, что такая "свобода" может быть осмыслена только в качестве абсолютной покорности наличному порядку ("судьбе") и выражает себя лишь как отказ от признания за личностью высшей ценности.
Лекция 10. Деизм и самоубийство: вечная смерть
I
Тотальный детерминизм (фатализм) стоиков является теоретическим базисом их пессимистической антропологии и, следовательно, основанием размещения самоубийства в бытии индивида. В античной философии противостоящее стоицизму учение есть философия Эпикура и его последователей. В этой философии вместо господства судьбы устанавливается распоряжение случая, вместо пантеизма исповедуется деизм (то есть мировоззренческая позиция, утверждающая совершенную трансцендентность божественного по отношению к человеческому и при этом отрицающая возможность трансцендирования такого положения дел). Однако противостояние указанных программ не затрагивает глубины онтологической позиции, общей для тех и других. Эта общая позиция - монизм. Эпикуреизм представляет собой "монистическое философское учение" [264, с. 164], как и стоицизм; это "полнейший, абсолютный монизм" [46, с. 7]. Таков должен быть общий вывод относительно сути эпикуреизма, несмотря на кажущийся "плюрализм" эпикурейского атомизма (или, при ином направлении взгляда, "дуализм" атомов/пустоты). Отсюда становится вполне объяснимым тот факт, что и в эпикурейской программе в конце концов находится место для самоубийства.
Праксиологическая позиция Эпикура связана с этическим идеалом самодовлеющего индивида; согласно Эпикуру, "блаженство индивида состоит в отрешённости от всего, а важнейшим средством его достижения является философия" [83, с. 151]. Эпикур делит философию на "канонику, физику и этику"; при этом физика "представляет собой всё умозрение о природе", "о возникновении и разрушении", а этика "говорит о предпочтении и избегании", "об образе жизни и предельной цели" (Диог. Х, 30). И хотя философско-познавательная деятельность в эпикурейском мировоззрении призвана в конечном счёте играть служебную роль по отношению к моральной доктрине, тем не менее фактически она приобретает очень высокое значение [83, с. 162]. Более того, как можно судить, мораль в эпикуреизме прямо выстраивается на истинах, добытых в процессе познания. Эти истины имеют опытное происхождение и подвержены эмпирической верификации. Эпикур считает, что "критерии истины - это ощущения (αισθησις), предвосхищения (προληψις)354 и претерпевания (παθη), а эпикурейцы прибавляют ещё и образный бросок мысли (φανταστικαι επιβολη της διανοιας)" (Диог. Х, 31). Разум не может "опровергнуть ощущений" (Диог. Х, 32); истинно только то, что доступно наблюдению или "уловляется броском мысли" (Диог. Х, 62). Поскольку же мыслящая душа "телесна" (Диог. Х, 63), постольку все методы познания являются физическими (опирающимися только на ощущение). Следовательно, мнение, "если оно подтверждается и не опровергается свидетельствами ощущений", является истинным, а если "не подтверждается и опровергается", то оно ложно (Диог. Х, 34).
По убеждению Эпикура, философско-познавательная деятельность, сообщающая истинные мнения, освобождает человека от "трёх страхов": от страха перед богами, от страха перед необходимостью [83, с. 159], от страха смерти [83, с. 161]. "Если бы нас не смущали подозрения, не имеют ли к нам какого отношения небесные явления или смерть, - заявляет Эпикур в "Главных мыслях", - то нам незачем было бы даже изучать природу" (Диог. Х, 142). Философия, таким образом, возникает в качестве ответа на страх перед судьбой и смертью (страх как "физический", так и метафизический) и является противоядием против него. Нельзя преодолеть "страх о самом главном" (то есть страх смерти), не постигнув "природы вселенной". Поэтому "чистого наслаждения нельзя получить без изучения природы" (Диог. Х, 142-143). Сам Эпикур (как он заявляет в письме к Геродоту), посвятил философскому исследованию природы "постоянные свои усилия" и достиг жизненного мира (то есть лада, гармонии) "прежде всего благодаря ему" (Диог. Х, 37). Занятия философией не только благоприятны "для душевного здоровья" (Диог. Х, 122); философское "разумение" есть начало наслаждения и "величайшее из благ", от которого происходят "все остальные добродетели" (Диог. Х, 132). Изучение природы "есть исследование причины главнейших вещей"; в самóм этом изучении (в этой эйдетической метафизике) заключено "блаженство познания природы" (Диог. Х, 78).
Научившись объяснять сущее "естественным способом", человек освобождается от страха перед роком и смертью, становится блаженным мудрецом. Эпикурейский мудрец ("просвещённый человек, постигший многие загадки природы, лишённый суеверных страхов") считает себя способным "блаженствовать на земле, а не за гробом" [264, с. 163], уже в этом мире "жить богам подобающей жизнью" (Лукр. III, 321-322). Такой мудрец ведёт себя "как бог среди людей. Ибо кто живёт среди бессмертных благ, тот и сам ни в чём не сходствует со смертными" (Диог. Х, 135). "Кто, по-твоему, - вопрошает Эпикур, - выше человека, который и о богах мыслит благочестиво, и от страха перед смертью совершенно свободен, который размышлением постиг конечную цель природы, понял, что высшее благо легко исполнимо и достижимо, а высшее зло или недолго, или нетяжко, который смеётся над судьбою?" (Диог. Х, 133). Даже бог не выше такого человека, ибо мудрец равен богам.
Однако "божественность" мудреца связана, конечно, не с активностью веры и надежды, а с пассивностью знания, примиряющего с наличным (необходимым). "Кто знает пределы жизни, - утверждает Эпикур в "Главных мыслях", - тот знает, как легко избыть боль от недостатка, сделав этим жизнь совершенною; поэтому он вовсе не нуждается в действиях, влекущих за собою борьбу" (Диог. Х, 146). "Кто лучше всего умеет устроиться против страха внешних обстоятельств, тот сделает, что можно, близким себе, а чего нельзя, то по крайней мере не враждебным, а где и это невозможно, там держится в стороне и отдаляется настолько, насколько это выгодно" (Диог. Х, 154). В этом адаптирующем безразличии к наличному эпикуреец и обретает божественность355.
Эта божественность заключается прежде всего в психологической способности мудреца противостоять судьбе (уклоняться от неё) с помощью независимого суждения о себе. По мнению Эпикура, "зависящее от нас ничему иному не подвластно и поэтому подлежит как порицанию, так и похвале" (Диог. Х, 133), т.е. этической оценке. "Случай мало имеет отношения к мудрому: всё самое большое и главное устроил для него разум" (Диог. Х, 144). Мудрец, пишет Эпикур, "не считает, будто случай даёт человеку добро и зло, определяющие его блаженную жизнь, а считает, что случай выводит за собой лишь начала бóльших благ или зол. Поэтому и полагает мудрец, что лучше с разумом быть несчастным, чем без разума быть счастливым: всегда ведь лучше, чтобы хорошо задуманное дело не было обязано успехом случаю" (Диог. Х, 134-135). Таким образом, хорошо задуманное самоубийство могло бы выдать в совершившем его именно мудреца.
Некоторые философы именуют судьбу "владычицей всего"; эта уверенность в роковой необходимости жизненного порядка порождает чувство освобождения от всякой ответственности, ибо "неизбежность безответственна" (Диог. Х, 133). Поэтому, по мнению Эпикура, "лучше уж верить басням о богах, чем покоряться судьбе, выдуманной физиками, басни дают надежду умилостивить богов почитанием, в судьбе же заключена неумолимая неизбежность" (Диог. Х, 134). Однако отрицание роковой неизбежности как некоторой разумной программы не означает избавления от закона, пусть даже это будет закон слепой и неразумной случайности. Если "во всём, что происходит, нет разумного основания, есть только слепая природная необходимость" [46, с.7], то спасение от этой слепоты можно искать лишь в том, что представляется не-происходящим, то есть в вечной и статичной божественности. Борьба с роком и полагание беззакония в качестве "закона" для эмпирии подталкивают Эпикура и эпикурейцев к своего рода "теологическому" теоретизированию.
С одной стороны, и Эпикур и Лукреций неоднократно заявляют о своей уверенности в наличии богов. "Прежде всего верь, - пишет Эпикур в письме к Менекею, - что бог есть существо бессмертное и блаженное, ибо таково всеобщее начертание понятия о боге; и поэтому не приписывай ему ничего, что чуждо бессмертию и несвойственно блаженству, а представляй о нём лишь то, чем поддерживается (то есть подтверждается. - С.А.) его бессмертие и его блаженство. Да, боги существуют, ибо знание о них - очевидность; но они не таковы, какими их полагает толпа" (Диог. Х, 123). Иными словами, Эпикур не отказывается от самого понятия божественного существа; он выступает лишь против профанного, нефилософского (в его собственном понимании) мнения о нём. Бог не есть случай, ибо "действия бога не бывают беспорядочны" (Диог. Х, 134). Согласно Эпикуру, "боги живут в пространствах, находящихся между мирами (μετακοσμια)" [46, с.10], в "междумириях" (Диог. Х, 89)356. Этим богам сам Эпикур приносил жертвы [46, с.13], их упоминает и призывает Лукреций в своей поэме [46, с. 14, 22].
С другой стороны, Эпикур демонстрирует если не прямой атеизм, то уж во всяком случае нечто близкое атеизму, а именно некий "деистический элемент" [46, с. 14]: "Далее, - заявляет Эпикур, - о движении небесных тел, солнцестояниях, затмениях, восходах, закатах и тому подобном не следует думать, будто какое-то существо распоряжается (промышляет. - С.А.) ими и приводит или привело их в порядок; и не следует думать, будто оно при этом пользуется совершенным блаженством и бессмертием, потому что распоряжения, заботы, гнев, милость с блаженством несовместимы, а возникают при слабости, страхе и потребности в других" (Диог. Х, 76-77). В этой фразе из письма к Геродоту "проглядывает", по словам А.Ф. Лосева, "какой-то деизм, по которому боги потому и блаженны, что не имеют дела ни с каким миром вещей" [92, с. 501]. Эпикурейские боги "ни в чём не нуждались, имея в себе всё то, чего требовала их природа и что было для них необходимо и достаточно. У эпикурейцев это был не атеизм, но деизм, отрицавший взаимодействие богов и космоса" [155, с. 94]. Боги эпикуреизма "нисколько не нуждаются в нас и остаются равнодушными к нашим заслугам, равно как и к нашим согрешениям" [46, с. 9]. Здесь выявляется деистическая основа этической автономии. Эпикурейский мудрец (как, впрочем, и стоический) сосредоточен в самом себе, экзистенциально изолирован, самодостаточен и ни от чего (ни от кого) не зависит. "Таковы же и эпикурейские боги, - пишет А.Ф. Лосев, - которые настолько углублены в себя и настолько в себе сосредоточены, что всякое соприкосновение их с внешним миром нарушило бы их покой и лишило бы их присущего им нерушимого блаженства. Поэтому ни они не воздействуют на мир, ни мир не может воздействовать на них" [155, с. 95]357.
Однако, в отличие от классического новоевропейского деизма (получившего развитие из христианства и сложившегося вопреки ему), боги Эпикура и Лукреция совершенно не участвуют в творении мира [46, с. 12], но сами являются созданием неразумной природы; они не имеют никакого отношения к установлению законов бытия, но сами подчиняются этим законам. Эпикур отрицает "божественное сотворение мира" (полемизируя против теории Платона, изложенной в "Тимее") и "объясняет природу, исходя из неё самой" [264, с. 161]. Из речи эпикурейца Веллея у Цицерона (О природе богов I, 53) следует, что "мир создан природою. Для неё это не составило никакого труда. Для природы сотворение мира <...> настолько лёгкое дело, что она будет создавать, создаёт и создала бесчисленные миры". Все эти миры сотворены самой "природою без некоего разума" (φυσει αλογω), чисто автоматически. Теоретический деизм, таким образом, естественно совмещается в эпикуреизме с практическим атеизмом. Именно отрицание "сотворения мира", вмешательства богов в жизнь людей, а также неприятие идеи "загробной жизни" души - "сущность атеистического учения Эпикура" [264, с. 163].
Человек, обнаруживающий себя в обезбоженном мире, имеет в своём распоряжении только один способ действительного отношения к божеству - умное созерцание. Боги Эпикура "суть образы не религиозные, а художественные", эстетические. Они суть "естественные существа, состоящие из лёгких, тонких, круглых атомов". Это боги вне культа, следовательно, вне религии [264, с. 158], "квазибоги" [264, с. 159], боги философов358. И у Лукреция "в самой яркой форме проводится удивительное общеэпикурейское учение, ниспровергающее всякий религиозный культ, но в то же самое время, и притом тоже в самой резкой форме, признающее существование богов". Эти боги не только признаются Лукрецием, но он "буквально на них любуется". Это, по мнению А.Ф. Лосева, - "самая подлинная философская мифология". Указанный факт "обнаруживает полную ошибочность понимания эпикурейства как чистейшего атеизма" [155, с. 99], но зато свидетельствует о лёгкости взаимообращения деизма и атеизма, в равной степени замыкающих человека в онтически данном.
Бог, созерцаемый философским умом, "ничего не делает, не обременён никакими занятиями, не берёт на себя никаких дел. Он наслаждается своей мудростью и своей добродетелью и знает наверное, что эти величайшие и вечные наслаждения он всегда будет испытывать" (Цицерон, О природе богов I, 51). Такая "совершенная природа богов уже потому должна бы благочестиво почитаться, что она и вечная и блаженнейшая". При этом изгоняется "весь страх перед силой и гневом богов, так как понятно, что раз существу блаженному и бессмертному не присущи ни гнев, ни милость, то это значит, что со стороны богов не грозит ничего страшного" (Цицерон, О природе богов I, 45). "Избавленные Эпикуром от всех этих страхов и получившие через него свободу, - заявляет Гай Веллей у Цицерона, - мы не боимся тех, которые, как мы понимаем, ни себе не причиняют никаких неприятностей, ни другому их не доставляют. Мы благочестиво и благоговейно поклоняемся богам из-за превосходной и совершенной их природы" (О природе богов I, 56). Итак, философское почитание божества есть эстетическое восхищение наличным.
Понятие о деятельном Боге, согласно эпикуреизму, есть принадлежность ложной теологии. Эпикур пишет, что "нужно вообще твёрдо держаться вот какого взгляда: самое главное смятение в человеческих душах возникает оттого, что одни и те же естества считаются блаженными и бессмертными и в то же время, напротив, наделёнными волей, действиями, побуждениями; оттого, что люди всегда ждут и боятся вечных ужасов, как они описываются в баснях, и пугаются даже посмертного бесчувствия, словно оно для них зло" (Диог. Х, 81). Люди оттого и боятся неизбежной смерти, что, по мнению Лукреция, "религия внушает им суеверный страх перед наказаниями в аду и отравляет их фантазию представлениями о страшилищах тартара" [46, с. 26]. Но в имманентной вселенной нечего ждать и бояться, ибо в ней всё всегда уже есть, уже "вот". Поэтому ни Бог, ни смерть не могут вызывать страха.
Деизм (как а-теизм) чреват человекобожеским культом (антрополатрией)359. Отрицая возможность религиозной трансценденции и в то же время утверждая божественность мудреца, Эпикур спровоцировал возникновение собственного культа. У эпикурейцев, по мнению ряда исследователей, "существовало религиозное поклонение Эпикуру" [264, с. 160]. Есть свидетельства, что "каждый месяц эпикурейцы устраивали торжественные собрания в честь своего учителя и его любимого ученика Метродора, сооружали бронзовые статуи основателю "Сада", вырезали камеи с его портретами" [264, с. 160]. Почитание Эпикура превратилось в "культ спасителя", указавшего человечеству "путь к блаженству" [264, с. 161]. Если Бога нет, то, конечно, Эпикур - бог360.
Присутствие Бога и не требуется в той вселенной, которую созерцает Эпикур: эта вселенная самодостаточна и статична. Началами всех вещей у Эпикура служат атомы (простейшие тела) и пустота. "Помимо же тел и пустоты, - пишет Эпикур Геродоту, - нельзя помыслить никакого иного самостоятельного естества, а только случайные или неслучайные свойства таковых" (Диог. Х, 40). Пустота, по Эпикуру, - это "неосязаемая природа" (Диог. Х, 40), то есть не данная в ощущениях. Атомы Эпикура, по словам А.Ф. Лосева, "одновременно и вещественны, и геометричны" [92, с. 498], то есть и материальны, и (поскольку не даны в непосредственном чувственном опыте) умопостигаемы, ноуменальны (Диог. Х, 44, 56). Эти атомы и представляют собой то "устойчивое и нерушимое", "закономерное и объективно неотвратимое" [92, с. 498], что открывается знанием в качестве всегда наличной основы космоса361.
В эти элементарные тела разлагается всё когда-либо из них возникшее. "Прежде всего: ничто не возникает из несуществующего, иначе всё возникало бы из всего, - рассуждает Эпикур в письме к Геродоту. - И если бы исчезающее разрушалось в несуществующее, всё давно бы уже погибло, ибо то, что получается от разрушения, не существовало бы. Какова вселенная теперь, такова она вечно была и вечно будет, потому что изменяться ей не во что, ибо, кроме вселенной, нет ничего, что могло бы войти в неё, внеся изменение" (Диог. Х, 38-39). В замкнутом на себя мире совершается "неукоснительный круговорот" (Диог. Х, 77). Начала этому круговороту сущего не было, как нет ему и конца, "ибо и атомы и пустота существуют вечно" (Диог. Х, 44). Все вещи и все "миры" про-ис-ходят, "выделяясь из отдельных сгустков, больших и малых; и все они разлагаются вновь от тех или иных причин, одни быстрее, другие медленнее" (Диог. Х, 73).
Эволюционную точку зрения Эпикура воспроизводит Лукреций:
За основание тут мы берём положенье такое:
Из ничего не творится ничто по божественной воле
(Лукр. Ι, 149-150).
Надо добавить ещё: на тела основные природа
Всё разлагает опять и в ничто ничего не приводит
(Лукр. Ι, 215-216).
Так что, мы видим, отнюдь не в ничто превращаются вещи,
Но разлагаются все на тела основные обратно
(Лукр. Ι, 248-249).
Начала, из которых и в которые от-ходят сущие,
Обладают бессмертной природой,
И потому ничему невозможно в ничто обратиться
(Лукр. Ι, 236-237).
Значит, "вся существует материя вечно" (Лукр. Ι, 245). Рождаются и гибнут только отдельные сложные тела (вещи) в нескончаемом круге обмена жизни на смерть и обратно.
Словом, не гибнет ничто, как будто совсем погибая,
Так как природа всегда возрождает одно из другого
И ничему не даёт без смерти другого родиться
(Лукр. Ι, 262-264).
Все вещи между происхождением и отходом присутствуют в бытии согласно природе
Вплоть до тех пор, пока всё до предельного роста природа
Не доведёт и конца не положит вещей совершенству;
<...>
Тут для всего настаёт предельного возраста время,
Тут на развитье вещей природа узду налагает
(Лукр. Ι, 1116-1117, 1120-1121).
И справедливо должны погибать, таким образом, вещи
(Лукр. Ι, 1139).
Согласно этой "справедливости природы" [84, с. 208],
Всё дряхлеет и мало-по-малу,
Жизни далёким путём истомлённое, сходит в могилу
(Лукр. Ι, 1173-1174).
Так же с теченьем времён и стены великого мира,
Приступом взяты, падут и рассыплются грудой развалин
(Лукр. Ι, 1144-1145).
Тем же правилам происхождения и гибели подчинена индивидуальная душа. Согласно Эпикуру, человек "состоит исключительно из материальных атомов", и его душа, устроенная "из самых лёгких и подвижных круглых атомов", так же материальна, как и тело. Поэтому душа человека смертна точно так же, как его тело, и одновременно с физической жизнью тела (а другой жизни и не предполагается) прекращается физическая жизнь души [46, с. 7]. "Опираясь на наши ощущения и претерпевания (ибо это вернейшая опора для суждений), необходимо усмотреть, - пишет Эпикур, - что душа есть тело из тонких частиц, рассеянное по всему нашему составу (αθροισμα); оно схоже с ветром, к которому примешана теплота" (Диог. Х, 63). "При этом следует полагать, что именно душа является главной причиною ощущений; но она бы их не имела, не будь она замкнута в остальном составе нашего тела. <...> Поэтому, лишась души, он (т.е. состав нашего тела. - С.А.) лишается и чувств, так как способность к чувствам была не в нём самом" (Диог. Х, 64). "Наконец, когда разрушается весь наш состав, то душа рассеивается и не имеет более ни прежних сил, ни движений, а равным образом и ощущений" (Диог. Х, 65). Так из положения о телесном (материальном) характере души Эпикур выводит логически неизбежное заключение о её конечности (смертности).362
Предположение о нематериальности души Эпикур считает нелепым. "В самом деле, - пишет он в письме к Геродоту, - не надо забывать, что так называемое бестелесное в обычном словоупотреблении есть то, что может мыслиться как нечто самостоятельное; но ничто бестелесное не может мыслиться как самостоятельное, кроме лишь пустоты; пустота же не может ни действовать, ни испытывать действие, она лишь допускает движение тел сквозь себя. Поэтому те, кто утверждает, что душа бестелесна, говорят вздор: будь она такова, она не могла бы ни действовать, ни испытывать действие, между тем как мы ясно видим, что оба эти свойства присущи душе" (Диог. Х, 67). Кроме того, представляется невозможным и немыслимым какое-либо сочетание материального и нематериального, конечного и вечного в границах одного индивида:
Вот почему неизбежно признать, что с кончиною тела,
Всюду расторжена в нём, и душа одновременно гибнет.
Вечное ведь сочетать со смертным и думать, что вместе
Чувствовать могут они и что действия их обоюдны,
Это безумье и вздор
(Лукр. III, 798-802)363.
Душа после смерти тела,
Вновь разлагаясь в тела изначальные, гибнет скорее,
Только лишь члены она человека, покинув, оставит
(Лукр. III, 438-439).
Как временное тело терзаемо недугами,
Так же подвержен и дух и заботам, и горю, и страху,
А потому надлежит ему также причастным быть смерти
(Лукр. III, 461-462).
Понятия души и духа в эпикуреизме (как в философии антиперсоналистической) по сути тождественны, различаясь лишь в количественном отношении. Дух онтологически не отличен от души, он есть только лучшая и руководящая (разумная) её часть:
Я утверждаю, что дух и душа состоят меж собою
В тесной связи и собой образуют единую сущность,
Но составляет главу и над целым господствует телом
Разум, который у нас зовётся умом или духом
(Лукр. III, 136-139).
Однако, чтобы иметь возможность управлять телом, дух (как и душа в целом) должен быть столь же материальным, как и руководимое им тело:
Телесна природа
Духа с душой, раз она и членами движет, и тело
Будит внезапно от сна, и меняет лица выраженье,
И человеком она целиком руководит и правит
(Лукр. III, 161-164).
А значит, "дух и душа обладают телесной природой" (Лукр. III, 167); "духа природа телесна" (Лукр. III, 175). Поскольку же "дух и душа составляют единую сущность" (Лукр. III, 424), постольку дух по смерти тела "разлагается также" (Лукр. III, 470):
Сам по себе ведь ни дух самобытно без тела не может
Жизни движений создать, ни бездушное тело не в силах
Ни бытия продолжать, ни остаться владеющим чувством
(Лукр. III, 560-562).
Без оболочки своей и без сил, на открытом просторе
Не в состояньи душа не только прожить вековечно,
Но и на миг лишь один удержаться никак не способна
(Лукр. III, 604-606).
Значит, ни чувства, ни жизнь без тела для душ невозможны
(Лукр. III, 633).
Идея реинкарнации тоже отвергается:
Ибо, когда говорят, что бессмертна душа, но меняться
Может, сменяя тела, то такое суждение ложно.
Ведь разрушается всё, что меняется, следственно - гибнет
(Лукр. III, 754-756).
Полагание материалистического единства рождающегося и гибнущего автономного сущего связано с ясно выраженной идеей беспредельности имманентного, не ограниченного никаким трансцендентным. Единосущность (имманентность) человека наличному (природе) выражает себя в утверждении эпикуреизмом беспредельности вселенной. "В самом деле, - пишет Эпикур, - что имеет предел, то имеет край; а край - это то, на что можно смотреть со стороны; стало быть, крáя вселенная не имеет, а значит, и предела не имеет. А что не имеет предела, то беспредельно и неограниченно" (Диог. Х, 41). Значит, вселенная беспредельна, а конечные "миры бесчисленны" (Диог. Х, 45). Идея беспредельности, как видим, вовсе не утверждает открытости бытия; напротив, она манифестирует лишь без-исходность данного. Нулевая степень трансцендирования оставляет человека замкнутым в дурной бесконечности временного. То, что "вечно" (бесконечно во времени), не может изменяться. Следовательно, "вечность" есть лишь повторение одного и того же. Действительно, как может возникнуть нечто новое, если во всякий момент уже протекла бесконечность времени? Поэтому в такой вечности нет "сначала" и "потом", а есть только "всегда"364. Так, передвигаясь по внутренней поверхности сферы, мы нигде не встретим никаких препятствий (пределов) для движения; в этом отношении сфера беспредельна. Но такая беспредельность тождественна замкнутости, погружённости в имманентное. Преодоление беспредельности (беспрерывности) наличного бытия возможно только через полагание онтологической дискретности. Однако такая перспектива для деистического монизма (как и для монизма пантеистического) остаётся трансцендентной.
II
"Господствующая идея" философии Эпикура - это идея "освобождения". Однако человек, даже избавившись от страха перед богами и перед роком, всё же остаётся "перед лицом последней необходимости, наиболее неминуемой из всех" - необходимости смерти. Поэтому высшая и "заключительная" задача Эпикура состоит в "спасении" человека от страха смерти [84, с. 185-186], в преодолении "страхов ума" (Диог. Х, 142) перед неизбежностью гибели отдельного человека.
Физическое обоснование абсурдности страха смерти мы встретим ещё у Демокрита. Всё сущее "возникает по неизбежности" (Диог. ΙΧ, 45); "ничто не возникает из несуществующего, и ничто не разрушается в несуществующее" (Диог. ΙΧ, 44). Поскольку "качества существуют лишь по установлению", то есть по интерсубъективному согласию, "по природе же существуют лишь атомы и пустота" (Диог. ΙΧ, 45), постольку "мы не знаем истинной природы загробной жизни и истинного смысла смертной природы человека, почему и не дóлжно этого бояться" [156, с. 242]. Правда, отсюда следует скорее стоический, чем эпикурейский практический вывод: "Конечная цель есть душевное благосостояние; и оно не тождественно с наслаждением, как ошибочно понимали некоторые, это состояние, при котором душа пребывает в спокойствии и равновесии, не смущаемая ни страхом, ни суеверием, ни иною какою-нибудь страстью" (Диог. ΙΧ, 45)365.
На нелепость страха смерти указывает не только теоретическое рассуждение, подобное вышеприведённому, но и простой жизненный опыт, в котором мы никогда не встречаемся со смертью. На вопрос, является ли смерть злом, киник Диоген Синопский отвечал: "Как же может она быть злом, если мы не ощущаем её присутствия?" (Диог. VI, 68)366. В диалоге "Аксиох" Сократ утверждает (со ссылкой на софиста Продика), что "смерть не имеет никакого отношения ни к живым, ни к умершим" (369 b), ибо "к живым она никак не относится, а умершие уже не существуют" (369 с).
В той же логической парадигме мыслит и Эпикур. Смерть, утверждает он, не имеет к нам никакого отношения: "смерть для нас - ничто: ведь всё и хорошее и дурное заключается в ощущении, а смерть есть лишение ощущений" (Диог. Х, 124). Со смертью телесного организма, способного к ощущениям, умирает (рассеивается) и душа. Следовательно, волнения о том, что будет после смерти, лишены всякого смысла [83, с. 161]. "Смерть для нас ничто: что разложилось, то нечувствительно, а что нечувствительно, то для нас ничто (Ο θανατος ουδεν προς ημας το γαρ διαλυθεν, αναισθητει το δε αναισθητουν, ουδεν προς ημας)" (Диог. Х, 139). Действительно, для самогó смертного "в смерти нет ничего реального", ибо она является "распадением всякой жизни, полным уничтожением" [84, с. 191]. "Стало быть, самое ужасное из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения; когда мы есть, то смерти ещё нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых, так как для одних она сама не существует, а другие для неё сами не существуют" (Диог. Х, 125).
Человек, разделяющий такое "правильное знание" о смерти, относится к неизбежной конечности собственной жизни только позитивно (Диог. Х, 124): "не оттого, что к ней прибавится бесконечность времени, а оттого, что от неё отнимется жажда бессмертия (ο της αθανασιας ποθος)". Поэтому и в самóй жизни не находится ничего пугающего для того, кто "по-настоящему понял, что нет ничего страшного в не-жизни (εν τω μη ζην)" (Диог. Х, 125). Правда, некоторые говорят, что страдания причиняет не сама смерть, а сознание того, что она придёт, её ожидание. Но если она не страшна сама по себе, почему же должна быть страшна только мысль о её приходе? Это, по мнению Эпикура, "напрасная печаль" [83, с. 161]. Поэтому глуп тот, кто говорит, что "боится смерти не потому, что она причинит страдания, когда придёт, а потому, что она причинит страдания тем, что придёт"; ведь то, "что и присутствием своим не беспокоит, о том вовсе напрасно горевать заранее" (Диог. Х, 125).
Поэтому мудрец совершенно равнодушен к смерти (как, впрочем, и к жизни). "Большинство людей, - пишет Эпикур Менекею, - то бегут смерти как величайшего из зол, то жаждут её как отдохновения от зол жизни" (Диог. Х, 125). Мудрец же "не уклоняется от жизни и не боится не-жизни", потому что жизнь ему не мешает, а не-жизнь не представляется угрожающей (Диог. Х, 126). Не следует стремиться к смерти, словно она благо, но и не следует бояться её, будто она зло. Избавление от страха смерти исключительно важно, ибо предопределяет спокойно-безразличное отношение ко всем прочим превратностям человеческой жизни [83, с. 161-162]. Страх смерти является началом разлагающим [84, с. 191], ибо
язвы глубокие жизни
Пищу находят себе немалую в ужасе смерти
(Лукр. III, 53-54).
Часто же их до того доводит боязнь перед смертью,
Что, отвращеньем полны и к жизни и к свету дневному,
От безысходной тоски они сами себя убивают,
Вовсе забыв, что тоска их питается этим же страхом
(Лукр. III, 79-82)367.
Между тем, осознание неизбежности смерти не отрицает, согласно мнению эпикурейцев, смысла ограниченной ею жизни. Живое существо, по Эпикуру, стремится к наслаждению φυσικως και χωρις λογου, естественным образом и без рационального основания [84, с. 101], то есть спонтанно. Однако человек, как существо разумное, может при этом предпочитать одно и отвергать другое. Собственно ощущения ("претерпевания"), согласно Эпикуру, бывают двух видов: "наслаждение и боль"; они "возникают во всяком живом существе, и первое из них близко нам, а второе чуждо; этим и определяется, какое (претерпевание. - С.А.) мы предпочитаем и какого избегаем" (Диог. Х, 34). Боль и страдания суть то самое зло, которого и следует избегать (Диог. Х, 142). Предел же величины наслаждений, как говорит Эпикур в "Главных мыслях", есть "устранение всякой боли" (Диог. Х, 139). Хотя "всякое наслаждение, будучи от природы родственно нам, есть благо, но не всякое заслуживает предпочтения": от многих наслаждений следует отказываться, "если за ними следуют более значительные неприятности" (Диог. Х, 129)368. Наконец, всякое желание, "не имеющее опоры в самой природе", должно быть подавлено [84, с. 195]; к разряду таких желаний, подлежащих подавлению, относится и "желание бессмертия" (ο της αθανασιας ποθος), противоречащее природе конечного, неизбежно склонного к отходу.
Среди желаний есть "праздные" и "естественные"; среди последних можно выделить "необходимые" (для жизни, для спокойствия тела, для счастья). "Если при таком рассмотрении не допускать ошибок, - излагает свою физическую аксиологию Эпикур в письме к Менекею, - то всякое предпочтение и всякое избегание приведёт к телесному здоровью и душевной безмятежности, а это - конечная цель блаженной жизни. Ведь всё, что мы делаем, мы делаем затем, чтобы не иметь ни боли, ни тревоги" (Диог. Х, 127-128)369. Но от боли и тревоги быстрее всего избавляет как раз самоубийство. Об этом промолчал Эпикур, но Лукреций говорит об этом прямо:
Ведь коль минувшая жизнь пошла тебе впрок перед этим
И не напрасно прошли и исчезли все её блага,
Будто в пробитый сосуд налитые, утекши бесследно,
Что ж не уходишь, как гость, пресыщенный пиршеством жизни,
И не вкушаешь, глупец, равнодушно покой безмятежный?370
(Лукр. III, 935-939).
Когда эпикурейцы заявляют, что наслаждение есть "конечная цель" человеческой практики, то они имеют в виду "свободу от страданий тела и от смятений души" (Диог. Х, 131-132). На метод достижения такой свободы может указать только "трезвое рассуждение, исследующее причины всякого нашего предпочтения и избегания и изгоняющее мнения, поселяющие великую тревогу в душе" (Диог. Х, 132). Однако именно тревога сигнализирует о сохранении свободы; уверенность знания лишает и свободы, и надежды, заранее сообщая ответ на вопрос о смерти.
"В наслаждении, - считают эпикурейцы, - важна не продолжительность его, а его интенсивность; наиболее истинное наслаждение и наиболее совершенная жизнь (παντελη βιον) черпают свою истину и совершенство в себе самом, а не во времени" [84, с. 196]. Иначе говоря, совершенство и полное удовлетворение достижимы по сю сторону границы между временным и вечным. "Бесконечное время и конечное время, утверждает Эпикур в "Главных мыслях", - содержат равное наслаждение, если мерить его пределы разумом (τω λογισμω)" (Диог. Х, 145); та же мысль, кстати, звучит и в рассуждениях Сенеки. Таким образом, качественная полнота насыщения жизни наслаждением не зависит от количественной продолжительности самой этой жизни; предел такого насыщения, следовательно, может наступить в любой момент, который и должен стать завершающим, заканчивающим жизнь как целостность (ср.: Лукр. III, 935-939).
Осознание того, что неизбежная смерть не может стать препятствием на пути к блаженству, безмятежному счастью как высшей цели, имеет важное значение. Такое знание "освобождает человека от жажды бессмертия, этого вздорного желания; оно ставит на первое место не продолжительность жизни, а её качество" [83, с. 161]. Как пищу мудрец выбирает не более обильную, а самую приятную, так и временем он наслаждается не самым долгим, а самым приятным. Следовательно, окончательная утрата возможности получать (увеличивать) наслаждение должна являться сигналом для отступления в смерть, ибо в таком случае человек теряет единственное основание жизни.
Эпикур заявляет: "Кто советует юноше хорошо жить, а старцу хорошо кончить жизнь, тот неразумен не только потому, что жизнь ему мила, но ещё и потому, что умение хорошо жить и хорошо умереть - это одна и та же наука. Но ещё хуже тот, кто сказал: хорошо не родиться.
Если ж родился - сойти поскорее в обитель Аида.371
Если он говорит так по убеждению, то почему он не уходит из жизни? Ведь если это им твёрдо решено, то это в его власти. Если же он говорит это в насмешку, то это глупо, потому что предмет для этого не подходит" (Диог. Х, 126-127). Очень важно то, что Эпикур здесь признаёт за человеком "власть" уйти из жизни по собственному решению.
Как мы помним, в противовес стоической покорности природе и смирению с роком эпикурейская философия провозглашает отрицание судьбы. "Таким образом, во всём, что касается природы, будь то природа в нас (чувственные влечения) или природа вне нас, задача состоит в уклонении, отрицании" [83, с. 162]. Однако основания такого уклонения от природы Эпикур находит в самой же природе. "Свободный" (независимый) характер деятельности человека обосновывается Эпикуром "философски" (то есть, в границах эпикурейской парадигмы, - физически), "путём постулирования самопроизвольного отклонения атома от прямой линии" [83, с. 160]. Эпикур, таким образом, "смотрит на природу сквозь призму этических целей, стремится соразмерить её с человеческой потребностью счастья, внутренней самоудовлетворённости" [83, с. 160]. Опираясь на свою естественную онтологию, он стремится обнаружить именно в природе оправдание стремления индивидов к самоцельности, самодостаточности, внутреннему покою. "Звучит парадоксально, но это так: Эпикур хочет найти в природе союзницу в борьбе за то, чтобы быть независимым от природы" [83, с. 160]. Вполне вероятно, что Эпикур как раз и увидел в природе сущего конечность как самоотрицание, а потому борьба с природой превратилась у него и его последователей в утверждение неизбежности индивидуальной смерти.
В бесцельности (бесперспективности) и "абсолютной случайности" индивидуального бытия, "столь милой сердцу эпикурейцев", обнаруживается своего рода "красота", зовущая "спокойно и сладко" безмолвствовать среди "анархии стихий" и "радости хаоса". Здесь господствует некая "эстетика случайности", доставляющая наблюдателю чувство призрачности страхов, изгоняемых философией, "тем самым атомизмом, который освобождает человека от загробных воздаяний судьбы и гарантирует ему полное настоящее растворение в круговороте природы" [237, с. 388]. Ведь, по словам Лукреция,
Определённый предел установлен для века людского,
И ожидает нас всех неизбежная встреча со смертью
(Лукр. III, 1078-1079).
Эта неизбежность выражается в уже знакомых нам морально-юридических терминах: предрекая всем людям смерть,
Природа законный
Иск предъявляет, вставая в защиту правого дела
(Лукр. III, 950-951).
Природа правá,
Ибо отжившее всё вытесняется новым, и вещи
Восстановляются вновь одни из других непременно.
И не уходит никто в преисподней мрачную бездну,
Ибо запас вещества поколениям нужен грядущим,
Но и они за тобой последуют, жизнь завершивши;
И потому-то, как ты, они сгинули раньше и сгинут.
Так возникает всегда неизменно одно из другого.
В собственность жизнь никому не даётся, а только на время
(Лукр. III, 965-971).
Природа говорит тем, кто хотел бы избегнуть смерти:
Пренебрегая наличным, о том, чего нет, ты мечтаешь
(Лукр. III, 957).
С точки зрения чувственности, на которой прочно стоит эпикуреизм, "смерть не является злом, ибо она бесследно гасит самую чувственность, но она не является злом и с точки зрения разума, ибо лежит в логике природы"; бытие это "целое, которое надо принять таким, как оно есть, в относительном его совершенстве" [84, с. 204], в диалектике обмена (оборота) жизни и смерти, которые "пребывают между собой в гармонии и взаимно друг друга предполагают" [84, с. 204]. Бессильный выйти в иное, эпикуреец покорно принимает смерть, всю необходимость которой он понимает; "он покорно её примет, как покоряются всем актам, налагаемым на нас природой: смерть его будет проникнута спокойным признанием неминуемого" [84, с. 205]. "Если брать жизнь поверхностно, то утомляешься ею; если брать её поглубже, то привязываешься к ней. Но эпикуреец не привязывается к ней" [84, с. 207].
Поэтому эпикуреец "может спокойно глядеть в лицо смерти"; ведь он "не отдаёт свою жизнь на служение высшему идеалу, ибо жизнь в конце концов может давать лишь ограниченное количество удовольствий, ибо её можно осушить как кубок, ибо наслаждаясь, утомляешься ею, ибо, наконец, получаешь отвращение к ней, когда исчерпаны до последнего все ощущения" [84, с. 205]. Действительно, "нельзя развлекаться вечно"; согласно "естественному" закону, "всякое затянувшееся удовольствие сменяется отвращением" [84, с. 207]. Природа не может предложить мудрецу нечто новое, ибо всё повторяется (Лукр. III, 944 и сл.). Эта "монотонность бытия" является основанием, "оправдывающим равнодушие эпикурейца перед лицом смерти" [84, с. 207]. Сам Эпикур "глядел в лицо смерти без страха и без надежды", "без сожаления" [84, с. 203], преподав "не только учение, но и живой образец атараксии перед лицом смерти" [84, с. 202].372
Спокойно смотрит в лицо смерти тот, кто не желает её упразднения и потому согласен с её расположением в природе индивидуального сущего. Кто "существует для одного себя, не может существовать вечно"373; природа не способна остановиться в своём движении, поглощающем индивидуальные существа. В этой природе "всякое существо, жизнь которого не имеет иной цели, кроме наслаждения, необходимым образом обречено на смерть". Если "человек не преследует иной цели, кроме личного удовольствия, как учит Эпикур, то он самым этим фактом обречён на уничтожение, и ему только и остаётся, что безропотно покориться ему, как следствию и условию своей настоящей жизни". Поэтому-то смерть "входит составной частью в жизнь" [84, с. 207], она уже здесь и всегда здесь; поэтому в смерти (как в любом наличном факте) "нет, строго говоря, ничего страшного" [84, с. 207].
Конечно, эпикурейская танатология вполне может быть подвергнута критике; для нас такая критика является немаловажной именно потому, что на почве этой танатологии вырастает эпикурейское учение о самоубийстве. Во-первых, подлежит сомнению идея о том, что момент наступления смерти есть момент наступления отсутствия субъекта (и следовательно, смерть никогда не переживается человеком в его опыте). "Мы не можем переживать смерть. Следовательно, она вообще не является частью доступной нам в переживании действительности. Она - голое прекращение, которое, покуда мы живём, ничуть не должно нас касаться, если же оно настаёт, то нами не переживается" [42, с. 127].
В основе этого суждения лежит вполне определённая мировоззренческая предпосылка. Она заключается в восприятии и истолковании времени как "развёртывающегося одномерного континуума", состоящего из строго последовательных, наступающих друг за другом моментов [42, с. 128]. Смерть при этом, естественно, наступает (является) лишь в своё время, исключительно "извне" и потому остаётся для жизни во всех её моментах совершенно случайной. "Для имманентно переживаемой жизни, - пишет Отто Больнов, - смерть выступала бы в качестве совершенно внешнего и случайного факта", наступая всегда "внезапно" [42, с. 129]. Однако для существования характерно постоянное нарушение временнóй последовательности: в проекте или надежде сам живущий "всегда уже оказывается вне настоящего мгновения" [42, с. 128]. Поэтому смерть не является лишь внешним концом, который при жизни человека ещё не наличествует; смерть в любой момент существования "уже сейчас содержится в текущей жизни в качестве сокровеннейшей возможности" [42, с. 133]. Поскольку в существовании настоящее формирует себя лишь под влиянием собственного соотнесения с будущим, постольку "смерть должна включаться в текущую жизнь в качестве предельного момента подобного соотнесения": жизнь всегда "соотнесена со смертью" и "считается с ней" [42, с. 128].
Рассуждение Эпикура об отсутствии субъекта смерти эмпирически невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Молчание, неподвижность, видимое разложение тела - не доказательства отсутствия субъекта. Важным представляется мнение Э. Левинаса: в момент прихода смерти субъект отсутствует не в силу его превращения в ничто, а в силу его "неспособности схватить" [см.: 89, с. 132], то есть в силу его неспособности реализовать себя в качестве субъекта в классическом смысле, ибо смерть - неклассическая ситуация. Александр Кожев пишет, что "рассуждения Эпикура годятся разве что для животных или вообще для недиалектических существ374, которые способны только претерпевать свой конец, но не могут сами идти к нему". Такое существо "существует" только в темпоральных пределах наличной жизни и уничтожается сразу после смерти. Действительно, смерть не существует для него, и о нём нельзя сказать, что "оно умерло". Но человек способен трансцендировать данное; поэтому "его будущее отсутствие представлено в его жизни", и эпикурейский аргумент не в состоянии исключить это "присутствие отсутствия" из человеческого бытия (то есть не в силах превратить человека в животное). Таким образом, человек смертен для-себя, и только поэтому он способен умереть в собственном смысле слова. "Ведь только он способен ещё при жизни понимать и осознавать неизбежность своей скорой смерти" [131, с. 125-126]. Только животному "неведома смерть" [27, с. 228].
Мысль Эпикура репрезентирует такое отношение к смерти, которое похоже на игру в прятки. "Это пафос оправдания повязки на глазах" [215, с. 123]. В данном случае философия (как и у стоиков) призвана исполнять "целительную функцию", но не в значении оздоровления, а в смысле обезболивания - как способ производства "фармакона, вызывающего общую анестезию" [215, с. 123-124].375 "Формула Эпикура является неким архетипом признания безвыигрышности роковой игры в прятки, - признания, дополняемого оправданием (хорошая мина при плохой игре)" [215, с. 124]. В игре со смертью индивид неизбежно проигрывает376.
Во-вторых, не выдерживает критики идея о том, что смерть не только следует за жизнью, но и предшествует ей (следовательно, если мы не боимся смерти до жизни, то не должны бояться и смерти после жизни). Например, Лукреций говорит:
Ты посмотри: как мало для нас значенья имела
Вечного времени часть, что прошла перед нашим рожденьем.
Это грядущих времён нам зеркало ставит природа
Для созерцанья того, что наступит по нашей кончине:
Разве там что-нибудь ужас наводит иль мрачное что-то
Видится там, а не то, что всякого сна безмятежней?
(Лукр. III, 973-978).
Значит, нам смерть - ничто и ничуть не имеет значенья,
Ежели смертной должна непременно быть духа природа.
Как в миновавших веках никакой мы печали не знали,377
<...>
Так и когда уже нас не станет, когда разойдутся
Тело с душой, из которых мы в целое сплочены тесно,
С нами не сможет ничто приключиться по нашей кончине,
И никаких ощущений у нас не пробудится больше 378
(Лукр. III, 830-832, 838-841).
Кстати, подобная установка может породить абсолютную безответственность, ибо смерть есть такое укрытие, которое гарантирует полную неуловимость субъекта по причине его абсолютного в ней отсутствия.
В одном из сократических диалогов платоновской школы воспроизводится этот же эпикурейский аргумент против страха смерти. Сократ говорит: "Подобно тому, как в правление Драконта или Клисфена тебя не могло коснуться ничто дурное, ибо ты, которого это могло бы касаться, ещё не жил на свете, точно так же ничто не коснётся тебя после твоей кончины, ведь тебя, которого это могло бы коснуться, уже не будет" (Аксиох 365 e). В новое время этот аргумент эпикурейцев повторился у Шопенгауэра. По его мнению, если бы страх небытия имел начало в разуме, "то мы должны были бы столько же тревожиться ничтожеством, предшествовавшим нашему существованию, сколько тем, которое должно последовать за ним. В действительности, однако, нет ничего подобного" [84, с. 193]. Поэтому для Шопенгауэра, как и для Эпикура, "страх смерти есть скорее плод воображения, чем разумной мысли, и философ должен от него отрешиться" [84, с. 194].
Аргумент Эпикура и Лукреция (а также Шопенгауэра) является, по мнению М. Гюйо, "софистическим", ибо "бесконечное ничтожество пугает нас лишь постольку, поскольку оно должно пресечь наше существование и остановить порыв нашей воли". Одно дело - ничтожество, предшествовавшее нашему рождению и завершившееся нашим существованием (то есть такое ничтожество, которое содержало перспективу существования); но совсем другое дело - существование, завершающееся ничтожеством (бесперспективностью). "Прошлое ничтожество нисколько не вредит настоящему существованию; грядущее ничтожество с минуты на минуту грозит упразднить его. Вы легко миритесь с мыслью, что не всегда обладали каким-нибудь благом, но легко ли мириться с мыслью, что рано или поздно судьба вырвет это благо у вас из рук?" [84, с. 194]. Таким образом, эпикурейская философия смерти (как и философия души) оказывается одной из слабейших сторон эпикуреизма.
Именно этими танатологическими рассуждениями готовится почва для суждения о суициде. С одной стороны, Эпикур не раз выступает против самоубийства. "Даже ослепнув, - говорит Эпикур о мудреце, - он не лишит себя жизни" (Диог. Х, 119). "Если мы не должны бояться смерти, то отсюда, по учению Эпикура, никак не следует, что нам следует желать её", - пишет М. Гюйо. Смерть лишает чувств, а как раз чувство является условием удовольствия; поэтому смерть как бесчувственность не может предпочитаться в качестве цели [84, с. 198]. С другой стороны, в эпикуреизме можно обнаружить и оправдание суицида. При случае, - говорит Эпикур, - мудрец даже умрёт за друга" (Диог. Х, 121 b). На самоубийственные перспективы эпикурейской физики и праксиологии указывает Цицерон: "Даже если душа - смертная, то всё равно в смерти нет ничего дурного" (Тускуланские беседы I, XXXIII, 81). "Пусть душа погибает так же, как тело"; тогда после смерти в ней "нет никакого чувства, ибо и самой-то души уже нет нигде"; а если так, то "где же, спрашивается, зло?" (Тускуланские беседы I, XXXIV, 82). Кроме того, "от всего дурного, а вовсе не от хорошего, отрывает нас смерть" (Тускуланские беседы I, XXXIV, 83). Вывод Цицерона таков: "Если бы я умер раньше, чем лишился всех своих утех, и домашних и общественных, смерть избавила бы меня от бед, а уж никак не от благ" (Тускуланские беседы I, XXXIV, 84). Поэтому самоубийство оказывается вполне эпикурейским способом уклонения от страдания.
По мнению М. Гюйо, призыв к самоубийству прямо вытекает из сообщения Диогена о наслаждении как единственном мотиве к продолжению индивидуального бытия и о равнодушии эпикурейцев к жизни и смерти (см.: Диог. Х, 126-127). "Если с нами случается какое-нибудь непредвиденное несчастье, неизлечимый недуг или, наконец, что-нибудь такое, о что беспомощно разбивается наша воля; если <...> природа посылает нам некоторый излишек страданий по сравнению с удовольствиями, тогда в распоряжении нашем всегда есть средство не быть несчастными: тут-то и наступает минута употребить превознесённое Гегесием геройское средство - уметь умереть" [84, с. 200]. Когда перед мудрецом альтернатива - несчастье или небытие, "надо отдать предпочтение небытию"; "смерть, которая сама по себе нисколько не дурна, может стать благом, когда она кладёт конец сумме зол, превосходящей сумму благ" [84, с. 201]. Правда, Гюйо при этом ссылается прежде всего на примеры стоической рецепции эпикуреизма у Марка Аврелия и Сенеки; однако подобное развитие идей Эпикура мы встретим и у Лукреция379. Если бы "сама природа" (Лукр. III, 931) заговорила, она могла бы сказать следующее:
Что тебя, смертный (mortalis), гнетёт и тревожит безмерно печалью
Горькою? Что изнываешь и плачешь при мысли о смерти?
Ведь коль минувшая жизнь пошла тебе впрок перед этим
И не напрасно прошли и исчезли все её блага,
Будто в пробитый сосуд налитые, утекши бесследно,
Что ж не уходишь, как гость, пресыщенный пиршеством жизни,
И не вкушаешь, глупец, равнодушно покой безмятежный?
Если же всё достоянье твоё растеклось и погибло,
В тягость вся жизнь тебе стала, - к чему же ты ищешь прибавки,
Раз она так же опять пропадёт и задаром исчезнет,
А не положишь конца этой жизни и всем её мукам?
(Лукр. III, 933-943).
Следовательно, с "физической" точки зрения, и неудавшаяся, и удавшаяся жизнь равно являются основанием для вольной смерти. Пожилому природа советует:
Вот и прошла, ускользнув, твоя жизнь и без прока погибла,
И неожиданно смерть подошла к твоему изголовью,
Раньше, чем мог бы уйти ты из жизни, довольный и сытый.
Но, тем не менее, брось всё то, что годам твоим чуждо,
И равнодушно отдай своё место потомкам: так надо
(Лукр. III, 958-962).
Продолжение жизни ничего не прибавляет к вечно наличному (повторяющему себя) положению дел, а самоубийство ничего от него не отнимает:
Нá волос даже нельзя продлением жизни уменьшить
Длительность смерти никак и добиться её сокращенья,
Чтобы поменьше могли мы пробыть в состоянии смерти.
Сколько угодно прожить поколений поэтому можешь,
Всё-таки вечная смерть непременно тебя ожидает.
В небытии пребывать суждено одинаково долго
Тем, кто конец положил своей жизни сегодня, и также
Тем, кто скончался уже на месяцы раньше и годы
(Лукр. III, 1087-1094).
Знаменательна оценка Альбером Камю философии Эпикура. "Длительные усилия этого любознательного ума, - пишет он, - тратятся на возведение стен вокруг человека, на восстановление цитадели и беспощадное удушение неудержимого крика человеческой надежды" [113, с. 140]. Создав эти стены, призванные отгородить его от судьбы, Эпикур ощущает себя "богом среди людей" [113, с. 141]. Лукреций попытался пойти дальше, сделать следующий шаг. "Греческие герои могли испытывать желание стать богами, но наряду с уже существующими божествами. В этом случае речь шла о продвижении по службе. У Лукреция же человек действует иначе - он совершает революцию. Низвергая недостойных и преступных богов, он сам занимает их место. Он выходит из ограждённого лагеря (построенного Эпикуром. - С.А.) и предпринимает первые атаки на божество" [113, с. 142]. Именно экспликация неявного а-теизма, содержащегося в теории Эпикура, и заставляет Лукреция явно провозгласить допустимость самоубийства, а затем и практически осуществить суицид380.
Итак, эпикурейская борьба с роком за достоинство индивида оканчивается, как и в стоицизме, поражением человека и победой смерти. Деистическая мировоззренческая платформа оказывается столь же монистической, как и пантеизм; она замыкает человека в наличном и не допускает для него никакой перспективы выхода в иное381. В наличном же человек всегда конечен, а потому и предрасположен к суициду. По-своему этот деистический дискурс воспроизведён в новоевропейской филосрофии, в частности, в трудах Давида Юма.
III
В понимании Юма жизнь есть индивидуальный опыт, который представляет собой последовательность отдельных "перцепций" (восприятий). В связи с этим Юм должен быть охарактеризован не только как атомист, но и как первый европейский "буддист" [ср.: 45, с. 523-524; 279, с. 134]. "В мире нет ничего постоянного, - говорит Юм, - каждая вещь, какой бы устойчивой она ни казалась, находится в беспрестанном течении и изменении" [286, с. 191]. Мир в целом также есть течение перцепций, сознаваемых нами как нечто "существующее"; из такого-то сознания и проистекает "наиболее совершенная идея бытия и уверенность в нём" [289, с. 161].Человеческому уму, таким образом, "никогда не дано ничего, кроме восприятий" [289, с. 163]. Да и сам субъект перцепций ("ум") - тоже лишь "коллекция" [182, с. 41] восприятий без воспринимающего [289, с. 397]. "Дух не есть субстанция", а душа "есть не что иное, как система или ряд различных перцепций" [288, с. 805]. Отрицание субстанциальности духа означает для Юма его совершенную ирреальность; при этом психика, разумеется, фатально схвачена смертью: с гибелью тела происходит необратимое разрушение того, что называется душой, ибо все восприятия, её составляющие, угасают и более не продолжаются и не возобновляются [289, с. 398]. Смерть, разлагая тело, превращает личность в "полное небытие" [289, с. 366].
Юм приводит множество аргументов в пользу гибели души по смерти тела, посвящая этому вопросу специальное исследование. Исходя из убеждения, что "всё обще у духа и тела" [286, с. 804], Юм указывает на тесную связь изменений в одном с соответствующими переменами в другом. Чем более меняется телесная сторона человека, тем сильнее отражается это на состоянии духа ("дух" и "душа" для Юма - почти одно и то же, ибо человек в его понимании двумерен: он утратил реальное присутствие духа); если же телесность "всецело распадётся", то и душа "последует" за ней в небытие [286, с. 803]. О таком положении дел свидетельствует "естественный разум", обнаруживая в нашей "нечувствительности" до телесного воплощения прообраз нашей же посмертной "нечувствительности" [286, с. 805]; отсутствие же чувств (перцепций), как мы помним, есть отсутствие души. Если нечто непреходяще, то оно должно быть и не возникающим; если бы индивидуальная душа была совершенно неразрушимой, то она должна была бы существовать и до нашего рождения. Однако опыт такого рода нам не дан, следовательно, до рождения мы не существовали [286, с. 799]. А если у нас отсутствует и до-жизненный, и по-жизненный опыт, значит, индивидуальная душа начинает существовать с момента своего телесного воплощения и погибает со смертью тела382.
Поскольку же для Юма опыт "есть единственный источник наших суждений", то никакая метафизика, по его мнению, не может убедительно раскрыть проблему вечной жизни. "Абстрактное рассуждение, - пишет Юм, - не может решить никакого вопроса о факте или существовании" [286, с. 798]. В крайнем случае, "здравая метафизика" способна допустить наличие некоей духовной "субстанции", рассеянной по вселенной подобно другой субстанции - материальной - и подчинённой, подобно последней, тем же законам природы. Дух, поименованный "субстанцией", сразу же теряет своё принципиальное отличие от всякого наличного целого, например, от материи, и начинает восприниматься как всего лишь иная материя; вполне определённо это продемонстрировали стоики, одни из наиболее последовательных апологетов самоубийства. Как тело по смерти разрушается, растворяясь в неразрушимой материальной субстанции, так и индивидуальная душа гибнет в неуничтожимой духовной субстанции, из которой затем возникнут новые смертные души [286, с. 799]. Мир, который нам дан, нестабилен; он "подаёт признаки немощи и распада" [286, с. 804]. Душа, будучи целиком от мира сего и, к тому же, являя собою наименее устойчивую форму этого мира, более всего сущего подвержена "величайшим нестроениям" и обречена на безусловное конечное разрушение. Да и куда же, в самом деле, могли бы вместиться бесконечно разрешающиеся души, если вселенная постоянна [286, с. 804]?
Таковы "физические аргументы" Юма против бессмертия души, а именно они суть "единственные философские аргументы, которые должны быть допущены в этом вопросе или даже во всяком вопросе факта" [286, с. 803]. Попытка опровержения этих аргументов должна, по мнению Юма, опираться на "какую-нибудь мнимую философию", на "какой-нибудь новый вид логики" или на "какие-нибудь новые силы духа" [286, с. 806], каковых английский скептик, конечно же, не имеет.
Мир человека, по Юму, есть "вселенная, создаваемая воображением" [289, с. 163]; "я", "душа", "Бог" суть только понятия. "Все наши идеи о Божестве, - утверждает Юм, - есть не что иное, как сочетание идей, которые мы приобретаем благодаря размышлениям над действиями нашего собственного ума" [288, с. 804]. Бог, следовательно, есть только порождение разума. И потому Он не просто идея, производная, как всякая идея, от "восприятий" [ср.: 289, с. 397]; Он - плод деятельности разума, разум же есть "не что иное, как сравнение идей и открытие отношений между ними" [289, с. 615]. Бог Юма, таким образом, рождён из его головы.
Рациональное понятие о Боге не может быть причиной добродетели, так как "разум сам по себе никогда не может быть мотивом какого-либо акта воли" [289, с. 554]; он "никогда не может вызвать какого-либо поступка или же дать начало хотению" [289, с. 556]; более того, "он никоим образом не может препятствовать аффектам в осуществлении их руководства волей" [289, с. 554]. Так Юм уничтожает всякий разумный критерий отличия добра от зла [55, с. 101]383; при отсутствии абсолютного (Божественного) критерия такого отличия остаётся только одно основание морального выбора - собственное чувство. "Моральные различия, - считает Юм, - всецело зависят от некоторых своеобразных ощущений страдания и удовольствия" [289, с. 737]; поэтому "главной пружиной, или движущим принципом человеческого духа является удовольствие или страдание" [289, с. 736]. Потому и грех может быть отнесён, как заметил Ницше, лишь к разряду "неприятных общих чувств" [188, с. 582].
Должное, относимое Юмом к сфере разума, и сущее, данное как впечатление до и помимо всякой рефлексии, не имеют ничего общего: "долженствование" рационально не выводимо из "существования" [55, с. 105]. Аффект, руководящий волей, никак не может находиться в противоречии с разумом, ибо идея не может быть причиной волевого акта [см.: 289, с. 554-558]; поэтому должное не имеет отношения к области действия в наличном384. "Я ни в коей мере не вступлю в противоречие с разумом, если предпочту, чтобы весь мир был разрушен, тому, чтобы я поцарапал палец" [289, с. 557]. Моральные оценки, согласно Юму, - результат не суждений разума, но эмоций [182, с. 51]. "Откуда узнали мы, что есть такая вещь, как моральное различение, как не из наших собственных чувств?" - вопрошает Юм [286, с. 802; ср.: 188, с. 582-583]. Безразличие к практическим вопросам нравственности [55, с. 106] есть тот главный мотив этики Юма [182, с. 51], который исчерпывает собой эту самую этику и становится основанием нигилизма одного из отцов деструктивного умозрения современной Европы.
Внешним и явным признаком лежащей в сердцевине мировоззрения Юма упомянутой разрушительности надо признать вышедшую из-под его пера пропаганду самоубийства. "Здравая философия" [287, с. 806] здесь вполне господствует, а всякое "суеверие" отброшено напрочь. Цель, провозглашённая самим автором апологии суицида, состоит в попытке "вернуть людям их прирождённую свободу", возвратить им ту власть над собственной жизнью, которой они лишились [287, с. 808]. Автономия личности может считаться совершенной, если эта личность может покончить с собой; поэтому доказательство такой автономии достигается радикальным оправданием самоубийства. Право на вольную смерть утверждается Юмом в трёх аспектах, которые можно обозначить как метафизический, социологический и психологический.
Во-первых, самоубийство не является нарушением нашего долга по отношению к Богу [287, с. 808]. Этот тезис доказывается Юмом с опорой на главное его метафизическое убеждение, состоящее в признании предопределения (которое он называет провидением) и отрицании промысла Божия. Создатель, согласно Юму, управляет миром не непосредственно, а через посредство установленных Им "общих и неизменных законов"; этими законами всякое живое существо побуждается и направляется на том "жизненном пути", к которому оно предназначено [287, с. 808]. Вручив законам управление вселенной, Творец остаётся совершенно трансцендентным миру и тем самым - бессильным изменить что-либо из Им Самим установленного. Провидение Божие, считает Юм, не проявляется непосредственно в каком-либо действии [287, с. 809]: в этом мире невозможно чудо, а Создатель не есть Спаситель. "Если общие законы нарушаются когда-либо частными волениями Божества, то это происходит таким путём, который всецело ускользает от человеческого наблюдения" [287, с. 810]. Реально же только то, что от наблюдения не ускользнуло и составило факт человеческого опыта; поэтому всякий свершившийся факт законен, а чуду, как явлению непосредственной воли Божией, нет места. Так должен думать Юм, "исходя в рассуждении из обычного хода природы и не предполагая нового вмешательства Высшей Причины", ибо "это никогда не может быть допущено в философии" [286, с. 799]. Таким образом выявляется общая деистическая установка Юма.
Человек, действующий в мире, поступает так или иначе в силу тех способностей, которыми он наделён от Бога (то есть изначально). В связи с вопросом о способностях человека возникает проблема его свободы. На что способен сам человек? Все события человеческой жизни, пишет Юм, могут быть поняты как "в известном смысле" деяния Бога; но в смысле самом прямом и непосредственном они "проистекают" из тех самых сил, которыми Творец наделил Свои создания. Человеческие способности - не менее дела Божии, чем законы, например, движения или тяготения [287, с. 809]. Поэтому всякий человеческий поступок есть "только следствие тех сил и принципов, которые Он внедрил в Свои создания" [287, с. 813]. Такая точка зрения на человеческую активность позволяет считать любое действие законным; но с отрицанием вменяемости упраздняется ответственность, а с упразднением ответственности ликвидируется свобода. "Каждое действие, каждое движение человека видоизменяет порядок некоторых частей материи"; но то, что может восприниматься как нарушение законного положения дел, по зрелом размышлении должно быть признано не чем иным, как законной реализацией способностей; а потому никакая свобода деятельности не может разрушить общих законов провидения, ибо не выводит деятеля из-под власти необходимости действовать именно так [287, с. 811].
Следовательно, действие человека определяется не должным, а возможным (как изначально расположенным в наличном бытии)385; его право есть право силы. Не преступно всё то, что в моих силах [287, с. 812], ибо то, что оказывается в моих силах, уже тем самым санкционировано Богом. Если не преступно сохранить свою жизнь, то не преступно и прервать её [287, с. 811]. Если моя покорность Провидению не исключает сноровки и радения, но, напротив, требует их, то она не противоречит и возможности "избегнуть грозящих мне зол" [287, с. 812]. Самоубийство будет лишь использованием той силы, которою я наделён от Бога, утилизацией "дара", предоставленного мне свыше [287, с. 807]. "Нет такого существа, - пишет Юм, - которое обладало бы силой или способностью, полученною не от Создателя; да и такого нет, которое могло бы каким-либо поступком <...> извратить план Его Провидения" [287, с. 813]. Если же сила, потребная для совершения определённого поступка, всегда "проистекает от Верховного Создателя", то "действия существа суть дела Божии" [287, с. 813]. И потому самоубийца получает смерть "из руки Божества" [287, с. 812]. Пусть самоубийство - результат длинной и не всегда осознаваемой цепи причин, "из которых многие зависели от добровольных поступков людей". Но всё же Провидение "руководило этими причинами", ибо "ничто не происходит во вселенной без Его согласия и содействия". Посему и "моя смерть, хотя произвольная, произойдёт не без Его согласия" [287, с. 814], установленного изначально.
Бог, следовательно, и желает моей смерти, и содействует ей. Так как каждое действие предполагает причину, "а эта - другую", то мы обязаны предположить Самого Бога в качестве изначальной Причины всего [286, с. 801]. Поскольку Бог есть причина всего, а всякое самоубийство небеспричинно, постольку Бог есть причина самоубийства. Ничто в мире не совершается произвольно, т.е. вне механизма предустановленных Богом причин и следствий [182, с. 37, 53; 289, с. 540]. А если "всё происходящее установлено Им", то, следовательно, "ничто не может быть предметом Его кары или мести" [286, с. 801]. Только Бог повинен в "добровольной" смерти человека; самоубийца невиновен, ибо он несвободен.
Таковы рассуждения классического деиста. Оставив самого себя без Бога, он оказался в экзистенциальном одиночестве. "Где я и что я? Каким причинам я обязан своим существованием и к какому состоянию я возвращусь? Чьей милости должен я добиваться и чьего гнева страшиться? Какие существа окружают меня и на кого я оказываю хоть какое-нибудь влияние или кто хоть как-нибудь влияет на меня? Все эти вопросы приводят меня в полное замешательство, и мне чудится, что я нахожусь в самом отчаянном положении, окружён глубоким мраком и совершенно лишён употребления всех своих членов и способностей" [289, с. 384-385]. Но это сознание собственного ничтожества и служит оправданием морального произвола и вседозволенности. Всё, что я могу сделать, я могу сделать по воле Божией, неизменно воплощённой в необходимости законов природы. А всё, что от Бога, есть наилучшее [286, с. 799]. Следовательно, всё, что я могу, я могу законно, по Божию предустановлению. Но и хочу-то я только того, что в моих силах; если не так, то в мире царствует не закон, а абсурд, что невероятно. "Заметьте, с какою точною соразмерностью согласованы повсюду в природе задача, которую надлежит выполнить, и выполняющие силы" [286, с. 800]. Итак, всё, что я делаю, мне позволено; оно-то и есть всегда наилучшее; хотящееся есть возможное (как расположенное в пределах досягаемости), а возможное и есть должное. Человек, желающий навсегда положить предел своему "злополучию", вырваться из "муки и скорби", освободиться от "ненавистной жизни" [287, с. 807], желает наилучшего и имеет силы для осуществления этого желания; но у человека нет сил для бессмертия.
Псевдо-религиозность Юма как замкнутость его мировоззрения обусловила непонимание им должного как такового, то есть как отличного и от необходимого, и от возможного. Ведь если свобода уничтожена всеобщим неизменным законом природы, перед которым бессилен даже Бог, его создавший, то для должного, не имеющего ничего общего с необходимым, не находится места. Возможное же возможно и без моего личного участия, помимо моей индивидуальной воли, само собой (как положенное изначально). Должное в истинном смысле может относиться только к невозможному. Желать невозможного нелепо, абсурдно; однако только такое желание есть выражение свободы, с которой борется Юм. Самоубийство осознаётся мною как вполне возможное для меня, и, осуществив его, я осуществляю мою волю как мою. Но Бог требует от нас невозможного [267, с. 657], иными словами, Он хочет от нас нашего хотения невозможного для нас - хотения жить. Осуществление же невозможного - жить - возможно с помощью Бога; потому-то человек и вспоминает о настоящем Боге лишь тогда, когда он хочет действительно невозможного; за возможным он обращается к людям [267, с. 657]. Способность к возможному самоубийству побеждается волей к невозможной жизни, то есть моя способность к возможному превосходится моей волей к невозможному в со-действии с Его способностью ко всему.
Однако в свете деизма не только самоубийство, но и вообще любой человеческий поступок не может считаться нарушением долга по отношению к Богу. Более того, самоё должное нельзя помыслить помимо возможного, а возможное - помимо необходимого; иначе должное надо представлять лишь игрой ума, не имеющей отношения к реальности. Следовательно, самоубийство, как человеческое деяние, "свободно от всякой вины или нарекания" [287, с. 808], ибо рукой самоубийцы двигала предустановленная Богом судьба.
Во-вторых, самоубийство, по мнению Юма, не является нарушением долга по отношению к обществу. Уходящий из жизни всего лишь перестаёт делать добро, приносить пользу; но обязанность делать добро с необходимостью должна иметь какие-то границы. "Я не обязан делать незначительное добро обществу за счёт большого зла для себя самого" [287, с. 815], ведь наши с обществом взаимные обязанности - обоюдны. Если же я не могу уже нести своих общественных обязанностей, но, напротив, становлюсь только потребителем общественных благ, то я имею полное право прекратить "эти несчастия"; ведь покойник не требует денежного содержания. Будучи больным, немощным, неспособным к социальному служению, я становлюсь только бесполезной обузой, я занимаю не своё место под солнцем; моя продолжающаяся жизнь может даже прямо мешать "каким-нибудь лицам быть более полезными обществу", отвлекая на себя их силы. В таком случае "мой отказ от жизни должен быть не только безвинным, но и похвальным" [287, с. 816]. Самоубийство по политическим мотивам также не должно осуждаться, ибо оно, по мнению Юма, обычно имеет целью содействие "общим интересам", во имя которых самоубийца и отказывается от своей "жалкой жизни" [287, с. 816]. Если же человек справедливо приговорён судом к смертной казни, то он, кончая с собой, лишь выполняет волю общества [287, с. 816]. Сократ совершил как раз такое похвальное самоубийство.
В-третьих, самоубийство не является нарушением нашего долга по отношению к самим себе. "Что самоубийство часто может совмещаться с нашим интересом и нашим долгом по отношению к нам самим - это не может быть вопросом ни для кого, кто признаёт, что возраст, болезни или невзгоды могут превратить жизнь в бремя и сделать её даже хуже, чем уничтожение" [287, с. 816]. Не всегда причиной самоубийства бывает "внешнее" неудобство. Известно, что человеческие поступки "находятся в постоянной связи, в постоянном соединении с положением и темпераментом действующего лица" [289, с. 543]. Даже если человек здоров и дела его идут нормально, он может быть "заклеймён такою безнадёжною извращённостью или мрачностью нрава", которые отравляют ему "все удовольствия" и делают его несчастным [287, с. 816]. Самоубийство как следствие тяжёлого характера и мрачного взгляда на жизнь также не должно считаться противным долгу в отношении себя самого, ибо и в этом случае самоубийца удовлетворяет именно собственную прихоть.
Итак, самоубийство не является преступлением ни по отношению к Богу, ибо оно всегда необходимо и законно, ни по отношению к обществу, ибо оно полезно, ни по отношению к самому себе, ибо оно прекращает страдания. Этими положениями Юм полемизирует с Фомой Аквинским, утверждавшим, что самоубийство есть грех относительно самого себя, относительно общества и относительно Бога [см.: 35, с. 15]. Если же оно не преступно, то наши благоразумие и мужество должны помочь нам "избавиться от существования, когда оно становится бременем" [287, с. 817]. Именно таким образом, считает Юм, мы можем быть полезны ближним, так как "подаём пример" действия, способного освободить каждого "от всякой опасности или злополучия" [287, с. 817]. Юм с помощью своего рассуждения, однако, освобождает всякого своего "подражателя" [287, с. 817] не столько от опасности и злополучия, сколько от ответственности386. Человек у Юма из морального существа превращён в пассивный элемент космического механизма, у которого свобода отнята во имя закона и которому неизбежность вручена взамен надежды. Потеря Бога вызывает деформацию нравственных понятий, и высшее право человека - право иметь обязанности - подменяется необходимостью быть свободным от долга.387
Итак, деистическая платформа Юма, совершенно "удаляя" Бога из мира, ставит во главе этого мира учреждённый Богом закон; такая точка зрения делает всякое зло законным, а Бога - виновником зла. Человек оправдывается через отнятие у него свободы. Ту "естественную свободу", о которой говорит Юм [287, с. 817], "здравый смысл" требует назвать необходимостью [289, с. 551]. Господство же этой необходимости делает беспочвенной всякую надежду, утверждая окончательную безнадёжность. "Сладчайшим заблуждением смертных" назвал надежду Чезаре Беккариа [32, с. 355], один из поклонников философии Юма, благоговевший перед "бессмертными творениями" своего "учителя" [32, с. 43-44] и приложивший немало сил для утверждения права человека на самоубийство [см.: 32, с. 354-363; ср.: 77, с. 234]. По существу так же относится к надежде и Вольтер: "Живи, пока у тебя есть обоснованная надежда; коль скоро ты её утратил - умри"388. Но, как было сказано ранее, надежда не может быть обоснована или гарантирована, если она - именно надежда; она всегда есть упование на достижение недостижимого и на возможность невозможного. Отрицание такого понимания надежды есть отрицание надежды вообще.
Деистическая установка Юма заставляет нас полагать, что Бог однозначно трансцендентен миру, что Бог вне мира и мир вне Бога, что Бог зол (ибо является источником всякого зла). Принцип и основание наличного мира - в человеке, но вне Бога, ибо Бог, предоставив человеку его способности, дал ему и власть над бытием, Сам от неё отказавшись. В этом и состоит вечный и неизменный закон природы, ибо Бог никогда не сможет вернуть Себе утраченную власть, не сможет сделать раз бывшее не бывшим. Бог, осуществив только предопределение, лишился способности к промыслу, которая полностью перешла в руки по необходимости свободного человека. Деистически обоснованный произвол твари, как и пантеистический диктат природной необходимости, суть варианты атеизма389, сходные тем, что одинаково лишают человека надежды на невозможное и, таким образом, являются типами мировоззрения, продуцирующими необходимое условие самоубийства.
Юм рассуждает в границах мировоззренческой парадигмы Просвещения, абсолютизирующей автономность человека, точнее, его разума и воли. Гуманизм как антропоцентризм, вера в человека, оптимизм в отношении его способностей до конца распорядиться собственной жизнью, отрицание смысла в "абсурде" религиозных ценностей и целей, - таковы элементы этой парадигмы. Но, потеряв Бога, оказавшись в состоянии метафизического одиночества, автономная личность выясняет для себя только одно: всё её величие состоит в том, что она ничего не значит. Эмансипация индивидуума достигается им ценой собственной гибели. Оптимист Юм говорит: "Я всегда был склонен видеть скорее приятную, чем неприятную сторону вещей" [285, с. 70]; но для оправдания этого оптимизма в отношении способностей человека Юм вынужден "предельно приземлить человеческую природу" [182, с. 41] и заявить о ничтожности человеческого существа: "Жизнь человека не более важна для вселенной, чем жизнь улитки" [287, с. 811]. Волос, муха, любое насекомое в силах разрушить мощное существо, жизнь которого столь якобы важна390. "Разве нелепо предположить, что человеческое благоусмотрение может с правом располагать тем, что зависит от столь незначительных причин?" [287, с. 811]. Как видим, уверенность в человеческих силах проистекает из убеждения в его ничтожестве. Человек, обнаруживший себя в состоянии метафизического одиночества (безбожия) с необходимостью оказывается таким всемогущим ничтожеством, то есть самоубийцей.
Итак, деистическая платформа в её атомистическом варианте утверждает неизбежность подчинения человека наличному закону (природе), который по отношению к индивиду являет себя как закон распада (редукции к элементарному), что и провоцирует склонение к вольной смерти. В противоположность такому антропологическому редукционизму можно было бы выдвинуть те философские концепции, которые предлагают, напротив, восхождение к единству (во всяком случае, декларируют такое восхождение). Имеется в виду, прежде всего, платонизм, чья суицидологическая программа сейчас и будет рассмотрена.
Лекция 11. Бессмертие и самоубийство: презрение к телу
I
Логично искать предпосылки платонической теории суицида (к которой мы подошли в предыдущей лекции) в кругу уже известных нам античных представлений о божестве, судьбе, природе и душе. И здесь мы обнаружим знакомые идеи гармоничности, целостности и единства, основанные в данном случае на созерцании той совокупной идеи идей, к которому возводит душу диалектика. Этот ноуменальный предел теоретического философствования вбирает в себя и сводит к себе феноменологически очевидные оппозиции хаоса и эйдоса, эмпирического и умопостигаемого, тела и души, которые прежде всего принято отмечать у Платона. Эти противоположности, как того и требует диалектический метод, органично сплавляются в том самом синтезе, который с необходимостью предполагает различие и как своё логическое условие, и как своё онтологическое следствие, замыкаясь в высшее единство природы - единство единства и противоположности.
Как любая вещь, так и космос в состоянии совершенства (то есть при соответствии своему эйдосу) представляют собой "целое - стройное и слаженное" (Горгий 504 а). Телесно человек (микрокосмос) является лишь проявлением макрокосмоса, воплощением космических стихий (Филеб 29 ае). То же правило (индивид - выражение универсального) имеет отношение и к душе (Филеб 30 а): последняя в своём совершенном устроении тоже опирается на "слаженность и порядок" (Горгий 504 b). Этот высший психологический порядок именуется у Платона "законностью" и "законом" (Горгий 504 cd), в чём выражен известный уже принцип метафизической однородности бытия во всех его логически отвлечённых аспектах - физическом, социальном, этическом. Философски усматриваемый принцип господства такой однородности выражен как тотальное руководство космического Ума391. Это и есть руководящая причина, соединяющая материальный и умопостигаемый миры, вносящая монизм как абсолютное измерение в дуалистическую картину непосредственно данной противоположности вещного и созерцаемого392.
К этому "неделимому" началу космоса и возводит мудреца диалектика. "Прежде всего надо познать истину относительно любой вещи, о которой говоришь или пишешь; суметь определить всё соответственно с этой истиной, а дав определение, знать, как дальше подразделить это на виды, вплоть до того, что не поддаётся делению" (Федр 277 b). Таковы "правила искусства" (Федр 277 b) диалектического рассуждения о сущем. Такое рассуждение - "способность, охватывая всё общим взглядом, возводить к единой идее то, что повсюду разрозненно" (Федр 265 d); обладающих такой способностью Сократ называет "диалектиками" (Федр 266 c). Диалектик - это тот, кто способен обозревать всё сразу; кто же на это не способен, тот не таков: ο μεν γαρ συνοπτικος διαλεκτικος, ο δε μη ου (Государство 537 с).
Диалектический метод у Платона ещё сохраняет определённую близость к своими историческим корням (дискуссиям софистов). У него мы имеем дело с подлинными (актуальными) диалогами, где тезис и антитезис представлены различными персонажами, вступающими в дискуссию393. Что касается синтеза, то его должен произвести не уходящий в сторону автор, а слушатель, который в данном случае и является (или вынужден быть) философом. Этот слушатель, оказываясь как бы на переднем плане философского действия, в конечном счёте достигает истины, которая венчает (то есть начинает и оканчивает собой) всё диалектическое многообразие и движение, той истины, которая раскрывает "тотальное" (синтетическое) Благо [131, с. 23-24].
Слушатель (читатель) восходит до этого "синтеза", до "безусловной истины", понимаясь "к тому Единственному, которое не находится в оппозиции к Другому, поскольку оно есть Всё, Целое - Идея идей, или Благо" [131, с. 22]. Такое Единое (субстанция) исключает что-либо реально иное себе (трансцендентное), а следовательно, не допускает никакого личного (трансцендирующего) бытия394. Отсюда понятно, почему философской душе "предназначено вечно стремиться к божественному и человеческому в их целокупности" (Государство 486 а), в их пантеистическом естественном единстве. Целью такого стремления является растворение индивида в однообразии природного (субстанциального) бытия, в том "высшем начале", которое и у Платона, и у Плотина не имеет ни имени, ни лика; оно "безлично, как природа". Плотин именует его "количественным термином" Единое (το εν). Это-то Единое по сути тождественно безликой и безымянной судьбе [237, с. 389]395.
Судьба как раз и определяет порядок явления и отхода всякой вещи, в том числе, по мнению Сократа, время и способ смерти человека: "Если богам угодно так, пусть будет так" (Критон 43 d). Справедливость такого порядка выше ценности личной жизни: "Не ставь ничего впереди справедливости - ни детей, ни жизни" (Критон 54 b). Согласно Плотину, сущность мирового порядка есть Αδραστεια (Неизбежность), по смыслу включающая в себя справедливость (δίκη) и мудрость (σοφία) [237, с. 388]396. Адрастия, кроме того, тождественна Немесиде (Νεμεσις), богине неотвратимого возмездия [52, ст. 20, 840]. Таким образом, космос управляется справедливым и мудрым законом неизбежного возмездия (кармы), то есть судьбой. Отсюда понятны и "спокойствие" того же Плотина, и его полная экзистенциальная пассивность: в гармонически организованном мире всё неизбежно и всё уместно - свобода и необходимость, красота и безобразие, жизнь и смерть. Адрастия являет себя в "космическом оборотничестве" единой природы, меняя лики сущего и обеспечивая "успокоительный круговорот души" [237, с. 388]. Вечная красота и гармония целого (το παν) делает всё бывающее "логически и эстетически обоснованным", адаптируя к этому целому любое несовершенство индивидуального. В результате мир и человек теряют всякую перспективу преображения (трансцендирования) наличного положения дел, ибо чистая эйдетика (диалектика) не может полагать никакого направления и никакой цели вне данного и созерцаемого [237, с. 388-389], допуская не онтологический, но только эстетический экстаз.
В таком экстазе индивид возбуждает в себе универсальную (безличную, стихийную) божественность, то есть, иначе говоря, стремится к исчезновению в качестве отдельного лица. Ясно, что тема бессмертия души с необходимостью оказывается связанной с темой самоубийства, а всякий дискурс по поводу вольной смерти прямо или косвенно опирается на идею посмертной участи.
Как известно, Платон приводит четыре доказательства бессмертия души (Федон 70 c - 107 b). Первое доказательство (логическое) состоит в том, что любые противоположности взаимно переходят друг в друга. Мёртвое переходит в живое, а живое - в мёртвое (о том же, как мы знаем, сообщал и Анаксимандр). Поэтому "живущие возникли из мёртвых ничуть не иначе, чем мёртвые - из живых" (Федон 72 а). Души после физической смерти идут в Аид, а оттуда "снова возвращаются сюда, возникая из умерших" (Федон 70 с). Отсюда важное моральное следствие: пребывание в Аиде и последующая земная судьба души зависят от её жизни в нынешнем теле (здесь у Платона выявляется закономерная связь идей реинкарнации и кармического воздаяния). В связи с этим смерть сама по себе (как переход к новому рождению) не должна пугать человека рассудительного, которого "страшит" лишь "совершённая несправедливость, потому что величайшее из всех зол - это когда душа приходит в Аид обременённой множеством несправедливых поступков" (Горгий 522 е). Душа умершего обязательно проходит через суд (Государство 614 с) и помещается в Аиде (Федон 107 е). "Встретив там участь, какую и дóлжно, и пробывши срок, какой должны они пробыть, они возвращаются сюда <...>, и так повторяется вновь и вновь через долгие промежутки времени" (Федон 107 е). Перевоплощение, в том числе и в животных (Федон 81 е - 82 b; Государство 618 а, 620 аd; Федр 249 b), происходит согласно тем "навыкам, какие были приобретены в прошлой жизни" (Федон 81 е; ср.: Государство 620 а). Следовательно, "душа человека бессмертна, и, хотя она то перестаёт жить [на земле] - это и называют смертью, то возрождается, но никогда не гибнет" (Менон 81 b)397.
Второе доказательство основано на идее знания как припоминания того, что душа знала до своего телесного рождения (этим положением, кстати, заранее отвергается утверждение эпикурейцев об отсутствии такой памяти, которое они выдвигали в качестве аргумента в пользу не-существования индивида до его физического рождения). "А раз душа бессмертна, часто рождается и видела всё и здесь, и в Аиде (то есть знает всё имманентное. - С.А.), то нет ничего такого, чего бы она не познала" (Менон 81 с; ср.: Федр 249 c, Филеб 34 bc). Третье доказательство представлено как обоснование самотождества эйдоса души. Душа существует до тела как "сущность (ουσια), именуемая бытием (ο εστιν)" (Федон 92 е), лишь временно воплощаясь в изменчивые тела. Четвёртое доказательство утверждает, что душа есть эйдос жизни; мысль тут возвращается к первому доказательству, но уже на новом, более высоком диалектическом уровне: "из противоположной вещи рождается противоположная вещь", однако "сама противоположность никогда не перерождается в собственную противоположность ни в нас, ни в природе" (Федон 103 b). Иными словами, природный круговорот целого не может перейти в своё иное. Переход жизни в смерть представляет собой лишь расхождение души и тела (Горгий 524 b); смерть тела не может быть причиной смерти души, источника и причины как прошлой, так и всякий раз новой телесной жизни. Итак, "любая душа бессмертна" (Аксиох 372 а).
На этой (важнейшей для нашей темы) идее бессмертия души Платон основывает свою метафизику самоубийства, всегда увязанную у него как с этикой, так и с политикой, ибо и добродетель, и государственность в одно-образном (моно-эйдетическом) космосе утверждает и организует один и тот же универсальный порядок (строй). Эта метафизика, как и следовало ожидать, носит дуалистический характер, за которым, правда, можно обнаружить всё то же единство закона-природы.
II
С одной стороны, самоубийство представлено у Платона как акт деструктивный и потому запретный. Наложить на себя руки "считается недозволенным", как говорит Сократ, ссылаясь на Филолая (Федон 61 с). "Бесспорно, есть люди, которым лучше умереть, чем жить"; однако "считается нечестивым, если такие люди сами окажут себе благодеяние", поэтому "они обязаны ждать, пока их облагодетельствует кто-то другой" (Федон 62 а).398 Разумеется, утверждение о "нечестивости" самоубийства требует аргументации. Однако представленные Платоном аргументы против совершения самоубийства не могут быть признаны философскими; они носят скорее юридический, мифологический или политический характер. Рассмотрим эти аргументы.
Социально-политический аргумент. Достаточно очевидно, что "конечная цель человеческого существования в миросозерцании древних греков подчинялась государству" [240, с. 54] как объективному социальному порядку. Личность в античном обществе и античной (дохристианской) культуре ещё не присутствует; индивиды растворяются в "коллективном и, так сказать, органическом целом" [265, с. 91]. Распоряжение собой могло совершаться здесь только с разрешения государства, исходя из политической целесообразности. Поэтому и самоубийство, санкционированное государством, "рассматривалось как законный акт" [98, с. 450-451]. Но суицид, совершённый вопреки интересам полиса, должен был восприниматься как нанесение ущерба этим интересам и превращался, таким образом, в политически измеряемое и уголовно наказуемое убийство гражданина. "Чему же в таком случае, - спрашивает Платон, - должен подвергнуться человек, убивший то, что всего ближе и, как говорится, всего дороже? Я говорю о самоубийцах, которые насильно лишают себя того, что им суждено судьбой, хотя их к этому не приговаривало государство, не вынудила неотвратимым страданием несчастная случайность или выпавший на их долю тягостный стыд, делающий невозможной жизнь: сами над собой творят они этот неправедный суд, из-за своей слабости и отсутствия мужества" (Законы 873 с).
Вольная смерть как манифестация слабости и трусости, измеренных именно в политическом масштабе, представлена и проанализирована у Аристотеля, который в этом пункте выступает как комментатор Платона. "Умирать, чтобы избавиться от бедности, влюблённости или какого-нибудь страдания, свойственно не мужественному, а, скорее, трусу, ведь это изнеженность - избегать тягот, и изнеженный принимает [смерть] не потому, что это хорошо, а потому, что это избавляет от зла" (Никомахова этика III, 1116 а 10-15).
Аристотель пробует поместить самоубийство в сферу компетенции права, однако вынужден закончить констатацией его исключительно политического смысла. На первый взгляд очевидно, что человеку возможно "поступать с самим собой неправосудно", ибо правосудное - это "то, что установлено законом в согласии со всей добродетелью; так, закон не приказывает убивать самого себя, а что он не приказывает, [то] воспрещает. Далее, когда человек вопреки закону причиняет вред, к тому же не в ответ на вред, [ему причинённый], и по своей воле, он поступает неправосудно, а [самоубийца поступает] по своей воле, потому что он знает, кому [вредит] и зачем. И ещё: кто в гневе поражает себя по своей воле, совершает это вопреки верному суждению, закон же этого не разрешает. Следовательно, [такой человек] поступает неправосудно" (Никомахова этика V, 1138 a 5-10). Однако здесь надо учесть одно особое обстоятельство. Тот, кто убивает себя, одновременно "испытывает и делает" неправосудное; между тем, поступая с собой неправосудно, самоубийца "терпит неправосудие по своей воле". Очевидно, "что и то и другое дурно - и терпеть неправосудие, и поступать неправосудно"; самоубийца же, как представляется, соединяет в своём действии оба эти измерения "неправосудности" (Никомахова этика V, 1138 a 20-30). Правда, отсюда можно заключить, что убийство самого себя значит примерно то же самое, что и кража собственного имущества. Кто же в данном случае является пострадавшей стороной?
Самоубийца "страдает по своей воле"; однако "никто не терпит неправосудие по своей воле" (Никомахова этика V, 1138 a 10-15). Действительно, трудно применить правовые определения для квалификации отношения человека к самому себе; для этого пришлось бы разделить его на "части", одна из которых (допустим, разумная) оказывает влияние на другую (допустим, неразумную), "и потому у этих [частей души] своего рода право в отношениях друг к другу" (Никомахова этика V, 1138 b 5-15). Но в применении к человеку в целом этот вопрос - "возможно ли самому с собой поступать неправосудно (αυτος αυτον αδικειν)" из разряда вопросов, "вызывающих затруднения" даже у Аристотеля (Никомахова этика V, 1136 b 1). Ведь ясно, что по своей воле можно наносить вред, но терпеть вред по своей воле не расположен никто (Никомахова этика V, 1136 b 5-10): человек согласен претерпевать лишь то, что так или иначе представляется ему полезным. Отсюда следует, что самоубийца в правовом смысле не жертва, а только преступник; пострадавшей стороной в этой ситуации может быть признан лишь полис (Никомахова этика V, 1138 a 10-15), без своей санкции теряющий собственного гражданина. "Вот почему государство даже налагает взыскание на самоубийцу и своего рода бесчестие преследует его как человека, который неправосудно поступил по отношению к государству" (Никомахова этика V, 1138 a 10-15)399.
Философское предание, между тем, содержит две версии вольной смерти самого Аристотеля; первая из них указывает, кстати, на чисто политические основания его самоубийства, вторая - на основания научно-гносеологические. "Стало быть, - пишет Диоген Лаэртский, - Аристотель уехал в Афины, и там он тринадцать лет возглавлял школу, пока ему не пришлось бежать в Халкиду, оттого что его привлёк к суду за бесчестие иерофант Евримедонт" (Диог. V, 5). "В Халкиде он и скончался, выпив аконит" (Диог. V, 6). Диоген сочинил о смерти Аристотеля такие стихи:
Евримедонт, богини Део служитель и чтитель,
За нечестивую речь в суд Аристотеля звал.
Но аконита глоток избавил того от гоненья:
В нём одоленье дано несправедливых обид
(Диог. V, 8).
Согласно второй версии, когда Аристотель "не смог открыть природу Эврипа (пролива между Эвбеей и материком. - С.А.), то бросился в него, высказав краткое изречение: επειδη Αριστοτελης ουχ ειλετο Ευριπον, Ευριπος ειλεο Αριστοτελην, то есть "поскольку Аристотель не овладел Эврипом, Эврип овладел Аристотелем". Этим он свидетельствовал, что в созерцании заключается не блаженная жизнь, но беспокойство и смерть. Стал он, таким образом, вместо счастливого жалким, вместо учёного убийцей, вместо мудреца безумцем. <...> О если бы те, кто следуют мнению Аристотеля, последовали также и роду смерти", - пишет Лоренцо Валла [50, с. 179]. Смерть Аристотеля была вызвана, кроме прочего, "неистовой и чёрной желчью, как говорит Веджо. Об этом наряду с другими вспоминает Григорий Назианзин в книге "Против Юлиана"" [50, с. 222].400 Резюме самого Лоренцо Валлы выглядит так: "Мы не желаем знать высокое, но боимся стать подобными философам, называющим себя мудрыми, но сделавшимся глупцами, которые, чтобы не показаться кому-нибудь невеждами, рассуждают обо всём, задирая к небесам свои морды и желая забраться туда, чтобы не сказать, разодрать их, подобно гордым и безрассудным гигантам, которые были повергнуты на землю мощной дланью Бога и погребены, как Тифон в Сицилии, в аду. И одним из первых среди них был Аристотель401, в котором наилучший и великий Бог раскрыл гордыню и безумие как его самого, так и других философов, и даже осудил их" [50, с. 289]. Приводя известную уже фразу Аристотеля об Эврипе, Валла заключает: "Что же надменнее и безумнее, чем это? Или каким образом Бог может с помощью более открытого суждения проклясть ум этого и других ему подобных, нежели позволив им, вследствие непомерной страсти к знанию, впасть в безумие и лишить себя жизни, скончавшись, я бы сказал, от смерти более мерзкой, чем преступнейший Иуда? Итак, постараемся избежать страсти к знанию высокого, удовлетворимся более низким. Ибо нет ничего более важного для христианина, нежели смиренномудрие" [50, с. 290].
Таким образом, согласно последней версии, смерть Аристотеля предстаёт в качестве примера обращения рационального оптимизма в экзистенциальный пессимизм. Как изволил пошутить Джон Локк, "счастье от нашей жизни столь далеко, что из сих болотных низин невозможно и заметить его, а философы в поисках счастья преуспели лишь в том, что убедили нас в его невозможности. Аристотель сам напрасно искал счастья, которому учил других, и только тогда перестал мучительно бороться с волнами, захлёбываясь в пучине, когда сам бросился в море и обрёл в Эврипе большее спокойствие, чем во всей своей жизни" [151, с. 55]. Этот эпизод с гибелью Аристотеля, тем не менее, может восприниматься и как символ общей метафизической позиции аристотелизма. Такие фундаментальные проблемы, как "устранение страданий и зла", не имеют удовлетворительного решения на том пути, который указывает философия Аристотеля, "на пути безграничного прогресса культурной жизни", на пути эволюции данного. Действительно, из учения Аристотеля следует, что страдания и зло не могут полностью исчезнуть в мире, в котором живёт и действует человек, ибо материя непреодолима; человек смертен, "обречён на смерть", а достигнутый им самим уровень совершенства всегда относителен [129, с. 35]. Однако вернёмся к Платону.
Юридический аргумент. Самоубийца, в отличие от убийцы, не имеет надежды на облегчение возмездия за преступление. Если жертва убийства до наступления своей смерти успевает простить убийцу, то последний несёт наказание за данное убийство как за невольное (Законы 869 а; ср.: Законы 865 b). "Если человек по доброй воле простит своего убийцу как совершившего это дело невольно, пусть преступник прибегнет к очищениям и по закону выселится на один год из страны" (Законы 869 e). Ясно, что это правило смягчения наказания не может распространяться на самоубийцу, который либо соединяет в одном лице и жертву и преступника, либо, как следует из предыдущего аргумента, представляет собой преступника в чистом виде. Таким образом, возмездие за преступное (нелегальное) самоубийство юридически однозначно и неотвратимо402.
Религиозно-юридический аргумент. Этот аргумент Платона против самоубийства наиболее широко известен. Пифагорейское ("сокровенное") учение гласит, "что мы, люди, находимся как бы под стражей, и не следует ни избавляться от неё своими силами, ни бежать" (Федон 62 b). Где человек "поставлен начальником, там и должен переносить опасность, не принимая в расчёт ничего, кроме позора, ни смерти, ни ещё чего-нибудь" (Апология 28 d). Люди - "часть божественного достояния", то есть собственность, о которой сами боги "пекутся и заботятся" (Федон 62 b). Если кто-либо из рабов решается на самоубийство, не "справившись", угодна ли его смерть хозяину, то он вызывает гнев и наказание со стороны рабовладельца. Лишь в том случае, когда хозяева (боги) принуждают человека умереть403, суицид теряет свой преступный характер и становится дозволенным, законным (Федон 62 с). Более того, с самогó суицидента в данном случае снимается всякая ответственность за самоубийство, которое в силу этого обстоятельства теряет свой статус поступка, превращаясь в механическое следование чужой воле. Таким образом, религиозно-юридический аргумент против вольной смерти опирается на принцип санкции: при отсутствии таковой самоубийство оценивается как преступление, нарушение права божественной собственности; при наличии таковой самоубийства вообще не может произойти.
Рассматриваемый аргумент включает в себя представление о необходимом религиозно-юридическом возмездии в отношении тела самоубийцы. "Что касается очищения и погребения такого человека, то обычаи эти ведомы богу. Поэтому ближайшие родственники должны обратиться к толкователям и вместе с тем к законам, касающимся этих дел, и поступить согласно их предписаниям. Погребать самоубийц надо прежде всего в одиночестве, а не вместе с другими людьми. Далее, столь бесславных людей надо хоронить на пустырях, на границах двенадцати частей государства, не отмечая при этом места их погребения ни надгробными плитами, ни надписями" (Законы 873 d)404. Иными словами, тело самоубийцы исключается из сообщества живых и мёртвых, становится чужим (внешним).
Мифологический аргумент. Данный аргумент опирается на мифологию посмертного существования души. Платон говорит о некоем "учении", связанном с мистериями, в котором утверждается, что за всякое убийство "человека ожидает расплата в Аиде, а когда он снова вернётся на землю, ему придётся расплачиваться согласно природному правосудию, то есть испытать участь пострадавшего от него лица: в своей тогдашней жизни он подобным же образом будет убит другим человеком (ср. с применением этого же принципа справедливого возмездия - кармы, δικη - в мифе об Уране и Хроносе. - С.А.). Кто повинуется и уже на основании самого вступления (в сансару. - С.А.) всячески страшится этого (природного. - С.А.) правосудия, тому совсем не нужно, чтобы и (человеческий. - С.А.) закон это провозглашал" (Законы 870 d-e). Неумолимая "блюстительница Правда" (олицетворённая карма) готовит в будущем каждому убийце участь его былой жертвы, очищая "подобное подобным". "Поэтому каждому следует воздерживаться от таких преступлений из страха перед божественным возмездием" (Законы 872 d - 873 а).
Для самоубийц такое возмездие представляется гораздо более суровым. "Когда умершие являются в то место, куда уводит каждого его гений, первым делом надо всеми чинится суд - и над теми, кто прожил жизнь прекрасно и благочестиво, и над теми, кто жил иначе" (Федон 113 d). После суда те, кто "держался середины", отправляются по Ахеронту к озеру Ахерусиаде - своеобразному чистилищу, где они "обитают, очищаясь от провинностей, какие кто совершал при жизни, несут наказания и получают освобождение от вины" (Федон 113 d). Сюда приходит большинство душ и, "пробыв назначенный судьбою срок - какая больший, какая меньший, отправляются назад, чтобы снова перейти в породу живых существ" (Федон 113 а). Кого же судьи сочтут неисправимыми (это, например, святотатцы, серийные убийцы и "иные схожие с ними злодеи"), "тех подобающая им судьба низвергает в Тартар, откуда им уже никогда не выйти" (Федон 113 е). Из данного определения не совсем ясно, следует ли отнести самоубийц к разряду "иных злодеев", признанных неисправимыми. Однако дальнейшее повествование, как представляется, указывает на необходимость положительного ответа на этот вопрос.
Если загробный суд решает, что человек совершил "преступления тяжкие, но всё же искупимые" (искуплению способствует, например, раскаяние преступника), то он ввергается в Тартар, но по прошествии года "волны выносят человекоубийц в Кокит, а отцеубийц и матереубийц - в Пирифлегетонт" (Федон 114 а). "И когда они оказываются близ берегов озера Ахерусиады, они кричат и зовут, одни - тех, кого убили, другие - тех, кому нанесли обиду, и молят, заклинают, чтобы они позволили им выйти к озеру и приняли их. И если те склонятся на их мольбы, они выходят, и бедствиям их настаёт конец, а если нет - их снова уносит в Тартар, а оттуда - в реки, и так они страдают до тех пор, пока не вымолят прощения у своих жертв: в этом состоит их кара, назначенная судьями" (Федон 114 b). Продолжительность такой кары, судя по всему, заранее определена: злодеи получают прощение за каждое своё преступление по истечении тысячи лет мучений (Государство 615 ab). Однако ещё "большее воздаяние" предполагается "за непочитание <...> богов и родителей и за самоубийство"405 (Государство 615 с). Насколько большее? Даже если предположить, что самоубийца попадает в число преступников, регулярно выносимых из Тартара, то придётся признать, что конца его мучениям всё равно нет, ибо ему не к кому обратиться за помилованием: его жертва - он сам. Таким образом, Платон не предполагает для преступно покончивших с собой никакой возможности выхода из Тартара; для душ самоубийц космический круговорот воздаяния сжимается до размеров тёмного кольца подземной бездны, куда "стекают все реки, и в ней снова берут начало" (Федон 112 а). Именно о "вечной каре" наиболее преступных душ идёт речь и в диалоге "Аксиох" (372 а).
III
С другой стороны, в платоновских диалогах можно обнаружить и утверждение преимуществ смерти перед жизнью, и прямо или косвенно выраженный призыв к самоубийству. Так, например, в "Федоне" Сократ просит Кебета передать Эвену, чтобы тот "как можно скорее следовал за мною (то есть за Сократом. - С.А.), если он человек здравомыслящий". Куда же следует Сократ, он сам недвусмысленно указывает далее: "Я-то, видимо, сегодня отхожу" (Федон 61 с). Иначе говоря, Сократ здесь буквально призывает софиста не к добродетельной жизни, не к аскезе, а к физической смерти, к от-ходу. При этом аргументы, приводимые Платоном в пользу вольного избрания смерти, могут быть признаны вполне философскими. В глазах мудреца смерть оказывается привлекательной, поскольку она способна приблизить его к благу и к истине. Рассмотрим связь смерти у Платона с этими положительными ориентирами философской деятельности.
Благо. Нет оснований утверждать, что смерть как таковая обязательно есть зло. Бояться смерти - "не что иное, как думать, что знаешь то, чего не знаешь. Ведь никто же не знает ни того, что такое смерть, ни того, не есть ли она для человека величайшее из благ, а все боятся её, как будто знают наверное, что она есть величайшее из зол" (Апология 29 а). Смерть ничего не прибавляет к природной смертности человека (Апология 35 а); она только подтверждает её. Гораздо страшнее "нравственная порча" (Апология 39 ab), влекущая возмездие. Таким образом, "быть этого не может, чтобы мы правильно понимали дело, полагая, что смерть есть зло" (Апология 40 b). Более того, смерть не только не зло; она прямо может быть признана благом. "Умереть, говоря по правде, значит одно из двух: или перестать быть чем бы то ни было, так что умерший не испытывает никакого ощущения от чего бы то ни было, или же это есть для души какой-то переход, переселение её отсюда в другое место" (Апология 40 с). В обоих случаях смерть приносит только благо. Если гибель есть отсутствие ощущений (как сон без сновидений), то она "удивительное приобретение" (Апология 40 d), отдых от суеты земной жизни. Если же "смерть есть как бы переселение отсюда в другое место" (Апология 40 е), то именно она даёт возможность встречи с умершими мудрецами, с которыми можно бесконечно "вести беседы" (Апология 41 bc); а что для философа может быть лучше такой перспективы (Апология 40 е)? Душа, говорится в диалоге "Аксиох", переживая телесные недуги, вынуждена "страстно стремиться к небесному, родственному ей эфиру и жаждать тамошнего образа жизни, небесных хороводов, стремится к ним. Так что уход из жизни есть не что иное, как замена некоего зла благом" (Аксиох 366 а). Итак, "не следует ожидать ничего дурного от смерти" (Апология 41 с), особенно если принять во внимание, что "с человеком хорошим не бывает ничего дурного ни при жизни, ни после смерти" (Апология 41 d). Такова у Сократа первая апология смерти.
Истина. В диалоге "Федон" Кебет и Симмий спрашивают Сократа, почему философ должен стремиться к смерти, если самоубийство как таковое есть преступление перед богами, бегство от добрых хозяев (Федон 62 c - 63 b). Сократ говорит, что он не меняет хозяев: смерть переведёт его в общество тех же богов и умерших мудрецов (Федон 63 c-d); за гробом он найдёт "добрых владык и друзей" (Федон 69 е), и боги не перестанут "заботиться о его делах", как это было и при жизни (Апология 41 d). Для философа смерть является величайшим "благодеянием" (Федон 62 а), ибо она ликвидирует главное препятствие на пути познания - тело406. При жизни, "пока мы обладаем телом и душа наша неотделима от этого зла, нам не овладеть полностью предметом наших желаний", то есть истиной (Федон 66 b). Мудрый лишь стремится к познанию истины, приближаясь к ней настолько, насколько он смог в своей деятельности оградить душу от влияния телесности. В таком очищении и заключается задача философии [240, с. 10]407. Поэтому душа философа "бессмертное существо, запертое в подверженном гибели узилище" (Аксиох 365 е) "решительно презирает тело" (Федон 65 d), мешающее душе "улавливать бытие" (Федон 66 с), скрывающее от неё истину (Федон 65 b). Достигнуть "чистого знания чего бы то ни было мы не можем иначе как отрешившись от тела и созерцая вещи сами по себе самою по себе душой"; однако "не расставшись с телом, невозможно достичь чистого знания", что доступно "только после смерти", когда "душа остаётся сама по себе, без тела" (Федон 66 e), этого "давнего врага" души (Федон 68 а)408. Философ "любит разумение" и уверен, "что нигде не приобщится к нему полностью, кроме как в Аиде" (Федон 68 а). Причём в этом загробном месте люди святой жизни (в платоническом смысле) освобождаются от всякого наказания и помещаются "в страну вышней чистоты" (Федон 114 b). "Те из их числа, кто благодаря философии очистился полностью, впредь живут совершенно бестелесно" (Федон 114 с), переходя "в род богов" (Федон 82 b)409. Такова вторая "защитительная речь" Сократа (Федон 69 d) в пользу преимущества смерти перед жизнью410.
Плотин поддерживает и развивает такое негативное отношение к телу. Моя отдельность, эмпирически фиксированная телесной определённостью, отрывает и отгораживает мою жизнь (то есть мою душу) от божественной (универсальной) жизни. Поэтому мудрец "уверен, что смерть лучше, чем жизнь в своём теле" (Эннеады I, 4, 7) [цит. по: 15, с. 115], ибо последняя не истинная жизнь. Во всяком случае (повторяет Плотин уже знакомую нам мысль), смерть не зло, ибо она есть уничтожение. Если уничтожается тело вместе с душой (как считают эпикурейцы), то страдать нечему (а ведь именно страдание и есть субъективное переживание зла как наличного). "Чтобы испытывать боль, надо быть чем-то. Но умершего нет больше, или же, если он и существует, он лишён жизни и чувствует боль не больше, чем камень" (Эннеады I, 7, 3) [цит. по: 15, с. 123].
Если же разрушается только тело, то смерть прямо должна быть признана благом: она освобождает душу и позволяет ей реализовать скованные телом её божественные возможности. "Смерть тем более благо, что активность души, когда она освобождается от тела, возрастает. И если отдельная душа сольётся со всеобщей душой, какое зло может она там встретить?.." Для души вообще нет зла, если она хранит чистоту "своего существа", не смешиваясь с существом телесности. А если она не сохраняет эту чистоту, то не смерть, а как раз жизнь будет для неё злом. Если душа, как утверждал и Платон, терпит наказание в Аиде, то тогда опять-таки плоха не её смерть, а её жизнь. "Но если земная жизнь добродетельна, как же смерти не быть злом? Можно ответить, что если жизнь в земном мире благо для людей добродетельных, то не потому, что в этом мире душа связана с телом, а потому, что добродетель охраняет душу от зла, заключающемся в этом союзе с телом. Итак, смерть это в высшей степени благо". Жизнь в теле "сама по себе зло"; если же добродетель "даёт душе благодать, то потому, что душа благодаря ей не живёт более жизнью, соединяющей душу с телом, но уже в этом мире отделяется от тела" (Эннеады I, 7, 3) [цит. по: 15, с. 123-124], получая возможность "энергичнее действовать" [58, с. 222]. Недаром сам Плотин, отделяя себя от тела, искренне стыдился собственной телесности [204, с. 427]411. Неоплатонический философский καθαρσις и состоял в "освобождении души от власти "тела"" [270, с. 344].
Как видим, в платонизме, где благо достижимо, а истина постижима, где знание есть повторение (воспроизведение), а добродетель экспликация прирождённой божественности, где, наконец, истина и благо совпадают в высшем (но не созидаемом, а возвращающемся к себе) синтетическом единстве, смерть выступает путеводителем к имманентной сущности индивида как его универсальной природе412. В свете этого начально-конечного монизма, остающегося стабильным в любой динамике, пребывающего всегда на своём месте в качестве главного измерения любого изменения, обе "защитительные речи" в пользу смерти предстают как варианты одной и той же апологии. "Так что, мой Аксиох, - говорит Сократ, - не к смерти ты переходишь, но к бессмертию, и удел твой будет не утрата благ, а, наоборот, более чистое, подлинное наслаждение ими: радости твои не будут связаны со смертным телом, но свободны от всякой боли. Освобождённый из этой темницы и став единым, ты явишься туда, где всё безмятежно, безболезненно, непреходяще, где жизнь спокойна и не порождает бед, где можно пользоваться незыблемым миром и философически созерцать природу" (Аксиох 370 cd).
Философское созерцание наличной природы и есть по сути умирание частного во всеобщем. Сократ утверждает: "Те, кто подлинно предан философии, заняты, по сути вещей, только одним - умиранием и смертью" (Федон 64 а). Поэтому "нелепо всю жизнь стремиться к одной цели, а потом, когда она оказывается рядом, негодовать на то, в чём так долго и с таким рвением упражнялся!" (Федон 64 а). Иными словами, философ всегда должен быть готов к отходу. Готовясь умереть "легко и спокойно", душа упражняется в отказе от связи с телом; это и есть истинная философия (Федон 80 е)413. "А пока мы живы, мы, по-видимому, тогда будем ближе всего к знанию, когда как можно больше ограничим свою связь с телом и не будем заражены его природою, но сохраним себя в чистоте, пока сам бог нас не освободит" (Федон 67 а). Поэтому философия и есть подготовка к смерти, ибо она ещё при жизни способствует отторжению души от тела. А смерть, в свою очередь, есть "освобождение и отделение души от тела" (Федон 67 d), в результате чего душа начинает существовать "сама по себе" (Федон 64 с). Таким образом, в момент смерти человек становится философом в окончательном, а не предварительном смысле414.
Для мудреца, охватывающего мысленным взором "время и бытие" в их целокупности, человеческая жизнь не много значит, но поэтому и смерть не считается "чем-то ужасным" (Государство 486 ab). Мудрец способен "усвоить природу вещей и понять, что жизнь - это временное паломничество (избитая мысль, которую твердят всем) и что долг наш, надлежащим образом проделав свой путь, бодро, без слёз и стенаний, встретить свою судьбу" (Аксиох 365 b).
Философская мудрость является и источником мужества. Человеку же истинно мужественному не свойственно стремиться к сохранению жизни или "думать, как бы прожить подольше"; ему "не надо цепляться за жизнь, но, положившись в этом на божество и поверив женщинам, что от своей судьбы никому не уйти, надо искать способ провести дни и годы, которые ему предстоят, самым достойным образом" (Горгий 512 е). Однако мы уже имеем представление о том, что значат в античной философии такие фразы, как "положиться на божество", "доверять судьбе" и "прожить жизнь достойным образом": все эти стандарты чреваты безответственным самоубийством. Такая безответственность и предполагается в тех случаях, когда у Платона заходит речь о дозволенном или оправданном самоубийстве.
Дозволенное самоубийство. Запрет на совершение суицида, говорит Сократ, "не терпит никаких исключений" (Федон 62 а); однако Платон всё же находит такие исключения. Самоубийство не является запретным тогда, когда его причиной выступает принуждение богов (Федон 62 с), неотвратимое страдание, тягостный стыд (Законы 873 с), невыносимый позор (Апология 28 d), приговор государства (Законы 873 с) или приговор суда (пусть даже и несправедливый). Так, Сократ в речи на суде заявляет, что надеется после смерти встретиться в Аиде с "Теламоновым сыном Аяксом", ставшим "жертвою неправедного суда", дабы сравнить свою и его участь (Апология 41 b)415. Понятно, что как себя, так и Аякса, Сократ не считает самоубийцами в преступном смысле, возлагая всю ответственность за гибель на несправедливый суд.
Оправданное самоубийство. Платон, как всякий подлинный диалектик, находит оправдание для таких самоубийств, которые должны быть совершены исходя из потребностей универсальной гармонии (тотальности)416. Для "больного и негодного тела" нет никакой пользы в пище и питье (Горгий 504 е); более того, нет оснований полагать, чтобы в подобных обстоятельствах "человеку стоило жить: раз тело его непригодно для жизни, значит, и сама жизнь неизбежно будет негодной" (Горгий 505 а). Для души должно действовать "то же самое правило" (Горгий 505 b). И если кто-либо "скрывает множество неисцелимых недугов в душе, которая драгоценнее тела, то разве стоит ему жить"? (Горгий 512 а). Нет, "негодяю лучше не жить, потому что жизнь его непременно будет и скверной, и несчастной" (Горгий 512 b).
Такое оправдание суицида получает у Платона не только эстетическое и нравственное, но и социально-политическое обоснование. Безнадёжно больной человек, конечно, может бороться со своей болезнью и тем самым отодвигать момент смерти (Государство 406 b); однако Асклепий, по мнению Сократа, "знал, что каждому, кто придерживается законного порядка, назначено какое-либо дело в обществе и он его обязан выполнять, а не заниматься всю жизнь праздным лечением своих болезней" (Государство 406 с). Поэтому Асклепий лечил лишь тех, кто ведёт нормальный образ жизни и достоин исцеления; неизлечимых же (по его мнению) больных он лишал всякой своей заботы, не желая "удлинить человеку никчёмную его жизнь" (Государство 407 d). Разумный человек должен естественно согласиться с такой позицией, а в особенности такой человек, разумность которого наиболее близка к естественности. Так, по мнению Сократа, любой ремесленник в случае болезни стремится к скорейшему излечению при помощи сильнодействующих средств; если же этого не удаётся достичь, он возвращается к своему основному занятию и либо выздоравливает, либо получает в смерти "конец и избавление от хлопот" (Государство 406 de). Для человека, жёстко привязанного к своему социальному статусу, потеря данного статуса равносильна выпадению в хаос; поэтому-то "ему и жить ни к чему", ибо без постоянного занятия "жизнь станет не в жизнь" (Государство 407 а). Человек "прикреплён" к своему "делу", в конечном счёте, "своим провиденциальным назначением" [240, с. 35], то есть судьбой; пытаться жить вопреки судьбе нелепо и невозможно. Итак, "кто в положенный человеку срок не способен жить, того <...> не нужно и лечить, потому что такой человек бесполезен и для себя, и для общества" (Государство 407 de). Такому человеку не стоит жить (ουκ αξιοβιωτον εστι)417.
Здесь мы ещё раз встречаемся с пренебрежением индивидуальным бытием, характерным для всякого монистического (по сути своей антиперсоналистического) мировоззрения. В неоплатонизме это отрицание частного в пользу всеобщего выразилось наиболее резко. Так, Плотин, принимая положение о том, что целое "больше" своих частей, делает отсюда вывод о предпочтительности целого перед индивидуальным. Если мы хотим достичь истины (блага), "мы должны глядеть на мир в его целом и не считаться с судьбами отдельных индивидуумов" [270, с. 343]. Поэтому-то неоплатоническая мудрость, по словам Льва Шестова, "объявляет отдельного человека в его отдельности не только призрачным, но незаконно, греховно вырвавшимся к бытию и в его появлении видит τολμα нечестивое дерзновение. Соответственно тому свою задачу она полагает в том, чтобы вытолкать из бытия этого дерзновенного пришельца, вогнать его обратно в то общее бытие, из которого он самовольно ушёл" [270, с. 387-388], иначе говоря, если и не прямо, то косвенно предполагает самоубийство как способ искупления преступности индивидуального бытия.
IV
Как видим, платоническая диалектика, подчиняя отдельное целому и включая противоположности в единое, оставляет самоубийству место в мировой гармонии. При всём старании Платона выражаться однозначно и хотя бы по этому вопросу соблюсти (на словах) благочестивую последовательность, люди одной с ним культуры вполне чувствовали тут некую моральную амбивалентность и (в силу разных причин) склонялись под влиянием Платона как к неприятию суицида, так и к безоговорочному его оправданию. Известно, что Клеомброт418, современник Сократа и Платона (Федон 59 с), прочитав диалог "Федон" [47, с. 42], "в жажде бессмертия" [50, с. 179] покончил с собой:
Солнцу сказавши "прости", Клеомброт-амбракиец внезапно
Кинулся вниз со стены прямо в Аид. Он не знал
Горя такого, что смерти желать бы его заставляло:
Только Платона прочёл он диалог о душе
(Каллимах, 53) [74, с. 91]419.
Об этом случае с Клеомбротом сообщает и блаженный Августин: "говорят, что, прочитавши сочинение Платона, в коем рассуждается о бессмертии души, он ринулся стремглав со стены и таким образом перешёл из этой жизни в ту, которую счёл за лучшую. В самом деле, его не удручало ничто бедственное или преступное, истинное или ложное, чего не в состоянии будучи перенести, он должен был умертвить себя" (О Граде Божием I, 22). Св. Григорий Богослов в свою очередь утверждает, что "скачок Клеомброта Амбракийского - плод любомудрого учения о душе" [75, 1, с. 90]. Таким образом, единственным мотивом суицида в данном случае явилось стремление актуализировать природную божественность бессмертной души420.
Тем же самоубийственным средством (то есть платоновским "Федоном") воспользовался и Катон Утический, дабы выйти из сложной морально-политической ситуации. "А почему бы мне и не рассказать, - пишет Сенека, - как он в ту последнюю ночь читал Платона, положив в изголовье меч? О двух орудиях позаботился он в крайней беде: об одном чтобы умереть с охотой, о другом чтобы умереть в любой миг" (Ep. XXIV, 6).
С другой стороны, Олимпиодор (комментатор Платона и Аристотеля, составитель биографии Платона), сделал из того же "Федона" противоположный вывод:
Когда бы не Платоновы внушения,
Бежал бы я давно из жизни горестной
[198, с. 147].
Это двустишие, по мнению С.С. Аверинцева, примечательно своим "законченным языческим духом". От самоубийства, по признанию Олимпиодора, его удерживает лишь авторитет Платона; об авторитете христианства, квалифицирующего суицид как тягчайший грех, "он не считает нужным говорить" [198, с. 147].
На Олимпиодора, как на своего союзника и единомышленника, ссылается его ученик Давид Анахт [85, с. 63]421. Последний, опираясь именно на идеи Платона, пытается обосновать недопустимость вольной смерти. Приводя в ряду определений философии платоновское утверждение о том, что философия есть "забота о смерти" [85, с. 60], Давид не принимает мнения тех, кто интерпретирует данную фразу в качестве побуждения к суициду. Аргументы против такой интерпретации он обнаруживает у самого Платона. Во-первых, Платон предупреждает, что не следует самовольно покидать ту темницу, в которой мы находимся, и бежать из неё, "а нужно положиться на Связавшего, пока Он не освободит" [85, с. 65]. Во-вторых, философ "подобен Богу", а потому не может выступать противником Творца, разрубая "узел, завязанный Им, то есть связь души и тела". Самоубийца же "не то что не подобен Богу, а противен Ему в желании убить себя, отделить душу от тела и нарушить связь, установленную Им". Следовательно, "самоубийца не является философом, хотя и заботится о смерти", а философ так заботится о смерти, что ни в коем случае не налагает на себя рук: "кто подобен Богу, не убивает себя" [85, с. 60-61]. В-третьих, Богу свойственно заботиться о всяком человеке во всякое время; а если человеку кажется, что Божественная природа "отделяется" и отдаляется от него, то это происходит не по вине Бога, "но из-за немощи воспринимающего", потерявшего надежду на помощь свыше. В-четвёртых, "философ, живя согласно добродетели, не горюет ни из-за телесных испытаний, ни из-за внешних вещей"; мудрец счастлив своей добродетельной жизнью, поэтому он и "не убивает себя" [85, с. 61]. Испытания же "существуют не для того, чтобы убивать себя, а для того, чтобы испытывать душу" [85, с. 65].
К Платону же апеллирует и блаженный Августин: поступок Клеомброта Амбракийского "был скорее великим, чем добрым; свидетелем того может быть сам Платон, которого он читал: без всякого сомнения, Платон сам скорее всякого другого поступил бы или, по крайней мере, предписал бы поступать так, если бы не был того мнения, что с точки зрения ума, созерцающего бессмертие души, никак не следует этого делать, даже следует воспрещать подобное" (О Граде Божием I, 22). Таким образом, согласно Августину, Клеомброт неадекватно усвоил смысл рассуждений Платона о бессмертии души, что и явилось причиной его самоубийства.
Однако всякий может усмотреть противоречие в том, что Платон, с одной стороны, рекомендует заботиться о смерти, но, с другой стороны, запрещает самоубийство. Давид Анахт утверждает, что никакого противоречия здесь нет. Термин "смерть", по его толкованию, имеет два значения: естественная смерть есть "отделение души от тела, вследствие чего все мы умираем"; произвольная смерть есть свойственный философу "добродетельный образ жизни", состоящий в умерщвлении страстей при сохранении жизни422. Поэтому-то "доброе существование есть произвольная смерть"423. Следовательно, "когда Платон говорит, что нужно заботиться о смерти, он имеет в виду произвольную смерть", то есть умирание для страстей; "а когда он говорит, что не нужно убивать себя, он имеет в виду естественную смерть, какой все мы умираем" [85, с. 62]424. Смешение двух этих смыслов термина "смерть" и привело Клеомброта к самоубийству [85, с. 62-63].
Плотин вовсе не желал быть "орудием" самоубийства. Презрение к телу он постарался соединить с установкой на претерпевание всех связанных с ним неудобств425. "Плотин говорит и повторяет, что надо освободиться от тела, так почему бы не сделать этого добровольно, физическим способом, покинув здешнюю юдоль навсегда, раз ты устал от своего тела и от жизни?" [15, с. 105]. Но такое настроение проистекает как раз от состояния тела, например, "от дурного состояния желчи" [15, с. 105]. Очевидно, что здесь использован традиционный аргумент против самоубийства, имеющий значение для такого мировоззрения, которое предполагает реинкарнацию (например, мы встречаем его в философии джайнов и буддистов). Насильственное прекращение текущей жизни из-за телесных неудобств означает слишком сильную привязанность к телу и, тем самым, влечёт возобновление этой связи в будущем. Отсюда и объяснение случая с Порфирием: "А когда я, Порфирий, однажды задумал покончить с собой, он (Плотин. - С.А.) и это почувствовал и, неожиданно явившись ко мне домой, сказал мне, что намерение моё не от разумного соображения, а от меланхолической болезни и что мне следует уехать. Я послушался и уехал в Сицилию" [204, с. 423; ср.: 15, с. 104-105]426.
В своём отношении к самоубийству Платон и платоники, как можно было заметить, опираются на диалектический метод: "согласно Сократу-Платону, именно из столкновения различных и противоположных мнений рождается, в конечном счёте, единственная и уникальная истина" [131, с. 22]. У Аристотеля присутствие диалектического метода проявляется не так явно, как у Платона; но и у него он находит применение. Здесь диалектика становится "методом апории": решение проблемы приходит как завершение дискуссии или простого сопоставления мнений. Такую форму диалектики Александр Кожев характеризует как "схоластическую" [131, с. 24]. Неоплатоническая диалектика возвращается к мифологии, сливающей объект и субъект в "нерушимое единство" [155, с. 125], утверждающей тождество противоположностей (например, души и тела) [155, с. 196]. Для самой диалектики такое слияние не является чем-то необъяснимым или чуждым [152, с. 74]. Диалектика, способная свести к себе любую метафизику или мифологию, оказывается таким методом (в самом широком смысле этого слова), в свете которого самоубийство предстаёт не как предмет аксиологического отношения, но как эйдетически укоренённый в бытии факт. Для обоснования последнего утверждения (которое позволило бы, кстати, дополнительно прояснить платоническую позицию в отношении суицида) необходимо обратиться к такому авторитету в области диалектики, как Гегель.
Лекция 12. Континуальность и самоубийство: диалектика смерти
I
Тема вольной смерти, осмысленная в диалектической парадигме, занимает центральное по своему значению место в философии Гегеля427, выстроенной в том же монистическом (моно-онтическом) ключе, что и учение Платона. Недаром Гегель хорошо понимал и излагал "конгениальную ему Платонову диалектику" [152, с. 326]. Как и у Платона, диалектика у Гегеля не решает ни одного вопроса ни в пользу тезиса, ни в пользу антитезиса, сливая их в синтетическом безразличии (в гармонии нулевого синтеза). Это, конечно, не имеет ничего общего с антиномической диалектикой; скорее, это "философия цельного рассудка" [248, с. 156].
А.Ф. Лосев указывает шесть признаков диалектики; каждый из этих признаков и все они в совокупности представляют собой достаточно очевидное основание для философского осмысления самоубийства.
Во-первых, диалектика есть "логос" [152, с. 68], по Гегелю - "высшее разумное движение" [64, с. 94]; это чисто логическое конструирование, отвлекающееся от всякого "интимно-жизненного отношения к вещи" [152, с. 68]. Поэтому диалектика исключает какую бы то ни было аксиологическую позицию по отношению к предмету рассуждения; она заинтересована не в этом предмете, а в правильном суждении о нём. Диалектика "всему находит своё место и, нашедши его, успокаивается" [152, с. 68-69]. Поэтому и всё то, что именуется злом, диалектика способна устроить в своём мире, утопить "в диалектическом безразличии" [145, с. 324]. Допустим, "человек убил человека" (или самого себя); "с точки зрения диалектики иначе и быть не может" [152, с. 69], ибо данное событие лишь выражает собой противоречивость наличных диалектических процессов. Протестовать против закономерностей таких процессов не имеет смысла.
Во-вторых, диалектика это "логическое конструирование эйдоса", то есть (в отличие от формальной логики) "логос об эйдосе". Последний же "есть цельный смысловой лик вещи", созерцаемый умом как абсолютное единство, как окончательное "слияние противоречивых признаков". Поэтому основной закон диалектики есть "закон совпадения противоречий" [152, с. 69]. Иначе говоря, в горизонте диалектики обязаны окончательно совпасть истина и ложь, добро и зло, частное и универсальное, смерть и жизнь, оказываясь только моментами начально-конечного, неизменного в любых изменениях, созерцаемого умом всегда наличного (эйдетического) единства. "Диалектикой, - пишет Гегель, - мы называем высшее разумное движение, в котором <...> кажущиеся безусловно раздельными [моменты] переходят друг в друга <...>, и предположение [об их раздельности] снимается" [64, с. 94]. "В то время как конечное, для того чтобы быть определённым, нуждается в другом, истинное содержит свою определённость, свою границу, свой конец в себе самом и не ограничивается посредством другого, но это другое само входит в него" [66, 1, с. 222]. Диалектическая философия соединяет "расходящиеся моменты" в высшем единстве; она, по словам Кьеркегора, "примиряет и примиряет без конца" [144, с. 217].
В-третьих, диалектика есть конструирование "категориального эйдоса". Она обращает внимание лишь на "эйдетический скелет" предмета своего рассуждения, отказываясь от сравнения содержания этого предмета в различных типах опыта [152, с. 70]. Собственно говоря, диалектику и не должно интересовать такое различие, поскольку, оперируя категориями, а не экзистенциалами, она тем самым имеет дело в конечном счёте с рациональными абстракциями, которым приписывается универсальный характер. Это "дело" может быть определено, по Хайдеггеру, как "бегство в диалектику понятий" [254, с. 38]. Иными словами, диалектика конструирует категориальный эйдос вещи, взятой как она умозрительно есть, но не как она переживается в том или ином реальном опыте.
В-четвёртых, диалектика это "логическая конструкция категориального эйдоса как бытия, основанного на самом себе и от себя самого зависящего". Диалектика в конечном счёте занята "созерцательно данной категориальной сущностью вещи". Эйдос, как "явленная сущность", есть предел нашего знания о чём-либо. Интеллектуально созерцая эйдос предмета, мы знаем об этом предмете всё. Любые свойства и характеристики предмета обоснованы его эйдосом; они суть только частные выявления этой сущности. Сам же эйдос "основывается только на самом себе". Если эйдос от чего-то зависит, то только от другого эйдоса; но эта зависимость эйдоса от эйдоса в свою очередь не выходит за рамки "эйдетического самообоснования", поскольку тоже рассматривается как созерцаемая сущность [152, с. 70-74]. Согласно Гегелю, противоположные моменты "переходят друг в друга благодаря самим себе, благодаря тому, что они суть" [64, с. 94], то есть по своей природе. Поэтому, хотя диалектику и можно формально отличить от феноменологии428, но по сути та и другая ориентированы вполне однообразно: предметом их интенциального усилия является только наличное. В горизонте диалектики, следовательно, личное тождественно субстанциальному.
В-пятых, диалектика есть "логическая конструкция категориальной структуры эйдоса как бытия, основанного на самом себе, причём такая конструкция обладает абсолютно универсальным характером", захватывая и сводя к себе "все мыслимые и вообразимые типы бытия". Эйдос представляет собой универсальный предел знания и бытия, которые из него исходят и к нему сводятся. Зная эйдос, мы знаем всё. Такому знанию не может помешать никакой личный опыт и никакая мифология или метафизика; диалектика способна растворить в себе и тем самым совместить с собой любую метафизику [152, с. 73-75]. Значит, и опыт переживания личного бытия (существования) может быть осмыслен в горизонте диалектики как частный случай всеобщего эйдетически данного (и потому истинного) бытия. "Истина, - пишет Гегель, - это такая сила, которая наличествует и в ложном, и требуется только правильное внимание и пристальное вглядывание, чтобы истинное было найдено или, вернее, увидено и в самом ложном" [66, 2, с. 437]. "Истина содержится в любой сфере"; однако истина в высшем и окончательном смысле открывается "только в совершенной всеобщности определения, в том, что она определена в себе и для себя, а это не есть простая определённость по отношению к другому, но содержит это другое, это различие в себе самой" [66, 1, с. 222].
В-шестых, диалектика даёт связную систему категорий, начиная с самовозникающего эйдоса и кончая эйдосом же как именем [152, с. 76], то есть окончательно замыкает сущее в горизонте эйдетически данной тотальности. "Диалектическая, имманентная природа самого бытия и ничто в том и состоит, что они своё единство становление обнаруживают как свою истину" [64, с. 94], то есть как нечто пребывающее изначально и навсегда неизменным в любом изменении и различении. Итак, диалектика по сути есть "самообоснование эйдоса" [152, с. 106], пресекающее любую попытку трансцендирования наличного.
Диалектика, по А.Ф. Лосеву, есть единственный метод, способный охватить действительность в целом [160, с. 617]. Диалектика внутренне настаивает на том, что любое логическое противоречие (например, противоречие единого и многого) "необходимо примиряется и синтезируется в новой категории, именно в целом" [160, с. 618]. Неизбежность примирения всякого противоречия в высшем и окончательном синтезе (целостности) придаёт движению мысли характер замыкающегося на себя круга. Гегелевская "кругообразная мысль диалектична, - пишет Батай. - В ней заключено решающее противоречие (которое касается всего круга): абсолютное, кругообразное знание есть окончательное незнание. В самом деле, предположив, что я достиг его (то есть абсолютного знания. - С.А.), я узнаю, что теперь не узнáю больше того, что знаю" [27, с. 240]. Теперь "можно будет лишь бесконечно двигаться по кругу" [131, с. 55], то есть перейти к повторению.
Указанная генеральная ориентация диалектики обосновывает её созерцательность. Философ-теоретик, согласно Гегелю, именно созерцает и описывает наличное как диалектическое движение; поэтому диалектика, по большому счёту, обнаруживает себя не в области метода, но в области предмета философского умозрения, то есть в самой действительности. Диалектика - не столько метод, позволяющий схватить целое действительности, сколько "ритм самой действительности" как целого [160, с. 617]; она не только усматривает те или иные вещи, "но она и есть сами вещи в их смысловом саморазвитии" [160, с. 620]. Таким образом, методом Гегеля в точном смысле слова является не диалектика, а "простое и чистое описание, которое диалектично лишь в том смысле, что оно описывает диалектику реальности" [131, с. 30]. А это и есть феноменология в самом общем и чистом виде [131, с. 40].
Мудрец, прозревший абсолютную истину, завершает процесс диалектического движения, эксплицируя этот процесс в качестве относительного и теперь снятого момента самой себе равной тотальности. Философу, достигшему такой позиции, остаётся ограничиться описанием созерцаемого, то есть "проявлять в речи данное именно таким, каким оно дано" [131, с. 36]. Человек, сделавшись мудрецом, оказывается полностью удовлетворён таким чистым и простым описанием; активное или реальное отрицание данности не имеет больше места, так что описание неограниченно долго остаётся действительным, и, как следствие, не подвергается больше обсуждению и никогда больше не порождает полемических диалогов [131, с. 36], то есть не вызывает никакой диалектики.
Итак, "адекватное описание реальности в её тотальности" есть абсолютная истина, не предполагающая никаких сомнений и никакой критики или обсуждения [131, с. 37]. Всякое возможное отношение к этой тотальной реальности поглощается самой реальностью, сводится к ней же (поэтому-то "мудрец более не противится описываемой им реальности" [131, с. 37], сливаясь с нею). Как видим, "Гегель приходит в конце концов к точке, которая является не чем иным, как его отправным пунктом: конечный синтез есть также начальный синтез. Таким образом, он констатирует, что прошёл, описал круг и что если он захочет продолжить, то ему придётся вращаться по кругу. Его описание нельзя расширить; можно лишь повторять его" [131, с. 39]. Феноменологический дискурс, воспроизводящий в разуме уже снятую диалектику реальности, можно повторять бесконечно, но его нельзя уже преобразовать во что бы то ни было другое. Это и означает, что теперь окончательно установлена абсолютная истина, с которой вполне отождествился указанный дискурс. Гегель, одержимый собственным методом, "вынужден видеть в цикличности знания единственный критерий истины" [131, с. 67].
Такая истина тавтологична. Кожев пишет, что у Гегеля "истина есть нечто большее, чем реальность: это реальность обнаруженная", "это реальность плюс обнаружение реальности в речи" [131, с. 32]. Однако обнаруженная реальность есть, увы, всё та же самая реальность, не становящаяся в результате обнаружения чем-то действительно иным ("большим"); и никакой "плюс" не добавляет ничего нового к этой реальности, ибо к речи здесь всякий раз приходит именно "вот это", а не иное. "Ничего нового в этом мире не происходит" [76, с. 79]. Философия, совпавшая с мировым духом (иначе говоря, превратившаяся в пантеистического бога), без конца раскрывает всё то, что есть (в равной степени - всё то, что было и будет) [131, с. 146]. До конца познанное и раскрытое (а значит закрытое)429 бытие "может стать только тем, чем оно уже было" [131, с. 55]. Иначе говоря, даже если это конкретное существование прервётся, оно вновь начнётся как то же самое бытие. ""Феноменология духа", - пишет Батай, - составляет два существенных движения, замыкающих круг: это постепенное завершение самосознания (человеческой самости) и движение, в котором эта самость становится всем (становится Богом), завершающее знание (и тем самым разрушающее особенное, частное в ней)" [27, с. 240]. Следовательно, "завершение круга было для Гегеля завершением человека" [27, с. 243].
Диалектическая философия, таким образом, подводит итоги, а не открывает перспективы. Философ-диалектик, по выражению Сёрена Кьеркегора, "слушает песни о былом, внимает гармонии примирения". Человек же, как правило, хочет знать, как ему быть, что делать и на что надеяться. В данном случае "молчание философии" по поводу перспектив человека является "уничтожающим доводом против неё самой" [144, с. 218-219]. Гармония примирения, оказывающаяся крайней точкой (или точкой поворота) диалектического движения, явно или неявно выдвигает на первый план эстетические элементы учения. В частности, отличительный признак гегелевской системы "самозамыкание: вертикаль, по которой поднимается дух, искривляется и превращается в окружность, конец её совпадает с началом. <...> Возникает образ змеи, схватившей себя за хвост" [79, с. 8]430. Это и есть эстетическая картина бытия. Кьеркегор в "Дневнике обольстителя" говорит о диалектике любви, характерной именно для "эстетического" этапа жизненного пути; он называет эстетика "тонким ироником и диалектиком" [144, с. 228]431.
Эстетик исповедует принцип: "или-или безразлично" [144, с. 216]. Следовательно, по справедливому мнению Кьеркегора, на почве диалектической философии невозможна реальная этика, ибо в горизонте диалектики снимается ситуация выбора (прежде всего - между добром и злом). Поэтому-то и Гегель (как диалектик) ищет убежища в "тщетной попытке уравновешенности и согласия с существующим миром" [27, с. 241], в том числе и со злом этого мира. Так находится способ решения основной нравственной проблемы. "Если я отягощён нравственным злом, я должен осознать, что это зло представляет собой необходимый момент космического процесса. Оно является злом лишь потому, что я его до сих пор не сумел объяснить (то есть устроить в наличном. - С.А.). Зло есть лишь оборотная сторона добра" [76, с. 81]. Таким образом, Гегель "принял зло" - то зло, "которое система оправдывает и делает необходимым" [27, с. 241].
Гегель утверждает, что грех и зло происходят в этом мире по внутренней логике неизбежности, с необходимостью. Грех не является недолжным ("ужасающей реальностью"), он только "составная часть логического развития", его "необходимый момент". Можно логически объяснить, почему грех совершается с необходимостью, и тем самым утвердить его действительность. "Это наибольшее зло в этом мире, - пишет Йозеф Громадка, - оказывается, можно, по Гегелю, объяснить и оправдать. Это нормальный ход предположения для логически мыслящего человека" [76, с. 79-80]. Такого рода логика в своей этической аппликации снимает с конкретного человека всякую ответственность за происходящее, производит "самое успокаивающее впечатление" [136, с. 354-355]. Она, как считает Кьеркегор, "не только снабжает человека индульгенциями, но даже прямо сглаживает и стирает все проступки" [144, с. 247]. "В процессе мышления я всецело подчиняюсь принципу необходимости, вследствие чего добро и зло становятся для меня как бы безразличными" [144, с. 275]. Знание добра и зла, чреватое смертью (Быт 2:17), и есть гегелевское "опосредование", то есть снятие разделённости двух сторон противоречия, поглощаемых тотальностью безразличного.
Тотальность (Totalitдt) - одна из основных категорий гегелевской философии. Принцип тотальности пронизывает всю систему Гегеля. Так, процесс развития трактуется им как процесс реализации абсолютной идеи, как саморазвитие идеи в полную, высшую или "реализованную тотальность". Абсолютная идея развивается на своей собственной основе из самой себя и движется внутри себя к самой себе. "Осуществлённая путём своего развития сущность выступает как тотальность" [61, с. 70]. Тотальность в конечном счёте есть "единство противоположных сторон" [61, с. 70]; она составляет "возвращение к исходному пункту, телеологически определённый процесс становления развивающейся в известных границах системы" [61, с. 71] (конечно, имеются в виду "границы" имманентности). Идея и есть подлинная тотальность. Таким образом, "категория "тотальность" характеризует у Гегеля целостность и завершённость развития абсолютной идеи" [61, с. 71]. "Истинное, - утверждает Гегель, - есть Целое"; а это Целое представляет собой не что иное, как сущность, которая неизбежно завершается в процессе своего развития [131, с. 136]432.
Завершённая, целостная реальность (тотальность) есть совокупный результат диалектики бытия-знания, "полный и окончательный синтез" [131, с. 144]. В этом синтезе бытие утверждает себя "в качестве идентичного себе". И хотя тотальность в отличие от чистой (тавтологической) идентичности диалектически включает в себя и собственную негативность (отрицание), она всё же "является такой же единой и уникальной, однородной и автономной, как и первичная и изначальная идентичность" [131, с. 51-52]. Отличие высшей идентичности от первичной состоит в том, что эта тотальность "есть раскрытое-бытие или бытие-осознающее-себя", то есть дух [131, с. 51]. Таким образом, тотальность как в-себе-и-для-себя-бытие (An-und-fьr-sich-Sein), будучи окончательно раскрытым в духе, в силу этого обстоятельства оказывается окончательно закрытым в своих бытийных перспективах.
Тотальность означает у Гегеля не просто бытие (Sein), но и мышление (Denken) - мышление о бытии как его полное раскрытие. Это до конца раскрытое (исчерпанное) бытие и есть онто-логическая тотальность, дух (Geist), абсолютная идея [131, с. 10-13]. Тотальность представляет собой "нераздельное целое" [131, с. 13]. В таком качестве она включает в себя и человека [131, с. 64, 66]. Истинное бытие есть "становление самим собой" [131, с. 133] (именно самим собой, но не собой-иным), то есть развитие как повторение изначально данного, как экспликация имплицитно наличного. Такое становление обязательно включает в себя внутренне присущую ему завершённость (Ende) как свою (имманентную) цель (Zweck); эта цель не выводит процесс становления за пределы наличного, но замыкает его в круг [131, с. 133]. "Оно есть становление себя самого, круг, который предполагает в качестве своей цели и имеет началом свой конец" [65, с. 9]. Действительно, гегелевская система утверждает изначальную самодостаточность и первичность той реальности, которая и названа абсолютным духом. Последний и в самóм своём становлении (развёртывании, развитии) предстаёт как извечная и подлинная реальность, сочетающая в себе как результат, так и начало саморефлексии [140, с. 163].
Что же значат утверждения о том, что завершение и цель становления присущи ему изначально и являются его истиной, реализующейся через развёртывание и разумное усмотрение? При том, что "Божественного мира не существует" [131, с. 129], а человек "способен существовать только в природном мире, но не за его пределами" [131, с. 128], это означает только то, что для человека бытие тотально замкнуто на самоё себя, перекрывая ему все пути к свободе433. Оказавшись в диалектическом, строго монистическом бытии, человек нигде и никак не может открыть онтической прерывности, а значит, не находит для себя никакой перспективы (свободы). Диалектика и есть абсолютный монизм, поскольку она "утверждает тождество идеи и вещи" [158, с. 630], то есть, в конечном счёте, единство существования и природного бытия. С точки зрения монизма, "не может подняться даже и речи" о сверх-реальном, о трансцендентном, о несовместимом с данным: диалектика "не знает никакой несовместимости" [158, с. 630]434.
Гегель, в частности, сливает (совмещает) человека и природу в одном диалектическом горизонте бытия. В этом он следует "традиции онтологического монизма", восходящей к грекам (всё сущее бывает единым образом). Правда, греческая философия распространяет "натуралистическую" онтологию идентичности на человека, а Гегель, наоборот, переносит диалектическую ("антропологическую") онтологию на природу [131, с. 66, 141]435. Однако смысл такого переноса ("всё, что есть, существует подобным образом" [131, с. 66]) и у греков, и у Гегеля остаётся одним и тем же: человек единосущен природе, тождествен ей в горизонте имманентности (онтической континуальности). Такую-то философскую позицию Кожев и называет "монистическим заблуждением Гегеля" [131, с. 67]436.
Для нас же является крайне важным именно то, что "монизм есть философский источник рабства человека". Как утверждает Н.А. Бердяев, "практика монизма есть практика тираническая. Персонализм глубочайшим образом противоположен монизму. Монизм есть господство общего, отвлечённо-универсального и отрицание личности и свободы" [36, с. 40]437. Хотя абсолютный дух именно в человеке и через человека совпадает с самим собой и познаёт самого себя [140, с. 165], сам человек в этом движении вовсе не становится свободным. В абсолютном духе совпадают сознающее, сознаваемое и сам акт сознания [140, с. 164]. Абсолютный дух как вечная, самодовлеющая и "самосоотнесённая" реальность оказывается чистым актом универсального самосознания [140, с. 164], а отдельный человек, следовательно, только средством осуществления такого акта.
Диалектическая логика использует выражение "переход" несмотря на то, что внутри самой этой логики указанная категория является необъяснимой и остаётся для неё, по словам Кьеркегора, "просто остроумным выражением" [145, с. 178-179]. Действительно, в горизонте универсальной диалектической континуальности никакой реальный переход невозможен. Чтобы открылась возможность такого перехода от данного к иному (заданному), диалектика должна изменить свой характер, а именно допустить дискретность бытия наряду с его континуальностью. Иначе говоря, диалектика должна стать антиномической. "Она обязана быть системой закономерно и необходимо выводимых антиномий <...> и синтетических сопряжений всех антиномических конструкций смысла"; она обязана "дать логическую конструкцию антиномико-синтетического строения вещей реального опыта" [160, с. 616].
Синтетическая диалектика континуальности, допускающая лишь повторение наличного, лишает частное бытие всякой перспективы, замыкая его в горизонте природы (континуума, закона, порядка, преемственности, необходимости); антиномико-синтетическая диалектика допускает дискретность (перерыв, переход) и тем самым открывает перспективу трансцендирования наличного. При этом получает действительное значение различие между данным и заданным (должным). Как раз в этой связи Кьеркегор указывает на важность понятия "мгновение", ибо "лишь посредством этой категории можно придать вечности её настоящее значение": мгновение и вечность оказываются "крайними противоположностями" (с помощью чего в диалектику вносится элемент дискретности), "тогда как обычно диалектическое колдовство, напротив, вынуждает их обозначать одно и то же", помещая в общий горизонт временности438. Теистическая (христианская) диалектика строится именно на указанной антиномии, и потому только в христианстве "вечность становится действительно существенной" [145, с. 180]: она представляет собой именно цель, то есть и трансцендентное, и заданное (должное)439. Таким образом, христианская экзистенциальная диалектика ("диалектика греха"), по словам Кьеркегора, "следует путями, диаметрально противоположными диалектике спекуляции" [145, с. 340].
Сам Кьеркегор использует такой диалектический метод, который отличен и от диалектики Гегеля, и от диалектики Сократа и Платона. Метод Кьеркегора подразумевает "взаимопересечение двух уровней" реальности. Принятие этого метода "означает, что мы никогда не сможем объяснить собственно реальность в человеческой жизни из одного горизонтального уровня. Мы всегда должны считаться также и с вертикальной линией". Истина открывается человеку именно тогда, когда личное решение встречается с волей Божией, врывающейся через Его Слово на человеческий уровень бытия [76, с. 125]; в это мгновение вечность как иное своим невероятным присутствием разрушает тотальность имманентного. Итак, согласно христианской (экзистенциальной, персоналистической, антиномической, теоцентрической) диалектике, "до конца мира противоречие не может быть снято" [36, с. 5].
У Гегеля же снятие противоречия с неизбежностью влечёт конец человеческой свободы. Мышление начинается с сомнения, а заканчивается успокоением в абсолютном. "Сомнение, - пишет Сёрен Кьеркегор, - есть внутреннее движение, происходящее в самой мысли, при котором личности остаётся только держаться по возможности безразлично или объективно (это значит: устранить личное начало из процесса мышления и тем самым подчинить себя объективно наличным законам этого мышления. - С.А.). Положим теперь, что движение это будет доведено до конца, мысль дойдёт до абсолюта и успокоится в нём, но это успокоение будет уже обусловлено не выбором, а необходимостью, обусловившей в своё время и само сомнение" [144, с. 264]. Успокоение мышления в необходимом, как мы знаем, свойственно для мудреца, отождествившегося с универсумом.
Мудрец в гегелевском смысле соединяет божественность и смертность [131, с. 76]: уже знакомая нам взрывоопасная смесь вечной божественной сущности и временного её воплощения. Как существо индивидуальное, мудрец способен познать реальность (целое) только в результате занятия однозначно пассивной позиции в отношении этой реальности440. Это и есть названная ранее точка зрения созерцателя, вся "активность" которого сводится к чистому описанию данного ему в созерцании бытия [131, с. 10]. Поэтому настоящий философ только наблюдает и регистрирует "то, что есть"; он ничего не отрицает, не изменяет и не трансформирует в наличном бытии [131, с. 163-164], "ничего не прибавляет и не убавляет" [131, с. 15]441. Не мудрец производит рефлексию над реальностью, но сама реальность выражает себя в его созерцательно-дескриптивном дискурсе [131, с. 16]. Мудрец, достигший состояния пассивного отражения реальности, включён в универсальную тотальность данного как "человек удовлетворённый" [131, с. 57]. Окончательное же удовлетворение человека равно его самоотрицанию в качестве уже реализованной индивидуальности. Удовлетворённость (Betriedigung) мудреца предполагает совершенное познание себя самого, а значит и открытие своей очевидной смертности [131, с. 164]. Суть гегелевской "мудрости", пишет Морис Бланшо, заключается "в тождестве удовлетворения с самосознанием, в том, чтобы в предельной негативности, в смерти <...> найти меру абсолютной позитивности" [36, с. 196]. Сознание универсальности означает, таким образом, отчётливое сознание неизбежности личной смерти: абсолютный дух, поглощая частное существование, требует смерти как осознанной абсолютной необходимости [131, с. 127]442. В данном пункте Гегель рассуждает как нормальный пантеист.
Абсолют в горизонте гегелевского пантеизма не есть поистине трансцендентное. "Потусторонность абсолютного духа, - пишет А.В. Кричевский, - есть граница лишь для конечного сознания, но не для абсолютного духа" [140, с. 164]. Последний в своей сущности есть "метафизически герметичная реальность", имманентная "миру и конечному духу" [140, с. 164], получающим благодаря этой имманентности тот же характер замкнутости. Если и можно говорить о некой трансцендентности абсолюта у Гегеля, то это "трансцендентность по отношению к самой противоположности имманентного и трансцендентного" [140, с. 164] или, иначе говоря, принципиально отделяющий себя от теистического мировоззрения тотальный монизм443.
В понятии Абсолюта у Гегеля пантеистически совпадают понятия субъекта и субстанции. Истинное (то есть абсолютное), по Гегелю, надо понимать не только "как субстанцию", но "в равной мере и как субъект" [131, с. 131]. При этом Гегель не призывает заменить понятие Абсолюта как субстанции на понятие Абсолюта как Субъекта (что было бы уже теистическим выпадом против философско-пантеистической онтологии Платона-Спинозы-Шеллинга), но отождествляет эти понятия. В высшем единстве (тотальности) субстанция и субъект совпадают [131, с. 146]. "Субстанция как субъект, - пишет Гегель, - есть чистая простая негативность, и именно поэтому она есть раздвоение простого, или противополагающее удвоение, которое опять-таки есть негация этого равнодушного различия и его противоположности; только это восстанавливающееся равенство или рефлексия в себя самоё в инобытии, а не некоторое первоначальное единство как таковое, есть то, что истинно" [65, с. 9]. Созерцающий это единство мудрец, в свою очередь, уже "не противопоставляет себя как субъекта природе, понимаемой в качестве субстанции" [131, с. 134]. Таким образом, когда Гегель говорит, что основное содержание его философии есть интерпретация субстанции как субъекта [131, с. 146], это и надо понимать буквально так: тотальность абсолютного предстаёт как одновременно "субстанция и субъект" [131, с. 136-137]. И если Гегель пишет, что "субстанция в сущности есть субъект" [131, с. 138], то это значит, что субъект в сущности есть субстанция, личность (понятийно совпадающая здесь с субъектом) по сути тождественна природе и, таким образом, полностью захвачена имманентным и определена им444.
Как видим, в пантеистической (монистической) системе Гегеля индивидуальное с необходимостью поглощается всеобщим (как через становление, так и через отождествление). Германская классическая метафизика, считает Н.А. Бердяев, началась как философия "я" (субъекта), но пришла к отрицанию индивидуальности, "к монизму, в котором исчезает личность". Гегель - "самый крайний антиперсоналист"; для него мышление есть приведение частного к универсальному [36, с. 231]. Даже религия у Гегеля представлена не как взаимоотношение человека и Бога, а как "самосознание Бога в человеке". Как всякая пантеистическая доктрина, гегелевская философия и "непомерно возвеличивает человека, делает его источником самосознания Бога, и совершенно унижает человека, отрицая всякую самостоятельность человеческой природы" [36, с. 231] (ибо, с точки зрения системы, Гегеля человек оказывается средством для окончательного осуществления универсальной божественности). "Счастье и несчастье отдельных личностей не входит в расчёт мирового порядка" [136, с. 354], поглощающего всё отдельное. В гибели такого отдельного нет большой беды, "ибо смысл бытия не в отдельных лицах и их удачах или неудачах, а в общем процессе развития" [272, с. 326]. Таково "общее свойство монизма" [36, с. 231].
Немецкий идеализм "пожертвовал душой для абсолютного духа", который подавляет личный дух, "съедает человека" [36, с. 231].445 "Философия абсолютного духа началась с провозглашения автономии человеческого разума. Она кончилась отрицанием человеческой личности, подчинением её коллективным общностям, объективированным универсалиям" [36, с. 231]446. Философ, достигший абсолютного знания - "сам себе Бог" [27, с. 240]. Но Бог у Гегеля понят в пантеистическом смысле. Поэтому человек, становящийся Богом, уничтожается как таковой. "В спекулятивном знании, - пишет И.А. Ильин, - человек уже не видит Бога и не видит себя в Боге, и не видит Бога в себе; человек угасает и смолкает, душа его поглощается и "абсорбируется", и там, где по эмпирической видимости всё ещё остаётся "человеческая душа", на самом деле божественное Понятие мыслит себя само, утверждая свою абсолютную свободу" [109, с. 279].
Мнение Гегеля в общем таково: "несомненно, однажды человек достигнет Единого - тогда, когда он прекратит существовать, то есть тогда, когда Бытие не будет открываться Словом, когда Бог, лишённый Логоса, снова станет непроницаемой и безмолвной сферой радикального язычества Парменида" [132, с. 315]. Имея в виду эту резюмирующую формулировку Александра Кожева, можно утверждать, что Гегель предполагает переход к чистой апофатике пантеизма, растворяющей личность в бессловесной природе. По верному замечанию Мориса Бланшо, "частному нет места в истине всего" [38, с. 67]. Кьеркегор, характеризуя гегелевскую диалектику, отмечает: "В процессе мышления я познаю себя в своём бесконечном, но не в абсолютном значении, так как я исчезаю в абсолюте" [144, с. 275]. Иначе говоря, конкретное человеческое бытие абсолютно только в субстанциальном отношении, но не в личностном значении; утверждение монистической (эйдетической) абсолютности с необходимостью требует редуцировать личное к субстанциальному.
В 81-ом параграфе "Энциклопедии философских наук" Гегель пишет: "Диалектика <...> есть тот имманентный переход, в котором односторонность и ограниченность специфических определений рассудка предстают как то, что они суть, а именно - как их [собственное] отрицание". Замечателен краткий уточняющий комментарий самого Гегеля к этой фразе: "Всё конечное есть акт диалектического упразднения самого себя" [цит. по: 131, с. 30]. С этой самой идеей мы столкнулись, когда рассматривали тезис Анаксимандра; в гегелевском синтезе обнаружилась та же мысль: всё конечное (индивидуальное) имманентным образом (то есть сущностно, необходимо, по природе) упраздняется. Мнение об обратной зависимости абсолютного духа от конечного, который якобы и делает его (то есть абсолютный дух) действительным в своём самосознании, противоречит позиции самого Гегеля. Абсолютный дух является как результат процесса снятия конечного лишь в том смысле, что конечное здесь "выходит за свои пределы" и оказывается в бесконечном, "впадая" в абсолютное и сливаясь с ним [140, с. 163]. В этом-то слиянии и обнаруживается, что абсолютная действительность раз и навсегда осуществлена и извечно "обладает всей актуально бесконечной полнотой своей осуществлённости" [140, с. 163]. Эта идея опять-таки характерна именно для пантеистического мировоззрения.
Пантеизм (в том числе и как диалектика) есть скрытая форма атеизма447. Гегель далеко не первый атеист в философии. Однако именно Гегель первым предпринял попытку построения "законченной атеистической и финитистской по отношению к человеку" философской системы. Он не только дал "феноменологическое" описание конечного человеческого существования, но и попытался "дополнить это описание радикально атеистическим и финитистским метафизическим и онтологическим анализом этого существования". Как считает Александр Кожев, очень немногие из его читателей смогли понять, что "диалектика в конечном счёте означает атеизм". После Гегеля "атеизм никогда уже больше не поднимался до метафизического и онтологического уровня" [131, с. 129].
Согласно Гегелю, так называемый "вне-природный", "трансцендентный" или "божественный" мир в действительность есть лишь трансцендентальный мир исторического человеческого существования, которое не покидает пределов пространственного и временного природного мира. Следовательно, нет никакого духа вне человека, живущего в мире. И "Бог" действительно обнаруживается лишь в пределах этого природного мира, где Он "присутствует" исключительно в форме теологического дискурса человека. Иными словами, Гегель коренным образом деконструирует христианскую антропологическую традицию в крайне атеистическом наклоне. "Абсолютный дух или субстанциальный субъект, о которых говорит Гегель, не тождественны Богу. Гегелевский Дух представляет собой пространственно-временную тотальность природного мира, которая включает в себя человеческий дискурс, раскрывающий этот мир и самого себя. Другими словами, Дух есть человек-в-мире: смертный человек, живущий в мире, лишённом Бога" [131, с. 145-146]. Следовательно, абсолютный дух это не Божественный Дух (поскольку у Гегеля он смертен): "этот Дух является человеческим в том смысле, что он есть дискурс, который имманентен миру природы" [131, с. 146].
Потому-то в данном мире и возможно абсолютное (окончательное) знание. Тотальность есть бытие, полностью себя осознающее [131, с. 55], а значит, не являющееся для себя тайной ни в чём, совершенно доступное себе (то есть конечное равно в онтологическом и гносеологическом смысле). Человек является тем единственным в мире существом, которое знает, что оно должно умереть. Поэтому можно сказать, что человек по сути есть "сознание своей смерти"; подлинно человеческое существование есть "существующее сознание смерти или смерть, осознающая себя" [131, с. 196]. Знание в данном случае предстаёт и как однозначное предопределение (человек есть только так), и как основание для распоряжения собой (ибо нельзя распорядиться лишь тайным). Самоубийство же есть реализация этой предопределённой и познанной смертности человека как выражение (разворачивание) его абсолютной (= автономной) свободы, для которой не требуется Бог и которая вполне "удовлетворяет ту бесконечную человеческую гордость, которая образует основание человеческой экзистенции" в горизонте атеизма (= пантеизма) и является главным мотивом человекобожеского "самоутверждения" [131, с. 196].
II
Все заключения Гегеля по поводу смерти и смертности опираются на его диалектику. Познать человека диалектически значит описать его как "конечного в себе самом" с точки зрения онтологии, как "принадлежащего этому миру" (то есть как пространственно-временное существо) с точки зрения метафизики, как "смертного" с точки зрения феноменологии [131, с. 147]. Само понятие человека, по Гегелю, есть понятие диалектическое, включающее в себя конечность (темпоральность). Человек может быть "свободным историческим индивидом" лишь при том условии, что он является существом смертным и, к тому же, осознающим эту свою смертность [131, с. 145]. Правда, осознание неизбежности смерти не может быть условием свободы; речь в данном случае может идти лишь об осознанной необходимости предустановленного положения дел.
Понимая "положение дел" именно таким образом, Гегель принципиально отрицает реальность бессмертия ("вечной жизни"): человек, о котором он только и хочет говорить, "является реальным лишь в той мере, в какой он живёт и действует в рамках природы; вне мира природы он есть лишь чистое ничто" [131, с. 145]. Смертность то онтологически данное, которое полагается для человека как бесспорное. Действительно, в монистической системе человек занимает однозначное положение, и даже смерть (прежде всего смерть) не привносит в это положение ничего нового: "если индивидуально он смертен, в сущности своей он не имеет ни начала, ни конца, он покоится в становлении своей недвижной тотальности" [38, с.69]. При такой уверенности стремление к бессмертию представляется лишь психологическим актом [ср.: 131, с.110, 124-125].
Но отрицать возможность вечной жизни (и тем самым лишать человека свободной бытийной перспективы) это значит ещё раз (теперь на почве антропологии) отрицать теистически понимаемого Бога. Гегелевское положение о том, что человек, действительно трансцендирующий природу, полностью уничтожает и себя самого, означает отрицание какого бы то ни было сверх-природного бытия [131, с. 145]. Таким образом, единственный способ сублимации, который предполагает диалектика, есть преобразование формы бытия: индивидуальное смертное существо оказывается в своём мышлении универсальным смертным духом.
Гегель толкует естественную смерть человека (которой он подвержен в качестве животного индивида) "как выход в свободу субстанциальной жизни", но этот исход он не считает ни "высшим из возможных", ни собственно человеческим. Естественная смерть - удел человека, "неспособного подняться к адекватному знанию и спекулятивно-гностическому освобождению" [109, с. 279]. Животный индивид "как единичное имеет своё понятие в своём роде, и род освобождает себя от единичности посредством смерти" [67, с. 127]. Человек же умирает сам.
Конец чисто природного существа определён, по Гегелю, общими законами природы, к которым это существо не может принять никакого индивидуального отношения [131, с. 109, 123]. Смерть человека, напротив, должна пониматься как "автономный" и "имманентный" финал, то есть "сознательный", "добровольный" и даже "желаемый" [131, с. 110, 165]. Более того, понятия смерти и автономности совпадают по смыслу: говорить о существе, что оно автономно, то же самое, что утверждать его смертность [131, с. 165]. Человеческая смерть определяется не "внешним" человеку (гетерономным) порядком; она есть имманентный закон, а потому всегда есть само-упразднение индивида [131, с. 109]448. В свою очередь, понятие автономности связано в горизонте диалектики с понятием свободы. Если же, с одной стороны, свобода есть (в самом общем смысле) негативность, а, с другой стороны, негативность в крайнем значении есть смерть (ничто) [131, с. 54, 124], то "нет свободы без смерти" и, следовательно, "только смертное существо может быть свободным" [131, с. 171]449.
Смертным является, как уже выяснилось, только то существо, которое осознаёт свою конечность. Таким образом, именно смерть (причём смерть, рассматриваемая как "осознанная и добровольная") есть высшее проявление свободы автономного ("изолированного") индивида [131, с. 172]. Человек способен быть индивидом только потому, что он может умереть [131, с. 183]. Лишь через "добровольную смерть" (через смерть "без необходимости") он способен достичь свободы от данного (природного) порядка [131, с. 172-173], от той "тотальности наличного бытия", которую Кожев называет Богом [131, с. 173], но которую было бы правильнее именовать судьбой. Поскольку же всё бытие в гегелевской философии исчерпывается тотальным, постольку, действительно, абсолютное освобождение автономного индивида есть для него исключительно отход в ничто, аннигиляция.
Как видим, человек, согласно Гегелю, есть свободное существо; но эта "свобода" требует смерти. Всякое человеческое действие представляет собой осуществление негативности в отношении данного, следовательно (в конце концов) отрицание себя самого. Такое отрицание себя может быть выражено в самом чистом виде именно как самоубийство как добровольная и осознанная смерть, принимаемая "свободно" и "без всякой витальной необходимости" [131, с. 185]. Значит, только то живое существо заслуживает чести именоваться "диалектическим" (то есть человеком), которое "способно реализовать свою смертность" осознать её, примириться с ней и осуществить её [131, с. 109-110, 124-125, 186]450.
Таким образом, человек всегда "проявляет себя" (выражает собственную сущность) как существо, осознающее свою смертность и потому способное "использовать" это знание, то есть принять смерть "добровольно и осознанно" [131, с. 147]; иначе говоря, способность совершить самоубийство входит в определение сущности человека как разумного конечного существа. Именно поэтому диалектическая философия человека (в данном случае гегелевская) "в конечном счёте является философией смерти (или, что то же самое, атеизмом)" [131, с. 147]. Действительно, в философии Гегеля "идея смерти занимает ведущее место". Безоговорочное принятие "факта смерти" (то есть конечности как неизбежности) представляет собой "фундамент всего гегелевского мышления"; именно из этого факта Гегель выводит все свои философские заключения [131, с. 147]451.
Согласно этой философской установке Гегеля, лишь добровольно принимая угрозу смерти в борьбе за престиж, человек (в своём родовом понятии) впервые специфическим образом проявляет себя в мире природы, начиная историю. Только "смиряясь с мыслью о смерти" как неизбежном для него финале, человек приходит к абсолютному знанию (мудрости), тем самым завершая историю (в том числе и историю мысли) [131, с. 147]. Смерть оказывается началом и концом истории. Именно смерть порождает человека "в лоне Природы", именно смерть заставляет его стремиться к своему "конечному предназначению", то есть к состоянию абсолютного знания, включающего и знание собственной смертности [131, с. 161] как своей истины. Иначе говоря, абсолютное знание, или мудрость, и сознательное принятие смерти, понимаемой как полное и окончательное исчезновение индивида, в сущности тождественны [131, с. 147-148]. Целое (абсолютное, окончательное, божественное) знание есть смерть.
Диалектика, таким образом, представляет собой частный случай самоубийства, ибо смерть индивида не только её предмет, но и её сущность. В самом деле, согласно Гегелю, понять самого себя для человека означает "принять целиком и полностью факт смерти"; лишь осознавая свою фактическую конечность (смертность), человек обретает подлинное самосознание [131, с. 160]. Именно поэтому человек, как существо, которое "осознаёт свою смерть и желает её", является существом диалектическим [131, с. 163]. Диалектический дух не только не избегает смерти, но, напротив, "смотрит в лицо негативному", не отрицая его, а "пребывая в нём", "сохраняя себя" в смерти и поддерживая смерть в себе [131, с. 148-149]. Иными словами, дух есть условие, благодаря которому негативное (смерть) "перемещается" в наличное бытие (Sein) [131, с. 149, 161] и помещается в нём452. Итак, смерть господствует в бытии как универсальная сила.
В конечном счёте, как зло, так и смерть (прежде всего добровольная) оказываются у Гегеля необходимыми моментами не только родового, но и отдельного (частного) человеческого бытия. Человек "должен" рисковать жизнью в борьбе за чистый престиж не только с целью признания за собой права собственности, но прежде всего для утверждения своей реальности. Если главная цель для животного есть "сохранение жизни", то разумный индивид должен "возвыситься над этим инстинктом, чтобы обрести человеческую ценность", иначе говоря, уметь "рисковать собственной жизнью" [113, с. 225]. В лекциях 1803/1804 гг. Гегель говорит об этом так: человек в процессе жизнедеятельности "отражает всякое нападение вплоть до момента смерти (напавшего). Это нападение обязательно должно иметь место (у Гегеля, как известно, имеет место только то, что должно иметь место. - С.А.); особенные (существа) обязательно должны нападать друг на друга для того, чтобы узнать самих себя и (убедиться) в том, что они наделены разумом (то есть являются людьми)" [131, с. 189]. "Каждый особенный должен утвердиться в качестве тотальности в сознании другого, вступив с ним в борьбу с целью сохранения своей особенности, всей своей наличной тотальности (которая, таким образом, исключает тотальность другого. - С.А.), всей своей жизни; и при этом каждый как к своей главной цели должен стремиться к смерти другого". В то же время, "имея целью его смерть, я сам подвергаюсь смертельной опасности" [131, с. 190].
"Каждый, - продолжает Гегель, - необходимым образом должен утвердить себя в отношении другого"; а для этого "он должен атаковать другого". Такая атака равносильна познанию и, более того, является единственным действительным способом познания. Человек познаёт другого, "лишь стремясь довести его до смерти (bis auf den Tod treibt); а равно, каждый может доказать самому себе, что он есть тотальность, только стремясь к своей собственной смерти" [131, с. 191]. Итак, всякое частное сознание "всегда должно иметь своей целью смерть другого и свою собственную" [131, с. 192].
Таким образом, человек есть не только "смерть, живущая человеческой жизнью" [131, с. 161]; он есть "своя собственная смерть", причём смерть "насильственная", то есть "сознательная или добровольная" [131, с. 192]. Получается, что сущность подлинно человеческого бытия в горизонте гегелевской диалектики предстаёт как необходимое самоубийство. Человек - это "бытие, которое уничтожает себя", являет себя в акте самоубийства [131, с. 192], представляет собой "осознанную и добровольную смерть в процессе становления" [131, с. 193]. Даже агрессия, направленная на другого, является по сути агрессией против себя. "Сознанию в качестве сознания, - утверждает Гегель в лекциях 1805/1806 гг., - кажется, что его целью является смерть другого; но (в себе и для нас, то есть на самом деле) оно стремится к своей собственной смерти; оно есть самоубийство" [131, с. 192]. В таком самоубийственном стремлении и заключена специфика человеческого бытия [131, с. 196], которая, как видим, заключается в том, что у человека нет иной свободы, кроме установленной по необходимости, и иной перспективы, кроме предопределённой.
Итак, Гегель утверждает сущностную необходимость смерти каждого отдельного человека; эта необходимость устанавливается им на всех трёх уровнях анализа. Во-первых, человек смертен онтологически (на уровне субстанциального бытия), так как он в конечном счёте включён в абсолютную тотальность универсального духа, содержащего в себе негативность в отношении всякого собственного "что"; при этом абсолютный дух как целое в указанном акте самонегации остаётся всегда самим собой (и даже только так и может быть собой), а вот "этот" (единичный, конечный) человек однозначно гибнет. Во-вторых, человек смертен метафизически (на уровне космического бытия), ибо он в своей негативной свободе выходит из природного мира и, поскольку "вне" этого мира не оказывается никакого "иного", достигает лишь аннигиляции. В-третьих, человек смертен феноменологически (на уровне индивидуального бытия), поскольку он вынужден утверждать себя как отдельное существо, что эмпирически выражается как убийство другого и, в наибольшей полноте, как самоубийство. Как видим, самая суть гегелевской философии предстаёт как диалектика, самая суть диалектики - как антропология (распространение специфических характеристик бытия человека на бытие вообще), самая суть антропологии - как танатология (поскольку на всех уровнях существования обнаруживается конечность человека как его сущность) и, наконец, самая суть танатологии - как суицидология, устанавливающая необходимость самоубийства для всякого конкретного индивида.
Этот главный вывод из философской системы Гегеля основан прежде всего на его радикальной монистической установке и не должен связываться исключительно с его рационализмом. Полагание сущности как тотальной имманентности, уничтожающей в себе всякое своё индивидуальное проявление453, с не меньшей последовательностью может быть произведено и на почве иррационализма. Подобный пример являет собой философия Шопенгауэра, ключевым вопросом которой как раз и выступает проблема самоубийства.
Лекция 13. Пессимизм и самоубийство: блаженная смерть
I
Артур Шопенгауэр, несмотря на всю свою очевидную философскую оригинальность (иррационализм, ориентальные увлечения, радикально проведённый индивидуализм), в содержании главной интенции своей философии не выходит за те рамки, которые устанавливает для себя автономно-рационалистическая традиция мышления. "Шопенгауэр, - пишет А.А. Чанышев, - как и его современники - представители послекантовского идеализма, претендует на создание абсолютного мировоззрения, философии, способной дать решение проблемы бытия, разгадать его тайну" [276, с. 11]. Такая философия, само собой разумеется, обязана быть монистической, сводящей многообразие к одному понятному принципу. Поэтому для Шопенгауэра (как и для Гегеля) существеннейшее значение имеет преодоление противоположности между субъектом и объектом, идеальным и реальным, свободой и необходимостью [276, с. 11]. Главная особенность Шопенгауэра в том, что он сумел назвать и показать действительное содержание такого универсального синтеза, наименовав все монистические абсолюты (субстанцию, дух, идею, единое, природу, бытие, вещь в себе, волю и т.д.) их настоящим именем: ничто.
Началом такого нигилистического монизма является полагание в основе всякой эмпирически данной двойственности сверх-эмпирически данного трансцендентального единства. "Весь мир объектов есть и остаётся представлением, и именно поэтому он вполне и вовеки веков обусловлен субъектом, т.е. имеет трансцендентальную идеальность" [276, с. 63]. Мир един через общность мирового субъекта. Поскольку объективное и субъективное суть две взаимодополняющие стороны одного и того же мира, постольку мировое начало ("субъект") носит трансцендентальный, а не трансцендентный характер454. Этот трансцендентальный субъект в его сущности (как условие мира явлений) Шопенгауэр именует волей. "Объективный мир, мир как представление, - не единственная, а только одна, как бы внешняя сторона мира, который имеет ещё и совсем другую сторону; она представляет собою его внутреннее существо, его зерно, вещь в себе"; это последнее и есть воля [276, с. 76]. Таким образом, "этот мир, в котором мы живём и пребываем, в своей сущности есть всецело воля и в то же время всецело представление" [276, с. 181]. "Кроме представления и воли, мы не знаем и не можем помыслить более ничего" [276, с. 136].
Во всех многообразных явлениях, "которые в своей рядоположенности наполняют собою весь мир и в качестве событий вытесняют друг друга", являет себя "только единая воля"; всё множественное и изменчивое сущее оказывается "её видимостью, объектностью", а сама она "остаётся неподвижной в этой смене: только воля есть вещь в себе, всякий же объект - это явление, феномен" [276, с. 174]. Воля является самой себе во множественности индивидов. "Но эта множественность относится не к воле как вещи в себе, а только к её проявлениям: воля присутствует в каждом из них сполна и нераздельно и видит вокруг себя бесчисленно повторенный образ своего собственного существа. Но самоё это существо, т.е. подлинную реальность, она непосредственно находит только внутри себя" [276, с. 314].
Воля, как "подлинная реальность", как "подлинная вещь в себе" [276, с. 181] не требует для себя внешних себе оснований и условий; этим она отличается от любой вещи, в отношении которой она сама выступает как такое условие. "Ибо в каждой вещи в природе есть нечто такое, чему никогда нельзя найти основания, указать дальнейшую причину, чего нельзя объяснить; это - специфический способ её действия, т.е. образ её бытия, её сущность" [276, с. 151]. Эта "сущность" всякой вещи есть "то же самое, что для человека воля" [276, с. 151-152]; отсюда и само наименование указанной универсальной сущности. Поскольку воля онтически безосновна, постольку её можно назвать "правящей субстанцией" [200, с. 50].
Воля как "мировой принцип" вполне "бессознательна" и не имеет никакой разумной цели455; это "злое, саморазрушительное стремление, голая и голодная агрессивность" [276, с. 12]. Только эмпирический деятель (то есть волящий) в своих поступках руководствуется основаниями (целями, мотивами); "сама же воля лежит вне области закона мотивации" и "не имеет основания" вне себя самой, поэтому её и можно назвать "безосновной" [276, с. 137]. Следовательно, воля безосновна не только в отношении её источника, но и в отношении её цели. К чему же стремится мировая воля, если она действительно воля? Такой вопрос, по мнению Шопенгауэра, вызван смешением вещи в себе с явлением. Закон основания (видом которого выступает закон мотивации) распространяется только на явление, а не на вещь в себе. "Основание можно всюду указывать только для явлений как таковых, для отдельных вещей, но никогда его нельзя искать для самой воли" [276, с. 181]. Отсутствие всякой цели и всяких "границ" прежде всего и характеризует эту "волю в себе", ибо она есть "бесконечное стремление" [276, с. 182]. Поэтому воля ("там, где её озаряет познание") всегда знает, чего она хочет здесь и теперь, но никогда не знает, чего она хочет вообще; "каждый отдельный акт её имеет цель, - общее же желание таковой не имеет" [276, с. 183].
Ещё один аргумент Шопенгауэра в пользу слепоты воли строится на его пессимистическом и фаталистическом взгляде на имеющий место мир. "Сила, которая воззвала нас к бытию, - пишет он, - непременно - слепая. Ибо зрячая, хотя бы это была и сила внешняя, должна была бы быть злым демоном, а внутренняя сила, т.е. мы сами, никогда не ввергли бы себя в такое ужасное положение, если бы мы были зрячие. Нет, - чистая, свободная от познания воли к жизни, слепое стремление, которое объективирует себя таким образом - вот ядро жизни" [277, с. 480].
У некоторых читателей утверждение Шопенгауэра о бесцельности воли вызывает недоумение и заставляет предполагать досадную ошибку в логике рассуждения. Если воля объявлена слепой, то это значит, что указанная воля не имеет вне себя "ни одного предмета воления"; но это положение означает, что такая воля в конце концов оказывается равной полному отсутствию хотения [3, с. 64]. Казалось бы, "окончательное удовлетворение воли есть внутреннее противоречие: воля, которая не хочет" [200, с. 34]. Однако, как будет показано далее, совершенно никакого противоречия в этом положении Шопенгауэра нет.
Человек в философии Шопенгауэра есть одновременно и воля как "внутренняя сущность мира" (то есть всеединство), и представление (то есть явление, принадлежащее к феноменальному миру субъект-объектных различений). "Таким образом, каждый в этом двойном смысле сам представляет собою весь мир, микрокосм, и полностью и всецело находит в себе самом обе стороны мира. И то, что он познаёт как свою сущность, исчерпывает и сущность всего мира, макрокосма; мир так же, как и он сам, есть всецело воля и всецело представление, и больше нет ничего. Мы видим, таким образом, что здесь совпадают между собой философия Фалеса, рассматривавшая макрокосм, и философия Сократа, рассматривавшая микрокосм, так как предмет обеих оказывается одним и тем же" [276, с. 181]. Микрокосм и тут оказывается "равным" макрокосму [276, с. 314]; иначе говоря, звёздное небо надо мной (предмет натурфилософии) и нравственный закон во мне (предмет этики) присутствуют в границах единого порядка природы.
Тело для познающего субъекта (то есть в рассудке) "является таким же представлением, как и всякое другое, объектом среди объектов"; однако субъекту познания как живому индивиду тело непосредственно дано как воля. Любое действие тела есть не что иное, как "объективированный, т.е. вступивший в созерцание акт воли"; более того, само по себе тело - "объективированная, т.е. ставшая представлением воля". Воля есть "априорное познание тела", а тело есть "апостериорное познание воли" [276, с. 132]. Исходя из идеи "тождества тела и воли" [276, с. 134], можно утверждать, что "каждое воздействие на тело является тотчас же и непосредственно воздействием на волю"; такое воздействие, если оно "противно воле", именуется болью, а если "удовлетворяет её", именуется наслаждением (удовольствием) [276, с. 133]. Физическая смерть (гибель тела-явления) не есть исчезновение, а есть перевоплощение (перемена конкретного образа объективации одной и той же воли).
Сущность человека (воля)456 не имеет источника вне самого человека и не предполагает наличия внешней цели [276, с. 34]. "Сущность человека, - пишет Шопенгауэр, - состоит в том, что его воля стремится, удовлетворяется и снова стремится" [276, с. 257]; достигнутая цель "опять становится началом нового стремления, и так - до бесконечности" [276, с. 182]. В этой принципиальной неудовлетворённости воли Шопенгауэр видит не рабство, а свободу [276, с. 31], хотя в данном случае самое большее, о чём может идти речь, - это автономия (которую Шопенгауэр, видимо, и отождествляет со свободой). "Подлинная" свобода, понимаемая как "независимость от закона основания", свойственна только воле "как вещи в себе" [276, с. 371]. Здесь имеется в виду чистая спонтанность (стихийность) воли. Такой её характер специально подчёркнут Шопенгауэром: свобода воли "лежит" не в operari (не в действии), а в esse [276, с. 372; ср.: 277, с. 477], то есть в самом по себе бытии, в бытии как таковом457.
Воля, составляющая "сердцевину жизни всех вещей" [276, с. 368], едина во всех своих проявлениях - "от бессознательного порыва тёмных сил природы до сознательной деятельности человека" [276, с. 377]458. "Животное ощущает и созерцает; человек, сверх того, мыслит и знает; оба они хотят" [276, с. 81]. Таким образом, сущность человека и сущность "всех вещей" есть воля как "всеединая сущность" [200, с. 54]459. В единстве воли сходятся все противоположности, поскольку они оказываются онтологически соотнесёнными с этим "единым" ("целым", "первоначалом", "архе", "бытием") [276, с. 34]. Все "вещи мира" - это "объектность одной и той же воли", и потому они "тождественны между собой в своём внутреннем существе" [276, с. 166]. Это единство воли как сущности всего сущего (то есть в качестве бытия) открывается мудрецу; тогда последний "видит во всём, и прежде всего - в своём ближнем, объективацию той же воли, которая и его призвала к бытию" [136, с. 357]. Поэтому "человек - создание не какой-нибудь другой, а своей собственной воли"; различение же воли человеческой и воли Божией есть тот "основной недостаток" теизма, который Шопенгауэр стремится "устранить" [276, с. 374]. Так всё сущее замыкается на себя в единстве своего бытия (воли).
Итак, "вещь в себе - это только воля, и как таковая она есть вовсе не представление, а нечто toto genere от него отличное: то, проявлением чего, видимостью, объектностью выступает всякое представление, всякий объект. Она - самая сердцевина, ядро всего частного, как и целого; она проявляется в каждой слепо действующей силе природы, но она же проявляется и в обдуманной деятельности человека: великое различие между ними касается только степени проявления, но не сущности того, что проявляется" [276, с. 140].
Указанная "степень проявления" воли и определяет собой специфику человеческого бытия (жизни и смерти). "Замечательно и даже изумительно, - пишет Шопенгауэр, - как человек наряду со своей жизнью in concreto всегда ведёт ещё другую жизнь - in abstracto. В первой он отдан на произвол всех бурь действительности и влиянию настоящего; он обречён на искание, страдание, смерть, как и животное" [276, с. 121-122]. Во второй он - "только зритель и наблюдатель" [276, с. 122]. Этот зритель способен спокойно наблюдать даже "приготовление к его собственной смерти". Из такой "двойной жизни" следует "то отличное от животной действительности человеческое спокойствие, с каким, однажды продумав что-то, приняв решение или познав необходимость, люди хладнокровно переносят или совершают самое важное, часто самое страшное для них", например, "самоубийство" [276, с. 122]460.
Животное "узнаёт" смерть лишь в самóй смерти; человек сознательно приближается к своей гибели; это обстоятельство "иногда вызывает тревожное раздумье о жизни даже у того, кто ещё не постиг в самой жизни этого характера вечного уничтожения" [276, с. 81]. При этом собственная смерть видится каждому чуть ли не как "конец мира", тогда как смерть других людей человек способен воспринимать равнодушно, если только она не задевает его личных интересов. Причина этого, считает Шопенгауэр, в том, что "каждый непосредственно дан самому себе как целая воля и целый представляющий", в то время как другие "даны ему прежде всего лишь как его представления" [276, с. 315].
Именно на основе осмысления собственной конечности человек имеет возможность прийти к открытию главной закономерности универсального бытия: в смерти отдельного сущего (представления) не заканчивается проявление воли вообще. Этой всеобщей "воле к жизни" её собственной природой навсегда обеспечено возобновление; поэтому единственно реальной формой её пребывания оказывается настоящее, "от которого никто из людей никогда не может уйти, как бы ни властвовали в явлении рождение и смерть" [276, с. 367]. Шопенгауэру представляется совершенно ясным, "что смерть не выводит нас из мира, равно как и рождение, в сущности, не вводит в него: лишь наше явление имеет начало и конец, а не наша сущность в себе" [275, с. 65]. Здесь воспроизведена известная пантеистическая идея о сохранении общего в прехождении и взаимообращении частного. "За рождением следует жизнь, а за жизнью бесповоротно - смерть" [277, с. 460]. То, что остаётся в нас после смерти, "есть зерно и зародыш совершенно иного существования, в котором обретёт себя новый индивидуум" [274, с. 184]. Таким образом, настаивая на неуничтожимости единой воли в круговороте рождений и смертей, Шопенгауэр неизбежно принимает и адаптирует к философии идею реинкарнации. Миф о переселении душ, пишет он, "до такой степени богат содержанием, так важен, так непосредственно близко стоит к философской истине", что его приходится считать очевидным основанием всякой мифологии, в том числе философской мифологии Пифагора и Платона [277, с. 476]. Если морали нужен догмат для "опоры", то лучший "мифический" догмат - это "догмат метемпсихозы" [277, с. 485].
Бытие индивида во всяком воплощении (во всякой объективации воли) "по существу связано со страданием" [275, с. 65], которое является "существенным признаком жизни" [276, с. 368]. Желание жить без страданий, считает Шопенгауэр, "заключает в себе полное противоречие"; поэтому столь бессмысленно выражение "блаженная жизнь" [276, с. 125]. Блаженной, следовательно, может быть только смерть, причём такая смерть, которая навсегда "освобождает" от жизни. "Истинное спасение, освобождение от жизни и страдания, - пишет Шопенгауэр, - немыслимо без полного отрицания воли. До тех пор каждый есть не что иное, как сама эта воля, явлением которой и служит мимолётное существование, всегда напрасное и вечно обманутое стремление, исполненный страданий мир, которому все мы принадлежим неотвратимо в равной мере" [276, с. 367].
Отрицание воли к жизни (иначе говоря, к возобновлению того мира, который с неизбежностью - страдание) есть "благо", ибо указанная воля - только "несчастье" [277, с. 464]. У Шопенгауэра выработана, по выражению А.А. Чанышева, настоящая "этика жизнеотрицания" [276, с. 12], программа "окончательного возвращения к изначальному единству" [276, с. 34], в данном случае - к нулю. Состояние, противоположное воле к жизни, есть "нирвана" [277, с. 483]. Окончательность такого "возвращения" в нирвану несомненна: Шопенгауэр считает, что "всё совершающееся происходит необратимо" [276, с. 31]461. При этом Шопенгауэр, как и Будда, утверждает полную самостоятельность такого отрицания. "Пусть каждый скажет себе открыто, что он живёт в течение бесконечного времени, для того чтобы или страдать, или уничтожить всё своё хотение. Я - то, что всегда есть, всегда было и будет всегда. И только я сам могу поднять свою завесу" [277, с. 466]. То, что было названо причиной жизни, "оказывается одновременно и превосходной причиной смерти" [116, с. 223]. Отрицание воли к жизни представляет собой единственно возможное "трансцендентальное изменение" [276, с. 367]. Однако трансцендентальное изменение означает остановку экзистенциального изменения, то есть прекращение существования, то есть личную смерть.
Познание целого, познание сущности есть самый верный способ достижения такой смерти. "Познать мир в его целом, познать сущность вещей" значит "отвернуться от жизни, дойти до отрицания воли" [136, с. 356]. В этом отрицании совпадают свобода и смерть. Непосредственное же проявление свободы воли "наступает лишь тогда, когда воля, достигнув познания своей сущности, обретает для себя в результате этого познания квиетив462 и тем освобождается от действия мотивов, лежащего в сфере другого способа познания, объектами которого служат только явления". Такая свобода доступна лишь человеку, как разумному существу [276, с. 372]. Чтобы стать "верными высшему сознанию", свободному от привязанности к эмпирическому, "мы должны отречься от эмпирического и оторваться от него"; содержание такого отречения однозначно: "самоумерщвление" [277, с. 460].
Познание как совершенное постижение "всей сущности мира и жизни" в своём "обратном воздействии" на волю "не внушает ей, как любое другое, мотивов", а наоборот, "становится квиетивом всякого желания", следствием чего оказывается "полная резиньяция", "отказ от всякого желания, устранение, уничтожение воли, а вместе с ней и всей сущности этого мира" [276, с. 236]. Так воля достигает "свободного самоотрицания посредством единого великого квиетива, который восстаёт перед ней из совершеннейшего познания её собственного существа" [276, с. 236]. Следовательно, "самоупразднение воли исходит из познания" [276, с. 372]. Отрицание воли к жизни "всегда вытекает из квиетива воли, представляющего собой познание её внутреннего разлада и ничтожества, обнаруживающихся в страдании всего живущего" [276, с. 366]. Итак, через страдание обретается познание, через познание - квиетив, из квиетива же истекает отрицание воли463.
Это самоотрицание воли как её предельное самонасыщение (удовлетворённость) полагается Шопенгауэром в качестве решающего поворотного пункта существования. Однако, "если человек действительно и полностью удовлетворён тем, что он есть, то он не хочет больше ничего из реального, значит, он больше не изменяет реальность и сам также прекращает реально изменяться" [131, с. 37]. Таким образом, то радикальное изменение, к которому призывает Шопенгауэр, на самом деле есть прекращение изменения; но поскольку личность мыслима лишь как несовпадающее с собой онтологическое движение (действительно радикальное изменение, трансцендирование), постольку личность, мыслимая как такое ставшее, есть только ничто.
Действительно, как указывает сам Шопенгауэр, "прекращение желания" и "освобождение от мира" оказывается "переходом в пустое ничто" [276, с. 375]. С уничтожением воли исчезает и мир (её объективация), а поскольку ничего более не предполагается, постольку "остаётся только пустое ничто" [276, с. 378]. "Мы, - пишет Шопенгауэр, - открыто исповедуем: то, что остаётся после окончательного упразднения воли для всех тех, кто ещё исполнен воли, есть, конечно, ничто. Но и наоборот: для того, в ком воля обратилась и отринула себя, этот наш столь реальный мир со всеми его солнцами и млечными путями - ничто" [276, с. 378].
II
Наименьшее отношение к такому тотальному самоотрицанию имеет как раз "произвольное уничтожение отдельного явления воли" - самоубийство. Никак не будучи действительным отрицанием воли, оно представляет собой "феномен её могучего утверждения" [276, с. 367]. Ведь содержание действительного отрицания состоит в том, что "человек отвергает не страдания, а наслаждения", то есть именно то, что является наиболее сильным мотивом поддержания жизни. Самоубийца же, как считает Шопенгауэр, "хочет жизни и недоволен только условиями, при которых она ему дана". Поэтому он отказывается вовсе не от воли к жизни, а только от самой жизни, разрушая не волю (настоящую причину всякой жизни), а только её "отдельное проявление". Самоубийца своим поступком демонстрирует, что он "хочет жизни, хочет незатруднённого бытия и утверждения тела, но сплетение обстоятельств этого не допускает, и для него возникает великое страдание" [276, с. 367]. Оставаясь полностью принадлежащим "своей сущности" (воле), он разрушает "отдельное явление" этой сущности, и потому "именно самоубийство является выражением воли к жизни", причём оно случается тем скорее, чем сильнее эта воля [277, с. 454]. Самоубийца любит жизнь, "но ещё больше страшится какого-нибудь определённого случая в жизни, так что этот страх перевешивает ту любовь" [277, с. 453]. Человек, избирающий для себя вольную смерть, хочет "жизни вообще", он "не хочет только отдельного явления этой воли, которое он сам представляет собою и которое разрушает" [277, с. 453]. Итак, "самоубийца - это человек, который вместо того, чтобы отказаться от хотения, уничтожает явление этого хотения: он прекратил не волю к жизни, а только жизнь" [277, с. 452].
Самоубийца перестаёт жить именно потому, что не может перестать хотеть, и значит воля в акте суицида "утверждает себя именно путём разрушения своего явления, ибо иначе она уже не в силах себя утвердить" [276, с. 368]464. Действительное отрицание воли "могло бы привести самоубийцу к отрицанию своей личности и освобождению"; такое отрицание возможно только через страдание, от которого самоубийца и уклоняется в акте суицида (исключение, видимо, составляет лишь самоубийство, вызванное "крайним пределом аскетизма", то есть смерть через отказ от пищи [276, с.369-370]). Поэтому "самоубийца в этом отношении похож на больного, не позволяющего завершить начатую уже болезненную операцию, которая окончательно исцелила бы его, и предпочитает сохранить болезнь" [276, с. 368]. Только страдание открывает возможность отрицания воли, ибо позволяет её обнаружить. Страдание открывает человеку возможность "отринуть волю", но самоубийца уклоняется от него, "разрушая проявление воли, тело, чтобы сама она осталась несломленной" [276, с. 368]. Самоубийство, таким образом, представляет собой разрушение видимости и сохранение сущности [см.: 274, с. 10-14]. Суицид подтверждает, что человек в момент совершения этого акта остаётся в заблуждении относительно себя самого, своё впечатление принимая за истину. В самоубийстве преодолевается феномен, но остаётся невредимой сущность.
Между тем, самоубийство как действие воли вполне в духе её сущности: "она избирает решение в соответствии со своей внутренней сущностью, которая лежит вне форм закона основания и для которой вследствие этого безразлично всякое отдельное явление, так как сущность эта остаётся неприкосновенной для всякого возникновения и уничтожения" [276, с. 367-368; ср.: 277, с. 453]. Эта сущность воли являет себя не только в самóм акте саморазрушения, но и в настроении живого существа, выступая, таким образом, как всегда имеющийся в наличии фундамент суицидного деяния, как основание постоянной готовности к смерти. "Ибо, - утверждает Шопенгауэр, - та твёрдая внутренняя уверенность, в силу которой мы все живём без постоянного страха смерти, - уверенность, что воля никогда не может остаться без своего проявления, служит опорой и для акта самоубийства"; следовательно, именно воля к жизни проявляется "в этом самоумерщвлении" точно так же, как в самосохранении и рождении [276, с. 368; ср.: 277, с. 455]. Самоубийство, таким образом, свойственно деятельной воле.
Кроме того, самоубийство наиболее точно демонстрирует наличное положение дел, представляя собой "самое вопиющее выражение противоречия воли к жизни" [276, с. 368]. Это наличное противоречие состоит в том, что воля к жизни оказывается единственным источником насилия и смерти. Индивид "объявляет войну самому себе, и сила, с которой он хочет жизни и выступает против мешающего ей страдания, доводит его до самоуничтожения, так что индивидуальная воля скорее разрушит своим актом тело, т.е. свою же собственную видимость, чем страдание сломит волю" [276, с. 368]. Утверждение воли неизбежно оказывается отрицанием волящего, самоубийством.
Однако такое самоубийство не имеет отношения к окончательному прекращению жизни вообще. "Самоубийство относится к отрицанию воли, - пишет Шопенгауэр, - как отдельная вещь к идее: самоубийца отрекается только от индивида, а не от вида" [276, с. 368]. Так как "воле к жизни всегда обеспечена жизнь", а существенным признаком жизни выступает страдание, то самоубийство (как "добровольное разрушение одного частного явления, не затрагивающее вещи в себе, которая остаётся незыблемой") представляет собой "совершенно бесплодный и безумный поступок" [276, с. 368], не ведущий к действительному отрицанию страдания. "Самоубийство, - пишет Шопенгауэр, - это шедевр майи. Мы уничтожаем явление и не видим, что вещь в себе остаётся неизменной, подобно тому как неподвижно высится радуга, как бы быстро ни падала капля за каплей и ни становилась носительницей её на один момент465. Только уничтожение воли к жизни в общем может спасти нас: разлад с каким-нибудь одним из её явлений оставляет её самоё несокрушимой, и, таким образом, уничтожение такого явления оставляет являемость воли в общем неизменной" [277, с. 454].466 Другими словами, суицид есть поступок бесполезный, не достигающий цели, функционально несовершенный. Важно при этом, что самоубийство не может быть характеризовано как в каком-либо смысле негативный поступок, ибо оно не ухудшает наличного положения дел, оставляя всё как есть. Самоубийство безразлично. Но Шопенгауэр жаждет действительной и абсолютной негации.
В этой бесплодности самоубийства, в его неспособности действительно прервать жизнь и достичь небытия Шопенгауэр видит скрытую (но только не для него) причину осуждения суицида. "Вот причина того, - пишет он, - почему почти все этические системы, как философские, так и религиозные, осуждают самоубийство,467 хотя сами они приводят для этого только странные, софистические основания. Но если человек когда-либо воздержался от самоубийства из чисто моральных побуждений, то сокровенный смысл этого самопреодоления (в какие бы понятия он ни облекался его разумом) был следующий: "Я не хочу уклоняться от страдания, чтобы оно помогло мне уничтожить волю к жизни, проявление которой так бедственно, чтобы оно укрепило и теперь уже открывающееся мне познание истиной сущности мира до такой степени, дабы это познание стало последним квиетивом моей воли и освободило меня навсегда"" [276, с. 368-369].
Против самоубийства, по мнению Шопенгауэра, должно настроить человека признание того факта, что все "происшествия, радости и боли не касаются его лучшего и внутреннего "я"; что, следовательно, жизнь в своём целом представляет собою игру, турнир-позорище, а не серьёзную борьбу" [277, с. 451]468. Самоубийца "вмешивает" в эту мировую игру (майю) совершенно ненужную серьёзность, своим поступком показывая, "что он не понимает шутки" и потому, как плохой игрок, "переносит потерю неравнодушно, а если ему сданы в игре плохие карты, ворчливо и нетерпеливо не хочет играть дальше, бросает карты и нарушает игру" [277, с. 451].
Итак, если иметь в виду действительное и окончательное преодоления бытия, самоубийство должно быть признано не достигающим цели, ибо оно всегда оказывается актом, не имеющим отношения к какому-либо изменению сущности. Ведь "коль скоро воля к жизни существует, то её как единственно метафизическое начало, или вещь в себе, не может сломить никакая сила, а может быть уничтожено только её явление на этом месте и в это время. Сама воля ничем, кроме познания, не может быть упразднена. Вот почему единственный путь спасения заключается в том, чтобы воля проявлялась беспрепятственно, дабы в этом проявлении мы могли познать своё собственное существо469. Только в результате этого познания воля может отвергнуть самоё себя и тем самым положить конец страданию, нераздельно связанному с её проявлением, но этого нельзя осуществить физическим насилием", в частности, самоубийством. "Поэтому надо всячески содействовать целям природы, раз уж определилась воля к жизни, составляющая внутреннюю сущность природы" [276, с. 369]. Беспрепятственное проявление бесцельной (спонтанной) воли как природы всего сущего470 и есть способ действительного достижения полной и окончательной смерти, то есть подлинный способ самоубийства.
Таким образом, как уже можно догадаться, действительным отрицанием воли как сущности наличного достигается не небытие, а жизнь (жизнь вопреки сущности); свобода же автономной воли (реализация, подтверждение её) есть только смерть, но никак не жизнь. Шопенгауэр, сражаясь с самоубийством, по сути дела создаёт ситуацию, чреватую как раз вольным самоуничтожением, таким актом, в котором самоубийца не просто губит себя, но уничтожает при этом весь мир. Порицая эмпирическое самоубийство за его неэффективность, Шопенгауэр предлагает совершить метафизическое самоубийство. Как теперь понятно, он вынужден предполагать действие универсальной воли и в том, и в другом случае; но поскольку чистое выражение воли осуществляется лишь во втором варианте, постольку именно метафизическое самоуничтожение есть действительный суицид.
Поскольку эмпирический суицид (как отмечалось выше) есть наиболее полное явление "разлада" воли к жизни с самой собой [277, с. 455], постольку, следовательно, действительное отрицание воли (как противоположное самоубийству) есть выражение полного лада воли с собой; гармония (прилаженность к себе, к собственной природе) оказывается, таким образом, действительным самоубийством, полной и окончательной смертью. Такое гибельное тождество с имманентным, данное как автономность бесцельно действующей (тем самым именно в этом действии просто бывающей) воли, ведёт к аннигиляции всякого сущего в самóй его сущности, то есть необратимо; это и есть "верный путь" [277, с. 454], указанный Шопенгауэром.
Сказанное требует некоторого разъяснения. Если "воля к жизни" подтверждает себя в вольной смерти, то она есть воля и к смерти. Дело в том, что термин "жизнь" у Шопенгауэра имеет особый смысл (фундированный его генеральной монистической установкой): это не жизнь этого индивида, а жизнь-смерть всех возможных индивидов как возобновляющееся проявление одной и той же воли. Если истинный "субъект деятельности" есть воля как сущность всякого индивидуального бытия, то любой эмпирически данный субъект есть по сути стремление к своему небытию (то есть самоотрицание). Положение усугубляется ещё и тем, что универсальная сущность всякого сущего (в любом случае отрицаемого сущностью) положена Шопенгауэром именно как воля, то есть, иначе говоря, стремление, желание. "Всякое желание, как такое, - пишет Владимир Соловьёв, - есть, по-видимому, лишь желание своего удовлетворения, т.е. благополучия; желать злополучия или неудовлетворённости значило бы то же, что желать заведомо нежелательного, т.е. прямая бессмыслица" [224, с. 206].
В чём же состоит "удовлетворение" хотения как такового? Если нечто ("удовлетворение") есть метафизическая цель воли (тó, к чему она по своей природе, вне зависимости от каких-либо эмпирических ориентиров), значит, в момент хотения оно не наличествует; к этому состоянию удовлетворения воля только направлена, оно - лишь желаемое, волящееся (даже если оно и не имеется в виду совершенно чистой и потому слепой волей). Если воля хочет хотеть, значит, она сейчас не хочет, но тогда она не есть воля. Воля как сущность сущего есть. Если же воля, таким образом, есть как действительно воля, то она сейчас хочет; но тогда она хочет (в пределе, в сущности) только одного - не хотеть. Не "нежелательное" является её целью, а нежелание: "при удовлетворении нечего хотеть" [224, с. 154]471. Воля как таковая, следовательно, стремится успокоиться в безволии; действующая (подтверждающая себя) воля есть по сути действительное самоотрицание. Чистая воля, таким образом, есть воля к гибели472. Поскольку же эта чистая воля есть подлинная сущность всего сущего, постольку эта сущность сущего состоит в природном предопределении к смерти.
Понятие чистой воли, как видим, лучше всего означает бесцельную автономность наличного. Эта автономность сущностно имперсональна. "Действие иррациональной воли, - пишет Эрих Фромм, - можно уподобить разливу реки, прорвавшей плотину. Она заключает в себе огромную силу, но человек - не хозяин ей: он ею захвачен, подчинён, является её рабом" [251, с. 155]. Владимир Соловьёв, критикуя концепцию "воли к власти" у Ницше, утверждает, что "конец всякой здешней силы есть бессилие" [224, с. 87]; правда, он не уточняет, что этот "конец" обусловлен не внешними этой силе условиями, но необходимостью её собственной природы, в силу которой всякая сила сама хочет своей гибели. Любая действительная активность оказывается самоубийственной, ибо в ней проявляет себя воля - стремление к ничто.
Таким образом, автономная (самодостаточная, субстанциальная) воля есть хотение не хотеть, есть бытие-к-ничто; "свобода" такой воли есть "воля к неволе" [243, с. 168]. "Субъект" у Шопенгауэра есть только сама воля, следовательно, по своей сущности он есть стремление к ничто. Свободное действие воли (утверждаемое Шопенгауэром в качестве средства "спасения") есть саморазрушение, своеволие в чистом виде. Если индивид ещё не достиг состояния полного одиночества, если он пока достаточно социализован, если "моё" ещё распространяется за пределы "я", то разрушительный импульс воли отводится на внешние цели (которые в таком расположении имеют для неё значение), на "другого". Иначе говоря, указанный импульс реализуется как убийство.
Бывает так, рассуждает в этой связи Шопенгауэр, что кто-то из родителей убивает своих детей и затем себя. "Если мы обратим внимание на то, что совесть, религия и все традиционные понятия заставляют такого человека видеть в убийстве самое тяжкое преступление, а между тем он всё-таки совершает его в час собственной смерти, причём не может руководиться здесь каким бы то ни было эгоистическим мотивом, - то этот феномен можно объяснить только тем, что в данном случае воля индивида непосредственно узнаёт себя в детях, но объята заблуждением, будто явление - это сама сущность, и глубоко удручённая сознанием бедственности всякой жизни, ошибочно полагает473, что вместе с явлением она разрушает и саму сущность, и потому индивид хочет спасти от бытия с его бедствиями и себя, и детей, в которых видит своё непосредственное возрождение" [276, с. 369]. Убийство, таким образом, оказывается превращённой (ложной) формой самоубийства. "И наше счастье, - пишет Шопенгауэр, - если ещё у нас осталось, чего желать и к чему стремиться, чтобы поддерживать игру вечного перехода от желания к удовлетворению и от него к новому желанию, - игру, быстрый ход которой называется счастьем, а медленный - страданием; чтобы не наступило то оцепенение, которое выражается ужасной, мертвящей жизнь, томительной скукой без определённого предмета" [276, с. 183]. Но если одиночество достаточно велико, если воля отвлечена от внешних себе целей, то она направлена только на себя, а её ничем не сдерживаемое действие есть самоубийство.
В "обезбоженном мире" [276, с. 12] человек одинок. Тем более одинок гений, удел которого - "пустота и одиночество в нашем мире" [277, с. 466], в том мире, из которого он ещё не ушёл в небытие. Всё, что связано с этим миром, не обладает в глазах такого "гения" никакой перспективой, не связано ни с какой надеждой преображения. Поэтому "гений" с неизбежностью оказывается носителем пессимистического взгляда на мир. Таков и гениальный Шопенгауэр. Пессимизм "составляет предпосылку к его нравственной философии и его учению об искуплении и является общей теорией для всего его жизненного опыта и для всех его настроений" [200, с. 33]. "Мир существует, и это очевидно, - пишет Шопенгауэр, - я хотел бы знать только, кому от этого какая польза" [277, с. 450]. Мир, замкнутый на свою трансцендентальную сущность (на волю как природу всего), не имеет перспектив и достоин лишь радикального отрицания474. Это самоуничтожение мира и есть полное и окончательное выражение его сущности.475
Итак, поскольку сама по себе воля есть абсолютная сущность и поскольку природа самой по себе воли есть воление как стремление к безволию, постольку автономия (чистота самовыражения) воли есть абсолютная гибель. Успокоение воли соответствует жизни, если сущность жизни полагается не в этой самой по себе (автономной) воле476. Если же принимается обратное положение, успокоение воли оказывается средством окончательной аннигиляции. Полное и окончательное удовлетворение (самовыражение) воли есть полная и окончательная смерть, действительное самоубийство, гибель всего в самóй его сущности, чистое ничто, нирвана. Одержимость индивида беспрепятственно и бесконтрольно действующей универсальной волей как сущностью оказывается наиболее радикальным способом его аннигиляции не только в феноменальном, но и в ноуменальном измерении. Чистое бытие, в которое погружается личность, может быть в отношении этой личности лишь её окончательным небытием. Сила, которой человек себя вручил и на которую пожелал опереться как на своё (имманентное) основание, оказалась отрицающей и его самого, и (в конечном счёте) себя как таковую. Онтологическая замкнутость в наличном несёт в себе только смерть; согласие с таким положением дел, утверждающее тотальность этого положения (то есть грех в его онтологическом значении), и есть необходимое условие самоубийства.
Лекция 14. Автономия и самоубийство: нравственная казуистика смерти
I
Понятие воли у Шопенгауэра предстаёт не только в качестве ключевой категории его системы, но и в качестве базового концепта суицидологического дискурса. Знаменательно, что эту же самую категорию воли в том же самом ключевом значении мы обнаруживаем в суицидологии Иммануила Канта. Неизбежное сравнение выводов Шопенгауэра, полученных на почве пантеизма, и выводов Канта, произведённых из его деистических предпосылок, заставляет признать их многозначительное сходство.
Кант заводит серьёзную речь о самоубийстве в своих лекциях по этике, в "Основоположениях к метафизике нравов" и в "Метафизике нравов". Сама локализация проблемы суицида в горизонте этики должна указывать на её преимущественно моральный характер. Уточним, что Кант именует чистой моральной философией лишь рациональную часть этики ("метафизику нравственности"), оставляя в стороне её "эмпирическую" часть ("практическую антропологию") [124, с. 155]. Более того, Кант настаивает на определяющем значении именно рациональной этики [124, с. 157], "тщательно очищенной от всего эмпирического", имеющего отношение к антропологии [124, с. 156]. Дисциплина, призванная изучать нравственность в её сущности, есть, согласно Канту, "совершенно изолированная метафизика нравов, не смешанная ни с какой антропологией, ни с какой теологией, ни с какой физикой или сверхфизикой" [124, с. 182]. Тем самым теоретическая этика однозначно выносится за рамки антропологии в сферу трансцендентальной (как увидим, имперсональной) философии. Поэтому и назначение такой метафизики полагается как познание разумом универсальных "законов свободы" [124, с. 154] как своих законов [124, с. 157-158], предписываемых всякой конкретной человеческой воле [124, с. 155]. При этом основу обязательности абсолютно необходимых для воли законов можно найти "a priori исключительно в понятиях чистого разума" [124, с. 156]477.
Чистый разум, по Канту, остаётся единым в двух своих аспектах ("применениях"): спекулятивном и практическом [124, с. 159; 118, с. 517-518]. "Но разум, - пишет Кант, - преступил бы все свои границы, если бы отважился на объяснение того, как чистый разум может быть практическим; это было бы совершенно то же, что и объяснение того, как возможна свобода" [124, с. 241]. Практическое применение разума, таким образом, констатируется Кантом просто как наличное.
Практический разум есть "воля разумного существа" [124, с. 227, 220]. Если разум "непременно определяет волю", то поступки такого существа, признаваемые объективно необходимыми, необходимы также и субъективно, что означает: "воля есть способность выбирать только то, что разум независимо от склонности признаёт практически необходимым, т.е. добрым" [124, с. 185]. Что же разум признаёт добрым (необходимым)? Всё то, "что определяет волю посредством представлений разума, стало быть, не из субъективных причин, а объективно, т.е. из оснований, значимых для всякого разумного существа как такового" [124, с. 186]. Следовательно, разум диктует воле (самому себе в своём практическом применении) лишь то, что он признаёт добрым, а добрым он признаёт только то, что он диктует воле. На этом круге выстраивается у Канта концепция автономности практического разума.
Человек, как прежде всего разумное существо, согласен повиноваться только тому закону, который он сам для себя устанавливает [124, с. 211-212]. Воля (которая есть "не что иное, как практический разум" [124, с. 185]) не просто подчиняет себя закону; она подчиняет себя только собственному закону. Эта автономная воля рассматривается Кантом как "сама себе законодательствующая" [124, с. 208] и вообще как "высшая законодательница" [124, с. 209]. Значит, "если имеется категорический императив (т.е. закон для воли каждого разумного существа), то он может только предписывать совершать всё, исходя из максимы своей воли как такой, которая могла бы также иметь предметом самоё себя как волю, устанавливающую всеобщие законы" [124, с. 209]. Другими словами, нравственным является то действие, которое совершается исключительно как манифестация тотального само-определения воли478. То или иное отношение поступка к такому автономному определению воли и есть критерий его "моральности": поступок, "совместимый" с автономией воли, "дозволен"; не согласный с ней поступок "не дозволен" [124, с. 218]. В этих координатах дозволенности/недозволенности Кант и пытается осмыслить самоубийство.
Разумеется, вопрос о "дозволенности" суицида поставлен не в юридической или психологической, а в метафизической плоскости. Метафизика нравственности, считает Кант, должна исследовать идею и принципы "некоторой возможной чистой воли", а не "условия человеческого воления вообще", которые, по его мнению, относятся к ведению психологии. Чистой же волей можно именовать такую волю, "которая определялась бы без всяких эмпирических побудительных причин, всецело из априорных принципов" [124, с. 158], то есть из своих же практически-разумных законов. При таком устройстве метафизического взгляда на нравственность оказывается неразличимым персональный уровень определения воли к тому или иному действию даже не воления конкретного эмпирического человека, что ещё можно было бы объяснить неизбежно абстрактным характером всякой метафизики, но, как говорит Кант, - "человеческого воления вообще". Безличная чистая воля, действующая не по внешним целям, а по внутренним принципам, предстаёт у Канта как подлинный агент всякого поступка. Таким образом, воля в конечном счёте оказывается дезориентированной, бесцельной (как и у Шопенгауэра). "Добрая воля, - пишет Кант, - добра не благодаря тому, что она приводит в действие или исполняет; она добра не в силу своей пригодности к достижению какой-нибудь поставленной цели, а только благодаря волению, то есть сама по себе" [124, с. 162]. Если "принцип разума" как таковой является определяющим основанием воли безотносительно к объекту воления, то есть выступает как "априорный практический закон", тогда сообразный с одним лишь этим принципом поступок "есть нечто само по себе доброе", а воля, максима которой лишь содержит в себе этот закон, "безусловно, во всех отношениях добра" [118, с. 448]. Эта сама по себе воля (практически применённый разум или даже "разумное естество") и есть "цель сама по себе" [124, с. 205]; безусловно добрая воля всегда опирается на такую максиму, которая содержит в себе только саму себя в качестве "всеобщего закона" [124, с. 226]. Другими словами, безусловно добрая воля есть просто безусловная воля.
Такая совершенно чистая воля и является "единственным источником и носителем добра" [211, с. 262]. Что же означает её чистота (доброта)? "Та воля безусловно добра, - пишет Кант, - которая не может быть злой" [124, с. 215]; однако, если воля "не может", то это значит, что она, став "доброй", перестала быть свободной. Максима такой воли "никогда не может противоречить себе" [124, с. 215]; видимо, в этой невозможности противоречия и заключена причина абсолютного спокойствия совести. Эта гармония нравственной необходимости устроена по типу гармонии космоса. Так как значимость воли как всеобщего закона для всех возможных поступков "имеет аналогию со всеобщей связью существования вещей по всеобщим законам", то категорический императив может быть выражен так: "поступай согласно максимам, которые в то же время могут иметь предметом самих себя в качестве всеобщих законов природы". Так обстоит дело с "формулой безусловно доброй воли" [124, с. 215].
Здесь не обойтись без некоторых замечаний относительно центральных для кантовской этики понятий императива и максимы. В самóм понятии о категорическом императиве обнаруживается мотив замыкания наличного. Императив требуется, потому что человек по природе "зол" или склонен ко "злу", то есть потому, что его максима способна отклониться от практически-разумной автономии в сторону гетерономии (открыть замкнутый на разум мир). Эта человеческая способность к религиозному (сверх-разумному) трансцендированию наличного и полагается Кантом как зло.
О той или иной максиме, лежащей в основании человеческого поступка, "уже нельзя спрашивать дальше, чтó в человеке есть субъективное основание признания этой, а не противоположной ей максимы" [125, с. 271-272], чтобы не допустить гетерономного объяснения в области чистого практического разума. Следовательно, если мы говорим, что человек по природе зол, то это значит только то, что он имеет в себе непостижимое для нас "первое основание" принятия исключительно злых максим [125, с. 272], то есть принципов, отклоняющихся от морального закона [125, с. 280-281]. При этом, выступая как моральный деятель, он действует "как человек вообще", стало быть, "выражает также характер своего рода" [125, с. 272]. В указанном смысле и можно говорить о том, что злой характер (как факт несовпадения объективного закона и субъективной максимы) "прирождён" человеку, называя прирождённым то, что априорно "заложено в основу" характера, то есть "нечто уже имеющееся в человеке с минуты его рождения" [125, с. 272]. Это врождённое зло Кант предполагает во всяком человеке, "даже и в самом лучшем", настолько оно "переплелось с человеческой природой" [125, с. 279].
Указание на человеческую природу как источник зла (при полном отрицании действительности онтологически иного этой природе) не только обрекает всякого человека на пессимизм в отношении собственного нравственного преображения [ср.: 118, с. 519], но и делает совершенно пустым понятие греха (ибо склонность ко злу обнаруживается в кантианстве как наличный универсальный факт). Последнее реально ограничивает человека с точки зрения его нравственной перспективы, ибо "нет никакой понятной причины того, откуда впервые могло бы появиться в нас моральное зло" [125, с. 290]. Такая чистая фактичность (необусловленность) зла, утверждаемая автономным разумом, не позволяет предполагать каких-либо оснований для спасения: "Каким же образом может злой по природе человек сам себя сделать добрым, - это выше нашего понимания" [125, с. 291]. Обоснование зла (так или иначе) через природу однозначно указывает на то, что речь о свободе на самом деле и не начиналась. Кантовский деистический оптимизм в этой области479 совершенно беспомощен, и потому Кант, преодолевая себя и нарушая собственные теоретические запреты, с необходимостью открывает теистическую перспективу мышления: даже если бы то, что мы можем сделать, "само по себе было недостаточным", мы всё же делаем себя "способными принять непостижимое для нас высшее содействие" [125, с. 292]. Однако собственный разум позволяет Канту искать не Бога живого, а только утешительной необходимости Его полагания.
Максима есть "субъективный принцип воления"; объективный же принцип (то есть такой, который служил бы всем разумным существам практическим принципом также и субъективно, если бы их разум имел полную власть над способностью желания) есть "практический закон" [124, с. 170; ср.: 118, с. 392]. Максима заключает в себе такое практическое правило, которое разум устанавливает сообразно с условиями существования субъекта (чаще всего - в связи с его "неведением" или его "склонностями"); следовательно, максима "есть основоположение, согласно которому субъект действует". Закон представляет из себя "объективный принцип, имеющий силу для каждого разумного существа, и основоположение, согласно которому такое существо должно действовать, т.е. императив" [124, с. 195]. "Представление об объективном принципе, поскольку он принудителен для воли, называется велением (разума), - уточняет Кант, - а формула веления называется императивом" [124, с. 185].
Все императивы повелевают или гипотетически, или категорически. Гипотетические императивы "представляют практическую необходимость возможного поступка как средство к чему-то другому", к тому, чего желают достигнуть в результате этого поступка. Категорическим же императивом "был бы такой, который представлял бы какой-нибудь поступок как объективно необходимый сам по себе, безотносительно к какой-либо другой цели" [124, с. 187], не предполагающий, таким образом, ни результата, ни чего-либо "другого". Отсюда и одна из формулировок категорического императива: "поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своём лице, и в лице всякого другого так же как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству" [124, с. 205]. Эта приводящая многих в восторг "гуманистическая" формулировка императива в онтологическом развороте значит вот что: настоящий поступок совершается как отношение ко всякому обнаруженному в наличном "вот", состоящее только в бесконечном воспроизведении самого себя.
Другое определение категорического императива, предлагаемое Кантом, ещё больше подчёркивает замкнутый характер его мира. "Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой, ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом" [124, с. 195]. Иначе говоря, "я должен всегда поступать только так, чтобы я также мог желать превращения моей максимы во всеобщий закон" [124, с. 172]. В "Критике практического разума" встречаем такую формулировку: "Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства" [118, с. 409]. И, наконец, общий вывод, представляющий наибольший интерес: "Так как всеобщность закона, по которому происходят действия, составляет то, что, собственно, называется природой в самом общем смысле (по форме), т.е. существованием вещей, поскольку оно определено по всеобщим законам, то всеобщий императив долга мог бы гласить также и следующим образом: поступай так, как если бы максима твоего поступка посредством твоей воли должна была стать всеобщим законом природы" [124, с. 196].
Кант ни в коем случае не случайно выразил идею свободы через идею природы: обе эти идеи лежат у него в горизонте понятия о законе. Поскольку моральный дискурс выстраивается в русле возможностей того же разума, на который опирается и спекулятивный дискурс, постольку пределом постижения и высшей истиной в указанном русле является именно рационально выводимый и предписываемый реальности закон. Неудивительно, что суммарное определение категорического императива, данное Кантом в "Основоположениях к метафизике нравов", во всех трёх вариантах содержит отнесение к природе. Ясно, что, говоря о силе "всеобщих законов природы", о разумном существе как цели "по своей природе" (то есть цели "самой по себе"), о царстве целей как "царстве природы" [124, с. 214], Кант имеет в виду разумную (нравственную) природу; но уже этим самым он демонстрирует твёрдую и однозначную установку на деперсонализацию этического. И в области намерения, и в области реализации этого намерения человек остаётся подчинённым закону (порядку) природы480. "Какое бы понятие мы ни составили себе с метафизической точки зрения о свободе воли, необходимо, однако, признать, что проявления воли, человеческие поступки, подобно всякому другому явлению природы, определяются общими законами природы" [117, с. 7].
Такое определение этического через натуральное имеет тотальный характер. Законодательству природы подчиняется у Канта даже Бог, причём самым естественным образом. Если разум "недостаточно определяет волю", то для совершения нравственного поступка всегда требуется принуждение, императив [124, с. 185]. Однако для божественной воли "нет никаких императивов" [124, с. 186], поскольку эта воля, как считает Кант, полностью и окончательно подчинена моральному закону. Та воля, максимы которой "необходимо" согласуются с законами автономии, есть святая (безусловно добрая) воля [124, с. 218]. Действительно, моральные законы "должны иметь силу для каждого разумного существа вообще", поскольку "необходимо выводить их уже из общего понятия разумного существа вообще" [124, с. 184]. Всякое такое существо (значит, и Бог) определяется в своих поступках силой морального законодательства, имеющего априорный характер. Нравственный закон (нравственное долженствование) имеет силу не только для людей, но и "для всех разумных существ" [124, с. 179, 200]; он выше Самого Бога. "Даже святой Праведник из Евангелия, - пишет Кант, - должен быть сопоставлен с нашим (всеобщим, объективно-разумным. - С.А.) идеалом нравственного совершенства, прежде чем мы признаем Его таким идеалом" [124, с. 180]. Само понятие о Боге как о высшем благе может быть получено лишь "из идеи нравственного совершенства, которую разум составляет a priori" [124, с. 180]; согласно этому понятию, Бог есть "высшая причина", исполняющая законы морали [125, с. 264]. Поэтому "Бог нравственно обязан идти по путям, указуемым добром" [272, с. 371]. Трансцендентальные истины практического разума, таким образом, подчиняют себе деятельность Бога, делая её в этом смысле чисто автоматической. Но тогда истинный бог Канта - это разум, то есть та практически-законодательная сила, которая в конечном счёте устанавливает в качестве природного порядка добра единственно возможность собственного беспрепятственного диктата.
При этом для Канта совершенно ясно, что интеллигибельный мир (мир вещей в себе) "остаётся всегда одним и тем же" [124, с. 231]. И поэтому, хотя человек в его ноуменальном измерении характеризуется Кантом как "чистая деятельность", именно в связи с этой самой чистотой (то есть на себя замкнутостью) деятельности и "нельзя сказать, что человек как бы создаёт самого себя" [124, с. 231]. Он может только повторять себя, воспроизводя в чувственном (низшем) мире открытые им законы интеллигибельного (высшего) мира. Как видим, деистический мир кантовского трансцендентализма оказывается замкнутым на себя самого; такая метафизическая замкнутость (закрытость, само-детерминированность) основана на идее господства закона и в сфере природы, и в сфере свободы481. Поскольку разум, спекулятивно или практически устанавливающий своё законодательство, является одним и тем же разумом, постольку (в конечном счёте) содержание указанного законодательства с необходимостью является одним и тем же - имманентным482. Кант специально задаёт себе вопрос: "Имманентно ли в практическом разуме то, что для спекулятивного было трансцендентным?". Ответ положительный: "Конечно, но только в практическом отношении" [118, с. 532]. Именно практический разум преодолевает дуализм спекулятивного; точнее говоря, в своём практическом применении разум реально достигает положительной имманентности, которая в его же спекулятивном применении была лишь негативной (ограничивающей) и гипотетической. Теоретический дуализм завершается практическим монизмом. Трансцендентное в спекулятивном отношении (и потому для разума тайное и запретное, следовательно, отсутствующее для него) становится в практическом отношении окончательно побеждённым и схваченным, то есть только имманентным. Разум, загнанный в резервацию собственной чистоты, обречён без конца открывать и демонстрировать одно и то же положение дел: взятый как таковой (то есть сам по себе), он не есть трансценденция.
Царство нравственной "свободы", о котором говорит Кант, есть для него только иная природа, но не иное природе. Это царство "возможно только по аналогии с царством природы, но первое возможно только по максимам, т.е. правилам, которые мы сами на себя налагаем, второе же - только согласно законам причин, действующих по внешнему принуждению" [124, с. 216]. Более того, оба эти царства не просто аналогичны друг другу; Кант допускает (хотя бы только в мышлении) их единство "под властью одного и того же главы" [124, с. 217]. В качестве такого высшего руководителя обоих царств в кантианстве может полагаться лишь рационально установленный закон.
Именно перед законом человек отвечает за свои поступки: то или иное злодеяние может быть ему "вменено в вину относительно нравственного закона" [125, с. 271]. Это тот самый закон, который "во мне"; при этом и законодателем-то я являюсь лишь в неточном смысле, ибо можно говорить исключительно о том, что индивидуальный разум предписывает этот закон самому себе в своём практическом "применении", открыв его как принудительно-наличный (объективный). Такое заключение вполне естественно для деистической платформы, исключающей Законодателя из всякого отношения к миру личного опыта и тем самым полагающей Ему непреодолимые границы483.
Закон, открываемый и предписываемый разумом воле (то есть самому себе в своём практическом применении), есть "собственное всеобщее законодательство" воли [124, с. 219], иначе говоря, такой закон, в котором совпадают частное ("собственное") и универсальное ("всеобщее"). Этот закон "дан в нас" [125, с. 276], установлен как "данный собственным разумом" [118, с. 477], то есть обнаруживается в трансцендентально наличном. Всякое данное (как бы ни было оно дано) не может быть осмыслено иначе, как через понятие природы, то есть через понятие "существования вещей, подчинённого законам" [118, с. 425]. Ноуменальный уровень бытия определяется Кантом как сверхчувственный "порядок вещей" [118, с. 477]. Поэтому интеллигибельный мир есть лишь "сверхчувственная природа" [118, с. 426], выражающая себя как способность индивидов к "существованию по законам", не зависящим от эмпирических условий их применения, то есть сообразно "автономии чистого разума" [118, с. 425]. Эта автономия и представляет собой "основной закон сверхчувственной природы и чистого интеллигибельного мира" [118, с. 425]. Автономность - это всегда самодостаточность (чистая природа), это скованность собственным законодательством, это закрытость, исключающая всякую действительную трансценденцию, то есть свободу.
Между тем Кант понимает, что разум плохой советчик в деле сохранения жизни. "Если бы в отношении существа, обладающего разумом и волей, истинной целью природы было сохранение его, <...>, то она распорядилась бы очень плохо, возложив на его разум выполнение этого своего намерения" [124, с. 163]. Разум, получается, может усмотреть основания отказа от сохранения жизни. Действительно, как мы уже видели на примере Гегесия, "чем больше просвещённый разум предаётся мысли о наслаждении жизнью и счастьем, тем дальше человек от истинной удовлетворённости" [124, с. 164]. Предохранить человека от разумной установки на прекращение жизни можно, по Канту, только одним способом: заставить разум не полагать цели для воли (при каковом полагании воля стала бы лишь средством), а иметь эту волю "самоё по себе" в качестве внутренней нормы (вот это Кант и называет "целью") [124, с. 165].
Такая норма именуется долгом. Долг есть необходимость совершения поступка единственно "из уважения к закону" [124, с. 169-170, 174]. Источник долга - разум, возвышающий человека над чувственным миром [118, с. 477] и априорно определяющий волю к действию [124, с. 179]. Кант различает поступки, сообразные с долгом, и поступки, совершаемые только из чувства долга. "Сохранять же свою жизнь есть долг"; однако человек, как правило, "имеет к этому ещё и непосредственную склонность"484. Но из факта указанной "трусливой заботливости" о своей жизни, которую проявляют многие, вовсе не следует, как считает Кант, заключение о её объективной ценности и моральном достоинстве. Такие люди сохраняют свою жизнь лишь "сообразно с долгом", но не "из чувства долга" [124, с. 166]; они получают тот же результат, который велит получать долг, но получают его не из ясно осознаваемой для себя необходимости, а (в той или иной степени) нравственно случайно. Различие указанных мотивов особенно наглядно проявляется в тех ситуациях, которые принято обозначать как пограничные. "Если же, - пишет Кант, - превратность судьбы и неизбывная тоска совершенно отняли вкус к жизни (тот самый вкус, который и мог вызывать ранее склонность к сохранению жизни. - С.А.), если несчастный, будучи сильным духом, более из негодования на свою судьбу, чем из малодушия или подавленности, желает смерти и всё же сохраняет себе жизнь не по склонности или из страха, а из чувства долга, тогда его максима имеет моральное достоинство" [124, с. 166-167].
Поступок из чувства долга, таким образом, "имеет свою моральную ценность не в той цели, которая может быть посредством него достигнута, а в той максиме, согласно которой решено было его совершить" [124, с. 169]; эта "ценность" зависит, следовательно, не от объекта поступка (не от действительной ориентации воли), а только от априорного формального "принципа воления". Рациональный нравственный закон "определяет характер воли, но оставляет открытым вопрос о предмете её" [211, с. 268]. Итак, "если поступок совершается из чувства долга", то волю "должен определить формальный принцип воления вообще, ибо всякий материальный принцип у неё отнят" [124, с. 169]485. Поступок из чувства долга совершенно не предполагает предмета воления; он совершается не "для чего", а "по чему". Значит, в итоге, это действие не связано с созиданием заданного (идеала), но имеет характер выражения данного, повторения обнаруженного морального a priori (трансцендентального "порядка"). Определять волю может при этом лишь закон (объективное определение) и "чистое уважение" к этому закону (субъективное определение) [124, с. 170]. Но "законы свободы" устанавливает (эксплицирует, но не творит) сам практический разум. Следовательно, ценным в кантианской этике признаётся только тот поступок, который представляет собой бесцельное действие автономной (самозаконной) и безличной (предельно деперсонализированной) воли. Этическое "бескорыстие" поступка оказывается онтологическим выражением замкнутости "места действия", следовательно, знáком повторения наличного. "Требование абсолютной свободы, - справедливо замечает Камю, - завершается теорией бесцельного действия" [113, с. 189].
"Все законы, направленные на объект, - пишет Кант, - дают гетерономию" [124, с. 241]; законы автономной воли, таким образом, могут быть направлены только на себя. Нравственное целе-полагание тем самым исключается из числа определений практического разума, действующего всегда "безотносительно к каким-либо целям" [278, с. 311]. Поэтому свободная воля может мыслиться только как вне себя совершенно бесцельная; из философии Шопенгауэра нам уже известно, что это значит. Но из той же философии следует, что так постигаемая воля должна отрицать и саму себя как цель. Действительно, поскольку "объект воли" (то есть автономное основание "причинности разума") в "интеллигибельном мире" сам разум найти не в силах, лишь полагая его там [124, с. 240]; поскольку, с другой стороны, поиск таких "объектов" в эмпирическом мире вошёл бы в противоречие с принципом автономии воли; постольку нигде нет никаких объектов для воли, которые могли бы полагаться как её цель (неважно, "внутренняя" или "внешняя"). Автономная (на себя замкнутая) воля, как мы знаем, может стремиться в конце концов только к самоотрицанию.
Так Кант разверзает перед личностью пустоту чистого бывания: ведь как нет никаких объектов для воли, так нет и субъекта этой воли. Кантовский "субъект" не обнаруживается ни в эмпирическом (неистинном) мире, ни в мире ноуменальном (неведомом), иначе говоря, не обнаруживается нигде. Добившись для личности статуса, казалось бы, абсолютной ценности и цели в себе [278, с. 314], Кант сам же и лишает её этих "завоеваний": ценность личности (как производная) оказывается ниже ценности нравственного закона, ради осуществления которого, согласно кантовской телеологии, она и есть [278, с. 314]486. Где личность "становится ничем", где "объективный ход вещей" подчиняет себе ценность самогó участника поступка, там "жизнь личности как таковой утрачивает всякий смысл": она становится "только средством или материалом" для этого хода [211, с. 267]487.
Настоящим субъктом и подлинной целью нравственности является у Канта человечество - "разумная мировая сущность вообще" (das vernunftige Weltwesen ьberhaupt) [211, с. 263]. Это положение и есть "категорический императив обезбоженного сознания европейской личности" [102, с. 21]. Такая личность охотно соглашается сделать своей целью человечество вообще, "однако не выносит реального соприкосновения с людьми" [102, с. 21]. Эта позиция обозначена Фридрихом Ницше как любовь к дальнему. "Любовь к дальнему, - считает В.В. Ерофеев, - представляет собою спокойное источение родового инстинкта" [102, с. 21], в котором личность вообще никак (ни объективно, ни субъективно) не задета488.
Критицизм Канта (как и "динамизм" Гегеля), отмечает Лев Шестов, "не пошатнул философской позиции Спинозы" [272, с. 372], главным (конституирующим) элементом которой является как раз безличный монизм (пантеизм, атеизм, разумное всеединство). Иначе говоря, Кант, как и Гегель, остался в границах спинозовской субстанциальной (имперсональной) парадигмы. Кантовский мир (место действия разума) замкнут на самого себя, бесперспективен. Деятель в таком мире метафизически одинок. Человек оказывается здесь "в полном одиночестве, предельной изоляции" (как, по мнению В. Ерофеева, случилось со всеми героями Набокова); усвоив "идею неподлинности "здешнего" мира", но не имея доступа в "вертикальную плоскость" бытия, индивид не может принять всерьёз существование не только других (которые оказываются "видимостью, призраком"), но и своё собственное [102, с. 174-175]. Остаётся искать стабильности в подчинении вечным и необходимым законам (высшей, разумной, моральной, ноуменальной) природы. То, что должно было внушать ужас и побуждать спасаться (то есть гармония, законосообразность, спокойная совесть, автономная воля и т.п.), получает значение успокоительного средства; в результате его применения субъект действительно становится смертельно спокойным.
В дополнение к установке на трансцендентальную безличность Кант персонифицирует отдельные качества (способности) человека, прежде всего разум и волю. Каждому "разумному существу", обладающему волей, необходимо "приписать" и свободу, так как "в таком существе мы мыслим себе практический разум, т.е. имеющий причинность в отношении своих объектов" [124, с. 227] - объектов разума, а не существа. Этот разум, совершенно чистый в своих суждениях, рассматривает исключительно самого себя в качестве источника принципов деятельности [124, с. 227], ибо деятель, по Канту, - не разумное существо, а только "всеобщий практический разум" [231, с. 54], который в своём законодательстве обнаруживает себя как объективное.
Потому-то и категорический императив "касается не содержания поступка и не того, что из него должно последовать, а формы и принципа, из которого следует сам поступок; существенно хорошее в этом поступке состоит в убеждении, последствия же могут быть какие угодно. Этот императив можно назвать императивом нравственности" [124, с. 189], то есть, по Канту, безответственности. По верному указанию М.М. Бахтина, "мы уверенно поступаем тогда, когда поступаем не от себя, а как одержимые имманентной необходимостью", пусть это и необходимость нравственного закона; в таком случае действие "совершается свято и безгрешно, ибо на этом пути меня самого нет" [29, с. 97]. Представление о следствиях выполнения обязанностей "в моральных законах не содержится" [125, с. 264]. Иначе говоря, если есть закон, то я невиновен489.
Закон, свободный от своих выражений (подзаконных явлений), не свободен, между тем, от себя самого (ибо он - природа, а не личность). Свобода же, по Канту, есть свойство воли как особого рода причинности действовать независимо от внешних определений, но исключительно по собственным (внутренним) определениям [124, с. 225]; иначе говоря, свобода есть полная одержимость внутренним, специфическая (отличная от чувственно данной) форма зависимости490. Она должна быть "причинностью по неизменным законам, но только особого рода" [124, с. 225]. Поскольку же в практическом (деятельном) разуме совпадают законодатель и агент, постольку свобода может быть только автономией воли, своеволием. А значит (по Канту), понятие свободной воли тождественно понятию воли, подчинённой собственным законам, то есть действующей как воля моральная [124, с. 226]. Однако в силу чистой формальности постижения такой воли остаётся совершенно неясным отличие положительно-нравственного действия от отрицательно-нравственного; более того, полагание такой аксиологической дихотомии представляется в границах кантианской этики совершенно невозможным. Определение воли как бесцельной (автономной, "свободной") помещает деятеля вне добра и зла, по ту сторону их различия, ибо в этом определении всякая "морально" (то есть самозаконно) действующая воля уже автоматически есть добрая воля. Граница между дозволенным и недозволенным полагается Кантом как граница между автономией и гетерономией. Таким образом, чистое своеволие (что является метафизическим определением греха) для Канта представляется единственным способом бытия разумного нравственного существа в деистически замкнутом мире.
Следовательно, Кант говорит о моральных актах, подразумевая сам и провоцируя подразумевать других под "моральным" только "добродетельное". Однако "моральное" (то есть подлежащее нравственному измерению, оценке) включает в себя и злодеяние. Но у Канта чисто формальное понятие автономной воли не даёт никаких оснований морального различения добра и зла491, ибо такое различение нарушило бы принцип самозаконности. Указывая на автономность воли как на единственное условие нравственно ценного поступка492, Кант совершенно последовательно не принимает во внимание условия её ориентации. Поэтому и разницу между добром и злом он отмечает специфическим образом: добрым является всё связанное с разумной природой самой по себе, а злым - всё связанное с чувственной природой как таковой493. Это то же самое, как если бы указывали на Бога как на источник всякого деяния (что само по себе верно), не обращая внимания на ориентацию этого деяния; тогда Бог оказался бы причиной зла ровно настолько, насколько Он является причиной добра, а добро и зло стали бы совершенно неразличимы по сути. У Канта место Бога занимает разум, сам по себе гарантирующий положительную ценность поступка. Такая автономность (разума, воли) в конце концов, как видим, отрицает свободу как возможность нравственной ориентации494.
Такова та теоретическая платформа, на которой Кант пытается утвердить свою суицидологическую концепцию. Как же рассуждает о вольной смерти этот "самый безжизненный человек" [259, с. 111]?
II
У Канта речь о самоубийстве происходит прежде всего в горизонте обязанностей человека перед самим собой. Кант рассуждает следующим образом. "Произвольное лишение себя жизни только тогда можно назвать самоубийством (homicidium dolosum), когда может быть доказано, что оно вообще есть преступление, совершаемое по отношению к нашему собственному лицу или по отношению к другим (например, когда кончает с собой беременная женщина)" [120, с. 464]. Самоубийство можно назвать преступлением (убийством); оно есть "нарушение своего долга перед другими людьми" (взаимных обязанностей супругов, обязанностей родителей перед своими детьми и наоборот, обязанностей подчинённого перед своим начальством или своими согражданами); в конце концов, оно есть нарушение долга перед Богом, "чьё доверенное нам место в этом мире человек покидает, не будучи отозванным с него" [120, с. 464]. Но всё же главная тема суицидологического рассуждения касается нарушения долга перед самим собой, а именно: "обязан ли человек сохранять свою жизнь просто в качестве лица и должен ли он признать этот долг перед самим собой, если даже отвлечься от всех приведённых выше соображений" [120, с. 464], то есть от идеи долга перед другими.
Однако, на первый взгляд, понятие долга перед самим собой содержит уже известное противоречие: "я" в этом понятии выступает и как активное (принуждающее), и как пассивное (принуждаемое) [120, с. 458]. Однако это противоречие снимается в горизонте автономности (формальности, бесцельности) практического разума как воли самой по себе: "закон, по которому я считаю себя обязанным, во всех случаях исходит из моего собственного практического разума" [120, с. 459], так что у меня вообще нет никакой возможности иметь обязанности перед кем-либо ещё, кроме меня самого495. Если же допустить, что таких на себя направленных обязанностей нет, "то вообще не будет никаких обязанностей, даже внешних" [120, с. 459]. Например, долг перед Богом есть в конечном счёте лишь долг в отношении своей собственной идеи Бога, то есть - в отношении себя самого [120, с. 383]. Отсюда ясна онтологическая необходимость приступать к созданию "этического учения о началах" именно с рассмотрения обязанностей по отношению к самому себе - основных обязанностей морального существа.
В свою очередь, эти обязанности перед самим собой осмысливаются и уточняются в рамках метафизического определения человека как обитателя двух миров (царств). Во-первых, человек есть "существо, одарённое чувствами" и в этом смысле принадлежащее к одному из видов животных (homo phaenomenon). Во-вторых, человек есть "существо, одарённое разумом", то есть субъект морали (homo noumenon) [120, с. 459]. Таким образом, человек принадлежит и к "чувственно воспринимаемому миру", и к "миру умопостигаемому (intellectuellen)" [124, с.231]. В этом втором своём измерении, то есть как в себе "чистая" (равно бесцельная) деятельность [124, с. 231], человек и способен "признать долг перед самим собой, не впадая в противоречие с собой (так как понятие человека мыслится не в одном и том же смысле)" [120, с. 460]. Субъект указанного долга (человек) в первую очередь рассматривает себя как животное ("физическое") существо, и лишь во вторую очередь - как "в то же время моральное существо" [120, с. 461]. Главный принцип долга перед самим собой, сформулированный на почве такой метафизической дихотомии, звучит следующим образом: "живи сообразно природе" (naturae convenienter vive), иначе говоря, "сохраняй совершенство своей природы" [120, с. 461]. Этот принцип выступает как всецело "негативный", "ограничивающий", "формальный" [120, с. 460], а потому и первый [120, с. 461]; он имеет в виду лишь "моральное самосохранение" индивида, запрещая человеку поступать против цели его "природы" [120, с. 460].
Далее, обязанности перед собой как "животным существом" заключаются в реализации "естественных побуждений": стремлений к продолжению рода и к наслаждению жизнью. Однако эти стремления не могли бы быть реализованы, если бы не получило поддержки базисное побуждение указанного рода: "побуждение, через которое природа преследует цель самосохранения" [120, с. 461]. "Если не главный, то во всяком случае первый долг человека перед самим собой, если рассматривать человека с точки зрения его животности, это - самосохранение в его животной природе" [120, с. 463]. Естественность названного побуждения особо подчёркивается Кантом; так, например, "любовь к жизни предназначена от природы для сохранения отдельного лица" [120, с. 466]. Противоположность самосохранения - "произвольное или преднамеренное разрушение своей животной природы" [120, с. 463].
И, наконец, указанное разрушение себя может быть либо частичным (членовредительство), либо полным. Последнее и есть самоубийство [120, с. 461], "лишение себя жизни (autochiria496, suicidium)" [120, с. 463], которое противоречит долгу самосохранения [120, с. 461].
Итак, обязанность в самом общем смысле есть прежде всего долг перед самим собой. Долг перед самим собой есть прежде всего долг перед собой как животным (физическим, феноменальным) существом. Долг перед собой как животным существом есть прежде всего обязанность самосохранения. Обязанность самосохранения есть прежде всего запрещение полного разрушения. Таким образом, именно проблема самоубийства стоит в самом начале этического дискурса, и как раз на ней должна быть обнаружена сила (или слабость) этого дискурса497. Недаром, видимо, Кант настолько заинтересованно относится к проблеме суицида, что всерьёз обсуждает вопрос о том, не является ли стрижка волос "частичным самоубийством" [120, с. 465].
Рассматривая суицид как действие, направленное прежде всего против собственного тела (физической стороны индивида), Кант подчёркивает, что тело человека есть не просто нечто "сопутствующее" жизни, а её необходимое условие. "Если бы мы могли покинуть своё тело и перейти в другое так же, как мы (но только не Кант. - С.А.) переезжаем из одной страны в другую, то тело было бы подчинено нашей свободной воле и мы были бы вправе распоряжаться им". Однако "наша жизнь всецело обусловлена нашим телом, так что мы не можем помыслить жизнь, не опосредованную телом, и не можем пользоваться нашей свободой иначе, чем через тело". Поэтому очевидно, что "тело составляет часть нас самих" [283, с. 45]. Отсюда ясна противоречивость квалификации суицида в качестве способа освобождения от тела, ибо человеческая свобода возможна только через телесность, а не через её отрицание.
Если же, продолжает Кант, человек разрушает своё тело (а тем самым "и свою жизнь"), он делает это, конечно, путём использования определённым образом направленной воли, которая и сама разрушается в указанном акте. Но использование свободной воли для её же разрушения, как полагает Кант, самопротиворечиво. Ведь свобода есть условие жизни, поэтому она не может быть использована для уничтожения жизни, то есть для уничтожения себя самой (что было бы противоречием) [283, с. 46]. Однако в этом рассуждении далеко не всё безупречно. Во-первых, свобода настолько же условие жизни, насколько и условие смерти: хотя факт рождения и перспектива телесной гибели - вне выбора индивида, но решение продолжить или оборвать своё эмпирическое бытие (не говоря уже о сверх-эмпирическом) - вполне в его компетенции. Во-вторых, не столь уж противоречиво утверждение об уничтожении жизни посредством жизни: ведь следствием жизни является именно смерть (конечно, только в том случае, если иметь в виду индивидуальную, а не родовую жизнь). Наконец, в-третьих, абсолютно свободная воля, как уже выяснилось, естественно направлена на самоуничтожение и ни на что другое: "абсолютная свобода самоопределения властна и отрицать себя самоё мыслью и даже делом без самомалейшего внутреннего противоречия" [231, с. 57]. Если бы человек действительно был "по собственному своему существу" абсолютно свободен, обнаружить противоречие в его стремлении к самоотрицанию "было бы затруднительно" [231, с. 62]. Иначе говоря, из кантианских посылок не вытекает с необходимостью то положение, которое провозглашается в качестве вывода из них.
И всё же Кант настойчиво проводит мысль о недозволительности самоубийства, пытаясь оставаться при этом на почве деизма и трансцендентализма, но постоянно апеллируя к "физическим" аргументам. В лекциях по этике он предполагает, что сама попытка привести в исполнение свой собственный смертный приговор есть проявление душевной болезни: "Ярость, страсть и нездоровье - вот наиболее частые причины самоубийства, и потому людей, пытавшихся покончить с собой и спасённых от смерти, настолько ужасает собственный акт, что они не берутся повторить эту попытку" [283, с. 45]498. Запрет самоубийства как абсолютный запрет получает у Канта почти религиозное звучание. Однако "самоубийство недопустимо не потому, что Бог запретил его; Бог запретил его, потому что оно отвратительно, ибо оно низводит внутреннюю ценность человека ниже ценности животного творения" [283, с. 48]. Бог в данном случае выступает не как законодатель, но только как "гарант" исполнения требований нравственного законодательства чистого практического разума [283, с. 48].
"Мы приходим в ужас от самоубийства, - говорит Кант, - поскольку вся природа стремится к самосохранению" [283, с. 47]. Этот натуралистический аргумент против суицида Кант дополняет этическим. "Ничего более страшного нельзя и вообразить; ибо если бы человек в каждом случае был хозяином своей собственной жизни, то он был бы хозяином и жизней других людей; а будучи готовым в любой момент скорее пожертвовать своей жизнью, чем быть пленённым, он смог бы совершить любое мыслимое преступление и порок. Поэтому нас приводит в ужас сама мысль о самоубийстве" [283, с. 47]; поэтому мы "смотрим на самоубийство как на нечто отвратительное" [283, с. 48]. Канта приводит в ужас моральные последствия такого положения дел, при котором самоубийство (даже из политической необходимости) считалось бы оправданным и допустимым. Ведь из этого положения (с точки зрения категорического императива, согласно которому морально оправданный поступок есть норма всеобщего законодательства) вытекает допустимость любого порока и любого преступления в отношении уже не только себя, но и окружающих [283, с. 48].
Кант видит главную противоречивость суицида как "осознанного выбора" в том, что такой выбор необходимо включает в себя отказ от выполнения долга [283, с. 49]. Если же человек действует как моральный субъект, он не может действовать так, чтобы не быть действующим моральным субъектом. Если же он действует так, чтобы не быть действующим моральным субъектом, то он не действует как моральный субъект. Вывод Канта таков: "Эмпирический человек, совершающий самоубийство, поэтому не является и не может считаться личностью и субъектом свободной воли" [283, с. 49].
При внимательном рассмотрении этого вывода оказывается, что так называемые обязанности перед самим собой представлены у Канта "лишь как обязанности перед той законодательной властью морального мира", которая и обеспечивает достоинство человека. При таком положении дел само указанное достоинство предстаёт как вторичное явление, подчинённое закону "верховновластной воли". Без постоянного учёта требований этой воли, без регулярной апелляции к ней Кант не может обосновать даже обязанностей человека перед самим собой [231, с. 54], оказывающихся поэтому обязанностями перед объективным законодательством автономной ("свободной") воли499. Человек, который "занят мыслью о самоубийстве", может спросить себя ("исходя из понятия необходимого долга по отношению к самому себе"), совместим ли его поступок с идеей человечества как цели самой по себе [124, с. 205]. Мы видим, что долг по отношению к самому себе квалифицирован Кантом как идея человечества; следовательно, субъектом исполнения этого долга выступает индивид ("человек"), но эйдетической целью - "человечество"!
Поэтому-то в практической философии Канта личность постоянно двоится, распадаясь на феноменальное (индивид, эмпирический субъект) и ноуменальное (разум, воля, трансцендентальный субъект); при этом очевидно, что безусловный приоритет отдан ноуменальной (имперсональной) сущности "человечества". Например, Кант утверждает: если человек, для того чтобы избежать тягостного состояния, разрушает самого себя, то он (кто?) использует лицо (чьё?) только как средство для сохранения сносного состояния до конца жизни (чьей?). "Но человек не есть какая-нибудь вещь, стало быть, не есть то, что можно употреблять только как средство; он всегда и при всех своих поступках должен рассматриваться как цель сама по себе. Следовательно, я не могу распоряжаться человеком в моём лице, калечить его, губить или убивать" [124, с. 205]. Однако, если бы Кант говорил о человеке как о личности, он не смог бы заподозрить в таком человеке самóй мысли о суициде. Поскольку же такая мысль и даже такое действие предполагаются, постольку уже нет возможности утверждать об индивиде, что он - "не вещь" [231, с. 61]. Размышление о допустимости или недопустимости суицида само по себе уже свидетельствует о вещности индивида; ясно, что эта вещность (предметность) не абсолютна, но всё же этого достаточно для того, чтобы размышляющий оказался совершенно вне персонализма.
Человек, по рассуждению Канта, не может отчуждать себя от своего собственного "лица", пока он жив и пока, стало быть, можно вести речь о его долге (прежде всего, как выяснилось, как раз о долге перед собственной универсальной сущностью). Кроме того, с логической стороны "было бы противоречием иметь правомочие освобождать себя от всякой обязательности, т.е. свободно поступать так, как если бы для такого поступка не нужно было быть правомочным". Наконец, "уничтожать в своём лице субъект нравственности - это то же, что искоренять в этом мире нравственность в самом её существовании, потому что она в человеке, а ведь лицо есть цель сама по себе; стало быть, распоряжаться собой просто как средством для любой цели - значит унижать достоинство человечества в своём лице (homo noumenon), которому ведь и был вверен человек (homo phaenomenon) для сохранения" [120, с. 465].
Как видим, суицид в кантианстве представляется как нарушение обязанностей ноуменального человека (точнее, трансцендентального безлично-разумного "субъекта") в отношении собственного "лица" (эмпирического индивида). Понимать самоубийство как-либо иначе Кант не позволяет. Говорить об убийстве себя как ноуменального существа, оставаясь на почве кантовской метафизики, просто невозможно: ноуменальное остаётся для разума недоступным ни при каких условиях500; следовательно, хотя оно и может выступать субъектом отрицания, но не может стать его предметом. Суицид, таким образом, имеет отношение лишь к гибели феноменально наличной композиции, но не сущности (ноуменального "я" как родового человека, "человечества"), которая остаётся неуязвимой в самом акте вольной смерти. Если учесть, что эта сущность есть разум, в своём практическом применении выступающий как воля, то мы должны констатировать: Иммануил Кант в горизонте деизма приходит к таким заключениям, из которых Шопенгауэр в горизонте пантеизма лишь сделал необходимые выводы.
Итак, долг перед самим собой оказывается у Канта долгом человека перед родом, перед ноуменальной человеческой природой. Именно "естественный порядок", по Канту, препятствует превращению самоубийственной максимы в императив (универсальный практический закон). Исходя из определения категорического императива через "закон природы", Кант утверждает, что "максима, которую я принимаю в отношении свободного распоряжения своей жизнью, тотчас становится (нравственно. - С.А.) определённой, как только я спрашиваю себя, какой она должна быть, чтобы какая-то природа сохранялась по некоторому её закону. Совершенно очевидно, что никто в такой природе не мог бы покончить с жизнью самовольно, так как такое положение не было бы прочным естественным порядком" [118, с. 426].
Исходя из сказанного, можно с большой долей вероятности предполагать, что именно в рамках кантовской суицидологии вполне ожидаемо трансценденталистское смешение личного с субстанциальным и даже стремление выразить "персональное" через "физическое". В "Основоположениях к метафизике нравов" Кант как раз перечисляет "некоторые обязанности" людей, в том числе и "по отношению к нам самим". В первом же пункте изложено суицидологическое рассуждение. "Кому-то из-за многих несчастий, поставивших его в отчаянное положение, надоела жизнь, но он ещё настолько разумен, чтобы спросить себя, не будет ли противно долгу по отношению к самому себе лишать себя жизни. И вот он пытается разобраться, может ли максима его поступка стать всеобщим законом природы. Но его максима гласит: из себялюбия я возвожу в принцип лишение себя жизни, если дальнейшее сохранение её больше грозит мне несчастьями, чем обещает удовольствия. Спрашивается: может ли этот принцип себялюбия стать всеобщим законом природы? Однако ясно, что природа, если бы её законом было уничтожить жизнь посредством того же ощущения, назначение которого - побуждать к поддержанию жизни (здесь имеется в виду себялюбие. - С.А.), противоречила бы самой себе и, следовательно, не могла бы существовать как природа" [124, с. 196]501. Значит, "указанная максима не может быть всеобщим законом природы и, следовательно, совершенно противоречит высшему принципу всякого долга" [124, с. 196-197].
Что мы видим? "Чувство удовольствия и неудовольствия" (в качестве достаточного основания для самоубийства) само по себе относится к вéдению эмпирической антропологии; однако в указанном случае оно помещается Кантом "в контекст телеологически-метафизический" [231, с. 56]. Для Канта здесь не должнó быть вообще никаких вопросов: поступок, побудительным мотивом которого явилось чувство ("ощущение"), не может даже рассматриваться с точки зрения этики, ибо его мотив никак не может стать принципом всеобщего законодательства [231, с. 55]. И тем не менее Кант идёт на такое смешение чувственного и рационального. Правда, самоубийственная максима определяется здесь чувством удовольствия не прямо, а косвенно - через посредство рассудочной рефлексии. Последняя и сообщает индивиду как об удовольствиях, так и о неприятностях, которых можно ожидать в будущем. Получается, что потенциальный самоубийца в вопросе о ценности жизни пользуется лишь рассудком как "калькулятором нынешних и будущих удовольствий и неудобств" [231, с. 56]. Этот "благоразумный расчёт" и заменяет собой разумный императив. Противоречие состоит не в том, что человек вообще дерзает пользоваться только рассудком, а в том, что он пользуется только им для оценки смысла и ценности жизни (предметов, подлежащих компетенции лишь практического разума) [231, с. 56-57].
Рассудок и все его "виды" и расчёты на будущее оставляют индивида в горизонте "естественного бытия" [231, с. 57]. Действительно, в указанном случае я пользуюсь рассудком там, где я должен пользоваться разумом. Будучи разумно-свободным существом, я действую (хотя бы только в мышлении) так, как если бы я был всего лишь существом "рассудительно-естественным" [231, с. 57]. Иначе говоря, рассуждая о самоубийстве именно так, я уже в самом этом рассуждении отказываюсь быть личностью, прекращаю существование, приступаю к совершению самоубийства в самóм рассуждении о нём.
Конечно, нельзя утверждать, что у Канта нет попыток действительно развести метафизическую и антропологическую суицидологию. Человек, пишет Кант, желая счастья, "желает себе долгой жизни - но кто может поручиться, что она не будет лишь долгим страданием?" [124, с. 192]. Значит, желание счастья не может быть действительным основанием выбора жизни и отказа от самоубийства. Ведь, наоборот, бывает так, что даже "в огромном несчастье" человек продолжает сохранять в своём лице "достоинство человечества" и живёт лишь потому, что "не хочет стать в собственных глазах недостойным жизни" [118, с. 479]. Такое положение есть результат уважения "не к жизни, а к чему-то совершенно другому, в сравнении и сопоставлении с чем жизнь со всеми её удовольствиями не имеет никакого значения". Человек в подобных обстоятельствах "живёт лишь из чувства долга, а не потому, что находит какое-то удовольствие в жизни" [118, с. 479]. Его самосохранение основано не на "вкусе", не на эстетике, а на "самосознании достоинства разумного существа" [231, с. 58]. Однако, как только Кант берётся объяснять эту метафизическую обязанность жить, он выпадает из "метафизики" в "антропологию". Показательны для такого его отхода те вопросы по поводу суицида, которые представлены как "казуистические".
Эти вопросы Канта таковы. "Самоубийство ли идти (как Курций) на верную смерть ради спасения отечества? Следует ли считать преднамеренное мученичество, когда человек для блага рода человеческого приносит себя в жертву, таким же героическим подвигом, как смерть ради спасения отечества?" [120, с. 465]502. Позволительно ли предупреждать несправедливый смертный приговор своего властелина самоубийством, если этот властелин, к тому же, позволяет это сделать (как Нерон Сенеке)? "Можно ли великому, недавно умершему монарху вменять в вину то, что он носил с собой быстродействующий яд, по всей вероятности, для того чтобы, в случае если в войне, в которой он лично участвует, он попадёт в плен, не быть вынужденным согласиться на условия своего освобождения, которые могли бы нанести ущерб его государству? Можно ли считать это преступным намерением, если нет оснований подозревать здесь только гордость?" Если человек принял водобоязнь за следствие укуса бешеной собаки и зная, что эта болезнь неизлечима, покончил с собой, дабы своим бешенством (начало которого он уже почувствовал) не сделать несчастными и других людей (о чём он и сообщил в написанной перед смертью записке), то "спрашивается, совершил ли он несправедливость?" Далее, "кто решается привить себе оспу, рискует своей жизнью, хотя он это делает для того, чтобы сохранить её, и поэтому перед ним гораздо более затруднительный случай закона долга, чем перед мореплавателем: этот по крайней мере не создаёт сам шторма, которому ему приходится доверяться, в то время как тот сам навлекает на себя болезнь, подвергая свою жизнь опасности. Итак, дозволена ли прививка оспы?" [120, с. 466].
Все эти вопросы остаются без ответа. Они свидетельствуют о том, что Кант в области "нравственной казуистики смерти" [231, с. 62] оказался неспособен различить метафизическое и эмпирическое, самоубийство и риск. Надо ли спрашивать о случайном, когда речь идёт о сути? Сами эти вопросы и примеры из опыта говорят о том, что Кант не может утверждать формальный и безусловный характер запрета самоубийства. Поэтому обязанность сохранять свою жизнь не может быть положена как "совершенная обязанность" [231, с. 59]; иначе говоря, она не может стать принципом всеобщего законодательства. При этом Кант считает самоубийство более достойным человека способом саморазрушения, чем, например, распутство: "при самоубийстве пренебрежение собой как обузой в жизни не есть по крайней мере отдача себя во власть животного побуждения, а требует мужества, когда всё ещё имеется уважение к человечеству в своём собственном лице" [120, с. 468]. Иными словами, при подобного рода сравнительном отношении к суициду можно, оказывается, обнаружить в нём и некий положительный момент. Однако, "если внутри ценностного сознания возможно реальное противоречие, значит подлинно исходное сознание ценности ещё не установлено вовсе" [231, с. 60].
Двойственное отношение к смерти (в том числе и вольной) у Канта обнаруживается постоянно. Неожиданная и "незваная" смерть, пишет Кант, "перечёркивает все замыслы и надежды" [122, с. 54]. "Разумный в своих замыслах" человек "с христианским смирением готов покориться велению Всевышнего, если Тому будет угодно среди его порывов отозвать его со сцены, на которую он был поставлен" [122, с. 55]. Однако тут же выясняется стоическая подкладка этих "христианских" рассуждений: хорошо, говорит Кант, умереть вовремя. "Преждевременная смерть тех, на кого мы возлагали столько надежд, повергает нас в ужас; а между тем как часто это бывает величайшей милостью неба! И не заключалось ли несчастье многих людей главным образом в том, что смерть приходила к ним слишком поздно, что она слишком медлила, вместо того чтобы после славных выступлений их в жизни вовремя положить ей конец?" [122, с. 55]. Из анализа стоической суицидологии мы знаем, что хорошо умереть - значит умереть вовремя, а умереть вовремя - значит сметь покончить с собой.
Итак, из рассуждения Канта создаётся впечатление, что именно на почве суицидологии "долг пришёл в видимость противоречия с самим собою" [231, с. 59]. В исследование самоубийства, которое, по нашим ожиданиям, должно быть строго метафизическим, Кант привносит этот элемент противоречия (казуистические вопросы) за счёт снижения чистой этики (как метафизики нравов) до уровня разбора эмпирических примеров (могущих быть предметом лишь рассудка). Только так и можно было уйти от однозначности метафизической оценки вольной смерти как деструктивного, контр-персоналистического акта; поэтому Кант и уходит этим путём, только на нём и удерживая себя (даже с помощью противоречия собственным философским декларациям) от занятия персоналистической (теистической) позиции. Ведь только полагание реальности бытия Божия (не в регулятивном, а именно в конститутивном смысле) могло обеспечить "обоснование трансцендентальной этики как метафизики персонализма" [231, с. 62]. Переход суицидологического дискурса из области этики в область "антропологии", как было показано, заранее подготовлен Кантом: имплицитное полагание единства двух "миров" в имманентности (закрытости) наличного стало явным именно в связи с исследованием проблемы вольной смерти.
В персоналистической этике, могущей быть только теистической, рассуждение о самоубийстве не может иметь места, поскольку конечный практический разум действительной личности не компетентен в вопросах жизни и смерти как предметах, по своему значению выходящих за рамки конечного. Кант, считает А.К. Судаков, понимал это "нравственное противоречие самоубийства"; он не сумел только оценить "метафизических предпосылок" той доктрины, которая "последовательно и безусловно" утверждает запрет самоубийства, то есть не понял метафизики теизма. Как человек деистической (протестантской) "культуры духа", он "слишком безапелляционно верил в автономию субъективности, в свободу усмотрения личного Я, в его самоосновность, в его верховное законодательство". Потому-то и случилось так, что в исследовании вопроса о самоубийстве и самосохранении "однобокая метафизика автономии" хоть и не разрушила, но "сильно замутнила и ослабила пафос абсолютной этики императива" [231, с. 64-65]. Здесь, в области философии суицида, наиболее ярко проявилось то противоречие мышления Канта, которое Евгений Трубецкой считал "фундаментальнейшим": ставя вопрос о безусловном основании, Кант отвечает на него, исходя из обнаруженных в наличии определённых человеческих (конечных) способностей, откуда и проистекает неустранимое несоответствие "между безусловностью, надчеловечностью искомого и антропологическою обусловленностью найденного" [26, с. 175]. Это противоречие кантовой этики, следовательно, заключается в следующем: императив, призванный принуждать к должному как идеальному, у Канта, который запрещает искать действительных целей для воли, в конечном счёте только подтверждает трансцендентальное как онтически наличное. Поэтому-то суицид, в конечном счёте, оказывается неустранимым.
Лекция 15. Суицид как онтологическая деструкция личности
Проведённая в предшествующих лекциях экспертиза философско-суицидологических проектов даёт возможность утверждать, что самоубийство имеет место в таких системах мировоззрения, которые являются монистическими в своих фундаментальных бытийных интуициях. Напротив, экстатически ориентированное, эксцентричное бытие-к-идеалу не содержит в себе оснований для суицида. Такое бытие не является систематическим, а потому всегда открыто к действительно иному (перспективно). Если же человек полагает себя целиком (сущностно) включённым в некую систему (пусть даже предельно широкую и минимально определённую), то, во-первых, он вынужден подчинять себя требованию устойчивости этой системы (и, следовательно, отрицать себя во имя этой устойчивости и гармоничности); во-вторых, любая угроза "выключения" из системы (дезадаптации) может явиться основанием (провокацией) для вольного запуска танатогенетических механизмов [см.: 176, с. 35-36; ср.: 17, с. 10-19].
Итак, сущность смертельна для личности. Утверждение сущности есть начало личной смерти. Одержимость сущностью как наличным есть необходимое условие самоубийства; достаточным же обстоятельством ("причиной" его совершения) может служить любое событие, уже не подлежащее философскому изучению (ибо такие обстоятельства суть факты, предметы статистических операций) и указывающее собой лишь на то, что человек окончательно упустил экзистенциальную инициативу. Вот именно такое состояние человека (метафизическое одиночество, экзистенциальная пассивность, одержимость наличным, онтологическая бесперспективность) и описано религиозным понятием "грех". Не вполне корректным был бы вопрос о том, является ли самоубийство грехом. Всякий грех по сути есть самоубийство, отрицание себя как личности (в пользу одержимости безличным); но суицид есть предельное выражение греха, ибо именно в нём окончательно закрывается перспектива трансцендирования и устанавливается господство целого за счёт деструкции личного. Следовательно, как пишет Н. Бердяев, "самоубийство не есть проявление силы человеческой личности, оно совершается нечеловеческой силой, которая за человека совершает это страшное и трудное дело. Самоубийца всё-таки есть человек одержимый. Он одержим объявшей его тьмой и утерял свободу" [35, с. 10]. Самоубийство как грех (в его онтологическом значении) выражает собой покорность наличному, "рабство у мира" [35, с. 11], достигшее крайней степени. "Самоубийство есть погружённость человека в себя и рабство человека у мира" [35, с. 11]; погружённость в себя и рабство наличному суть две стороны эссенциализма503. Теперь слушателю должны быть ясны и философские эквиваленты такой религиозно обозначенной ситуации (ибо именно эта ситуация одержимости личного наличным и была многократно описана на разных философских языках в аналитической части диссертации).
Самоубийца выражает своим актом полное согласие с тем, что конечность есть главная, предельная "возможность" его бытия; иначе говоря, смерть в самоубийстве утверждается в качестве означения жизни (как смертной жизни). Смерть в таком случае - "предел всего", как пишет Морис Бланшо. "Кто властен над нею, обладает предельной властью и над собой, обретает все свои возможности, является одной великой способностью"; ибо "власть над смертным пределом" есть "предел всякой власти" [39, с. 196]. Ясно, что самоубийство не даёт человеку такой власти, но, наоборот, отдаёт человека во власть смерти. Обрести власть над собственной смертью можно лишь тогда, когда она пред-стоит человеку как его возможность. Возможность не определяется по формуле детерминизма "если, то"; возможность не зависит ни от каких "если", ибо сфера возможного - это сфера свободы, утверждающей и возможность невозможного504. Факт лишения себя жизни "ещё не обеспечивает счастливого обладания смертью, он позволяет умереть с удовлетворением лишь в негативном смысле (радуясь, что настал конец безрадостной жизни)" [39, с. 198]. Это далеко не свобода человеческого отношения к смерти, это освобождение смерти для полного и окончательного господства над человеком. Совершая собственную смерть (переводя её из возможности в действительность), человек выступает в качестве её непосредственного агента, то есть являет себя как совершенно пассивное существо. Поступать-распоряжаться в конечном счёте означает поступать в распоряжение.
Хотеть, "чтобы смерть была возможной" [39, с. 200], значит не допускать её необходимости, не позволять ей становиться единственной перспективой, лишающей личность всяких реальных перспектив. Поиск и утверждение смерти в статусе возможности - это цель, достойная человека [39, с. 201]. В горизонте наличного смерть есть то, что нам "обеспечено" [39, с. 200] и потому как будто не требует никакой заботы. Это "правда", но "как раз истины в этом и нет" [39, с. 200]. Истина высвечивает смерть не как "голый" факт, но именно как возможность [39, с. 201]505. Человеку, заявляет Морис Бланшо, недостаточно "быть смертным"; он хочет им становиться, оказываться "смертным вдвойне, своею властью, в предельной степени". Для человека смерть - "это не то, что дано, а то, что следует сотворить; это задача, которую мы активно берём на себя и которая становится источником нашей активности и нашей власти" [39, с. 201]. Уточним, что если понимать под указанной активностью самоубийство, то она неизбежно оказывается ложной. "Сотворение" смерти должно быть понято именно как перевод её в статус возможности из статуса данности (при этом даже "видимая" физическая гибель не отменяет проблематичности смерти); в противном случае "сотворение" приводит к гибели сотворившего. Власть над собственной смертностью как раз и обретается через перевод смерти в статус возможности, ибо смерть в нашей власти - это смерть, потерявшая власть над нами, из необходимости превратившаяся в проблему. Итак, смерть оказывается в нашей власти (а не мы в её) только в том случае, если мы смогли утвердить своё активное отношение к ней как к нашей возможности.
Эта активность задаётся таким онтологическим настроением, которое именуется надеждой. Указанное настроение представляет собой открытость бытийной перспективы человека за счёт его обращённости к трансцендентному. Именно эта синергийно трансцендирующая обращённость обосновывает перспективу человека как абсолютную возможность, как бесконечное (нескончаемое) "может быть". На такой перспективности "основывается всё человеческое существование, - пишет Н. Аббаньяно. - Более того, это существование и есть не что иное, как может быть" [2, с. 347; ср.: 91, с. 45]. То, что представлено как возможное, не является принудительным в том смысле, что оно может и не быть; это относится и к самой возможности не быть. "Эта возможность не-бытия есть то, что мы подразумеваем под словом "смерть". С этой точки зрения, смерть - не завершение цикла, не предел, не конец, не локализованный или доступный локализации в данный момент факт, который в силу этого характеризует только этот момент, а не другие"; напротив, это именно возможность, обнаруживаемая в существовании [2, с. 347-348]. При иной (монистической) метафизической позиции смерть становится неизбежной и принудительной.
Избежать внешнего принуждения смерти можно пытаться через акт "присвоения" её (самым радикальным образом - опять-таки через "согласие" с самоубийством); но это значит - впускать смерть в себя, обращать её в собственную сущность, возводить несвободу в более серьёзную степень внутреннего принуждения. При этом человек из деятеля в виду смерти превращается в поле деятельности самóй смерти. В самоубийстве не человек присваивает смерть, а смерть присваивает человека. Такое "присвоение", кроме всего прочего, есть актуализация смерти, перевод её из статуса возможной в статус действительной (и потому не-обходимой). Если же мы хотим сохранить смерть в качестве возможности и тем самым сохранить свою свободу по отношению к ней, то мы полагаем в то же время и иную возможность - возможность бессмертия. В противном случае смерть оказывается единственной "перспективой", то есть не возможностью в точном смысле, а лишь отложенной необходимостью, по Хайдеггеру, - "неопределённо верной" смертью [252, с. 265]. Только вариативность перспективы относит человека к возможному и позволяет удерживать смерть в статусе возможной, то есть существовать.
Если забыто существование, то суть "борьбы" со смертью обращается отрицанием смерти в персонально-экзистенциальном смысле (как возможности и проблемы) и утверждением гибели в смысле физическом. При этом обязательно исчезает личность (которая могла бы умирать). В мире как целом умирать некому; тут наличествует лишь умирание-гибель. Отдельный человек в таком мире всегда представляет собой "я-которое-умирает"; при этом, "умирая, оно никогда не умирает как Я, в первом лице, но умирает как анонимное и безличностное присутствие умирания", как "нескончаемое пребывание"; в таком акте умирания частного во всеобщем "всё грядущее обращается присутствующим" [38, с. 75], то есть всякий проект, связанный со смертью, оказывается лишь подтверждением наличного положения дел. Такой смысл бытия-в-целом, как мы убедились, высказан ещё во фразе Анаксимандра.
На почве утверждения этого целого (вместо полноты) диалектически сходятся на первый взгляд противоположные мировоззренческие доктрины. Как превознесение "тела" (эпикуреизм), так и ненависть к "телу" (платонизм) в равной степени влекут самоубийство: в первом случае - когда тело уже не способно избежать страдания, во втором - когда решают окончательно освободиться от него. В свою очередь, идеи индивидуальной смертности и индивидуального "бессмертия" равно оказываются чреватыми принятием и даже превознесением суицида в силу своего эссенциального (безличного) характера. "Если я бессмертен по своей сущности, - рассуждает Морис Бланшо, - то это не моё бессмертие, оно меня ограничивает и стесняет; следовательно, в подобной перспективе я, как человек, всецело призван из такого навязанного мне бессмертия сделать нечто, что я мог бы завоевать или утратить, - либо ад, либо рай, - бессмертие же как таковое, над которым я никак не властен (точнее, к которому я не имею никакого отношения. - С.А.), ничем для меня и не является" [39, с. 205]. Такое "бессмертие" есть утверждение вечной сущности за счёт персональной аннигиляции, получающей наиболее ясное подтверждение именно в суициде. Ведь самоубийца, пишет Кьеркегор, по сути дела "не желает избавиться от своего я - он только желает найти иную форму для этого я; поэтому вполне и возможно встретить между самоубийцами людей, как нельзя более верующих в бессмертие души и решающихся на самоубийство лишь вследствие того, что они думают этим шагом выйти из своего запутанного земного положения и найти высшую абсолютную форму для своего духа" [144, с. 267]. От этого желания, фундированного убеждением в своём сущностном бессмертии, "один шаг до самоубийства" [144, с. 283]. Суицид демонстрирует, что такая искомая "форма духа" может быть лишь имперсональной; таким образом, самоубийство означает полную онтологическую деструкцию личности, наличие смерти. Вне зависимости от того, что предполагается "после" жизни (бессмертие, ничто, повторение), самоубийство обрекает человека на "невозможность умереть" [39, с. 206], а потому оно и может быть названо "насилием не только над жизнью, но и над смертью" [35, с.5].
Противоположность указанных выше сотериологических установок снимается именно в их отношении к суициду. Либо все субстанциально "спасены" в вечной сущности, либо всё отдельное "проклято". Между этими крайностями оптимизма и пессимизма нельзя выбирать (или-или), поскольку и тот и другой, как было показано, заканчиваются одинаково: имморализмом (отрицанием должного во имя наличного), а значит, прямо или косвенно предполагают возможность самоубийства. Выход, предлагаемый персонализмом, - не выбирать (преобразовать ситуацию "или-или" в ни-ни)506. Это значит: отчаиваться в этом самóм себе выбирающем, в себе самом по себе, но не отчаиваться в себе-идеальном, что, в свою очередь, значит - верить в обращённое на меня всемогущество Бога, за-давшего мне недосягаемый эталон Бого-подобия. Речь должна идти, следовательно, о надежде как фундаментальной настроенности личности (метафизической не-уверенности как отказе от эссенциальности). Именно так настроенное бытие является открытым (перспективным). Закрытое же бытие (в частности, полагаемое таковым в тех программах, которые были рассмотрены выше) являет себя только как целое, монистически устроенное, отдавшее себя господству имманентного ("природы", "закона", "справедливости"), диалектически замкнутое, гармоничное, континуальное (повторяющее только самого себя и исключающее возможность трансцендирования наличного). В таком-то бытии, не допускающем существования, и "расположен" суицид.
Утверждение себя в качестве существующего (трансцендирующего) позволяет человеку перевести собственную конечность в статус проблемы. Нельзя закончить существование (экзистенция непрерывна). Существование при этом означает как раз радикальную прерывность, трансценденцию. Здесь необходимо уточнить, что положение о непрерывности экзистенции не означает, что существование само по себе нескончаемо (то есть не может закончиться). Такое утверждение обращало бы существование в сущность. Непрерывность экзистенции есть такое положение дел, когда при всякой попытке негации существования (то есть его тотальной объективации) его не оказывается в наличии. Всякий раз, когда происходит метафизическое движение с целью прервать "это" существование, в тот самый момент оказывается, что экзистенции (как некоторого "что") здесь нет. Существование, обращающееся на себя как на объект (наиболее радикальным выступает при этом именно самоубийственное обращение), обнаруживает пред-стоящим себе ("перед собой") только ничто. Такое радикальное обращение (само-объективация) экзистенции и есть самая суть суицида, доступная выражению в языке.
Совершает самоубийство не личность, а индивид, единичный представитель общего, то есть такое существо, которое не обладает существованием, но которым обладает бытие, в которое оно погружено. Такое существо лишь представляет собой целое в его частном явлении (Dasein), но оно не способно трансцендировать это целое. Вольная смерть только подтверждает положение дел, поскольку она (как смерть, с которой окончательно согласились) есть "иллюзорное изменение, ибо это изменение не ведёт ни к чему другому; смерть - это становление, которое делает вид, что становится чем-то иным, но на самом деле не становится ничем" [291, с. 229]. Действительно, становиться ничем (превращаться в ничто) означает ничем не становиться, то есть стать (и потому не существовать, а только быть). "Самоубийство - отрицательная форма бесконечной свободы. Счастлив, кто найдёт положительную" [144, с. 296]. Такая искомая форма может быть найдена лишь в личном бытии (существовании, трансцендировании наличного). Человек существующий (трансцендирующий), по словам Габриэля Марселя, "причастен бытию-наперекор-смерти" - не только своей смерти, но и смерти другого, даже сáмого любимого человека [173, с. 364]. Тем самым существующий (личность) отрицает необходимый характер смерти, не соглашается с ней как с неким законом, но превосходит её принудительное распоряжение. Для такого человека смерть как данное в наличии есть факт, не заслуживающий "предиката истины" [268, с. 251]; он способен преодолевать принуждение наличного через принятие нормативной онтологии как онтологии свободы [ср.: 60, с. 184]. Существование исключает суицид. Самоубийца не существует, а только есть.
Подведём итоги нашего исследования.
Цель курса достигнута через обращение к наиболее репрезентативным философско-суицидологическим программам и приведение их в позицию взаимного со-общения (диалога). Так выстроенный дискурс обнаружил своего рода философский консенсус: самоубийство несовместимо с существованием (личным бытием). Истоки такой инвариантной установки в отношении к самоубийству были выявлены через экспликацию мировоззренческих и общетеоретических оснований (фундаментальных убеждений и позиций), на которые опираются указанные программы. При этом выяснилось, что все эти программы так или иначе "размещают" самоубийство в бытии (то есть предполагают его в качестве "перспективы" человека), а поэтому, следовательно, должны так или иначе отрицать существование (личное бытие). Необходимость такой "отрицательной" операции, фундированная монистическими параметрами мировоззрения, и явилась предметом критики при последовательном рассмотрении представленных здесь программ с точки зрения персонализма.
Та философская позиция, с которой осуществлялось наше исследование, была представлена как аксиологически ре-конструированная философия существования. Именно так понимаемая персоналистическая философия занята тем, к чему и должно быть (по определению) отнесено самоубийство, иначе говоря, она рассматривает существование как поступок. Правда, в результате исследования выяснилось, что суицид, будучи рассмотрен с указанной позиции (при этом ещё и с привлечением многообразных суицидологических концепций), представляет собой вовсе не поступок, но нечто прямо противоположное поступку, то есть одержимость ("схваченность" сущностью) и бесцельность (подтверждение наличного положения дел). Сущностное определение человека оказывается, в конечном итоге, его объективацией и, следовательно, гибелью (каким бы ни было это определение). Сущностно определённый человек теряет личностное измерение и открывает себя деструктивному воздействию природы (тотальному детерминизму наличного), выражающему себя в конечном счёте через суицид как подтверждение универсального (имперсонального) характера сущности. "Вечная" сущность выражает себя только через необходимую человеческую конечность; согласие человека с приматом сущности, таким образом, точнее всего представлено именно в самоубийстве.
Полагание возможности суицида означает утверждение необходимости смерти (человеческой конечности). Когда самоубийство представлено в качестве "проекта" возможного развития событий, тогда смертность человека оказывается положенной как безусловно необходимая, неизбежная; вариативность же при этом оказывается отнесённой лишь к участию/неучастию в осуществлении этой неизбежности. Напротив, если смерть полагается в качестве возможности, то самоубийство исключается из сферы человеческой активности и тем самым сохраняется свобода этой активности (открытость онтологической перспективы).
Мировоззренческой "почвой" ("питательной средой"), на которой вырастает утверждение возможности суицида, является (в самом широком определении) монистическое понимание реальности (всевозможные разновидности "мировоззрения" как единой "картины мира", не допускающей наряду с собой никакой "иконы мира"). Монистическое (монистически устроенное) мировоззрение, опирающееся на принципы диалектики и гармонии целого, не даёт оснований для однозначной оценки суицида. Следовательно, такое мировоззрение (так или иначе, под тем или иным условием) вписывает, встраивает суицид в реальность, принимает его. Итак, закрытое (дезориентированное, целостное) бытие всегда располагает в себе самоубийство как один из "проектов"; открытое же бытие (полнота, существование) не включает его в себя даже в качестве возможности, ибо "возможность" суицида, как было показано, означает невозможность существования.
"Закрытое" бытие самодостаточно, авторефлексивно, тавтологично. Это (по сути - онтическое) обращение на себя может быть реализовано через различные интенции (автономия, метафизическое одиночество, антропоцентризм, цикличность, монизм, тотальность, гармоничность, имманентность, континуальность и т.п.), единое содержание которых - всё "это" как обращающее-ся. Такая фундаментальная интенция на обращение (замыкание) бытия есть ещё одно обозначение греха как необходимого условия самоубийства. Свободная (существующая) личность может отказаться от существования; но тот человек, который принял суицид как свою собственную возможность, уже не может отказаться от существования, ибо он уже не существует. Таким образом, нельзя осуществить возможность собственной смерти, не переведя себя при этом в вещь (в сущее "что"). Самоубийство не есть поступок; самоубийство совершает не личность; в самоубийстве ничего не совершается (ибо в нём лишь подтверждается наличное). Суицид, таким образом, есть крайняя степень греховности, абсолютная онтологическая деструкция личности. Предложенный в нашем курсе лекций подход позволяет не только понять самоубийство именно так, но и прочесть тот же самый вывод во всех философских суицидологических программах.
Так что мои заслуги не столь уж велики; я только постарался ясно артикулировать ту совокупность философских утверждений о сути самоубийства, которые уже были выношены философствующей мыслью и содержались в ней. Перевод этих разноязычных утверждений на язык персонализма дал наконец общую экспозицию мнений о суициде, сложил в единый дискурс полифонию философско-суицидологических концепций и высказываний.
Общий вывод состоит в следующем: если ваше "мировоззрение" (или "сознание") является, по моему определению, закрытым, то в совокупность ваших экзистенциальных "проектов" в качестве основного (решающего, предельного) всегда окажется включённым проект самоубийства; если же ваше "мировоззрение" ("сознание") открыто, то указанного проекта в нём не обнаружится, и это будет не недостаток как некое отсутствие позитивного, а позитивное отсутствие недостатка, ибо лишь в данном случае можно будет положительно засвидетельствовать здесь существование, личность, свободу. Таким образом, монизм, выступающий как предельное основание философской суицидологии, утверждает самоубийство в качестве наличного; персонализм, выступая в качестве указанного основания, напротив, отказывается от такого однозначного утверждения и обозначает суицид как недолжное.
Оставлять для себя возможность смерти - значит жить. Никогда нельзя сказать, что "несчастная жизнь" есть причина самоубийства: суицид есть смерть не вовремя, превентивное подведение итогов до истечения возможного срока жизни. Поэтому жизнь остаётся несчастной именно потому, что её прерывает самоубийца, тем самым полагая окончательный отказ от перспективы её "исправления" (синергийной сублимации к идеалу, преображения). Самоубийство есть единственная причина того, что жизнь остаётся несчастной. Отказ рассматривать самоубийство в качестве какой бы то ни было "перспективы" возвращает человеку существование как личное (следовательно, религиозное) измерение его бытия, сообщает ему свободу (как стремление к должному вопреки наличному, бытие-вопреки-смерти) и надежду (как сверх-рациональную возможность невозможного), открывает перед ним действительную перспективу. В этом конструктивном отказе - последняя "надежда отчаявшихся" (l'espoir des desesperes), открывающая сверх-законную перспективу победы над смертью.
Литература
Абаев Н.В. Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом Китае. Новосибирск: Наука, 1989. 373 с.
Аббаньяно Н. Введение в экзистенциализм. СПб.: Алетейя, 1998. 507 с.
Абышко О.Л. Гносеология смерти: Опыт христианского толкования // Фигуры танатоса: Философские размышления на тему смерти. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1992. С. 45-88.
Аванесов С.С. Введение в философскую суицидологию. Томск: Изд-во Томского университета, 2000. 122 с.
Аванесов С.С. К вопросу о психологическом аспекте суицида // Психологический универсум образования человека ноэтического: Материалы международного симпозиума. Томск: Изд-во ТГУ, 1998. С. 13-16.
Аванесов С.С. Культура и самоубийство // Дефиниции культуры. Вып. 3. Томск: Изд-во ТГУ, 1998. С. 20-21.
Аванесов С.С. Самоубийство в примитивной культуре // Дефиниции культуры. Вып. 4. Томск: Изд-во ТГУ, 1999. С. 16-19.
Аванесов С.С. Самоубийство и опыт метафизического одиночества // Фигуры танатоса: Философские размышления на тему смерти. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1992. С. 152-164.
Аванесов С.С., Суровцев В.А. О пантеистических мотивах в философии раннего Витгенштейна // Г.Г.Шпет / Comprehensio. Третьи Шпетовские чтения. Томск: Водолей, 1999. С. 93-95.
Августин Бл. О Граде Божием. В 4-х томах. М.: Изд-во Валаамского монастыря, 1994.
Августин Бл. Творения. М.: Паломник, 1997. 820 с.
Аверинцев С.С. Бахтин, смех, христианская культура // М.М. Бахтин как философ. М.: Наука, 1992. С. 7-19.
Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Наука, 1977. 320 с.
Авл Геллий. Аттические ночи. Томск: Водолей, 1993. 208 с.
Адо П. Плотин, или Простота взгляда. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1991. 142 с.
Алданов М. Самоубийство. М.: Панорама, 1993. 414 с.
Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А. Суицид как феномен социально-психологической дезадаптации личности // Актуальные проблемы суицидологии. М., 1978. С. 6-28.
Андреев Л.Н. Самсон в оковах // Драматические произведения. В 2-х томах. Том 2. Л.: Искусство, 1989. С. 261-344.
Андреев Л.Н. Тот, кто получает пощёчины // Драматические произведения. В 2-х томах. Том 2. Л.: Искусство, 1989. С. 345-416.
Аполлодор. Мифологическая библиотека. Л.: Наука, 1972. 216 с.
Аристотель. Сочинения. В 4-х томах. М.: Мысль, 1975-1983.
Артемьева Т.В., Гнездилов А.В. Танатос и хронос // Фигуры танатоса: Философские размышления на тему смерти. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1992. С. 141-152.
Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.: Прогресс-Академия, 1992. 528 с.
Ахутин А.В. Понятие "природа" в античности и в Новое время ("фюсис" и "натура"). М.: Наука, 1988. 208 с.
Банерджи А.Ч., Синха Н.К. История Индии. М.: Изд-во иностранной литературы, 1954. 440 с.
Барам Д.Е. Критика Е.Н. Трубецким антиномизма И. Канта // Кант и философия в России. М.: Наука, 1994. С. 173-185.
Батай Ж. Внутренний опыт // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб.: Мифрил, 1994. С. 223-243.
Батай Ж. Слёзы Эроса // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб.: Мифрил, 1994. С. 269-308.
Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник. 1984-1985. М.: Наука, 1986. С. 80-160.
Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Изд. 2-е. М.: Художественная литература, 1990. 544 с.
Башляр Г. Психоанализ огня. М.: Прогресс, 1993. 174 с.
Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М.: Юридическое изд-во, 1939. 464 с.
"Белая книга" России // Человек. 1993. N 4. С. 61-66.
Белорусов С. Смирение и достоинство в духовной жизни личности // Альфа и Омега. 1997. N 1 (12). С. 296-309.
Бердяев Н.А. О самоубийстве: Психологический этюд. М.: Изд-во МГУ, 1992. 24 с.
Бердяев Н.А. Царство Духа и царство кесаря. М.: Республика, 1995. 384 с.
Бибихин В.В. Мир. Томск: Водолей, 1995. 144 с.
Бланшо М. Опыт-предел // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб.: Мифрил, 1994. С. 63-77.
Бланшо М. Смерть как возможность // Вопросы литературы. 1994. Вып. 3. С. 191-213.
Блонский П. Этюды по истории ранней греческой философии // Вопросы философии и психологии. 1914. Кн. 125. С. 471-496.
Блюменкранц М.А. Путь личности через демонизм и ничто: Опыт внутренней биографии Николая Ставрогина // Философская и социологическая мысль. 1990. N 9. С. 35-45.
Больнов О.Ф. Философия экзистенциализма. СПб.: Лань, 1999. 222 с.
Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация: философия, наука, религия. М.: Наука, 1980. 333 с.
Борецкий О.М. Конечность человеческого бытия как проблема мировоззрения: Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата философских наук. Алма-Ата, 1989. 23 с.
Борхес Х.Л. Коллекция. СПб.: Северо-Запад, 1992. 640 с.
Брок А. Религия Лукреция. Нежин, 1901. 30 с.
Булацель П.Ф. Самоубийство с древнейших времён до наших дней: Исторический очерк философских воззрений и законодательств о самоубийстве. Изд. 2-е. СПб., 1900. 206 с.
Булгаков С.Н. Русская трагедия // Сочинения. В 2-х томах. Том 2. М.: Наука, 1993. С. 499-526.
Булгаков С.Н. Свет невечерний. М.: Республика, 1994. 415 с.
Валла Л. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. М.: Наука, 1989. 476 с.
Васильева Т.В. Божественность "под игом" бытия. М.Хайдеггер о понятии ΦΥΣΙΣ // Философия. Религия. Культура. М.: Наука, 1982.
Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1991. 1370 ст.
Великовский С.И. Философия "смерти Бога" и пантрагическое во французской культуре ХХ в. // Философия. Религия. Культура. М.: Наука, 1982. С. 43-103.
Вениамин (Новик), игумен. О православном миропонимании (онтологический аспект) // Вопросы философии. 1993. N 4. С. 135-149.
Вильчинский В.Я. Давид Юм и этика неопозитивизма // Историко-философский сборник. М.: Изд-во МГУ, 1971. С. 100-121.
Виндельбанд В. Прелюдии: Философские статьи и речи. СПб., 1904. VII, 374 с.
Витгенштейн Л. Дневники 1914-1916. Томск: Водолей, 1998. 192 с.
Владиславлев М. Философия Плотина, основателя новоплатоновской школы. СПб., 1868. 330 с.
Вышеславцев Б.П. Достоевский о любви и бессмертии // О Достоевском. М.: Книга, 1990. С. 398-406.
Вышеславцев Б.П. Этика преображённого Эроса. М.: Республика, 1994. 368 с.
Гайда А.В., Любутин К.Н. Категория "тотальность" и "марксологическая" философия // Философские науки. 1987. N 4. С. 70-79.
Гайденко П.П. Понимание бытия в античной и средневековой философии // Античность как тип культуры. М.: Наука, 1988. С. 284-307.
Гвардини Р. Конец нового времени // Вопросы философии. 1990. N . 4. С. 127-163.
Гегель Г.В.Ф. Наука логики. М.: Мысль, 1999. 1072 с.
Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М., 1959. XLV, 440 с.
Гегель Г.В.Ф. Философия религии. В 2-х томах. М.: Мысль, 1976-1977.
Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Том 1. М.: Мысль, 1974. 452 с.
Гёльдерлин Ф. Смерть Эмпедокла / Пер. Я. Голосовкера. Предисл. А.В. Луначарского. М., Л.: Academia, 1931. 136 с.
Гёльдерлин Ф. Сочинения / Комм. Г. Ратгауза. М.: Худ. литература, 1969. 544 с.
Гёте И.В. Фауст / Пер. с нем. Б. Пастернака. СПб.: Кристалл, 1997. 560 с.
Голосовкер Я. Эмпедокл из Агригента философ V века эры язычества (до Р.Х.) // Гёльдерлин Ф. Смерть Эмпедокла. М., Л.: Аcademia, 1931. С. 114-127.
Гомперц Г. Жизнепонимание греческих философов и идеал внутренней свободы. СПб., 1912. 309 с.
Горский А.К., Сетницкий Н.А. Смертобожничество // Путь. 1992. N 2. С. 248-332.
Греческая эпиграмма. СПб.: Наука, 1993. 448 с.
Григорий Богослов. Собрание творений. В 2-х томах. М.: Изд-во Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1994.
Громадка Й.Л. Перелом в протестантской теологии. М.: Прогресс-Культура, 1993. 192 с.
Губский М. Самоубийство // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 28 а. СПб., 1900. С. 233-239.
Гулыга А.В. Кант. Изд. 3-е. М.: Соратник, 1994. 304 с.
Гулыга А.В. Принципы эстетики. М.: Политиздат, 1987. 286 с.
Гурко Е. Тексты деконструкции. Томск: Водолей, 1999. 160 с.
Гусева Н.Р. Джайнизм. М.: Наука, 1968. 128 с.
Гусейнов А.А. Структура нравственного поступка // Структура морали и личность. М.: Мысль, 1977. С. 75-92.
Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. М.: Мысль, 1987. 592 с.
Гюйо М. Мораль Эпикура и её связь с современными учениями. СПб., 1899. 292 с.
Давид Анахт. Определения философии // Сочинения. М.: Мысль, 1975. С. 29-100.
Давыдов Ю.Н. Этика любви и метафизика своеволия (проблемы нравственной философии). Изд. 2-е. М.: Молодая гвардия, 1989. 320 с.
Данте Алигьери. Божественная комедия. М.: Наука, 1967. 628 с.
Дейч А. Фридрих Гёльдерлин // Гёльдерлин Ф. Сочинения. М.: Художественная литература, 1969. С. 3-42.
Демичев А.В. Дискурсы смерти: Введение в философскую танатологию. СПб.: Инапресс, 1997. 144 с.
Демичев А.В. Death on the run, или Игра со смертью // Фигуры танатоса: Символы смерти в культуре. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1991. С. 124-138.
Джеймс У. Воля к вере. М.: Республика, 1997. 432 с.
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Изд. 2-е. М.: Мысль, 1986. 571 с.
Доброхотов А.Л. Вопросы и ответы об аксиологии В.К. Шохина // Альфа и Омега. 1998. N 3 (17). С. 316-321.
Доброхотов А.Л. Данте Алигьери. М.: Мысль, 1990. 208 с.
Достоевский Ф.М. Дневник писателя. М.: Современник, 1989. 557 с.
Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30-ти томах. Л.: Наука, 1972-1988.
Дхаммапада / Пер. с пали, введ., комм. В.Н. Топорова. Рига: УГУНС, 1991. 103 с.
Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. СПб., 1912. XXXII, 541 с.
Евзлин М. Космогония и ритуал. М., 1993. 344 с.
Евлампиев И.И. Кириллов и Христос: Самоубийцы Достоевского и проблема бессмертия // Вопросы философии. 1998. N 3. С. 18-34.
Ермий. Осмеяние языческих философов // Сочинения древних христианских апологетов. Изд. 2-е. СПБ., 1895. С. 196-202.
Ерофеев В. В лабиринте проклятых вопросов. М.: Советский писатель, 1990. 448 с.
Звиревич В.Т. Натурфилософский тип античных концепций человека // Философские науки. 1982. N 2. С. 122-129.
Зеленин Д.К. Обычай "добровольной смерти" у примитивных народов // Памяти В.Г. Богораза (1865-1936): Сборник статей. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1937. С. 47-78.
Зенкин С. Морис Бланшо: отрицание и творчество // Вопросы литературы. 1994. Вып. 3. С. 170-191.
Иванов Вяч. По звездам: Опыты философские, эстетические и критические. СПб., 1909. 440 с.
Иванов Вяч. Родное и вселенское. М.: Республика, 1994. 428 с.
Игнатов А. Чёрт и сверхчеловек: Предчувствие тоталитаризма Достоевским и Ницше // Вопросы философии. 1993. N 4. С. 35-46.
Ильин И.А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. СПб.: Наука, 1994. 542 с.
Иоанн Дамаскин. Диалектика, или Философские главы. М., 1999. 110 с.
Иоанн Дамаскин. Творения. М.: Мартис, 1997. 352 с.
Исаев С.А. Теология смерти: Очерки протестантского модернизма. М.: Политиздат, 1991. 238 с.
Камю А. Бунтующий человек. М.: Политиздат, 1990. 415 с.
Камю А. Избранное. М.: Прогресс, 1969. 543 с.
Камю А. Избранное. М.: Радуга, 1988. 464 с.
Камю А. Миф о Сизифе: Эссе об абсурде // Сумерки богов. М.: Политиздат, 1989. С. 222-318.
Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Сочинения. В 6-ти томах. Т. 6. С. 5-23.
Кант И. Критика практического разума // Собрание сочинений. В 8-ми томах. Т. 4. М.: Чоро, 1994. С. 373-565.
Кант И. Критика чистого разума // Сочинения. В 6-ти томах. Т. 3. М.: Мысль, 1964. 800 с.
Кант И. Метафизика нравов // Сочинения. В 6-ти томах. Т. 4. Часть 2. М.: Мысль, 1965. С. 107-438.
Кант И. Метафизические начала естествознания // Сочинения. В 6-ти томах. Т. 6. М.: Мысль, 1966. С. 53-176.
Кант И. Мысли, вызванные безвременной кончиной высокородного господина Иоганна Фридриха фон Функа // Сочинения. В 6-ти томах. Т. 2. М.: Мысль, 1964. С. 49-57.
Кант И. О применении телеологических принципов в философии // Сочинения. В 6-ти томах. Т. 5. М.: Мысль, 1966. С. 65-97.
Кант И. Основоположения метафизики нравов // Собрание сочинений. В 8-ми томах. Т. 4. М.: Чоро, 1994. С. 153-246.
Кант И. Религия в пределах только разума // Кант И. Трактаты. СПб.: Наука, 1996. С. 259-424.
Карельский А.В. Социально-этическая проблематика романтизма в трагедии Фридриха Гёльдерлина "Смерть Эмпедокла" // Вестник МГУ. Сер. 9. 1992. N 4. С. 3-18.
Кафка Ф. Приговор // Кафка Ф. Замок. Новеллы и притчи. Письмо отцу. Письма Милене. М.: Политиздат, 1991. С. 282-292.
Кессиди О.Н. Фрагмент Анаксимандра (В 1) // Вестник МГУ. Серия VIII: Философия. 1975. N 1. С. 59-71.
Кессиди Ф.Х. Этические сочинения Аристотеля // Аристотель. Сочинения. Том 4. М.: Мысль, 1983. С. 5-37.
Кирхнер Ф. История философии с древнейшего до настоящего времени. СПб., 1895. 384 с.
Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля. М.: Логос; Прогресс, 1998. 208 с.
Кожев А. Предисловие к произведениям Жоржа Батая // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб.: Мифрил, 1994. С. 315.
Кожевников В.А. Буддизм в сравнении с христианством. Том 1. Пг., 1916. 643 с.
Козловский В. О смысле и абсурде человеческой жизни // Человек и духовность. Рига, 1990. С. 52-56.
Короленко Ц.П., Донских Т.А. Семь путей к катастрофе: Деструктивное поведение в современном мире. Новосибирск: Наука, 1990. 224 с.
Котляревский Н. Мировая скорбь в конце XVIII и в начале XIX века: её основные этические и социальные мотивы и их отражение в художественном творчестве. СПб., 1914. XXIV, 405 с.
Красиков В.И. Явь беспокойства (Предельные значения человеческого существования). Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. 164 с.
Красненкова И.П. Философский анализ суицида // Идея смерти в российском менталитете. СПб.: Изд-во РХГИ, 1999. С. 151-174.
Краснухина Е.К. О смысле конечного существования (проблема смерти в экзистенциализме М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра) // Вестник ЛГУ. Серия 6. 1991. Вып. 1. С. 12-18.
Кричевский А.В. Учение Гегеля об абсолютном духе как спекулятивная теология // Вопросы философии. 1993. N 5. С. 161-172.
Кручёных А.Е. Гибель Есенина: Как Есенин пришёл к самоубийству. Изд. 5-е. М.: Изд. автора, 1926. 18 с.
Кузьмина Т.А. Проблема трансценденции в современной буржуазной философии // Вопросы философии. 1972. N 6. С. 75-86.
Кураев А., диакон. О вере и знании без антиномий // Вопросы философии. 1992. N 7. С. 45-63.
Кьеркегор С. Наслаждение и долг. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. 416 с.
Кьеркегор С. Страх и трепет. М.: Республика, 1993. 383 с.
Лак Г. Arcana Mundi: магия и оккультизм в греко-римском мире / Реф. В.И. Исаевой // Личность и общество в религии и науке античного мира. М., 1990. С. 10-28.
Лебедев А.В. ΤΟ ΑΠΕΙΡΟΝ: не Анаксимандр, а Платон и Аристотель // Вестник древней истории. 1978. N 1. С. 39-54.
Лебедев А.В. ΤΟ ΑΠΕΙΡΟΝ: не Анаксимандр, а Платон и Аристотель (II) // Вестник древней истории. 1978. N 2. С. 43-58.
Лихачёв А.В. Самоубийство в Западной Европе и европейской России: Опыт сравнительно-статистического исследования. СПб., 1882. Х, 252 с.
Лодыженский М.В. Враги христианства. Пг., 1916. 22 с.
Локк Дж. Предсмертная речь цензора // Сочинения. В 3-х томах. Том 3. М.: Мысль, 1988. С. 54-65.
Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука // Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. М.: Мысль, 1993. С. 61-612.
Лосев А.Ф. Дерзание духа. М.: Политиздат, 1988. 366 с.
Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: Политиздат, 1991. С. 21-186.
Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. М.: Мысль, 1989. 206 с.
Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Кн. 2. М.: Искусство, 1994. 606 с.
Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. М.: Мысль, 1996. 976 с.
Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.: Мысль, 1993. 960 с.
Лосев А.Ф. Страсть к диалектике. М.: Советский писатель, 1990. 320 с.
Лосев А.Ф. Философия имени // Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. М.: Мысль, 1993. С. 613-801.
Лосев А.Ф. Философия культуры и античность // Тахо-Годи А.А., Лосев А.Ф. Греческая культура в мифах, символах и терминах. СПб.: Алетейя, 1999. С. 695-705.
Лосева И.Н. Миф и религия в отношении к рациональному познанию // Вопросы философии. 1992. N 7. С. 64-76.
Лосский В.Н. Богословское понятие человеческой личности // Богословские труды. Сб. 14. М.: Изд-во Московской Патриархии, 1975. С. 113-120.
Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви // Мистическое богословие. Киев: Путь к Истине, 1991. С. 95-259.
Лосский Н.О. Бог и мировое зло. М.: Республика, 1994. 432 с.
Лосский Н.О. Свобода воли // Избранное. М.: Правда, 1991. С. 481-597.
Лукиан. Избранное. М.: Художественная литература, 1987. 624 с.
Лукреций. О природе вещей / Пер. с лат. Ф. Петровского. М.: Художественная литература, 1983. 384 с.
Луначарский А.В. Самоубийство и философия // Самоубийство: Сборник статей. М., 1911. С. 67-92.
Любимова Т.Б. Понятие ценности в буржуазной социологии // Социальные исследования. Вып. 5: Теория и методы. М.: Наука, 1970. С. 61-76.
Марк Аврелий Антонин. Размышления. Изд. 2-е. СПб.: Наука, 1993. 248 с.
Марков Б.В. Живое и мёртвое // Фигуры танатоса: Искусство умирания. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1998. С. 136-152.
Марсель Г. К трагической мудрости и за её пределы // Самосознание европейской культуры ХХ века. М., 1991. С. 352-366.
Милош Ч. Шестов, или О чистоте отчаяния // Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне). М.: Прогресс, 1992. С. I-XVI.
Милтс А.А. Гармония и дисгармония личности: Философско-этический очерк. М.: Политиздат, 1990. 222 с.
Минеев В.В., Нефёдов В.П. От смерти - к жизни: Идеи русского космизма и проблема нового понимания смерти и бессмертия. Красноярск, 1989. 50 с. (Препринт / СО АН СССР, Ин-т физики им. Л.В.Киренского; N 99 б)
Монтень М. Опыты. В 3-х книгах. М.: Голос, 1992.
Мунье Э. Надежда отчаявшихся. М.: Искусство, 1995. 240 с.
Мунье Э. Персонализм. М.: Искусство, 1992. 144 с.
Муравьёв С.Н. Каким было начало сочинения Гераклита Эфесского? // Вестник древней истории. 1970. N 3. С. 135-158.
Набоков В.В. Рассказы. Воспоминания. М.: Современник, 1991. 653 с.
Нарский И.С. Давид Юм и его философия // Юм Д. Сочинения. В 2-х томах. Том 1. М.: Мысль, 1965. С. 5-64.
Невзоров И. Мораль стоицизма и христианское нравоучение. Казань, 1892. 176 с.
Неизданный Достоевский: Записные книжки и тетради 1860-1881 гг. М.: Наука, 1971. 728 с.
"Непостижимая" эффективность математики в исследованиях человеческой рефлексии: Интервью с В.А. Лефевром // Вопросы философии. 1990. N 7. С. 51-59.
Ницше Ф. Весёлая наука // Сочинения. В 2-х томах. Том 1. М.: Мысль, 1990. С. 491-719.
Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Сочинения. В 2-х томах. Том 2. М.: Мысль, 1990. С. 238-406.
Ницше Ф. Сумерки идолов, или Как философствуют молотом // Сочинения. В 2-х томах. Том 2. М.: Мысль, 1990. С. 556-630.
Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Сочинения. В 2-х томах. Том 2. М.: Мысль, 1990. С. 5-237.
Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое // Сочинения. В 2-х томах. Том 1. М.: Мысль, 1990. С. 231-490.
Ольхин П. О самоубийстве в медицинском отношении. СПб., 1859. 451 с.
Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию. М., 1994. 214 с.
Ортега-и-Гассет Х. Наброски праздного лета / Пер. с исп. А. Гелескула // Иностранная литература. 1993. N 4. С. 224-235.
Отцы и учители Церкви III века. Том 1. М.: Либрис, 1996. 380 с.
Ошеров С.А. История, судьба и человек в "Энеиде" Вергилия // Античность и современность. М.: Наука, 1972. С. 317-329.
Ошеров С.А. Сенека: От Рима к миру // Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Кемерово, 1986. С. 390-424.
П.И. Выбрасывание стариков и старух // Этнографическое обозрение. 1901. N 4. С. 145-146.
Памятники византийской литературы IV-IX веков / Отв. ред. Л.А. Фрейберг. М.: Наука, 1968. 356 с.
Паперно И. Самоубийство как культурный институт. М.: Новое литературное обозрение, 1999. 252 с.
Паульсен Ф. Шопенгауэр, Гамлет, Мефистофель: Три очерка из истории пессимизма. Киев, 1902. 164 с.
Петрученко О. Латинско-русский словарь. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1994. 810 с.
Платон. Законы. М.: Мысль, 1999. 832 с.
Платон. Собрание сочинений. В 4-х томах. М.: Мысль, 1990-1993.
Порфирий. Жизнь Плотина / Пер. М.Л. Гаспарова // Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль, 1986. С. 427-440.
Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. М.: Правда, 1991. 768 с.
Рашидов С.Ф. Смысл жизни и страх смерти как обнаружение феномена самосознания // Фигуры танатоса: Символы смерти в культуре. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1991. С. 39-46.
Рожанский И.Д. Понятие "природа" у древних греков // Природа. 1974. N 3. С. 78-83.
Рожанский И.Д. Ранняя греческая философия // Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1. М.: Наука, 1989. С. 5-32.
Розанов В.В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф.М. Достоевского: Опыт критического комментария // Розанов В.В. Несовместимые контрасты жития. М.: Искусство, 1990. С. 37-224.
Рормозер Г. Ситуация христианства в эпоху "постмодерна" глазами христианского публициста // Вопросы философии. 1991. N 5. С. 75-86.
Рубинштейн М.М. Проблема смысла жизни в философии Канта // Вопросы философии и психологии. 1916. Кн. 4 (134). С. 252-270.
Русяева А.С. Орфизм и культ Диониса в Ольвии // Вестник древней истории. 1978. N 1. С. 87-104.
Сартр Ж.-П. Один новый мистик // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб.: Мифрил, 1994. С. 11-44.
Светоний. Жизнь двенадцати цезарей / Пер. с лат., предисл., прим. М.Л. Гаспарова. М.: Правда, 1991. 512 с.
Секацкий А.К. Ускользание и обман в поединке со смертью // Фигуры танатоса: Искусство умирания. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1998. С. 131-135.
Семёнова С.Г. Odium fati как духовная позиция в русской религиозной философии // Понятие судьбы в контексте разных культур. М.: Наука, 1994. С. 26-33.
Сенека. Нравственные письма к Луцилию / Изд. подг. С.А. Ошеров. М.: Наука, 1977. 383 с.
Сёмина К.А. Археология и социология смерти: древнегреческие погребальные обряды (Анализ исследований 80-х годов) // Личность и общество в религии и науке античного мира. М., 1990. С. 91-107.
Сёмушкин А.В. "Загадка" Эмпедокла // Историко-философский ежегодник. 1988. М.: Наука, 1988. С. 22-37.
Сёмушкин А.В. Эмпедокл. М.: Мысль, 1985. 192 с.
Слинин Я.А. Этика Иммануила Канта // Кант И. Критика практического разума. СПб.: Наука, 1995. С. 5-52.
Соболь О.Н. Постмодерн: философские и культурные измерения // Философская и социологическая мысль. 1992. N 8. С. 48-63.
Соловьёв В.С. Лермонтов // Соловьёв В.С. Литературная критика. М.: Современник, 1990. С. 274-291.
Соловьёв В.С. Оправдание добра // Сочинения. В 2-х томах. Том 1. М.: Мысль, 1990. С. 47-580.
Соловьёв В.С. Смысл любви // Сочинения. В 2-х томах. Том 2. М.: Мысль, 1990. С. 493-547.
Соловьёв В.С. Чтения о Богочеловечестве // Сочинения. М.: Раритет, 1994. С. 13-168.
Софокл. Драмы / Пер. Ф.Ф. Зелинского. М.: Наука, 1990. 608 с.
Спиноза Б. Этика. М., 1911. 384 с.
Ставцев С.Н. Введение в философию Хайдеггера. СПб.: Лань, 2000. 190 с.
Старостин Б.А. Пафос самоуничтожения в русской литературе двадцатых-тридцатых годов // Идея смерти в российском менталитете. СПб.: Изд-во РХГИ, 1999. С. 277-301.
Судаков А.К. Любовь к жизни и запрет самоубийства в кантианской метафизике нравов // Вопросы философии. 1996. N 8. С. 54-65.
Тавризян Г.М. Христианский экзистенциализм: отход от "философии существования" // Французская философия сегодня. М. : Наука, 1989. С. 213-233.
Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М.: Политиздат, 1989. 574 с.
Тантлевский И.Р. История и идеология Кумранской общины: Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора философских наук. СПб., 1996. 39 с.
Татиан. Слово к эллинам // Вестник древней истории. 1993. N 1-2.
Тахо-Годи А.А. О древнегреческом понимании личности на материале термина soma // Тахо-Годи А.А., Лосев А.Ф. Греческая культура в мифах, символах и терминах. СПб.: Алетейя, 1999. С. 362-381.
Тахо-Годи А.А. Судьба как эстетическая категория (Об одной идее А.Ф. Лосева) // Тахо-Годи А.А., Лосев А.Ф. Греческая культура в мифах, символах и терминах. СПб.: Алетейя, 1999. С. 382-389.
Тертуллиан. Избранные сочинения. М.: Прогресс, 1994. 448 с.
Торчинов Е.А. Даосизм. "Дао-Дэ цзин". СПб.: Петербургское востоковедение, 1999. 290 с.
Трубецкой Е.Н. Социальная утопия Платона. М., 1908. 117 с.
Трубецкой С.Н. Метафизика в древней Греции. М., 1890. 508 с.
Трубников Н.И. Проблема смерти, времени и цели человеческой жизни (через смерть и время к вечности) // Философские науки. 1990. N 2. С. 104-115.
Тульчинский Г.Л. Жуть и путь, или Опыт обыденного философствования // Фигуры танатоса: Искусство умирания. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1998. С. 152-168.
Тульчинский Г.Л. Разум, воля, успех: О философии поступка. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. 216 с.
Унт Я. Экзегетический комментарий // Марк Аврелий Антонин. Размышления. СПб.: Наука, 1993. С. 174-220.
Фейербах Л. Сущность христианства. М.: Мысль, 1965. 414 с.
Флавий Филострат. Жизнь Аполлония Тианского. М.: Наука, 1985. 328 с.
Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. М.: Правда, 1990. 839 с.
Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1. М.: Наука, 1989. 576 с.
Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.: Республика, 1994. 448 с.
Фромм Э. Некрофилы и Адольф Гитлер // Вопросы философии. 1991. N 9. С. 69-160.
Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad marginem, 1997. 452 с.
Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993. 448 с.
Хайдеггер М. Изречение Анаксимандра // Хайдеггер М. Разговор на просёлочной дороге. М.: Высшая школа, 1991. С. 28-68.
Хайдеггер М. О существе и понятии φυσις: Аристотель. "Физика". B 1. М., 1995.
Хайдеггер М. Онто-тео-логическое строение метафизики // Хайдеггер М. Тождество и различие. М.: Гнозис, 1997. С. 29-59.
Хайдеггер М. Слова Ницше "Бог мёртв" / Пер., предисл., прим. А.В. Михайлова // Вопросы философии. 1990. N 7. С. 133-176.
Хайдеггер М. Что это такое философия? // Вопросы философии. 1993. N 8. С. 113-123.
Цвейг С. Борьба с демоном: Гёльдерлин, Клейст, Ницше. М.: Республика, 1992. 304 с.
Цицерон. Тускуланские беседы // Избранные сочинения. М.: Художественная литература, 1975. С. 207-357.
Цицерон. Философские трактаты. М.: Наука, 1985. 384 с.
Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М.: Высшая школа, 1981. 374 с.
Чхартишвили Г.Ш. Писатель и самоубийство. М.: Новое литературное обозрение, 1999. 576 с.
Шахнович М.М. Современная "христианизация" философии Эпикура // Религии мира. Ежегодник. 1986. М.: Наука, 1987. С. 155-169.
Шейнис Л.К. К истории самоубийства // Русская Высшая Школа общественных наук в Париже: Лекции профессоров. СПб., 1905. С. 85-111.
Шейнман-Топштейн С.Я. Восточные влияния в платоновских текстах // Античность как тип культуры. М.: Наука, 1988. С. 133-145.
Шестов Л. Афины и Иерусалим // Сочинения. В 2-х томах. Т. 1. М.: Наука, 1993. С. 313-664.
Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне). М.: Прогресс, 1992. 302 с.
Шестов Л. Киркегард - религиозный философ // Кьеркегор С. Наслаждение и долг. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. С. 384-411.
Шестов Л. На весах Иова // Сочинения. В 2-х томах. Том 2. М.: Наука, 1993. 560 с.
Шестов Л. Николай Бердяев: Гнозис и экзистенциальная философия // Шестов Л. Сочинения. М.: Раритет, 1995. С. 386-419.
Шестов Л. Умозрение и апокалипсис: Религиозная философия Вл. Соловьёва // Шестов Л. Сочинения. М.: Раритет, 1995. С. 319-385.
Шифферс Е. Отношение христианства к самоубийству // Искусство кино. 1991. N 9. С. 3-7.
Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы. Том 2. Изд. 2-е. СПб., 1892. 427 с.
Шопенгауэр А. Введение в философию // Шопенгауэр А. Об интересном. М.: Олимп, АСТ, 1997. С. 15-67.
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление / Пер. Ю.И. Айхенвальда // Собрание сочинений. Том 1. М.: Московский клуб, 1992. 396 с.
Шопенгауэр А. Новые паралипомены // Полное собрание сочинений. Т. 4. М., 1910. С. 311-574.
Шохин В.К. Классическая философия ценностей: предыстория, проблемы, результаты // Альфа и Омега. 1998. N 3. С. 295-315.
Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. М.: Наука, 1988. 426 с.
Экхарт М. Духовные проповеди и рассуждения. М.: Политиздат, 1991. 192 с.
Эллинские поэты. М.: Художественная литература, 1963. 407 с.
Эсхин. Против Ктесифонта // Вестник древней истории. 1962. N 4. С. 189-239.
Юдин Б.Г. Возможно ли рациональное самоубийство? // Человек. 1992. N 6. С. 41-52.
Юдин Б.Г. Право на добровольную смерть: против и за // О человеческом в человеке. М.: Политиздат, 1991. С. 247-261.
Юм Д. Автобиография // Сочинения. В 2-х томах. Т. 1. М.: Мысль, 1965. С. 65-75.
Юм Д. О бессмертии души // Сочинения. В 2-х томах. Т. 2. М.: Мысль, 1965. С. 798-806.
Юм Д. О самоубийстве // Сочинения. В 2-х томах. Т. 2. М.: Мысль, 1965. С. 806-817.
Юм Д. Сокращённое изложение "Трактата о человеческой природе" // Сочинения. В 2-х томах. Т. 1. М.: Мысль, 1965. С. 789-810.
Юм Д. Трактат о человеческой природе // Сочинения. В 2-х томах. Т. 1. М.: Мысль, 1965. С. 77-788.
Якубанис Г. Эмпедокл: философ, врач, чародей. Киев: Синто, 1994. 232 с.
Янкелевич В. Смерть. М.: Литературный институт им. А.М. Горького, 1999. 448 с.
Ясперс К. Философская вера // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Политиздат, 1991. С. 419-508.
Busch J. Sick to Death? // Philosophy Now. 1998. Issue 20. P. 23-25.
Camus A. Actuelles. P.: Gallimard, 1950. T. 1. 270 p.
Примечания
Суицидология как "наука" формируется с начала двадцатого столетия [138, с.152].
Термин "суицид", по сообщению Джастина Буша (ссылающегося на Оксфордский словарь), появился в употреблении около 1651 года [293, p. 23].
Человек может задать себе вопрос: нет ли среди различных форм смерти какой-либо "особенно человеческой"? Не является ли высшей формой умирания вольная смерть? Не возвышает ли она животное до человека или даже человека до сверхчеловека, до бога вместо Бога? [39, с. 202]
О непреодолимых трудностях, связанных с установлением предмета медицинской суицидологии, см.: 293, p. 24.
"Социологическая точка зрения, - пишет Н.А. Бердяев, - которая, основываясь на статистике, хочет установить социальную закономерность и необходимость самоубийства, в корне ложна, она видит лишь внешнюю сторону явления, лишь результат незримых внутренних процессов и не проникает в глубину жизни" [35, с. 15].
"Нет более трудной для исследования и более важной для размышления проблемы, чем проблема смерти не в каком-нибудь из её частных или специальных аспектов, например медицинском, демографическом, криминологическом и т.д., а в её общечеловеческом, мировоззренческом смысле" [242, с. 104].
У меня, конечно, нет точных сведений о гибели указанного автора; но в самóм факте его смерти едва ли можно сомневаться. Столь достойный человек, который столь восторженно и соблазнительно изобразил красоту и благородство чужой вольной смерти, просто не мог сам остаться в живых. За словами и суждениями должны были последовать, как сказал бы Камю, "определённые действия" [116, с. 223]. Ведь, по словам того же Камю, "прославлять разрушение, не участвуя в нём вместе с другими, - это не делает чести никому" [113, с. 189]. Люди, которые, "рассуждая о преимуществах небытия, на деле отдают предпочтение какому ни на есть бытию" [224, с. 85], способны вызвать подозрение в нечестности и даже в прямом обмане читателя. "Этих людей и их умственные упражнения, - рекомендует нам Владимир Соловьёв, - дóлжно признать несерьёзными" [224, с. 83-84]. Но не могу же я признать "несерьёзными" такого солидного автора, как Григорий Шалвович, и такой солидный труд, как его книга. Ну, а те сентиментальные утешения (заимствованные из "Трактата о Степном волке", из "Револьвера" Тэцуо Миуры и т.д.) и смутные фантастические догадки, которые могли бы удержать автора в жизни [263, с. 436-438], крайне неубедительны для настоящего мужчины. Следовательно, Чхартишвили мёртв. Зато родился Борис Акунин.
Желательно, чтобы установилась та самая "связность" разговора, "удерживаемая на всех поворотах", о которой говорит С.С. Аверинцев [12, с. 7].
Современная философия постоянно применяет такой жанровый приём, как диалогичность. Например, Жак Деррида в "Апориях" устраивает танатологические "дебаты" между Фрейдом, Хайдеггером и Левинасом, демонстрируя высказанное ими, соответственно, "по отношению к смерти как таковой, к своей собственной смерти и смерти другого". В его же "Даре смерти" к этим собеседникам присоединяются Платон, Кант, Гегель, Кьеркегор, Ницше, Ян Паточка и христианские экзегеты. "Этот охват, как можно предположить, не есть простое суммирование всего того, что было сказано данными мыслителями по поводу смерти, а специфически-деконструктивистское мероприятие приведения их в состояние дискуссии друг с другом, дискуссии, в которой говорят их тексты" [80, с. 84]. Моя попытка, в отличие от стандартов постмодерна, конструктивна, так как я хочу активно присутствовать при этом разговоре.
Под "программой" я понимаю праксиологически ориентированную теоретическую концепцию; указанная ориентация должна быть учтена как крайне значимая именно при исследовании такого "предмета", как самоубийство.
Если "конкретное представление об акте существования подменяется абстрактным понятием экзистенции", справедливо замечает Э. Жильсон, то существование при этом неизбежно "эссенциализируется", превращаясь из акта существующего субъекта в чистый "объект" постижения (Жильсон Э. Избранное. Том 1: Томизм. Введение в философию св. Фомы Аквинского. М., СПб.: Университетская книга, 1999. С. 437). Такую подмену мы и можем наблюдать у Хайдеггера и Сартра.
Термин "трансценденция" имеет отношение прежде всего к сфере самой общей (абстрактной) терминологической разметки мысли, к чисто понятийным операциям языка; употребление этого термина прямо не подразумевает указания на конкретного субъкта действия. "Трансцендирование" же всегда "чьё", всегда имеет в виду личность, которая и трансцендирует.
"Если только утверждают продуманную во всех своих следствиях мысль о человечности как личности, то она необходимо указывает, как на единственную свою основу, на идею абсолютной Личности, и притом (если это утверждает метафизик нравов), Личности сверхчувственно реальной, содержащей в себе условие и бытия вообще, и в особенности личного бытия воль человеческих (относительных, в смысле соотносительности с неким прообразом и первореальностью, и в то же время реальных), условие возможности самой человеческой ценности. Достоинство человечности поэтому, если оно не восходит к достоинству сверхприродной абсолютной Личности, воля которой и служит основой личного бытия всякого человека вообще и сохранения этого бытия в частности, - обречено оставаться не более чем благонамеренно-гуманистической догмой (нисходит к природной наличности. - С.А.). А постольку можно сказать: не только применение, но уже и самоё обоснование трансцендентальной этики как метафизики персонализма требует исходить из бытия Божия" [231, с. 62]. Итак, персонализм есть теизм. "Единственная совершенно приемлемая теистическая концепция - христианство: оно завершает освобождение человека, преднамеченное договорным началом концепции ветхозаветной" [107, с. 314], чисто монотеистической.
О понятии и содержании "οικονομια" см.: Лосский В.Н. Апофаза и троическое богословие // Богословские труды. Сборник 14. С. 96; Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви // Мистическое богословие. Киев, 1991. С. 140-141, 148. Ср.: 54, с. 138-139.
Этьен Жильсон прямо называет доктрину Фомы Аквинского "единственной экзистенциальной философией", признавая оправданным лишь вопрос о том, насколько современные учения "заслуживают названия экзистенциальных" в сравнении с ней (Жильсон Э. Указ. соч. С. 435).
См., напр., определение Н.О. Лосского: "Метафизика есть наука о мире как целом; она даёт общую картину мира как основу для всех частных суждений о нём" (Лосский Н.О. Типы мировоззрений: Введение в метафизику // Лосский Н.О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. М., 1999. С. 5). Здесь метафизика жёстко и однозначно ориентирована на целостность мира как нечто бесспорное, что надо признать существенным недостатком этого определения. Ср. у Канта (Пролегомены, 40) мнение о том, что метафизику занимает "абсолютное целое всего возможного опыта"; идеи разума (на которые опирается метафизика) относятся "к колективному единству целого возможного опыта", превышающему всякий опыт (Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в смысле науки / Пер. В.С. Соловьёва. М.: Прогресс, 1993. С. 118-119).
Хотя "современное мироощущение отличается от классического тем, что живёт моральными проблемами, а не метафизикой" [116, с. 295], всё же и сейчас сохраняет своё значение утверждение Канта о том, что для вынесения этического суждения надо "сделать шаг <...> к метафизике, однако к той её области, которая отлична от сферы спекулятивной философии, к метафизике нравственности" [124, с. 202]. Чтобы ответить на вопрос о том, как суицид может полагаться в качестве не-должного в то время как он очевидно принадлежит наличному, надо хотя бы предварительно различить наличное и должное, то есть поставить и решить метафизическую проблему.
Танатология, а ещё точнее - суицидология (как обращающая своё внимание на "как" человеческой смерти), есть наиболее антропологическая философская дисциплина. По словам Владимира Янкелевича, "подобно тому как в каждый отдельный момент последующее придаёт смысл предыдущему, можно сказать, что окончательный конец выявляет смысл всей продолжительности существования; придавая всему завершённость, конец высвечивает значимость отдельной жизни и её историческую роль" [291, с. 121]. Именно смерть говорит всё о человеческой жизни, ибо после неё ничего реально нового придумать уже нельзя. "Смерть превращает жизнь в биографию, задним числом упорядочивает её, даёт ей новое освещение, а иногда даже нравственный смысл" [291, с. 121]. Поэтому нам "никогда по-настоящему не познать и не понять личность, если мы будем уделять внимание только её подъёму, если не научимся учитывать её теневые стороны, проникать в причины её падения, распада, деградации" [175, с. 7].
Вот почему наблюдать всегда надлежит человека
В бедах и грозной нужде и тогда убедиться, каков он.
Ведь из сердечных глубин лишь тогда вылетает невольно
Истинный голос, личина срывается, суть остаётся
(Лукр. III, 55-58).
Эмиль Дюркгейм определяет самоубийство, как мне представляется, не вполне корректно: "самоубийством называется каждый смертный случай, который непосредственно или посредственно является результатом положительного или отрицательного поступка, совершённого самим пострадавшим, если этот последний знал об ожидавших его результатах" [98, с. 14]. Самоубийца хочет смерти, но не может знать о соответствии своих способностей планируемому результату. Именно намерение придаёт поступкам моральный смысл [82, с. 86]. Преимущественный учёт этого обстоятельства и позволяет подойти к самоубийству с аксиологическими критериями, ибо "оценка поступка становится спорной, когда имеется несоответствие между намерением и результатом" [82, с. 87]; такой "спорности" и удаётся избежать в том случае, когда определяющим в самоубийственном поступке полагается не результат, а намерение. Тем не менее, именно указанное определение французского социолога принимается и употребляется современными исследователями в качестве рабочего понятия суицида, иногда - в сокращённом виде - как "сознательное и преднамеренное саморазрушение" (conscious and intentional self distruction) [293, p. 23].
Так обозначенная онтологическая позиция выражает собой главную философскую установку теизма. Ещё у древнецерковных писателей, сообщает А.И. Сидоров, наблюдается преобладающая тенденция понимать "мир" не столько в качестве "онтологической сферы" (то есть сферы бытия как наличного), сколько в качестве "области человеческих решений и действий", т.е. акцент ставится на понимании космоса не как физической и метафизической реальности, а как реальности исторической и нравственной. Многочисленные примеры такого акцентирования можно найти, например, в творениях Тертуллиана [Творения древних отцов-подвижников / Пер., комм. А.И. Сидорова. М.: Мартис, 1997. С. 375]. В современном православном богословии настойчиво подчёркивается этот "динамический" характер онтологии [54, с. 145].
М.М. Бахтин пишет: "Все попытки изнутри теоретического мира пробиться в действительное бытие-событие безнадёжны; нельзя разомкнуть теоретически познанный мир изнутри самого познания"; лишь поступок "действительно совершается в бытии" [29, с. 91].
Э. Левинас предлагает отказаться от "рефлексивного отношения к существованию, посредством которого уже ставшее рассматривает себя" (Левинас, Избранное, 2000, с. 12). Действительно, "ставшее" по смыслу противопосложно "существующему". Существование - это не рефлексия и даже не "борьба уже существующего бытия за продолжение этого существования" (то есть за повторение, воспроизведение), но "постоянное рождение как особая операция, благодаря которой существование овладевает своей экзистенцией независимо от любых способов самосохранения" (Левинас, Избранное, 2000, с. 12).
Обобщённое изложение сути различия указанных терминов у Хайдеггера см.: 229, с. 43-45.
Дабы чётко различить теизм и монизм (поскольку вся полемическая напряжённость работы задана именно этим различением), надо ввести строгое разграничение между идеальным и эйдетическим. Если такое разграничение теряется, то мы утрачиваем всякую способность отличить теизм от какого-либо монистического учения. Например, в этом случае для нас оказывается совершенно невозможным философски развести платонизм и христианство как миф и религию. См.: 158, с. 860 и след.
Термин "аннигиляция" означает полный распад личности, её онтологическую деструкцию. Если речь идёт о сознательном участии самóй личности в осуществлении такого распада, то можно говорить о реализации "аннигиляционной установки" [230, с. 278, 284] или, переводя разговор в область психологии, о "танатической мотивации" [230, с. 289].
Сублимация в метафизическом (а не психоаналитическом) смысле есть, по С.С. Аверинцеву, "выведение" сущего "из равенства себе" и "пресуществление" этого сущего "во что-то иное" [13, с. 67]. Такого рода преображение, не отрицающее, а, напротив, подтверждающее свободу твари, может мыслиться лишь как синергийное "предприятие" твари и Творца. "Трансцендентная помощь", считает К. Ясперс, открывает себя человеку именно в том, что он "может быть самим собой" (то есть человек может стремиться к идеалу); тем, что человек "зависит от самого себя" (то есть бытийно свободен, перспективен), он обязан "непостижимой, ощутимой только в его свободе поддержке трансценденции" [292, с. 451]. Поэтому сублимация (как способ синергийного трансцендирования) означает, по словам Ж.-Л. Нанси, "приход Другого, способный возвысить и сублимировать мир, преобразовав его в нечто иное" (Нанси Ж.-Л. Язык и тело // Вторые Копнинские чтения. Томск: Изд-во ТГУ, 1997. С. 118-119). "То, как я сознаю себя в качестве человека, - пишет К. Ясперс, - есть одновременно и сознание трансценденции - есть или ограничение, или возвышение" [292, с. 451]; иначе говоря, трансцендирование наличного совершается конкретно. Различение аннигиляции и сублимации принципиально отделяет православно-христианскую мистику от пантеистических мистических практик.
Габриэль Марсель говорит в этой связи о "фундаментальной необеспеченности человеческой экзистенции" [173, с. 358].
В христианстве такое отличие общего от частного терминологически задано через различение ουσια и υποστασις. Сущность как "данное" есть природа, а потому ουσια есть сущность вообще. Ипостась есть "существующее", вот это именно существующее, следовательно, не вообще бытие (как-бытие), а как-именно-бытие. Говоря об ипостаси, всегда надо иметь в виду не только данное, но и заданное (идеал), ибо в данном, то есть в самой по себе сущности, нет никакой ипостасности. Понятие "личность" (προσωπον) указывает именно на активно-идеальный характер ипостаси. Если ипостась принимается лишь в качестве конкретизации (частного проявления, выражения, обнаружения) сущности (как общего), то она в конце концов полагается лишь как Dasein, но не личность. Ср.: 163, с. 113-120.
Ещё Ришар Сен-Викторский отметил, что вопрос о "что" (quid) относится к субстанции, а вопрос о "кто" (quis) - к личности [см.: 163, с. 117].
Субстанциализм в области антропологии, поясняет Т.А. Кузьмина, характеризуется как такое понимание человека, при котором субъект есть лишь результат "развёртывания" изначально данных свойств и потенций мироздания, а сознание выступает как проявление законов (логики) единого процесса развития универсума; при этом свобода может пониматься лишь как расширяющаяся способность действия на основе увеличения знания об универсальной необходимости. Значение (точнее, назначение, функция) человека усматривается в том, что в нём субстанция (мировой разум, материя и т.д.) "приходит к осознанию самой себя". Отсюда ясно, что всякое познание не освобождает, а, напротив, закрепощает человека: "познание мира, как он есть, в его объективно-закономерном существовании нисколько не меняет существа человеческого бытия" [142, с. 77]. Поэтому субстанциализм есть "точка зрения всепронизывающего детерминизма", искажающего представление о свободе человека. Экзистенциальное "переосмысление" свободы состоит в том, что она начинает восприниматься "как совершенно уникальный феномен человеческого бытия, не имеющий не только никаких аналогов, но и оснований в остальных сферах сущего и привносящий нечто принципиально иное в окружающий мир". Свобода теперь понимается не как "сознательное поведение", опирающееся на знание объективных законов и потому связанное с чувствами "уверенности и надёжности"; напротив, свобода рассматривается как утрата этих (обеспеченных познанием) состояний, как сопротивление "познаваемой действительности", имеющее свою опору в трансцендентном [142, с. 78].
Предпосылки хайдеггеровского различения экзистенциалов и категорий можно обнаружить ещё у Кьеркегора. Последний в "Понятии страха" пишет, что "в отношении экзистенциальных понятий всегда будет проявлением большего такта воздержаться от каких бы то ни было определений, ведь человек едва ли может испытывать склонность к тому, чтобы постигать в форме определения то, что по самому своему существу должно пониматься иначе, что он сам понимал совершенно иначе (то есть не в форме чистой объективности. - С.А.) и что он совершенно иным образом любил; в противном же случае всё это быстро становится чем-то чужим, чем-то совершенно иным (то есть мёртвым. - С.А.). Тот, кто действительно любит, едва ли может находить радость, удовольствие, не говоря уже о развитии и содействии, в том, чтобы докучать себе определениями того, что же такое, собственно, эта любовь" [145, с. 235].
Норма (заповедь) имеет смысл только для свободного существа. "Моральные или религиозные предписания, - говорит Н. Аббаньяно, - например, заповеди Десятисловия, указывают лишь на возможность действия или поведения, которое по праву считается высшим по сравнению с другими. "Не убий", "не укради" - это, безусловно, неоспоримые предписания, но они лишь указывают на определённые возможности действия. На самом деле они не делают невозможными противоположные действия, которые нарушают эти самые предписания. Более того, их нарушение, к сожалению, является постоянным и каждодневным; а это значит, что они - возможности, которые апеллируют к "доброй воле", т.е. к правильно направленному выбору людей" [2, с. 346]
Мефистофель зол именно потому, что он желает зла; если же рассматривать только наличные результаты его деятельности (добро), то он не зол [70, с. 52]. Зла вообще нет вне аксиологического (нормативного) измерения бытия; точнее, зло тогда сущностно неотличимо от добра, они тогда - одно и то же. Итак, чистая ("феноменологическая", дескриптивная) онтология - по ту сторону добра и зла.
Чтобы философия приобрела строгий и однозначно монистический характер, мало полагать единство Единого в противоположность множественности многого; требуется допустить возможность достижения многим этого Единого (то есть возможность соединения противоположностей). Но чтобы допустить такую возможность, надо, в свою очередь, положить единство Единого и многого. Тот горизонт, который обосновывает это диалектическое всеединство, есть природа (её другие имена: судьба, закон, порядок, справедливость). Признаки монистической позиции:
- Наличное (будь это сущее или бытие) эмпирически и ноуменально являет себя как единство, как "только так". При этом само наличное может именоваться и субстанцией, и законом, и беспорядком, и как угодно ещё.
- Наличное непрерывно (континуально) и однородно (гомогенно).
- Наличное есть целое (статичность, могущая включить в себя всякое движение).
- Следовательно, наличное автономно, исключительно, замкнуто на себя, необходимо для себя, безвыходно, то есть - в самом точном смысле - субстанциально.
Так, например, логический пантеизм Спинозы замыкает мир на самого себя. Только по отношению к такому миру имеет силу "интуитивно-дедуктивное" познание целого (законченного); и именно в так познанном мире разум "трактует все события как однозначные, необходимые, предопределённые совокупностью мировых связей" (Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. М.: Высшая школа, 1984. С. 350). Там, где предположено целое, неизбежно полагается тотальное господство закона (необходимости).
Ср. с мнением Хайдеггера: вот-бытие имеет "фундаментальную структуру", а именно - "бытие-в-мире"; это бытие-в-мире есть "исходно и постоянно цельная структура"; речь о вот-бытии возможна только "при постоянном имении-в-виду всегда предшествующей целости этой структуры", выступающей, таким образом, как a priori "толкования вот-бытия" [252, с. 41]. Здесь Хайдеггер, как видим, обнаруживает свою чисто анти-персоналистическую позицию, вплотную приближаясь к диалектическому эссенциализму Гегеля.
Сенека (Ep. CXIII, 5) пишет: "Всё особое должно принадлежать самому себе и быть завершённым в себе независимым целым". Здесь говорится об индивидуальном как о целом и потому как автономном, суверенном и конечном бытии.
Различие души и тела имеет значение только в присутствии духа. В противном случае (когда дух отсутствует) происходит взаимное поглощение двух оставленных духом аспектов человеческого бытия (дуализм естественным образом переходит в монизм). В отсутствие духа душа неотличима от тела (как у животного). "Душа тела в крови", - говорит Бог в Ветхом Завете, имея в виду именно животную душу (Лев 17:11); более того, телесная душа и есть кровь: "душа всякого тела есть кровь его, она душа его" (Лев 17:14). Отсюда и заповедь: "Строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа: не ешь души вместе с мясом" (Втор 12:23). По указанию Д. Щедровицкого, отождествление души с кровью относится только к "животной душе" (нефеш), имеющейся и у человека (ср.: Быт 2:7), в отличие от духа (руах), возвышающего человека над природой. См.: Щедровицкий Д. Введение в Ветхий Завет. Часть 1: Книга Бытия. М.: Теревинф, 1994. С. 44-45.
Здесь и должна быть положена грань между экстазом в чисто экзистенциалистском (атеистическом) понимании и экстазом в персоналистическом смысле. Первая из этих двух "линий трактовки трансценденции" имеет в виду автономного человека, для которого "Бог умер" и потому всякие превосходящие наличное "критерии и авторитеты" отсутствуют. Так понимаемая трансценденция представляет собой экстаз без направления, "выход в бесконечные возможности, которые могут быть какими угодно" [142, с. 84]. Вторая "линия" предполагает верующего человека в качестве субъекта трансцендирования; она реализована в персонализме и "христианском экзистенциализме" [142, с. 84] (хотя последние термины указывают на две различные философские традиции, однако, если рассматривать их содержание не эмпирически и не историко-философски, а по сути, то выяснится, что они, в принципе, обозначают одно и то же: христианский, то есть аксиологически фундированный, экзистенциализм и есть персонализм). Отказ персонализма от признания "нейтральности" трансценденции (как и отказ от "нейтральности" онтологии вообще) позволяет избежать оправдания произвола и тотального отрицания (в том числе и самоотрицания), которыми чревата атеистически-экзистенциалистская позиция [142, с. 85].
Корректность этого вывода Лефевра подтверждается православной аскетической традицией. Ср.: Антоний, митрополит Сурожский. О некоторых категориях нашего тварного бытия // Церковь и время. 1991. N 2. С. 34-35.
Христос, пришедший ис-полнить закон (Мф 5:17), то есть открыть целое (законное) в полноту свободы и любви, воскрес и победил необходимость смерти.
В личности Христа человеческая природа воспринята "в её целостности" [164, с. 196]; таким образом, личность "больше" целого природы.
"Чем больше свободы дано человеку, тем больше лежит на нём и ответственности" [144, с. 271].
Поступок, пишет М.М. Бахтин, "движется и живёт не в психическом мире" [29, с. 90].
Атеистический экзистенциализм чреват деперсонализирующей одержимостью свободой. Если трансцендирование - это "выход в бесконечные возможности, которые могут быть какими угодно" [142, с. 84], то сам человек оказывается аксиологически дезориентированным и в конце концов "совершенно потерянным" [142, с. 85], затерянным в экзистенции. Установка на "нейтральность" онтологического анализа оказывается "прямо связанной с провоцированием человека на антиморальные и антигуманные действия": "отказ от Бога" высвобождает в человеке "демонические силы". Экзистенция, понятая как аксиологически "нейтральная", заключает в себе "соблазн произвола и всеотрицания, а в конечном итоге ставит под угрозу достижения человеческой культуры" [142, с. 85]. Итак, чистая (сама по себе) свобода есть деструктивная сила.
Ср.: "Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности" (Рим 6:20). "Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности" (Рим 6:18).
Человек не просто свободен; он имеет возможность "воспользоваться своею свободою" (Карсавин Л.П. Об опасностях и преодолении отвлечённого христианства // Путь. 1927. N 6. С. 29). Мы, пишет апостол Пётр, должны действовать "как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии" (1 Пет 2:16). Итак, добро есть не сама по себе свобода, но должное её "употребление".
Библейский пример такого переживания свободы дан в книге Иова (32:1): "Именно тогда, в молчании и тьме не-знания происходит чудо возвращения свободы, не как выбора, а как знания, что всё возможно" (Московская Д.С. "Частные мыслители" 30-х годов // ВФ. 1993. N 8. С. 104).
Как считает Владимир Соловьёв, "добро не может быть прямым предметом произвольного выбора. Его собственное превосходство (при соответствующем познании и восприимчивости со стороны субъекта) есть вполне достаточное основание для предпочтения его противоположному началу, и произволу здесь нет места" [224, с.118].
Утверждение ценностей "человеческого бытия", согласно марксизму, представляет собой "способ осознания необходимости, то есть способ осуществления свободы" (см.: Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. М.: Политиздат, 1986. С. 215).
Ср. с Платоном: "Если что происходит по счастливой случайности - тем руководит не человек; если же сам человек приведёт правильно к цели, то лишь благодаря истинному мнению или знанию" (Менон 99 а), то есть знанию необходимости.
"Вопрос о свободе человека от своего прошлого непосредственно связан с покаянием, и только христианство знает свободу человека от власти прошлого" (Бердяев Н.А. Рец. на кн.: Лосский Н.О. Свобода воли // Путь. N 6. С. 104). Покаяние освобождает от власти прошлого, всегда так или иначе расположенного (как и будущее) в настоящем; то есть освобождает от власти временного. Именно христианство открывает человеку Бога настолько всемогущего, что Он способен сделать бывшее небывшим.
Здесь приходится указать на принципиальное различие значения термина "трансценденция" у Карла Ясперса и в данной диссертации. Трансценденция, по Ясперсу, представляет собой не "к-другому" (как у меня), а "другое", то есть то, что правильнее было бы назвать (с теистической точки зрения) не трансценденцией, а трансцендентным: "трансценденция - это бытие, которое никогда не станет миром, но которое как бы говорит через бытие в мире" [292, с. 426]. Ясперс пишет о некоем "объемлющем бытии": "оно есть трансценденция, т.е. бытие, которое для нас нечто совершенно другое, в которое мы не входим, но на котором мы основаны и к которому относимся" [292, с. 425] (кстати, если только "относимся", но не со-относимся, то речь идёт о деистической религиозной позиции, на которой, видимо, и стоит Ясперс). Трансценденция, указывает Ясперс, есть только тогда, когда мир не основан на самом себе (то есть не является субстанцией), а указывает за свои пределы (то есть является символом). Если мир есть "всё", то трансценденции (трансцендентного) нет. "Если трансценденция есть, то в бытии мира содержится возможное указание на неё" [292, с. 426].
Я бы сказал, что оно настолько захвачено и носимо бытием, что не отличается от него, а потому и не может от-носить себя к бытию.
Сходным образом и Ясперс утверждает, что экзистенция - "наша сущность" [292, с. 426].
Так называется одна из книг Мориса Бланшо (Blanchot M. Le pas au-delа. P., 1973) [105, с.177].
На неизбежность теистического осмысления понятия существования указывает, например, К. Ясперс. "Мы - возможная экзистенция: мы живём из истоков, которые находятся за пределами становящегося эмпирически объективным наличного бытия, за пределами сознания вообще и духа" (то есть, надо понимать, конечного духа - С.А.) [292, с. 426]. "В качестве экзистенции я существую, зная, что подарен себе трансценденцией. Я не существую посредством самого себя в моём решении, но бытие-посредством-меня есть подаренное мне в моей свободе. Я могу отсутствовать для себя, и никакая воля не подарит меня мне самому" [292, с. 428].
В связи с изложенным трудно интерпретировать указание Отто Больнова на то, что беспокойство, порождаемое переживанием пограничных ситуаций, "гонит" человека "вперёд" [42, с. 87]. Если "вперёд" означает к сверх-человеку, то куда исчезает при этом человек, сущность которого и была определена как пограничная ситуация? Если же "вперёд" не означает никакой радикальной онтологической трансформации, то, следовательно, человек оказывается целиком погружённым в имманентное (которое, конечно, можно назвать и "пограничной ситуацией" и вообще как угодно), а немецкий "экзистенциализм" - ещё одной (скрытой) формой эссенциализма.
Значимость есть указание на аксиологию как нормативную онтологию, наличное - на нейтральную (имперсональную) онтологию. О различении наличного (действительности) и значимого (ценности) на почве неокантианства см., напр.: Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М.: Республика, 1998.
По этому поводу Габриэль Марсель упрекает Хайдеггера в "экзистенциальном солипсизме", скрывающем от человека значение смерти другого [173, с. 363]. Для нас важно, однако, не столько указание на солипсизм, сколько явная тенденция философии Хайдеггера к имманентизму (а значит, эссенциализму).
У Марселя речь идёт тоже об "экзистенциальной достоверности" смерти, исходно присущей самóй структуре кtre lа (вот-бытия), то есть онтологической структуре человека, который "неизбежно обречён на смерть" [см.: 232, с. 219].
Жизнь человека, по словам Мориса Бланшо, есть "становление смерти" [цит. по: 89, с. 85]. Вообще сам процесс жизни есть изнашивание организма, и потому всякое живое существо постоянно находится в процессе саморазрушения, то есть, как будто, совершает самоубийство, более или менее растянутое во времени. "Жизнь подобна траектории полёта и с самого начала стремится к завершению: жить значит "изживать себя". Феномен смерти возникает в миг зачатия" [193, с. 229]. Смерть индивида, таким образом, всегда является прямым следствием его жизни; но к области внимания суицидологии должна быть отнесена только смерть, явившаяся следствием преднамеренного действия.
Ср.: "Философия же имела два начала: одно - от Анаксимандра, а другое от Пифагора" (Диог. I, 13).
По П. Блонскому, в ней заключается "целое миросозерцание" [40, с. 480].
Неоплатоник Симпликий в 530 г. от Р.Х. написал обширный комментарий к "Физике" Аристотеля; в этом сочинении он и поместил текст Анаксимандра, сохранив его тем самым не только "для Запада", как считает Хайдеггер [254, с. 31], но и для Востока. Это изречение заимствовано Симпликием из Φυσικων δοξαι Теофраста. Известно множество вариантов перевода этого высказывания; некоторые даны ниже. Перевод Фр. Ницше: "Откуда вещи берут своё происхождение, туда же должны они сойти по необходимости; ибо должны они платить пени и быть осуждены за свою несправедливость сообразно порядку времени" [254, с. 28]. Перевод Г. Дильса: "Из чего же вещи берут происхождение, туда и гибель их идёт по необходимости; ибо они платят друг другу взыскание и пени за своё бесчинство после установленного срока" [254, с. 29]. П. Блонский: "В те начала, из которых бывает рождение вещам, в те самые возникает и гибель для них по необходимости, ибо воздают они возмездие и искупление друг другу за неправду, по определённому порядку времени" [40, с. 480]. А.Н. Чанышев: "Из чего происходит рождение всего сущего, в то же самое всё исчезает по необходимости. Всё получает возмездие (друг от друга) за несправедливость и согласно порядку времени" [262, с. 131]. А.В. Лебедев (в отечественном издании фрагментов досократиков): "А из каких [начал] вещам рожденье, в те же самые и гибель совершается по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу правозаконное возмещение неправды [=ущерба] в назначенный срок времени" [249, с. 127]. Произведение Анаксимандра, как пишет И.Д. Рожанский, - "первое в истории греческой мысли научное сочинение, написанное прозой" [208, с. 10]; однако это далеко не та "строгая научная проза", которую мы встречаем, например, у Анаксагора [147, с. 41]; Симпликий, к тому же, сообщает, что Анаксимандр излагает своё учение "довольно поэтическими словами" (12 B 1 DK). Принимая во внимание склонность ранних греческих философов к метрическому изложению своих мыслей, я и попытался дать здесь поэтизированный перевод фразы Анаксимандра, не отступая по возможности от его буквального смысла.
Ср. мнение П. Блонского: "Анаксимандр не натурфилософ, ибо не природа, а всё было темой его размышлений; он - метафизик в полном смысле этого слова" [40, с. 488].
"Человека, - говорит В.В. Бибихин, - называли микрокосмом. Человек микрокосм, малый мир не потому, что в нём как в миниатюрной модели заложены все те детальки, из которых выстроен большой мир: человек микрокосм потому, что он в целом мире" [37, с. 60]. Человек, превосходящий целый мир, уже не микрокосм, он - личность, экстатически приобщающая себя к сверхкосмической полноте.
Вот известные параллели и "парафразы" к B 1 DK Анаксимандра, в которых повторяется и упорядочивается мысль о возникновении и уничтожении, а также высказывается необходимость и законность применения этой мысли и к человеку в его рождении и смерти [см.: 249, с. 127, 564]: "Всё, что возникает из каких-либо [элементов], в них же и разлагается при уничтожении, как если бы природа взыскивала под конец те долги, которые она ссудила в начале" (Гераклит-аллегорист, Гомеровские вопросы, 22, 10); "При разложении трупов на элементы доли [каждого элемента] снова выделяются в те стихии Вселенной, из которых они [=живые существа] образовались: каждый возвращает одолженную ему ссуду природе-заимодавцу в неравные [для различных существ] сроки, когда ей будет угодно взыскать причитающиеся ей долги" (Филон Александрийский, О потомстве Каина, 5); "...Необходимо, чтобы при смерти человеческого тела каждый [элемент] возвращался в свою собственную природу: влажное - к влажному, сухое - к сухому, горячее - к горячему и холодное - к холодному. Такова и природа животных и всех остальных вещей: все вещи одинаково возникают, все вещи одинаково умирают. Ибо их природа образуется из всех этих вышеупомянутых [элементов] и умирает, согласно сказанному, в то же самое, откуда именно каждая вещь образовалась. [Откуда пришло], туда и ушло" (Гиппократ, О природе человека, III).
Замечательная и многозначительная параллель к античной идее о связи конечности (границы) и сущности обнаруживается в экзистенциализме. Отто Больнов указывает, что понятие "граница" (die Grenze) является "решающим" как для Ясперса, так и для всей экзистенциальной философии. "Тот факт, что человеческое бытие всегда имеет определённые границы, не нов и всегда признавался. Новым является то, каким образом обладающие конститутивным характером границы встраиваются в само внутреннее существо человека. Граница здесь представляет собой не то, что каким-либо образом располагалось бы снаружи и ограничивало бы человека извне, но то, что определяет его в самой глубине его существа" [42, с. 85]. Главной "границей" человеческого бытия выступает, естественно, смерть. Как видим, в экзистенциализме другими словами выражена античная идея внутренней схваченности индивида родовой сущностью (природой). Экзистенциализм, таким образом, вполне может быть представлен как вариант эссенциальной философии.
Αναγκη означает необходимость, нужду, неволю, насилие, принуждение, рок, судьбу [52, ст. 83].
Одно из отличий античной философии от античной мифологии состоит как раз в том, что философия переносит внимание мысли с "внешнего" порядка на "внутренний", с "объективного" на "сущностное".
"Объективное бытие, - пишет Э. Мунье, - самотождественно и неподвижно, и если обладает длительностью, то только в виде бесконечного повторения" [179, с. 74].
Звери Заратустры выражают этот порядок такими словами: "Все вещи танцуют сами: всё приходит, подаёт друг другу руку, смеётся и убегает - и опять возвращается" [189, с. 158]. О смехе в связи со смертью речь пойдёт далее.
М. Хайдеггер пишет: "Когда <...> мы слушаем слова греческой речи, мы попадаем в особую область. Греческий язык есть не просто язык, подобно известным нам европейским языкам. Греческий язык, и только он один, есть λογος. В греческом языке высказываемое некоторым замечательным образом одновременно есть то, что оно называет. Когда мы слышим греческое слово по-гречески, мы следуем его λεγειν, непосредственно им излагаемому. То, что оно излагает, лежит перед нами. Благодаря по-гречески услышанному слову мы находимся непосредственно подле самой предлежащей нам вещи, а не подле одного лишь значения слова" [258, с. 116].
Согласно Клименту Александрийскому (Строматы III, 21, 1), Гераклит "называет рождение смертью" (22 В 21 DK; ср.: 22 B 26 DK). Мнение Фалеса см. далее.
Именно в цитируемой здесь статье "Изречение Анаксимандра", по мнению Т.В. Васильевой, принципы и методы хайдеггеровской герменевтики были "наиболее полно и артистически цельно сформулированы и реализованы" [51, с. 215].
Вытекание, истечение и есть "эманация" [см.: 156, с. 212].
Переход вещей от рождения к смерти, сливающий оба эти полюса пре-хождения в некое единство, фиксируется тем "гротескным реализмом" [30, с. 31], который, видимо, можно считать способом присутствия архаической ментальности в мировоззрении новоевропейского человека. Гротескный образ характеризует явление в состоянии его метаморфозы (пре-вращения, оборота), в его становлении между рождением и смертью. Поэтому такой образ всегда амбивалентен: в нём в той или иной форме даны оба полюса - начало и конец метаморфозы [30, с. 31]. В "гротескной архаике" время присутствует лишь как "одновременность", помещающая в одном горизонте обе крайние фазы развития - начало и конец. Вещи тут движутся "в биокосмическом кругу циклической смены фаз" природы и слитой с природой человеческой жизни [30, с. 32]. Всякая такая вещь (тело) постоянно находится на грани исчезновения во всеобщем. "Индивидуальность дана здесь в стадии переплавки, как уже умирающая или ещё не готовая; это тело стоит на пороге и могилы и колыбели вместе и одновременно", оно "не отделено от мира чёткими границами", оно "смешано с миром". Тело "космично, оно представляет весь материально-телесный мир во всех его элементах (стихиях). В тенденции тело представляет и воплощает в себе весь материально-телесный мир" - "как начало поглощающее и рождающее, как телесную могилу и лоно" [30, с. 34]. Противопоставление жизни и смерти "совершенно чуждо образной системе гротеска" [30, с. 58]. Смерть здесь необходимо связана с жизнью, она соотнесена с рождением, как могила - с рождающим лоном земли. Смерть включена в жизнь (точнее, индивидуальная смерть, как и индивидуальная жизнь, включена в универсальную жизнь-смерть. - С.А.); даже борьбу жизни со смертью в индивидуальном теле гротескное образное мышление понимает как борьбу упорствующей старой жизни с рождающейся новой, как "кризис смены". "Итак, - пишет М.М.Бахтин, - в системе гротескной образности (воспроизводящей пантеистическую установку в метафизике. - С.А.) смерть и обновление неотделимы друг от друга в целом жизни, и это целое менее всего способно вызвать страх" [30, с. 59]. Ту же мысль можно обнаружить в "Фаусте" Гёте, где дух природы помещает себя "в буре деяний, в житейских волнах", "в извечной смене смертей и рождений" [70, с. 21]. В этой "смене" нет противопоставления жизни и смерти, но налицо со-поставление рождения и гибели, одинаково входящих как необходимые моменты в целое вечно обновляющейся (повторяющейся) жизни. "Мир, где противопоставлены жизнь и смерть, и мир, где сопоставлены рождение и могила, - это два совершенно разных мира" [30, с. 59]. Первый мир - это мир теизма, второй - мир пантеизма (псевдо-динамического монизма).
По указанию Диогена Лаэртского, "Мусей, сын Евмолпа, <...> учил, что всё на свете рождается из Единого и разрешается в Едином" (Диог. I, 3). М.Л. Гаспаров считает, что в этом случае "по недоразумению Диоген приписывает Мусею взгляды милетских философов" [92, с. 458].
Хотя имеющиеся свидетельства об Анаксимандре и милетцах не содержат прямых данных об употреблении ими термина φυσις [207, с. 79], всё же многие исследователи склоняются к мнению о том, что этот термин, "вероятно, употреблялся уже милетцами" (о чём косвенно может свидетельствовать именование ионийских философов фисиологами) [148, с. 43-44]. Как бы то ни было, смысл фразы Анаксимандра побуждает обратиться к этому термину.
У Канта понятия природы и сущности формально не являются тождественными: сущность есть "первый внутренний принцип того, что относится к возможности вещи", а природа - это "первый внутренний принцип всего, что относится к существованию той или иной вещи"; так, например, геометрическим фигурам, поскольку в их понятии не мыслится ничего, что выражало бы какое-либо "существование" (наличие), можно "приписывать" лишь сущность (возможность), но не природу [121, с. 55]. Иначе говоря, в онтологическом горизонте "сущность" есть указание на всякое возможное "что", а "природа" - указание на "как" (наличие, осуществление) этого "что". Слияние сущности с природой в античном мировоззрении есть признак поглощённости отдельного всеобщим, торжество наличного бытия над возможностью. Кстати, у самого Канта (Пролегомены, 40) можно найти основание для такого слияния природы и сущности (наличия и возможности); этим основанием является идея - "необходимое понятие" разума, лежащее в его природе (как в природе рассудка лежит категория). Ноуменальное и эмпирическое, будучи пропущено сквозь разум, принимает эйдетическую форму. "Рациональное учение о природе заслуживает названия науки о природе лишь тогда, когда законы природы, лежащие в её основе, познаются a priori" [121, с. 57]. Природа в целом есть "совокупность всего того, что определённо существует согласно законам" [123, с. 67]; в эту совокупность включается и "чувственно воспринимаемый" (материальный) мир [121, с. 55]. Само слово "природа" уже "предполагает" понятие о законах, а это понятие о законах предполагает понятие о "необходимости всех определений вещи" [121, с. 57]. Эта выведенная разумом аподиктическая (принудительная) достоверность сущего-по-природе захватывает и человека, подчиняя себе оба измерения наличного мира; поэтому наука (разумное познание в идеях) о природе самой по себе (то, что Кант именует собственно "физикой", в отличие от "метафизики" как исследования наличного мира в совокупности с его "высшей причиной" [123, с. 67]) представляет собой и "учение о телах", и "учение о душе" [121, с. 55].
Греческое φυσις производно от глагола φυω, φυομαι - "производить на свет", "взращивать", "порождать", "создавать", "рождаться", "возникать", "расти" [207, с. 79] и этимологически связано также со словами φυη ("рост"), φυσιζοος ("животворный"), φυστις ("род"), φυταλμιος ("врождённый"), φυτεια ("насаждение", а также "рождение") и др. Преподобный Иоанн Дамаскин производит φυσις от πεφυκεναι - "родиться" [110, с. 78]. Корень греческого слова (φυ) восходит к общеиндоевропейскому bhu [24, с. 113] или bheu [207, с. 79] со значением "прорастать", "возникать", "развёртываться" и, наконец, "быть" [207, с. 79; 24, с. 113]. Природа, таким образом, фиксируется в данном слове как произрастание-бытие; остаток этого двойного смысла слышится в русском "быльё" [207, с. 79].
Согласно дефиниции святого Григория Богослова ("Определения, слегка начертанные"), "то, что каждую вещь делает такою или инаковою, есть природа" [75, 2, с. 308].
"Закон" по отношению к человеку может в данном случае пониматься не только как порядок его телесного бытия, но и как культурное установление, "обычай", который "врождается в природу" (εν φυσει εγενετο) и тем самым становится буквально законом человеческой природы [24, с. 116]. Стремясь к синтезу понятий "νομος" и "φυσις", греки таким образом стремились диалектически снять противоречие между "несовершенством человеческой жизни и совершенством космоса" [103, с. 129], то есть приходили к открытию неизбежности поглощения незаконного отдельного законным тотальным (природой).
А.В. Ахутин, указывая на определение природы через цель, говорит об "энтелехиальном" понимании природы Аристотелем [24, с. 134-135]. Для нас такая энтелехиальность является прямым указанием на тотальность понимания φυσις.
Преподобный Иоанн Дамаскин в своей "Диалектике", составленной в основном по Аристотелю (Флоровский Г.В. Византийские отцы V-VIII веков. М.: Паломник, 1992. С. 229), пишет, что природа "есть начало движения и покоя каждой вещи", то, что свойственно вещи "по существу", а не случайно [110, с. 77]. "Природа есть не что иное, как субстанция; ибо от субстанции вещь имеет такую способность, то есть способность движения и покоя, и субстанция есть причина определённого движения и покоя" [110, с. 78]. Субстанцией (ουσια) именуется "бытие вообще", а природой (φυσις) - "субстанция, определённая её существенными разностями и соединившая с бытием вообще качественную определённость бытия" (смертность, разумность и т.п.) [110, с. 71], то есть как-бытие.
Понятие το χρεων, переведённое у Хайдеггера словом Brauch, всё ещё требует дополнительного перевода на русский. Согласно Т.В. Васильевой, Хайдеггер имеет в виду "употребление" или "вручение" (в противоположность "необходимости", "принуждению" или даже "распоряжению") [254, с. 62-64]. Το χρεων есть "вручение присутствия, вручение, вручающее присутствие присутствующему" [254, с. 63]. Представляется, что смысл анаксимандровского высказывания тут (не вполне ясно, у Хайдеггера или у переводчика) передан с точностью до наоборот: речь идёт именно о вручении присутствию присутствующего, растворяющегося в этом своём "как" (вручении, употреблении). Жак Деррида (в переводе Елены Гурко) указывает на более очевидный смысл упомянутого Brauch - "привычка", "обычай" [80, с. 154], то есть на возвращение, воспроизводство. Привычка (обычай) "высвобождает присутствие в его проявлении" [80, с. 155] и даже, можно сказать, за счёт его проявления (вещи). Указание на "обычай" заставляет "рассматривать настоящее как подвергаемое постоянной опасности затвердевания" (стабилизации), которая возникает из непрерывности его эманации. "Таким образом, привычка остаётся сама собой и в то же время является отказом от присутствия в разомкнутости (in den Un-fug). Привычка объединяет вместе (смыкает. - С.А.) разнообразные не- (Der Brauch fugt das Un-)" [80, с. 155]. Подразумевается, как видим, поглощение отдельных сущих замкнутым на себя порядком (обычаем), распоряжающимся всем этим отдельным. У Т.В. Васильевой это место переведено следующим образом: "Употребление, учиняя чин и угоду, выпускает когда-либо присутствующее в про-медление и предоставляет его промедлению. При этом также уже допускается постоянная опасность, что оно закоснеет из медлительного настаивания в голое упорство. Так употребление остаётся в себе равно и вручением присутствия в бесчинство. Употребление чинит это "бес-"" [254, с. 65]. Но, в принципе, оба перевода хайдеггеровского перевода греческого το χρεων указывают на связанные и взаимно обусловленные признаки наличного бытия: пассивность и повторение.
Ср. высказывание из 40-го чжана "Дао дэ цзина": "Возвращение к самому себе - вот принцип движения Дао-Пути. Ослабление (самости, отдельности. - С.А.) - вот в чём использование Дао-Пути" [239, с. 257].
У Цицерона (О природе богов I, 25) приводится мнение Анаксимандра о том, "что боги рождаются, появляясь через долгие промежутки времени, и также умирают, и они суть бесчисленные миры".
На такой смысл указывает и схолия к этому месту "Законов": "Под богом, ясно, он имеет в виду демиурга, под древним же сказанием - орфическое сказание, которое гласит:
Зевс - начало, Зевс - середина, от Зевса явилось
Всё. Зевс - для земли и звёздного неба основа.
Именно началом является Зевс в качестве творческой причины, концом - в качестве конечной, серединой же - в качестве того, кто присущ всему в равной мере, хотя всё участвует в нём по-разному" [157, с. 710]. В этом описании узнаются все признаки "природы".
См.: Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада. М.: Алетейя, 1998. С. 55, 62-63.
"Φυσις подразумевает небо и землю, растения и животных, а также известным образом и человека", - пишет М.Хайдеггер [254, с. 30].
"Сущее от φυσις есть само по себе и само от себя и само при себе, распорядительный исход подвижности подвижного, который есть сам от себя, и никогда не "при чём-то"", - считает Хайдеггер [255, с. 70].
А.В. Ахутин пишет: ""Фюсис" как начало - не внешняя причина, не источник, вообще не нечто, остающееся вне сущего, началом которого оно служит. "Фюсис" присутствует в сущем, которому она присуща и существо которого она образует" [24, с. 140]. Φυσις "как начало становления нельзя считать просто источником или некоей частью становящегося, движущей или порождающей становящееся как нечто "иное"" [24, с. 142].
"Недвижимость" тут может пониматься и как невозможность выхода из себя, и как недвижимое имущество (если учесть второй смысл греческого ουσια - "имущество", "состояние").
У Гегеля различены "вульгарная действительность непосредственно наличного" и "идея как действительность", то есть аристотелевская ενεργεια "как внутреннее, которое всецело проявляется вовне" [67, с. 314]. Эйдетическое, таким образом, представляет собой ноуменально наличное, целиком выражающее себя в "вульгарной действительности" эмпирического.
Правда (Δικη) - одно из воплощений судьбы [237, с. 384-385].
Гераклит говорит, что само Солнце никогда не преступит положенных мер, а не то его разыщут Эринии, служительницы Δικη (22 B 94 DK).
В одном сократическом диалоге платоновской школы (Аксиох 372 а) упоминаются некие Пэны (греч. ποινη - "возмездие", "кара"; ср. с русским "пеня"), персонифицированные образы возмездия, терзающие огнём души злодеев в нижних частях Аида [см.: 202, с. 610, 788].
Ср. с понятием дэ в даосизме. Чтобы отсылки к даосизму не выглядели совсем уж беспочвенными, приведу здесь фрагмент "Дао дэ цзина" (16-й чжан), содержание которого почти точно соответствует сказанному Анаксимандром:
"Достигнув предела пустоты, блюдя покой и умиротворение, взирая на взаимо-порождение (ср. αλληλοις) сущего, я буду созерцать лишь постоянное (ср. κατα την του χρονου ταξιν) его возвращение (ср. εξ ων ... εις ταυτα).
Всё сущее в движении, то возникая, то снова уходя (ср. γενεσις ... γινεσθαι την φθοραν). Но каждое из множества существ (ср. ουσι) стремится неизменно к корню своему (ср. εις ταυτα), а возвращение к корню я назову покоем.
Покой я назову возвратом к жизненности изначальной судьбы (ср. κατα το χρεων).
Возврат к жизненности назову я постоянством (ср. Δικη, чин как противостоящее бесчинию, αδικια).
Знание постоянства назову я просветлённой мудростью" [239, с. 237].
"Как показали новейшие исследования, - пишет И.Д. Рожанский, - космогоническая концепция Анаксимандра включила в себя ряд элементов, взятых из космологических построений народов Востока. К числу таких заимствований относятся: <...> циклический характер процесса мироздания и даже, может быть, само понятие вечного и беспредельного начала" [208, с. 12]. А.В. Лебедев сближает онтологическую позицию Анаксимандра с метафизикой Атхарваведы, Майтри-упанишады, Вишну-пураны и особенно с иранским зурванизмом [148, с. 52, 54, 58]. Свящ. П. Флоренский указывает, что мысль Анаксимандра о необходимом возвращении отдельного во всеобщее, "весьма вероятно", имеет восточное происхождение, "хотя она могла бы быть и вполне автохтонной, ибо снятие личной отграниченности и хмелевой восторг слияния со всем бытием, производимый мистериями, сам по себе достаточен, чтобы дать родиться мысли о греховности индивидуального существования и о блаженстве, а потому и первобытной святости, бытия вне себя" [248, с. 654]. Господство в онтологии монистической (пантеистической) установки с её идеями континуальности [ср.: 148, с. 58], эманации, цикличности, имманентности сближает Восток и Запад в их главных экзистенциально-аксиологических интуициях.
Согласно Плотину, индивидуальная свобода "заложена уже в недрах самой Адрастии, то есть в последних глубинах роковой необходимости" [Лосев, ИАЭ, Поздний эллинизм, с. 894]. Свобода, таким образом, "определена естественной необходимостью" и эту-то необходимость собой и выражает. Поэтому неоплатонизм (как античная философская программа) требует "совместить" и даже "отождествить" изначальную универсальную хаотически-космическую гармонию "с дерзостным самоутверждением всякой индивидуальности, входящей в эту гармонию". При этом, "поскольку всякая индивидуальная свобода уже предусмотрена в глубинах роковой необходимости, постольку это свободное дерзание, как предопределённое, есть вместе с тем и исполнение своего космического долга, являясь не только терпением или претерпеванием предустановленной гармонии, но и полным смирением перед ней, полной в отношении неё покорностью" [Лосев, ИАЭ, Поздний эллинизм, с. 895]. Человек свободен в своих действиях, но эта его свобода "предписана ему самой судьбой"; человек "с ног до головы связан необходимостью", и эта необходимость есть всегда единственный "результат" его собственной (какой угодно) дерзости [Лосев, ИАЭ, Поздний эллинизм, с. 895].
"Человек и космос, происшедшие из бездны единого, ответственны сами за себя и только на самих себя могут надеяться" [152, с. 304].
"Суета, - пишет Питер Крифт, - это смерть, с точки зрения вечности - ад. Мистики и люди, пережившие клиническую смерть, если они заглянули "туда", говорят не о пламени, не о чертях с вилами, а о темноте и пустоте, безнадёжности и бесцельности. Это намного страшнее сковородок" (Крифт П. Три толкования жизни: суета, боль, любовь // Мир Библии. 1995. N 1. С. 6).
Героический характер, пишет Е. Мелетинский, это "характер не только смелый и решительный, но гордый, неистовый, строптивый, склонный к переоценке своих сил" (Мелетинский Е.М. Аналитическая психология и проблема происхождения архетипических сюжетов // Вопросы философии. 1991. N 10. С. 45). "Герой по наружности - пронзительно и капризно кричит, надрывается, бессильно стонет и рыдает... Таков и есть античный героизм, все эти блестящие и жалкие Ахиллы, Гекторы и Приамы", - пишет А.Ф. Лосев [159, с.291]. Действительно, как часто античные "герои", эти здоровые мужики, по малейшему поводу плачут как бабы! Например, Одиссей, получив приказание Цирцеи сойти в Аид, полностью теряет контроль над собой:
Горько заплакал я, сидя на ложе; мне стала противна
Жизнь, и на солнечный свет поглядеть не хотел я, и долго
Рвался, и долго, простершись на ложе, рыдал безутешно
(Одиссея X, 497-499).
Платоновская "идея" ("эйдос") есть не что иное, как "вид", "видимое" [236, с. 362].
Ср. связь "космоса" и "лада" в ряду "мир = космос = строй = гармония = лад = согласие = мир".
Такая эстетика вполне тождественна эйдетической натурфилософии.
"Учение о происхождении мира вследствие эманации Абсолютного, религиозный монизм, - пишет С.Н. Булгаков, - жертвует множественным или относительным в пользу Абсолютного, требует самоубийства относительного" [49, с. 157].
"Ничто, небытие, бездна, хаос окружают космос, оказывают на него страшное давление <...>, которое во внешнем космизированном мире воспринимается как fatum, перед которым бессильны даже боги" [99, с. 242].
Принцип "творческого Хаоса" в ионийской космогонии "так или иначе господствует над принципом космической Гармонии" [220, с. 76]; во всяком случае эти принципы неразделимы. "Я говорю вам: нужно носить в себе ещё хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду. Я говорю вам: в вас есть ещё хаос" [189, с. 11].
По мнению О.Н. Кессиди, "общепризнанным является тот факт, что орфическая идея греховности рождения не оказала на Анаксимандра сколько-нибудь заметного влияния" [128, с. 60]; в настоящее время, пишет тот же автор, "прежняя религиозно-метафизическая концепция в основном оставлена, хотя и не полностью" [128, с. 61]. Можно думать, что как раз указанная неполнота отказа от религиозно-метафизической интерпретации содержания фразы Анаксимандра не позволяет считать "общепризнанным" этот отказ.
Ср. с порядком развёртывания (рождения) мира вещей из Дао в 42-ом чжане "Дао дэ цзина": "Дао (природа как универсальный принцип. - С.А.) рождает Одно (бытие как объективное единство. - С.А.). Одно Двоих (начала ян и инь. - С.А.) рождает. Двое рождают Трёх (гармонию ян и инь. - С.А.), Трое рождают всё сущее (все вещи. - С.А.). <...> Поэтому таков существованья принцип: вещь, умаляясь, возрастает (теряя особенность, "приближается" к Дао. - С.А.), а возрастая - умаляется (обособляясь, теряет связь с Дао и как таковая гибнет. - С.А.)" [239, с. 258]. Такая схема последовательного разворачивания множественно сущего из единого принципа, к которому это сущее даже в своём разворачивании неизменно сущностно принадлежит, представляется общей монистической парадигмой и для Востока, и для Запада. "Уже сейчас можно видеть по изучению, например, философской мысли Китая, что даосизм представляет, быть может, одну из наиболее глубоких в древности попыток монистического объяснения бытия, его единства: если даосские построения представить как конструкцию, как направленность мысли (т.е. без обычного для древности, и не только в Китае, этико-психологического обоснования), то они оказываются наиболее созвучными современному монистическому видению проблематики бытия" (Шаймухамбетова Г.Б. Философия и религия в историко-культурном развитии Востока // Философия и религия на зарубежном Востоке. ХХ век. М., 1985. С. 20). Определённую близость к этим идеям можно заметить, например, у Хайдеггера: субстанциально понимаемый Бог [256, с. 57] есть "лад", из которого - "сущность различия", из которой, в свою очередь, - само различие взаимно обоснованных (согласованных) "сущего и бытия", из какого различия и "выходит на свет, прояснившись, нечто повсеместное" [256, с. 53-57]. Здесь воспроизведена та же схема, что и в цитированном чжане "Дао дэ цзина".
Роберт Айслер ещё в 1910 году отождествил универсальное αρχη, на которое указывает фраза Анаксимандра, с "божеством времени в теокосмогониях Ферекида и орфиков"; речь, следовательно, идёт о "Χρονος απειρος" [147, с. 40], вытесненном позже перипатетическим "το απειρον" [148, с. 48]. Ср. с мифическим образом кругового хода времени: Хронос, пожирающий своих детей.
Это греческое слово чрезвычайно точно указывает на суть дела: τρόπος есть "оборот", "поворот", а также "способ (образ) действия"; кроме того, "характер", "нрав", "обычай"; "лад"; "способ сказывания в речи" [52, ст. 1259]. Нрав (характер) вещи есть её логически данный образ действия как прилаженный к всегда обычному оборот.
Если Орфей называл двумя началами вселенной эфир и хаос, то Пифагор в своём "Священном слове" - "единицу" и "двоицу"; при этом "двоицу" Пифагор называл также и "хаосом" [Лосев, ИАЭ, Поздний эллинизм, с. 21].
Согласно Псевдо-Климентинам, Хаос "произошёл в качестве порождённого" [157, с. 716]
Сократ в "Филебе", задавая взаимную координацию беспредельного, предела и природного (универсального) начала, говорит, что "во Вселенной <...> есть и огромное беспредельное, и достаточный предел, а наряду с ними - некая немаловажная причина, устанавливающая и устрояющая в порядке годы, времена года и месяцы (указание Платона на связь понятий "αρχη" и "Χρονος". - С.А.). Эту причину было бы всего правильнее назвать мудростью и умом" (Филеб 30 с).
"Закон Хроноса", сохраняющий своё вечное значение для всех богов (то есть, по сути, закон судьбы), упоминается Платоном (Горгий 523 а).
По мнению свящ. Павла Флоренского, мысль Анаксимандра "есть отражение конкретной мистической психологии и даже, определённее, орфических представлений о душе, возникающих на почве мистерий" [248, с. 655]
Кстати, согласно Диогену Лаэртскому, именно учитель Анаксимандра Фалес "первым сказал, что души бессмертны" (Диог. I, 24), введя тем самым в область философии орфическую идею реинкарнации.
Об орфических корнях учения Платона о теле как тюрьме или могиле души см.: 266, с. 136.
Филон Александрийский (Аллегории законов I, 108) так толкует высказывание Гераклита о взаимном обмене жизни и смерти (22 B 62 DK): "Сейчас, когда мы живём, душа умерла и похоронена в теле (σωμα), словно в могиле (σημα), а когда умрём, то душа живёт своей собственной жизнью, избавившись от злого и мёртвого тела, к которому была привязана" (fr. 47 d 1 Marcovich).
Могила (курган) и есть условный знак (веха) на местности; см. толкование "σημα" у Вейсмана [52, ст. 1128].
Самоубийственный смысл такого негативного отношения к телу высказал Джон Локк в своей шутливой "Предсмертной речи цензора": "Нужно когда-то разрушить эту природу, сбросить сей хрупкий и грязный покров души; счастье, это великое божество, не может обретаться в столь мерзком и тесном жилище. Всё, что для нас тягостно, проистекает из тела, и только тому, кто покинул землю, не страшны бури; если ты ищешь исхода несчастий, необходимо самому прекратить своё существование" [151, с. 58].
Этимология греческого "σωμα" указывает ещё и на целостность того, что обозначено этим словом [236, с. 365]; поэтому σωμα - это "физическая целостность" [236, с. 368].
"Термин σωμα, - пишет А.А. Тахо-Годи, - в специфическом значении "личность" употребляется крайне избирательно и редко, указывая на целостность, единство, нетронутость и предельную телесную обобщённость человека, от которой неотделима вся его интеллектуальная и духовная деятельность, тоже в достаточной мере представляемая древним греком в виде физически данной субстанции (то есть, как видим, в значении прямо противоположном тому, которое связано с понятием "личность" в персоналистическом мировоззрении. - С.А.). В термине σωμα, несмотря на огромную развитость античного человека и сложность его общественных и частных функций, выражается основная тенденция, <...> проявившаяся в античной Греции - материально-предметное понимание не только богов, космоса и природы, но также всей совокупности технической, интеллектуальной, эмоциональной и моральной жизни человеческой личности" [236, с. 378]. Итак, термин "тело", заменявший в греческой мысли понятие личности, во всей совокупности своих значений сообщает о человеке только одно: индивид есть частный случай себе тождественной природы.
По словам Ницше, "только смерть и гробовая тишина есть общее для всех и единственно достоверное" в судьбе всякого человека [186, с. 625].
Например, Алкмеон, один из учеников Пифагора (Диог. VIII, 83), утверждал, что душа "бессмертна, потому что подобна бессмертным существам"; "ведь и все божественные существа - Солнце, Луна, звёзды и всё Небо - также вечно и непрерывно движутся" (Аристотель, О душе А 2, 405 а 29); душа, как самодвижущаяся природа (φυσις), божественна и бессмертна (24 Α 12 DK).
Эту метафизическую позицию отчётливо выразил Ницше: "Индивид есть частица фатума во всех отношениях, лишний закон, лишняя необходимость для всего, что близится и что будет. Говорить ему: "изменись" - значит требовать, чтобы всё изменилось, даже вспять" [188, с. 576]. Настаивать на ценности отдельного - значит становиться на пути необходимо и необратимо действующего универсального закона ("фатума"). Только Бог (который для Ницше "умер", а для античного грека просто отсутствует) способен сделать бывшее небывшим, изменить всё "вспять" и тем самым преодолеть тиранию закона.
Представление о смерти как о естественном и необходимом процессе деструкции жизни возрождается в европейской культуре Нового времени, отступающей от христианского мировоззрения к языческому (пантеистическому). М. де Гомбервиль в "Учении о нравах" (1646) пишет: "Нам надо вернуть Природе то, что она нам предоставила. Надо вернуться туда, откуда мы пришли" [23, с. 296]; более века спустя ту же мысль повторяет Жан Мелье в своём "Завещании": "Мы все вернёмся в то состояние, в котором были перед тем, как быть" [23, с. 296]. Природа господствует над жизнью индивида, с необходимостью разрушая её в ничто. Природа, таким образом, предстаёт в отношении частного сущего как гибельное насилие. Поэтому, считает маркиз де Сад, слияние с природой (с собственным естеством) означает для человека погружение в "физическое насилие", в стихию разрушения и смерти [23, с. 328]. Творчество де Сада, считает Морис Бланшо, представляет собой "акт разрушения, посредством которого Бог и мир были низведены в ничто" [см.: 105, с. 173]. Эта ничтожащая всё сущее природа жаждет насилия и гибели всего рождённого ею, дабы породить новое; она разрушает, чтобы творить. У человека есть много способов участвовать в этом всеобщем разрушении, и чем чудовищнее совершённое преступление, тем ближе к природе преступник. Убийца есть орудие прямо действующих в его преступлении законов природы. Разрушительное насилие, свойственное природе, обеспечивает её континуитет, исключающий смерть как нечто непоправимо-значимое. Поэтому маркиз и называет смерть "воображаемой" в сравнении с вечной реальностью природы, которая в смертях отдельных сущих "только меняет форму" [23, с. 329]. Де Сад фактически выполняет завещание Руссо "следовать природе", подтверждая ту идею, что природа - это "слепое и вязкое человеческое "подполье"" и что наслаждения, извлекаемые из этого подполья, "неотличимы от страдания"; поэтому страдание (причинённое или испытанное) может быть наслаждением (Николаева О. Современная культура и Православие. М., 1999. С. 139). Такое положение дел "является не личной перверсией де Сада, но логическим следствием руссоизма" (Там же. С. 138).
А.Л. Доброхотов отмечает, что "есть для греческой мысли один рубеж, который она не может переступить. Это представление о том, что всё на свете включается в природу, как бы они эту природу ни толковали: как идеальную (то есть эйдетическую. - С.А.), как вещественную, как божественную. У греков было представление об универсуме, который живёт в каком-то самопорождающем ритме, - это и есть природа" [93, с. 317].
Вячеслав Иванов считает, что Анаксимандр, как человек, не имеющий связи с Источником бытия, смутно чувствует "некую вину обособленного возникновения", выражая это чувство в своей дошедшей до нас фразе [107, с. 314]. Свящ. Павел Флоренский утверждает: "Мысль о "несправедливости" индивидуального существования и о смерти как о процессе возвращения в первичное общее бытие <...> высказывалась многими греческими философами или, точнее сказать, почти всеми ими подразумевалась. По-видимому, она была основною в том сложном идейном целом, которое отражало и возбуждало переживания мистерий". Эту мысль наиболее определённо выражает именно Анаксимандр [248, с. 654]: "Неправда есть обособление, взаимное противоположение, отделение; правда торжествует в уничтожении всего обособившегося, отдельные вещи возвращаются к своим элементам. Но эти последние поглощаются беспредельным, в недрах которого рождаются и уничтожаются бесчисленные миры" [248, с. 655]. Неправда обособления в греческом мировоззрении преодолевается нигилистически, путём полной и окончательной деперсонализации; личностная же парадигма указывает на преодоление отчуждения путём сублимации в любви-самоотдаче: в другом лице, "чрез уничижение своё, образ бытия моего находит своё "искупление" из-под власти греховного само-утверждения, освобождается от греха обособленного существования, о котором гласили греческие мыслители" [248, с. 92]. Такая позитивная программа содержится в христианском персонализме.
Камю справедливо утверждает, что древние греки, веря в судьбу, "прежде всего верили в природу", которой подчинялась вся их жизнь. "Бунтовать против природы - значит бунтовать против самих себя. Это всё равно что пробивать головой каменную стену" [113, с. 138-139]. Отсюда Камю делает вывод, что единственно возможной и "осмысленной" формой бунта против судьбы в таких условиях было самоубийство. Однако этот вывод Камю совершенно ложен. Ибо в античном мировоззрении природе подчинена и смерть.
Порядок φυσις, открываемый и выражаемый античной философией, можно охарактеризовать в терминологии постмодерна как "метанарратив" (Ж.-Ф. Лиотар): это такой нарратив ("дискурс легитимации"), который присваивает себе особый статус по отношению ко всем остальным дискурсам и стремится утвердить себя не только в качестве истинного, но и в качестве справедливого [см.: 222, с. 57].
Вина и ответственность человека во всех его поступках всегда лишь условны, если признано господство судьбы. Так, Одиссей, вспоминая "раннюю смерть" самоубийцы Аякса, говорит пребывающей в Аиде его душе:
В ней (то есть в смерти. - С.А.) никто не виновен,
Кроме Зевеса, постигшего рать копьеносных данаев
Страшной бедою; тебя он судьбине безвременно предал
(Одиссея XI, 556-560).
Эдип в трагедии Софокла "Эдип в Колоне" говорит своему обвинителю Креонту:
Убийством, браком ты меня коришь -
Двойным несчастьем, посланным богами
На юную, безвинную главу!
Да, боги так судили; почему?
Того не знаю; <...> .
Но где ж ты разыскал во мне вину,
Что и меня, и род мой погубила?
Ответствуй мне: когда отцу вещанье
Лихую смерть от сына предрекло -
Заслуживаю я ли в том упрёка?
<...>
И ты меня коришь невольным делом!
(Эдип в Колоне 962-978).
Итак, Эдип, совершивший страшные преступления отцеубийства и кровосмешения, действовал не по своей воле, а по "воле" судьбы, а следовательно, он за них и не отвечает. Более того, сами эти поступки, выражающие господство рока, уже тем самым "законны" и "уместны"; однако столь же законны и все те наказания, которые падают на голову невинного Эдипа [156, с. 344]: зло, пристроенное в мире гармонии, диалектически требует возмездия в качестве противовеса, однако сам злодей в этом механизме перманентной гармоничности - лишь пассивное "средство", в лучшем случае - "актёр". А.Ф. Лосев пишет: "Если всё определялось веществом, то есть природой, а это значит - судьбой, то античный человек только играл роль личности, а сам по своей субстанции вовсе не был личностью. Таков именно актёр на сцене. <...> Космическую и человечески-жизненную пьесу ставит судьба, а человек является только актёром на сцене космической судьбы" [156, с. 346].
"Природа", лишённая измерений свободы и ответственности, "неизбежно становится вненравственной" [244, с. 76].
Пример такого античного понимания действия как пассивности являет нам Хайдеггер. В "Письме о гуманизме" он без всяких шуток утверждает: существо деятельности заключается в "осуществлении"; осуществление же значит разворачивание (выведение, "про-из-ведение") некоторого "что". "Поэтому осуществимо, собственно, только то, что уже есть. Но что прежде всего "есть", так это бытие" [253, с. 192]. Здесь с очевидностью проступает знакомая нам идея греков о поглощающем подчинении оборота всех сущих "что" тому "как" (бытию-природе), которое и представляет собой непреходящую сущность этого оборота. В горизонте господства данного общего над всяким возможным частным любая "активность" оказывается тавтологичной, пассивной и бесплодной, то есть не совершается как поступок (ср. с пристрастием самого Хайдеггера к тавтологии). Ключевая фраза Хайдеггера на этот счёт такова: "Всякое воздействие покоится в бытии, но направлено на сущее" [253, с. 192]. Чтобы стало яснее, перескажем эту фразу таким образом: всякое действие, будучи направлено на сущее, в бытии оказывается покоем, то есть бездействием.
Такой статус человека должен быть определён как "пассивное вживание, одержание, потеря себя"; всё это не имеет ничего общего "с ответственным актом-поступком", в том числе и с актом "самоотречения" [29, с. 93].
"Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!" [96, 24, с. 17]. Самоубийца в пантеизме (как в системе, утверждающей абсолютное господство внеличностных природных детерминант) всегда "без вины виноват и, так сказать, по законам природы" [96, 5, с. 103].
"Ища, что есть Бог, вы не знаете, что в вас, и, уставясь в небо, падаете в яму" (Татиан. Слово к эллинам, 26).
У Монтеня Природа говорит: "Я внушила Фалесу, первому из ваших мудрецов, ту мысль, что жить и умирать это одно и то же. И когда кто-то спросил его, почему же, в таком случае, он всё-таки не умирает, он весьма мудро ответил: "Именно потому, что это одно и то же"" [177, 1, с. 102].
"Путь Геракла на Олимп ведёт через самосожжение" [13, с. 69].
Чтобы прочесть "мифологему", скрытую в "жизнетворчестве" того или иного философа, нужно прежде всего "всмотреться в суть и способ его философствования" (Хоружий С.С. Философский символизм Флоренского и его жизненные истоки // Историко-философский ежегодник. 1988. М., 1988. С. 182).
"Уже в древности диапазон его репутаций колебался от шарлатана до святого" [219, с. 25].
Аристотель, например, относит Эмпедокла к тем, "кто рассуждал о природе" (οι δε περι φυσεως) (Метафизика III 4, 1001 a 10). В "Поэтике" (1447 b 20) Аристотель прямо называет Эмпедокла "природоведом".
Ямвлих ("О пифагорейской жизни", 267) причисляет Эмпедокла к числу пифагорейцев, называя его современником и учеником самого Пифагора (104) [249, с. 464-465]; некоторые считают его учеником Телавга, сына Пифагора (31 A 2 DK; 31 A 8 DK). Ямвлих и Порфирий утверждают, что тавматургическую технологию Эмпедокл заимствовал также у Пифагора (31 A 13 DK). Флавий Филострат (Жизнь Аполлония Тианского I, 1) указывает на единство источника высшего знания у пифагорейцев и Эмпедокла: к Пифагору "явился сам Аполлон, свидетельством подтвердив неложность своего явления"; поэтому-то всё, сообщённое Пифагору, "его последователи полагали законом, его самого чтили как посланца от Зевса". "Говорят также, что и Эмпедокл Акрагантский именно этим путём достиг мудрости <...>. Да и рассказ о том, как он в Олимпии сотворил быка из теста и принёс его в жертву, свидетельствует о его приверженности к учению Пифагора" [247, с. 5]. Эмпедокл был допущен пифагорейцами на их занятия в качестве "пифагорика", то есть не-члена Союза, "но не оправдал их доверия, придав огласке то, что услышал. После этого пифагорейцы приняли закон, запрещающий участвовать в их занятиях эпическим поэтам", следовательно, и Эмпедоклу [262, с. 166]. Тем не менее сам Эмпедокл, по свидетельству Порфирия (Жизнь Пифагора, 30), посвятил похвальные стихи Пифагору, отмечая "величайшее богатство ума" и "чрезвычайные познания" своего учителя (31 B 129 DK).
Учение Эмпедокла "испытало несомненное влияние орфизма" (Жмудь Л.Я. Орфический папирус из Дервени // Вестник древней истории. 1983. N 2. С. 131). По словам Г. Гомперца, мы встречаем у Эмпедокла то же "орфическое жизнепонимание", что и у Платона, Плотина и неопифагорейцев; это жизнепонимание включает в себя "альтруизм", "страх перед законом", "сознание вины", "жажду очищения", "аскетическое воздержание" и, наконец, "искупление, достигаемое при помощи жреца прорицателя и певца гимнов, являющегося уже наполовину божественным теургом" [72, с. 47].
Вообще при исследовании античной философии, отмечает Л.Ю. Лукомский, "неизбежно сталкиваешься с тем, что можно назвать демонологической картиной бытия. Последнее не имеет единства, ему присущи пестрота и многообразие. За каждой сущностью и сущим стоят как бы иные сущность и сущее. Проблема субстанции тем самым обретает свой особый смысл и формулируется как проблема иерархии, восходящего к небытию священноначалия. Такая демонология ярче всего проявляется в мироздании, в космосе, где признаётся наличие иерархии управления, восходящей к сверчувственному ноуменальному миру и оттуда - к трансцендентному миру Единого" (Лукомский Л.Ю. Апофасис и язычество // Вестник СПбГУ. Серия 6. 1994. Вып. 3. С. 16).
Э. Целлер утверждал, что "религиозно-этическая доктрина Эмпедокла не находится ни в какой видимой связи с его учением о природе, душеочистительный кодекс веры присоединяется к рациональной аналитике природы лишь внешним образом" [цит. по: 219, с. 23]. Чарлз Кан так сформулировал эту "загадку" Эмпедокла: "Эмпедокл-натурфилософ и Эмпедокл, проповедующий доктрину палингенезиса, взятые порознь, вполне понятны; взятые же вместе, они, по всей видимости, представляют собой безнадёжно расколотую личность, чьи две половины не объединены никакой внутренней связью" [цит. по: 219, с. 23]. Поэма "О природе", с точки зрения Г. Дильса, выполнена в духе ионийского натурализма и потому является "последовательно материалистической и атеистической"; напротив, эсхатологическая рапсодия "Очищения" повествует о грехопадении душ, о муках посюстороннего существования и о средствах религиозно-этического очищения (катарсиса) от вещественной стихии мира [219, с. 24]. Георг Властос заявляет, что две картины мира, нарисованные Эмпедоклом (натурфилософия и эсхатология), "гетерогенны, безусловно противопоказаны друг другу и потому не допускают не только рационально доказательной, но даже воображаемой гармонии" [цит. по: 219, с. 25]. По мнению Эрвина Роде, искать у Эмпедокла монистическую теорию заведомо безнадёжное занятие, поскольку его учение построено на принципиально дуалистической основе; Эмпедокл-мистик и Эмпедокл-фисиолог ориентированы на противоположные цели и не затрагивают интересов друг друга: "в нём отчётливо раздаются два голоса; хотя эти голоса звучат по-разному, тем не мене в уме Эмпедокла между ними нет противоречия, поскольку они относятся к совершенно разным предметам" [цит. по: 219, с. 24-25]. Мнению о дуализме эмпедоклова мышления противостоит мнение об эволюции взглядов философа. Дильс предполагал, что в ранний период жизни, на гребне своей карьеры и славы, Эмпедокл написал естественнонаучный трактат, и только значительно позднее жизненные невзгоды, связанные с изгнанием, подрывают его рационалистический оптимизм и толкают престарелого философа в лоно иррационализма и мистики. Ж. Биде, наоборот, утверждает, что поэма "Очищения", как плод незрелого ума и пылкого воображения, была написана чуть ли не в юношеском возрасте; затем, уже на склоне лет, Эмпедокл расстаётся с увлечениями молодости и обращается к опытному испытанию природы. Однако исторические, психологические и логические соображения не дают права ни на одну из двух этих эволюционных версий. К тому же язык, стиль и даже мировоззренческие интонации обоих произведений говорят в пользу их единовременного происхождения. Более того, "их созвучия настолько недвусмысленны, что не исключено, что это просто разные части одного сочинения" [219, с. 24].
"Слово, услышанное тобой, от бога" (fr. 64 Bollack = 31 B 23 DK).
Лоренцо Валла критикует "божественность" античной мудрости, подчёркивая, что она есть прежде всего путь к смятению души и к смерти. Ярчайший пример тому ярчайший Аристотель [см.: 50, с. 178-179, 289-290], о котором речь пойдёт далее.
"Для науки, - пишет Лев Шестов, - действительность кладёт навсегда конец возможности" [268, с. 102].
Заратустра у Ницше тоже называет "совершенный мир" шаром: "Не стал ли мир сейчас совершенен? О золотой круглый шар!" [189, с. 200].
Св. Василий Великий в "Беседах на Шестоднев" пишет, что, согласно некоторым "еллинским мудрецам", "рождение и разрушение происходят, когда неделимые тела то взаимно сходятся, то разлучаются" (Творения иже во святых отца нашего Василия Великого. Часть 1. М., 1991. С. 3-4). Это "физическое" представление о рождении и смерти можно отнести не только к атомистам, но и к Эмпедоклу.
Гибель индивидуально сущего, расположенная в природном порядке, и не может быть названа смертью в экзистенциальном смысле, как не может быть признано рождением "происхождение" индивида. Поэтому Эмпедокл прав: оставаясь "физиком", невозможно принимать всерьёз возникновение и разрушение вещей; кроме того, нет никаких причин именовать их "рождением" и "смертью".
Аристотель приходит в затруднение, исследуя вопрос о том, могут ли "преходящие и непреходящие вещи" (то есть боги и люди) состоять из одних и тех же начал, а также "почему, состоя из одних и тех же начал, одни вещи вечны по своей природе, а другие преходят" (Метафизика III 4, 1000 a 5-20; ср.: Поэтика 1461 b 20-25). Ответа на свой вопрос Аристотель не находит даже у Эмпедокла (Метафизика III 4, 1000 a 25); в этом виноват не акрагантский философ, а сам Аристотель, неверно поставивший вопрос: непреходящий бог Аристотеля тождествен той самой природе, согласно которой, по Эмпедоклу и Анаксимандру, преходят все преходящие. "При всём том он по крайней мере вот в каком отношении один говорит последовательно: он не делает одни вещи преходящими, другие непреходящими, но признаёт все преходящими, за исключением элементов" (Метафизика III 4, 1000 b 15-20). Поэтому-то Эмпедокл и не задаётся вопросом, "почему одни вещи преходящи, а другие нет, раз те и другие состоят из одних и тех же начал" (Метафизика III 4, 1000 b 20), ибо состоящее из начал преходяще, а непреходящ только тот природный порядок, по которому все вещи и состоят, и преходят.
Ср.: "Мы вращаемся и пребываем всегда среди одного и того же" (Лукр. III, 1080); "И к себе по своим же следам возвращается год" (Вергилий. Георгики II, 402).
Применение в космологии психологических терминов указывает на всё то же единство индивидуального и универсального порядка.
В "Божественной комедии" Вергилий рассказывает Данте о физических последствиях схождения Христа во Ад, обращаясь к терминологии Эмпедокла:
Так мощно дрогнул пасмурный провал,
Что я подумал - мир любовь объяла,
Которая, как некто полагал,
Его и прежде в хаос обращала
(Ад XII, 40-43).
Этот "некто" - Эмпедокл. Любовь обращает Космос в Хаос именно потому, что очищает от Космоса Сфайрос.
Термин "очищение", один из самых распространённых и философски значимых в эллинской культуре, относится к области "становления гармонии" [156, с. 76], иначе говоря, указывает на преобразование (души, мира) в направлении всеобщего совершенства.
Ср. с мотивом "высшее знание воспоминание" у Платона (Федр 249, Менон 81-86, Федон 75).
Эмпедокл "разделяет орфико-пифагорейское учение о переселении душ" [262, с. 168]. При неуклонном проведении идеи реинкарнации пифагорейская этическая программа, видимо, не содержала категорического отрицания самоубийства. Об этом можно судить на примере Теано. Последняя принадлежала к пифагорейской школе (14 a 2 DK) и, по некоторым сведениям, была женой самого Пифагора (14 a 3 DK; 14 b 2 DK; Диог. VIII, 42), от которого родила Телавга (14 a 3 DK; 14 b 2 DK; Диог. VIII, 43), учителя Эмпедокла (Диог. VIII, 43). Оказавшись в критической ситуации, Теано покончила с собой, выразив тем самым полное "презрение смерти" [75, 1, с. 90]. "Попав в руки сицилийского тирана и будучи спрошена им, почему пифагорейцы не едят крупных бобов, она ответила: "Съем, но не скажу". И когда тиран сказал ей: "Ешь", она ответила: "Скажу, но не съем". И она умерла, разжевав свой язык" [85, с. 64].
Тертуллиан, объясняя, почему римского императора нельзя признавать богом, прямо указывает на связь божественности с добровольной смертью: "Да, мы не называем императора богом. Ибо на этот счёт мы, как говорят в народе, только посмеиваемся. Но это как раз вы, называющие императора богом, и насмехаетесь над ним, говоря, что он не то, что он есть на самом деле, и злословите его, потому что он не хочет быть тем, что вы о нём говорите. Ведь он предпочитает оставаться в живых, а не становиться богом!" (К язычникам I, 17) [238, с. 58. Курсив мой. - С.А.].
Христианский апологет II века Ермий пишет: некоторые языческие "любители мудрости превращают меня во всякого рода животных, в земных, водяных, летающих, многовидных, диких или домашних, немых или издающих звуки, бессловесных или разумных. Я плаваю, летаю, парю в воздухе, пресмыкаюсь, бегаю, сижу. Является наконец Эмпедокл и делает из меня растение" (Осмеяние языческих философов, 2) [101, с. 197]. Святой Василий Великий, имея в виду, очевидно, Эмпедокла, говорит: "Убегай бредней угрюмых философов, которые не стыдятся почитать свою душу и душу пса однородными между собою и говорить о себе, что они были некогда и женами, и деревьями, и морскими рыбами. А я, хотя не скажу, бывали ли они когда рыбами, однако же со всем усилием готов утверждать, что, когда писали сие, были бессмысленнее рыб" (Беседы на Шестоднев, 8. См.: Св. Василий Великий. Творения. Том 1. М., 1991. С. 139).
Ср.: "Никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она" (Дхаммапада I, 5).
"Но как они, - говорит апостол Павел о языческих философах, подобных Эмпедоклу, - познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку <...>: то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела" (Рим 1: 21-24).
Христианскую установку на спасение всего человека так выражает апостол Павел: "Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие" (1 Фес 5: 23-24).
В "Меноне" Сократ намекает на позёрство и напыщенность речи акрагантского философа и его учеников, привыкших говорить "на манер Горгия" и "в согласии с Эмпедоклом", наставником последнего (Менон 76 с; ср.: Диог. VIII, 58); эти речи "прямо как из трагедии" (Менон 76 е). Интересно сравнить эти манеры человекобога-самоубийцы с христианским взглядом на внешние проявления человека, стремящегося к святости. Св. Григорий Богослов пишет: "Мы мало заботимся о видимости и о живописной наружности, а более печёмся о внутреннем человеке и о том, чтобы обращать внимание зрителя на созерцаемое умом" (Слово 4) [см.: 75, 1, с. 116]. Св. Исаак Сирин советует: "В одеянии своём люби бедные одежды, чтобы уничижить рождающиеся в тебе помышления, то есть высокоумие сердца. Кто любит блеск, тот не может приобрести смиренных мыслей, потому что сердце внутренно отпечатлевается по подобию внешних образов" (Слово 56. См.: Св. Исаак Сирин. Слова подвижнические. М., 1993. С. 279-280). В одном из самых популярных аскетических сочинений говорится: "Совершенным же ум бывает тогда, когда вкусит существенного ведения и соединится с Богом. Тогда он, царское имея достоинство, не чувствует уже бедности и не увлекается дольними пожеланиями, хотя бы ты предлагал ему все царства. Итак, если хочешь достигнуть таких доброт, бегом беги от мира и со усердием теки путём святых, брось заботу о внешнем своём виде, одежду имей бедную и убранство смиренное. Нрав держи простой, речь нехитростную, ступание нетщеславное, голос непритворный. Полюби жить в скудости и быть всеми небрегомым" (Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. М., 1992. С. 130). Как видим, Эмпедокл придерживался прямо противоположных стандартов.
Ницше утверждает: "В конце концов познание протянет руку за тем, что ему подобает: оно вознамерится господствовать и обладать" [186, с. 628]. Однако такое господство и обладание достигается только путём подчинения познающего познаваемому как тотальному.
Современный исследователь Г. Лак, опираясь на мнение Е. Доддса, полагает, что наиболее адекватный термин для обозначения феномена магии "шаманизм", так как последний включает как "анимистический", так и медицинский аспекты. Тремя великими магами ("шаманами") древней Греции Г. Лак называет Орфея, Пифагора и Эмпедокла (!), объединяя эти три имени на основании единства их практики. "На первый взгляд, в эту схему плохо вписывается Эмпедокл, однако противоречие снимается информацией о медицинской школе, основанной этим философом в Сицилии, использовавшей, очевидно, и философские, и магические, и медицинские элементы" [146, с. 13]. Божественность, магизм и целительство одновременно подразумеваются, кстати, и в наименовании терапевтов-рефаимов. Выявляя истоки мистицизма ессеев, И.Р. Тантлевский считает полезным "сопоставить ханаанейские представления о рефаимах с мистико-гностическими воззрениями ессеев-терапевтов и кумранитов". Рефаимы ханаанской мифологии это обитатели потусторонних миров (неба и подземного мира) и обитатели земли, получившие специальное посвящение и сакральное знание, а потому имевшие способность посещать мир богов ещё при жизни. В ряде угаритских текстов они обозначаются как "боги" ('ilm, 'ilnym), что соответствует ангелам Библии. В кумранских текстах "богами" называются "почившие праведники и мудрецы, вознесшиеся на небеса" [234, с. 21]. Согласно кумранским рукописям "Благодарственных гимнов", ессеи-кумраниты и ессеи-терапевты (представители египетской ветви ессейского движения), находясь в состоянии мистического транса, совершали небесные "вояжи", в результате которых приобретали божественное знание [234, с. 21-22]. Филон Александрийский называет египетских терапевтов "гражданами неба и космоса", которые живут "одной лишь душой" (О жизни созерцательной, 90), подчёркивая этим, что они уже при жизни благодаря своему благочестию и совершенству добились такого состояния ысшего блаженства, которое получают лишь праведные души, уже расставшиеся с земой жизнью (Елизарова М.М. Община терапевтов. М.: Наука, 1972. С. 106). Видимо, сам термин "терапевты" (θεραπευται) является греческим переводом слова repa'im, что в обоих случаях значит "врачи", "целители" [234, с. 22]. Как раз такому стандарту божественного мудреца-врача (терапевта) и соответствует Эмпедокл. О других вариантах истолкования смысла термина "θεραπευται" см.: Елизарова М.М. Указ. соч. С. 33-34.
"Язычество не верит в богов и духов, а стремится разобраться в их мире, чтобы подчинить духовный мир себе и своим интересам, полагаясь при этом на магическую технику своих ритуалов и заклинаний" [143, с. 45].
В теистической религии, напротив, знание есть свидетельство правильно (или неправильно) ориентированной духовной практики.
См. подробнее: Аванесов С.С. Религия. Миф. Тоталитарное сознание // Тоталитаризм и тоталитарное сознание. Вып. 2. Томск, 1998. С. 3-17; Аванесов С.С. Наука как магия // Методология науки. Вып. 3. Томск, 1998. С. 11-13.
Оригинальную авторскую версию мотивации самоубийства Эмпедокла предлагает Чхартишвили. По его "легенде", акрагантец "бросился в кратер Этны, поскольку никак не мог понять устройства вулканов" [263, с. 568]. Подозреваю, что эта "легенда" образовалась в перенасыщенном смертельной информацией сознании Григория Шалвовича путём перенесения на Эмпедокла сведений о гибели Аристотеля в Эврипе.
Данте помещает Эмпедокла в первом круге ада (Ад IV, 138).
По сообщению Диогена, Деметрий Трезенский в книге "Против софистов" написал, будто Эмпедокл, "по Гомерову слову",
к бревну потолка прикрепивши отвесную петлю,
Горло стянул, а душа изошла в чертоги Аида
(Диог. VIII, 74; ср.: Одиссея XI, 278).
М.Л. Гаспаров насчитал почему-то только пять таких версий [92, с. 489-490].
Перегринами назывались в Риме чужеземцы, не состоявшие в подданстве Рима, а также римские подданные, не получившие полной правоспособности; такие люди в древнейшую эпоху считались совершенно бесправными. С течением времени, правда, перегрины были признаны правоспособными по системе ius gentium. В начале III века Каракалла предоставил права римского гражданства всем подданным Римского государства. См.: Новицкий И.Б. Римское право. М.: Гуманитарное знание, 1993. С. 53.
Протей морское божество, обладающее пророческим даром и способностью принимать вид различных существ; "морской проницательный старец", обитающий в водах близ Египта (см.: Одиссея IV, 349-570; XVII, 140). В диалогах Платона Протей символ философской изворотливости. Так, Сократ говорит Иону: "Ты, прямо-таки как Протей, всячески изворачиваешься, принимаешь всевозможные обличья и в конце концов ускользаешь от меня" (Ион 541 е); хиосские братья-софисты (хотя, возможно, тут содержится намёк и на киников, как полагал С.Н. Трубецкой [203, 1, с. 717]) "околдовывают нас, подражая Протею, египетскому софисту" (Евтидем 288 b).
Авл Геллий (Аттические ночи XII, 11) называет Перегрина "философом" и сообщает о его этическом учении. "Будучи в Афинах, мы видели философа по имени Перегрин, которого впоследствии прозвали Протеем, сурового и невозмутимого мужа, удалившегося в некоторую хижину за городом. И всякий раз, когда мы приходили [туда], что случалось часто, уважительно и с пользой [для себя], клянусь Геркулесом, слушали многие его речи". В частности, Перегрин говорил, что "мудрецу не пристало грешить (peccaturum esse), а если он и согрешил, [то] ни боги, ни люди не должны знать [об этом]". Грехов, по его мнению, надо избегать "не из-за страха наказания или бесчестия, но [поскольку это является] стремлением и обязанностью [каждого] добросовестного и порядочного [человека]". Люди же непорядочные "были более склонны согрешить тогда, когда думали, будто можно скрыть содеянное, и надеялись по этой причине остаться безнаказанными"; если бы они знали, что "никакое деяние не может быть долго утаённым", то они "грешили бы более сдержанно и стыдливо". Из этих рассуждений Перегрина следует такая этическая программа: пока ты думаешь, что можно скрыть грех, - греши; если ты думаешь, что грех скрыть нельзя, - тоже греши, но умеренно. Это этика возможного, весьма далёкая от христианского этического абсолютизма (ср. с противоположным мнением Б. Тритенко в: 14, с. 137).
Ср. с известной историей александрийского киника Максима (IV в.), претендовавшего не только на звание христианина, но и на Константинопольскую епископскую кафедру; этот Максим был осуждён II Вселенским собором 381 года (Карташев А.В. Вселенские соборы. М.: Республика, 1994. С. 129-136).
Тертуллианом в качестве примеров "доблести" упоминаются некоторые "философы", в том числе "Эмпедокл, прыгнувший в жерло Этны, и Перегрин, недавно бросившийся в костёр" (К мученикам, 4) [238, с. 257].
Творчество Лукиана послужило одним из источников ренессансной "философии смеха"; особенно популярны были как раз диалоги с участием Мениппа [30, с. 81]. Лукиан оказал влияние и на Рабле (в частности, при создании последним образа преисподней) [30, с. 428-429]. С Эмпедоклом, похоже, Рабле знаком тоже через Лукиана. Так, в 14 главе второй книги "Гаргантюа и Пантагрюэля" Панург рассказывает о своём бегстве из турецкого плена, в самом начале повествования восклицая: "Эх, приятель! Если б я так же быстро умел подниматься, как спускать вино к себе в утробу, я бы уже вместе с Эмпедоклом вознёсся превыше лунной сферы!" [205, с. 203]. Эмпедокл упоминается всего один раз, но именно в той главе, где говорится о поджаривании плоти: "Турки, сукины дети, посадили меня на вертел <...>. И начали они меня живьём поджаривать" [205, с. 204]. "Ведь я наполовину изжарен" [205, с. 205]; "я наполовину обгорел" [205, с. 206]. Собаки "сразу почуяли запах моей грешной, наполовину изжаренной плоти" [205, с. 207]. Панургу удаётся хитростью спастись от мучителей и бежать, устроив при этом пожар, в котором сгорает весь город. Представляется неслучайным то обстоятельство, что упоминание Эмпедокла предваряет рассказ об огне и поджаривании человеческой плоти. У Бахтина [30, с. 367-368] связь огня и Эмпедокла в этом эпизоде не отмечена. Кроме того, в первой главе второй книги Рабле упоминает Икаромениппа и его автора [205, с. 162], а во второй главе той же книги воспроизводит гипотезу Эмпедокла о происхождении морской соли [205, с. 163; см.: 35, с. 365; ср.: fr. 393, 395 Bollack].
"Хвастовство Эмпедокла обнаружили огненные извержения на Сицилии, потому что, не будучи богом, он оболгал то, что себе приписывал" (Татиан. Слово к эллинам, 3). "Как человек Эмпедокл был тщеславен и выдавал себя за божество. Он хотел, чтобы люди думали, что боги взяли его живым на Олимп, а потому, чувствуя приближение смерти, бросился в кратер Этны. Но вулкан выбросил одну из его медных сандалий, и замысел Эмпедокла не удался" [262, с. 166].
Конструктивное понимание любви в христианстве обусловливает противоположное отношение к огненной аннигиляции: "И если я <...> отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы" (1 Кор 13:3).
Ср. с признанием Ницше:
Мне ль не знать, откуда сам я!
Ненасытный, словно пламя,
Сам собой охвачен весь.
Свет есть всё, что я хватаю,
Уголь всё, что отпускаю:
Пламя пламя я и есмь!
[186, с. 511].
Аристотель интерпретирует силы Любви и Вражды у Эмпедокла именно как добро и зло (Метафизика Ι 4, 985 a 5-10).
Известны другие случаи самоубийства с целью превращения в божество. Так, любовник императора Адриана по имени Антиной добровольно утопился в Ниле и был причислен к богам [13, с. 69]. Литературную версию гибели Антиноя см. в романе Маргерит Юрсенар "Воспоминания Адриана" (М.: Радуга, 1984).
Заратустра, кстати, как и Эмпедокл, приносит медовую жертву (ср.: Диог. VIII, 53; 189, с. 171).
"Тифеева Этна" упоминается и у Овидия (Героиды XV, 11; ср.: Метаморфозы V, 346-358). Мимнерм написал следующее:
Вечную, тяжкую старость послал Молневержец Тифону.
Старость такая страшней даже и смерти самой.
[281, с. 286]
По сообщению Тайлора, Этна и в христианскую эпоху считалась входом в ад [233, с. 289]. Св. Григорий Богослов пишет: "Сказывают об огне Этны, что, накопляясь внизу и удерживаемый силою, до времени кроется он на дне горы и сперва издаёт страшные звуки (вздохи ли то мучимого исполина, или что другое), также из вершины горы извергается дым предвестие бедствия; но когда накопится и сделается неудержимым, тогда, выбрасываемый из недр горы, несётся вверх, льётся через края жерл и страшным до неимоверности потоком опустошает ниже лежащую землю" (Слово 4) [75, 1, с. 98-99]. Данте помещает Тифона в центральный колодец ада вместе с другими гигантами (Ад XXXI, 122-124; ср. Рай VIII, 67-70).
Близкие к пантеизму мотивы слияния с космическим целым можно обнаружить и у некоторых православных богословов (например, у софиологов). Так, например, С.Н. Булгаков пишет: "Христос есть Небесный Человек. <...> Человек в своей причастности Человеку Небесному объемлет в себе всё в положительном всеединстве. Он есть организованное всё или всеорганизм. <...> Он есть логос вселенной, в котором она себя сознаёт". Подобная мысль "о софийной универсальности человеческого всеорганизма" обнаруживается и в философии Эмпедокла [49, с. 248-249].
О неразумности судьбы см.: 156, с. 505.
Честертон Г.К. Избранные произведения. В 3-х томах. Том 1. М.: Художественная литература, 1990. С. 412. Эти слова произнесены как раз в связи с Сицилией и Этной.
Согласно высказыванию Хайдеггера, "Гёльдерлин для нас поэт, указывающий в грядущее, ожидающий Бога" (Antwort. Martin Heidegger im Gesprдch. Pfullingen, 1988. S. 100. Цит. по: Михайлов А.В. Предисловие к публикации // Вопросы философии. 1990. N 7. С. 141). Надо сказать, что Бога он не дождался, растворившись в столь безумно любимой им естественности.
По утверждению В. Виндельбанда, "за всё время его меланхолии и безумия нам не известен ни один случай помыслов о самоубийстве или покушений на него" [56, с. 130]. Гёльдерлин как автор к тому времени давно уже умер.
Ср.: Ис 53:2, где говорится о "ростке из сухой земли", а также Ис 11: 1-4 (об "отрасли от корня Иессеева").
"Манес, первенец сатаны", - пишет о нём преподобный Иосиф Волоцкий (Иосиф Волоцкий. Просветитель. М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1993. С. 30).
Один из современников Леонида Андреева (М.В. Лодыженский) оценивал данную пьесу как проповедь человекобожества "с театральных подмосток", отмечая её "колоссальную дерзость" и "безнравственность содержания" [150, с. 20]. Основная мысль пьесы, по его мнению, такова: "человеку, уверовавшему в свою божественность, всё дозволено" [150, с. 20]. "Факт означенного убийства и самоубийства поэтизируется писателем Леонидом Андреевым, насколько он это может. Своею пьесою автор как бы желает загипнотизировать и публику в том же направлении, указывая ей новый заманчивый рецепт к осуществлению человеческой божественности" [150, с. 21]. Однако такая "божественность" есть на деле простое оправдание вседозволенности: "Герой, обожествлённый Андреевым, является в действительности просто преступником, человеком, совершающим безнравственные действия обмана и преступления"; "это всё тот же тип сверхчеловека с извращённым нравственным чувством" [150, с. 21]. Таковы "ясные и яркие плоды противухристианского самообожествления", к которым приводит человека "иллюзорная вера в свою будто бы божественность - божественность без Христа" [150, с. 22].
Именно у Достоевского мы находим "наиболее глубокую разработку той концепции смерти и бессмертия, которая стала одним из главных достижений русской философии" [100, с. 18].
"К счастью, - пишет В.В. Розанов, - идея бессмертия не относится к числу доказуемых, то есть для нас внешних, нами усматриваемых идей; но благодатно она даётся или не даётся человеку, как и вера, как и любовь" [209, с. 224].
Об ощущении ("чувстве") мыслей см. беседу Кириллова со Ставрогиным в "Бесах" [96, 10, с. 187].
Можно признать (вслед за Ириной Паперно), что в этом пункте Достоевский формально не противоречит Канту и даже "подтверждает" его теоретические выводы о том, что "жить моральной жизнью возможно, только если мы верим, что в распоряжении каждого из нас - безграничное количество времени, т.е. для того, чтобы была возможной мораль, человек должен верить в бессмертие души" [199, с. 165]. В своей записной книжке Достоевский рассуждает следующим образом: целью человечества является "рай Христов"; но "достигать такой великой цели, по моему рассуждению, совершенно бессмысленно, если при достижении цели всё угасает и исчезает, т.е. если не будет жизни у человека и по достижении цели. Следственно, есть будущая, райская жизнь" [184, с. 173]. Ср.: 118, с. 519-521 ("Бессмертие души как постулат чистого практического разума").
Для Достоевского важно решить вопрос: "Увижусь ли с Машей?" [184, с. 173]; доктрина "бессмертия вообще" на такие вопросы не отвечает.
По словам Владимира Лефевра, "Достоевский с такой же обстоятельностью анатомирует души своих персонажей, с какой энтомолог расчленяет стрекозу. Хотя, конечно, в подходе Достоевского есть и нечто сверх этого: своим персонажам он при этом ещё и сочувствует" (Лефевр В.А. От психофизики к моделированию души // Вопросы философии. 1990. N 7. С. 28).
Это рассуждение самоубийцы, сочинённое Достоевским, воспроизводит в основных чертах логику разочарованного в жизни человека, как бы "формулу" такого разочарования [95, с. 345], "логическую схему самоубийства как выражения протеста против метафизической картины абсурдного, обезбоженного мира" [102, с. 34]. Первоначально "Приговор" был опубликован без всяких комментариев, о чём Достоевскому пришлось впоследствии пожалеть [см.: 95, с. 344-351]. "Приговор, - отмечает Достоевский в своей записной книжке, - примут за положительное учение, которое так и надо. Пожалуй, может случиться, что прямо последуют ему" [184, с. 612]. Чтобы рассеять многочисленные недоумения, связанные с "Приговором", Достоевский написал пространный и обстоятельный комментарий к нему ("Запоздавшее нравоучение").
"Наш дух смущён, - пишет Тейар де Шарден, - когда мы пытаемся измерить глубину мира под собою. Но он колеблется также, когда мы пробуем исчислить благоприятные случайности, сочетание которых определяет в каждое мгновение сохранение и развитие наималейшего из живых существ". Над таким индивидуальным духом "веет сущностная тоска атома, затерянного в универсуме, - тоска, которая из дня в день угнетает человеческую волю неимоверным числом живых существ и светил" (Тейар де Шарден П. Божественная Среда. М., 1994. С. 63).
"Этот самоубийца, - считает Камю, - покончил с собой потому, что метафизически обижен. В каком-то смысле он мстит" [116, с. 296]. Так человек мстит своему обидчику, вешаясь на его воротах.
Такая самоубийственная логика подчёркивает правоту Владимира Набокова, написавшего, что "вместе с человеком истребляется и весь мир" [181, с. 154]. В этой логике Вячеслав Иванов отмечает "призвук солипсизма", свидетельствующий о "метафизическом безволии" самоубийцы, осуждающего природу "вместе с собою" на уничтожение, тогда как его правильно ориентированная воля могла бы "повлечь" природу вместе с ним "к преображению" [107, с. 55]. Здесь - явная аллюзия на Рим 8:19-22: "Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих: потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по в воле покорившего её, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне". "Тварью" же апостол Павел именует как раз природу, то есть мир с его "высотой", "глубиной", "ангелами", "началами", "силами", "настоящим", "будущим", "жизнью" и "смертью" (Рим 8:38-39). Для атеиста этот мир - предмет аннигиляции, для теиста - предмет сублимации.
Камю так воспроизводит самоубийственную логику: "Бог плутует в игре, а вместе с Ним и все смертные, включая меня самого, следовательно, не лучше ли мне умереть" [113, с. 121]. Л.Н. Толстой в "Исповеди" подобным образом (только без использования "абсурдной" терминологии) описал свой кризис, источниками которого были "чёткое осознание невозможности искренней веры в Бога, понимание полной бессмыслицы бытия природы, обрекающей все свои творения на неизбежную смерть, невозможность рациональным путём ни доказать, ни опровергнуть адекватность миру столь личностного запроса о смысле жизни" [138, с. 167], иначе говоря, все составные элементы абсурда. "Положение моё было ужасно, - пишет Толстой. - Я знал, что ничего не найду на пути разумного знания, кроме отрицания жизни, а там в вере - ничего, кроме отрицания разума, которое ещё невозможнее, чем отрицание жизни" [цит. по: 138, с. 167]. В результате Толстому "естественно" пришла "мысль о самоубийстве" [цит. по: 138, с. 167]. Именно эту парадигму "несчастного сознания" задолго до Толстого (и до Камю) воспроизвёл Достоевский [138, с. 167-168].
Тоску "от отсутствия высших целей жизни" Достоевский называет "высшей тоской" [95, с. 353], "духовной тоской" [95, с. 356].
Компенсацию этой метафизической травмы можно видеть в обрядах инициации [273, с. 4], которые дают возможность человеку принять участие в собственной "смерти" и собственном "рождении". Христианство предлагает человеку по собственному желанию родиться к жизни вечной - принять крещение как новое рождение - "ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога" (Ин 1:13; ср.: Ин 3:3-8; 1 Пет 1:23; 1 Ин 2:29; 3:9; 5:1, 4; 18:1; 1 Кор 4:15; Гал 4:19, 22-23, 28-29; Еф 2:10; 4:23-24; Флм 1:10). "Так как мы, - пишет св. Иустин Философ, - не знаем первого своего рождения и по необходимости родились из влажного семени чрез взаимное совокупление родителей и выросли в худых нравах и дурном образе жизни, то, чтобы не оставаться чадами необходимости и неведения, но [становиться] чадами свободы и знания и чтобы получить нам отпущение прежних грехов, - в воде именуется на хотящем возродиться и раскаявшемся во грехах имя Отца всего и Владыки Бога" (I Апология, 61).
Гипотезы героев романа на этот счёт см.: 96, 8, с. 353-354, 397.
Кстати, в комнате у Ипполита, как и у Кириллова, горит лампадка, свет которой он использует для чтения [96, 8, с. 340].
Ср. с состоянием героя рассказа В. Набокова "Соглядатай", решившегося на самоубийство: "Я подумал, что могу, если захочу, выбежать сейчас на улицу, с непристойными словами обнять любую женщину, застрелить всякого, кто подвернётся, расколошматить витрину" [181, с. 154]. Когда за смертью признают неизбежность и окончательность, тогда многое позволено. "Если я знаю, что умру, предположим, через три дня, то что удерживает меня от эксцессов?" [172, с. 144]. Таково же содержание "новой мысли" Ставрогина: "Если бы сделать злодейство или, главное, стыд, то есть позор, только очень подлый и ... смешной, так что запомнят люди на тысячу лет и плевать будут тысячу лет, и вдруг мысль: "Один удар в висок, и ничего не будет". Какое дело тогда до людей и что они будут плевать тысячу лет, не так ли?" [96, 10, с. 187]. Калигула у Камю признаётся: "Если мне легко убивать, то потому, что мне и умереть не трудно" [115, с. 442]. Прежде чем "решиться на убийство", люди отрицают многое, "даже самоё себя посредством самоубийства" [113, с. 121]. "Поэтому абсолютный нигилизм, считающий самоубийство вполне законным актом, с тем большей лёгкостью признаёт законность убийства" [113, с. 123]. "Отрубят голову - а дальше что ... ваше сиятельство?" - спрашивает готовый к самоубийству и убийству клоун Тот из пьесы Леонида Андреева [19, с. 415]. Люди, способные "уничтожить самих себя", пишет Альбер Камю, готовы "увлечь с собой в могилу целый мир" [113, с. 123].
"Мне теперь всё безразлично, раз я буду убит", - говорит герой рассказа В. Набокова "Подлец" [181, с. 96].
Г.Л. Тульчинский указывает, что "объективным факторам поступка" принадлежит "определяющая роль" в его детерминации; "субъективным" же факторам ("идущим от человека") принадлежит "решающая роль" [244, с. 31]. Здесь также можно видеть попытку развести необходимое условие поступка и его достаточное основание. Применение категорий "объективного" и "субъективного" к описанию человеческого состояния представляется в данном случае вполне оправданным, ибо внутренняя готовность к суициду есть признак совершившейся объективации личности, её одержимости сущим.
"Горючий материал, - пишет С. Аскольдов, - может быть подготовлен и, так сказать, соблазнительно лежать, готовый загореться от первой искры, случайно заброшенной. Однако именно случайности-то и не подлежат расчётам" (Аскольдов С.А. Религиозный смысл русской революции // Из глубины. М.: Правда, 1992. С. 235).
Тяжёлый характер, располагающий его обладателя к совершению суицида, может оказаться (как считает Шопенгауэр) приобретённым по наследству. Шопенгауэр пишет: "Наследственность расположения к самоубийству доказывает, что субъективный момент побуждения к нему является очевидно наиболее сильным" [277, с. 456]. Кстати, отец Шопенгауэра (Генрих Флорис) ушёл из жизни "в результате нелепого несчастного случая - он провалился в складской люк и упал в городской канал, после чего попал в инвалидное кресло и был заброшен всеми домашними". Эти обстоятельства его гибели "давали серьёзный повод для подозрений относительно возможности попытки добровольного ухода из жизни, тем более что Генрих Флорис переживал период обострения ипохондрии, вызванной серьёзными деловыми затруднениями" (А.А. Чанышев) [276, с. 6]. Поэтому-то в некоторых источниках можно встретить прямое утверждение о том, например, что "Генрих Шопенгауэр внезапно покончил свою жизнь самоубийством весною 1805 года" [47, с. 139].
На это "неправильное соображение" Достоевский отвечает (в записной книжке) следующим образом: "Делай дело так, как будто ты век собираешься жить, а молись так, как будто сейчас собираешься умереть" [184, с. 626]. Правда, если "Бог мёртв", то молиться некому.
Ср. с подобным мнением Камю: "Нельзя жить, не имея на то оснований" [115, с. 426].
Атеистическое самоубийство, пишет Джастин Буш, есть "своего рода низвержение авторитета Бога" (a specific abrogation of the authority of God) [293, p. 23].
"На первый взгляд его замысел - это замысел спокойного и последовательного рационалиста. Люди, рассуждает он, не убивают себя, потому что боятся смерти; из страха смерти возникает Бог; если я смогу умереть вопреки этому страху, то я избавлю смерть от страха и низвергну Бога. Такое намерение, требующее от человека невозмутимости узкорационалистического духа, плохо вяжется с лампадкой у иконы, с признанием Кириллова о его одержимости Богом, а уж тем более с ужасом, от которого он чуть не падает в конце" [39, с. 203].
Современное богоборчество во многом основывается на той же дилемме. "Батай, - пишет Ж.П. Сартр, - никак не может примирить в себе два непоколебимых и противоречащих друг другу положения: Бог молчит, я не могу оставить эту истину, - всё во мне требует Бога, я не могу забыть Его" [213, с. 21].
Одержимый бесами кричит Христу: "Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня" (Лк 8:28). Бог, пишет С. Булгаков, "мучит Собою духов зла и ими одержимых"; такое мучение и переживает Кириллов [48, с. 503].
В повести Л. Толстого "Отец Сергий" (глава VII) главному герою после грехопадения приходят в голову две мысли одновременно: об отсутствии Бога и о самоубийстве. "Да, надо кончить. Нет Бога". Отец Сергий хочет, "как обыкновенно в минуты отчаяния", помолиться. "Но молиться некому было. Бога не было".
Греческое αντιθεος означает и противо-Бог, и вместо-Бог, и как-Бог [см.: 52, ст. 126].
Правда, кое-кто из наиболее осведомлённых исследователей утверждает, что эту фразу произнёс Шатов [139, с. 15; Исупов, РФТ, с. 107-108].
См. об этом: Аванесов С.С. Самоубийство как философская проблема. Диссертация на соискание учёной степени кандидата философских наук. Томск, 1994.
Идея о смерти Бога, как считает Ирина Паперно, восходит к Гегелю, "который неоднократно прибегал к этой формуле, рассуждая о соотношении божественного и человеческого в Христе" [199, с. 191, 200]. Молодой Гегель в конце своего трактата "Вера и знание" (1802) пишет о чувстве, "на которое опирается вся религия нового времени, о чувстве: Сам Бог мёртв". В этих словах Гегеля, как считает М. Хайдеггер, звучит "мысль об ином, нежели у Ницше. И всё же есть между ними, Гегелем и Ницше, существенная взаимосвязь, скрывающаяся в сущности любой метафизики" [257, с. 146]. Как Ницше, так и Достоевский, без сомнения, были хорошо знакомы с толкованием "христианских принципов" в трудах и самого Гегеля, и гегельянцев [199, с. 191, 201].
В своей статье о Достоевском в философском энциклопедическом словаре И. Роднянская и Р. Гальцева справедливо отмечают, что Достоевский "выводит деструктивное начало в человеке, имеющее последствием убийство и самоистребление <...> из феномена "метафизического сиротства" личности" (Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 176). Олеся Николаева говорит о грехе как проявлении "метафизического аутизма", то есть "полного одиночества обезбоженного человека в мире" (Николаева О. Современная культура и Православие. М., 1999. С. 142).
Фридрих Ницше представляет Христа именно как самоубийцу, как человека, на которого "напала тоска по смерти" [189, с. 52].
"Коли веришь во Христа, - отмечает Достоевский в своей записной книжке, - то веришь, что и жить будешь вовеки" [184, с. 174].
Статья И.И. Евлампиева "Кириллов и Христос" демонстрирует, как можно извратить христианство (которое автор обзывает "традиционным") под знаменем его обновления. Нетрадиционное ("новое") христианство оказывается просто не-христианством, анти-христианством. В таких случаях, конечно, всегда желательно, чтобы автор имел смелость называть вещи соответствующими именами.
Евгений Шифферс видит в действии Кириллова своеобразный антихристианский (сатанинский) культ, "нарождающуюся культовую практику человекобожества" [273, с. 4].
Само понятие "человекобог", как считает И. Паперно, "заимствовано Достоевским у последователей левого гегельянца Фейербаха, которых в России было едва ли не больше, чем в Германии" [199, с. 183].
Сам Достоевский недвусмысленно выразил своё мнение по поводу соотношения природы человека и Бога: "Натура Бога прямо противоположна натуре человека" [184, с. 174].
"Обольстительность, мощь, суверенность необходимы этому я-которое-умирает: нужно быть богом, чтобы умереть" [27, с. 228].
Как замечает А. Игнатов, "у Кириллова мания величия сочетается с русским мазохизмом" [108, с. 43]; под русским мазохизмом подразумевается, видимо, то "наслаждение отчаяния", о котором говорит "подпольный" человек [96, 5, с. 103].
Ср.: "Я начну и окончу" (1 Цар 3:12); "Я есмь Альфа и Омега, начало и конец" (Откр 21:6).
"Отсутствие Бога нельзя заменить любовью к человечеству, потому что человек тотчас спросит: для чего мне любить человечество?" [184, с. 610]. О том, как любовь к человечеству без любви к Богу естественно переходит в ненависть к тому же человечеству, см.: 95, с. 350-351.
В этом же романе мы встречаем и других семантических оборотней: Пётр Верховенский - пародия на верховного апостола Петра; Ставрогин несёт в своей фамилии указание на крест (греч. σταυρος) [см.: 273, с. 5; 107, с. 310]. Косноязычный лепет Кириллова - не намёк ли на темпераментный стиль и полуангельский язык апостола Павла?
Согласно мысли Бланшо (который ведёт "скрытую полемику" с Камю [105, с. 175] по поводу Кириллова), человек, убивающий себя, как бы говорит: "Не желаю оставаться в мире, не стану больше совершать поступков". И однако тот же самый самоубийца (бессознательно, неявно) "желает превратить смерть в поступок, желает высшего, абсолютного деяния", как это видно как раз на примере Кириллова. "Благодаря такому непоследовательному оптимизму, просвечивающему сквозь добровольную смерть, благодаря такой вере, что в итоге сумеешь одержать верх, овладев небытием, став творцом своего собственного небытия, что в миг падения сумеешь воспрянуть к вершине своей самости, - благодаря такой вере самоубийством утверждается то самое, что имелось в виду отрицать": сущность, смысл, деяние, цель, ценность [39, с. 209]. И всё же (скажем вопреки Бланшо) явное отрицание оказывается сильнее, чем неявное утверждение, ибо самоубийство никак не становится поступком: в нём не присутствует поступающий.
Пётр Верховенский, идущий на убийство, исповедует тот же нигилистический принцип "всё равно" [96, 10, с. 426]. "Ты подлец и ты ложный ум, - говорит Верховенскому Кириллов. - Но я такой же, как и ты, и застрелю себя, а ты останешься жив" [96, 10, с. 470]. Таким образом, всё различие между нигилистами Кирилловым и Верховенским - в этой разнице перспектив.
Вера в эволюцию есть частный случай возведения на место Бога некоего закона (правила, порядка), который призван Его заменить. "Глубочайшая потребность человека в том, чтобы избавиться от чувства одиночества и заброшенности, - пишет Эрих Фромм, - прежде находила удовлетворение в идее Бога, Который создал этот мир и заботится о каждом отдельном существе. Когда эволюционная теория разрушила образ Бога как высшего Творца, одновременно утратила силу и вера в Бога как всемогущего Отца (хотя многие сумели сохранить веру в Бога наряду с признанием теории Дарвина). Однако для тех, у кого вера в Царство Божие пошатнулась, сохранилась потребность в какой-либо богоподобной фигуре. И некоторые из них провозгласили в качестве нового бога эволюцию, а Дарвина объявили её пророком" [250, с. 45]. Дарвинизм превратился в универсальную и окончательную антропологическую истину, разделяемую, как видим, и Кирилловым. Теория эволюции, кстати, вполне может быть понята в качестве одного из путей возвращения от теизма к пантеистическому монизму. Эта теория по сути представляет собой развитие идеи универсальной континуальности сущего: под видом доктрины всеобщей изменчивости она утверждает чисто мифологическую установку на неизменность самой программы изменения, на гомогенное выявление одной и той же закономерности в любой точке пространства и в любой момент времени. Ясперс (ссылаясь на Вильгельма Пройера) пишет: "Мир - это единая огромная жизнь, отбросом и трупом которой является неживое. Объяснять следовало бы не возникновение жизни, а возникновение неживого" [292, с. 447]. На такое нормальное объяснение - через понятие греха как способа превращения живого в мёртвое - и ориентировано Откровение; противоположно ориентированная (эволюционистская) объяснительная позиция - как принимающая мёртвое за первичное, а живое за вторичное - есть позиция некрофильская.
Однако известно, что таким человеком был, например, Фалес Милетский (Диог. I, 35). Собственно, вся "новизна" антихристианского человекобожия как раз и заключается в повторении пройденного, в возвращении к язычеству. Один из главных пророков человекобожия, Фейербах, прямо заявляет, что его цель - вернуться к языческой (дохристианской) "естественной простоте ионической мудрости" и тем победить "сверхъестественные иллюзии" теизма [246, с. 11-12].
В смерти Кириллова, как пишет Ирина Паперно, "сошлись в единой схеме элементы различных философских систем" (Кант, Гегель, Шопенгауэр, Фейербах); организующим принципом этой схемы является "ориентация на сократовский диалог и непосредственно на "Федона" Платона" [199, с. 181]. Как и в "Федоне", в "Бесах" диалоги о бессмертии происходят "перед лицом смерти", и аргументы героя проходят проверку в его же действии [199, с. 181]. Как у Платона и прочих пантеистически (монистически) ориентированных философов, действия человека перед лицом смерти (в более точном смысле, действия-к-смерти) оказываются в конечном счёте возвращением к его собственной (=универсальной) сущности.
Страх ввергает Кириллова в состояние, "которое уже невозможно назвать человеческим" [41, с. 45].
Альфред де Мюссе так объяснял подобное состояние: "Если страждущая мысль и устремляется к небытию, простирая, так сказать, руки ему навстречу, если душа ваша и принимает жестокое решение, всё же само физическое действие - вы снимаете со стены оружие, вы заряжаете его, - даже сам холод стали наводит, по-видимому, невольный ужас; пальцы готовятся с тоскливой тревогой, рука теряет гибкость. В каждом, кто идёт навстречу смерти, восстаёт вся природа" (Мюссе А. Исповедь сына века. Л.: Художественная литература, 1970. С. 68-69).
"Совсем не такое уж великое дело, - пишет М. Монтень, - пребывая в полном здравии и душевном спокойствии, принять решение о самоубийстве; совсем не трудно изображать храбреца, пока не приступишь к выполнению замысла" [177, 2, с. 305].
"Конечно, - пишет Бердяев, - большинство людей, кончающих жизнь самоубийством, не имеют метафизических мыслей Кириллова, они находятся в состоянии аффекта и не размышляют. Но они, не сознавая этого, ставят себя на место Бога, ибо считают лишь себя единственным хозяином жизни и смерти, т.е. на практике утверждают атеизм" [35, с. 13].
К.А. Свасьян иронизирует по этому поводу: "Тысячу раз прав Альбер Камю, считающий основным философским вопросом проблему самоубийства. Такой мысли (имеется в виду французский экзистенциализм. - С.А.) действительно не остаётся иного выхода, кроме как повеситься на крюке смутных ощущений "ненадёжности мирового бытия"" (Свасьян К.А. Философское мировоззрение Гёте. Ереван, 1983. С. 179. Цитированная автором фраза принадлежит Ясперсу).
Вот что пишет о "ясности" Вячеслав Иванов. "Жестокому свойственно светлое выражение лица и взгляда. Есть внутренняя связь и родство между жестокостью и ясностью. Принцип ясности - разделение. Жестокое действие - временное освобождение хаотической души, ищущей опознаться в невозмутимом, сверху глядящем, недосягаемо торжествующем отдалении" [107, с. 362]. В этой характеристике узнаётся и презрительная отстранённая позиция Камю, и полуденная жестокая ясность Ницше. О смертельной ясности мышления "логического самоубийцы" писал Ф.М. Достоевский [95, с. 350].
В этом пункте рассуждение Камю оказывается в общем русле экзистенциального мышления, оппонирующего "классической" (рационалистической) философии, которая допускает "наложение человеческих целей и планов на окружающий мир"; экзистенциализм как раз и ставит себе в заслугу освобождение мышления от этой "весьма существенной аберрации" [142, с. 76]. То, с чем борется Камю, есть рационалистическая "иллюзия подобия человеческого бытия и мира в целом, их взаимной имманентности" [142, с. 76].
В таком смысле абсурдны и наука, и философия. Ещё Юм признавал, что абсурд неотделим "от всякого объяснения, которое человеческий разум может дать миру материальному" [289, с. 396]. "Современная философия, - пишет Н.А. Бердяев в своей "Философии свободы", - признаёт иррациональность бытия, и она же гносеологически утверждает рационализм. Это основное противоречие современной философии. Рациональность познания и иррациональность действительности оказываются несоизмеримыми". Поэтому, в конце концов, "познающий субъект не в силах совладать с хаосом" (Бердяев Н.А. Судьба России. М., Харьков, 1998. С. 102).
Здесь просматривается известная кирилловская дилемма: Бог должен быть, но Его нет.
Тема совпадения момента наивысшего счастья и момента смерти раскрывается в рассказах Владимира Набокова "Катастрофа" и "Картофельный эльф".
Аксиологически дезориентированный опыт неизбежно превращается в бессвязную коллекцию отдельных "образов". Падшего в грех человека, пишет блаженный Августин (Об истинной религии, XXI), "чрез посредство плотских органов отделила от единства Божия множественность временных образов и своим меняющимся разнообразием размножила его страсти: так именно и произошло это тягостное изобилие и эта <...> изобильная бедность, когда одно сменяет другое и ничего у человека не остаётся постоянным" [11, с. 33], кроме самой этой смены одного другим (по сути и по ценности - тем же самым). Жизнь человека вне аксиологических ориентиров оказывается состоящей "из множества отдельных, ничем не связанных между собой моментов" [144, с. 253]. Душа такого человека, пишет Сёрен Кьеркегор, похожа на почву, "на которой с одинаковым правом на существование произрастают всевозможные травы; его "я" дробится в этом многообразии, и у него нет "я", которое бы стояло выше всего этого" [144, с. 277]. В результате "существо человека распадается на тысячи отдельных частей, подобно рассыпавшемуся легиону изгнанных бесов, когда оно утрачивает самое дорогое, самое священное для человека - объединяющую силу личности, своё единое, сущее "я"" [144, с. 205]. Речь, стало быть, снова идёт об онтологическом и аксиологическом трансцендентном "центре" (не "сущности"!) как условии осмысленности данного. Если допустить такое "безусловное средоточие", говорит Владимир Соловьёв, тогда все моменты "жизненного круга" получат своё значение через связь с этим средоточием. Только тогда "дела и страдания" человека "превращаются из бесцельных и бессмысленных явлений в разумные, внутренно необходимые события" [226, с. 13]. При отсутствии же указанного центра "является у нас столько же относительных, временных центров жизни и сознания, сколько есть у нас различных потребностей и интересов, вкусов и влечений, мнений и взглядов" [226, с. 14].
При таком манихейском дуализме, отрицающем в мире всякие следы разумности, мир есть безусловное зло. Если мы не можем уничтожить это зло, нам остаётся только ненависть, презрение, отчаяние и так называемая борьба, "абсурдная и ритуальная одновременно" [243, с. 163]. "Ведь если разум непричастен бытию, - пишет Флоренский, - то и бытие непричастно разуму, т.е. алогично. Тогда неизбежен иллюзионизм и всяческий нигилизм, кончающийся дряблым и жалким скептицизмом" [248, с. 73].
Такое ощущение абсурдности индивидуальной и даже всеобщей жизни является генеральным мотивом "логического самоубийцы" из "Дневника писателя" Ф.М. Достоевского.
Смерть, по утверждению Жака Деррида, представляет собой крайний случай не-существования значения, и эта бессмысленность смерти превращает её в неразрешимую "апорию", неэксплицируемую традиционными философскими средствами [80, с. 96]. О невыразимости и неконцептуализируемости смерти говорит и Морис Бланшо [см.: 39, с. 210-213]. "Самоубийство нельзя "замыслить". Этот якобы замысел устремлён к чему-то никогда не достижимому, к цели, в которую нельзя прицелиться, итогом же оказывается нечто такое, чего я не мог бы добиваться как итога" [39, с. 210]. Когда к самоубийству готовятся, то всегда имеют в виду не столько саму смерть, сколько "последний жест", относящийся ещё не к смерти, ибо сам этот жест "не видит смерти, не имеет её в виду" [39, с. 211], расположен всё ещё по эту сторону границы. Можно даже утверждать, что человек не хочет смерти (как чего-то определённого и достоверного); он "не может сделать смерть объектом воления, не может желать смерти, а потому его воля, остановившись на недостоверном пороге недостижимого, с расчётливой мудростью обращается на всё то, что ещё есть уловимого близ положенного ей предела. Человек думает "обо всём этом", потому что не может думать о другом, - и не из боязни взглянуть в лицо этой слишком серьёзной вещи, а оттого, что смотреть-то и не на что, оттого что желающий умереть способен желать только подступов к смерти, только той смерти-орудия, которая располагается в земном мире и достижима с помощью точного инструментария" [39, с. 211].
Можно думать, что сам Камю не был достаточно абсурдным человеком. "Надежда не покидает меня", - пишет он в "Письме к немецкому другу" в июле 1943 г., через год после выхода в свет "Мифа о Сизифе" [115, с. 358]. Видимо, мир ценностей приоткрылся для него из опыта войны [ср.: 102, с. 295].
"Абсурдный человек, - пишет Э. Мунье, - человек не свободный, находящийся в осаде. Он не в состоянии прорвать эту осаду" [178, с. 82].
"Завтрашнего дня может не быть", - так говорит вера. "Даже если завтрашнего дня не будет, этот факт не закроет для меня перспективу, ибо Бог может сделать бывшее небывшим, как сделал Он небывшее бывшим", - так говорит надежда. Камю, однако, не даёт слова ни вере, ни надежде.
Калигула, который претворяет в действительность абсурдную диалектику "Мифа о Сизифе" [178, с. 79], делает отсюда такой вывод: "Отныне и на все грядущие времена моя свобода безгранична!" [115, с. 421].
Герой "Падения" открыто провозглашает лозунг атеистического рабства: "Да здравствует же господин, каков бы он ни был, лишь бы он заменял закон небес!" [114, с. 454].
Утверждение разумности как определяющего человеческого качества в конце концов влечёт некритичность по отношению к выводам собственного разума: "Я был прав, и сейчас я прав, и всегда был прав", - заявляет l'йtranger [114, с. 131]. Эта позиция выдвигает человека вплотную к самоубийству. Достоевский, например, так определил убеждение логического самоубийцы: "Он слишком знает, что прав и что опровергнуть его невозможно" [95, с. 350]. Безграничное доверие человека к собственному разуму мешает критически отнестись, например, к рациональному заключению о том, что жить не стóит.
Это известный приём всех атеистических Дон Кихотов: темпераментно сражаться с наводящими ужас ветряными мельницами, которые они же сами и построили.
См.: Бердяев Н.А. Наука о религии и христианская апологетика // Путь. 1927. N 6. С. 43.
Самоубийца в рассказе Владимира Набокова "Соглядатай" описывает такую абсурдную свободу: "И вот то, что я давно подозревал, - бессмысленность мира, - стало мне очевидно. Я почувствовал вдруг невероятную свободу, - вот она-то и была знáком бессмысленности" [181, с. 154].
"Для Камю, - пишет Чеслав Милош, - отчаяние было не отправной точкой, а постоянным состоянием, не исключавшим счастье. Он хотел, чтобы мы верили, что даже Сизиф может быть счастливым. Так моралистическая французская традиция навязывала ему своего рода компромисс с лишённым смысла миром" [174, с. IX].
Самоубийца оказывается "обманщиком и обманутым, жертвой и палачом" (Вольтер. Надо сделать выбор // Философские сочинения. М.: Наука, 1989. С. 521). Он есть "собственный свой палач и собственная своя жертва" (Карсавин Л.П. Поэма о смерти // Религиозно-философские сочинения. Т. 1. М., 1992. С. 256).
Не слишком оригинальная мысль: об этом догадался ещё Гильгамеш и в этом честно признался ещё Соломон.
В этом пункте мнение Камю противоречит убеждению постороннего: "В сущности, не имеет большого значения, умрёшь ли ты в тридцать или в семьдесят лет <...> Раз уж приходится умереть, то, очевидно, не имеет большого значения, когда и как ты умрёшь" [114, с. 125].
Не небеса замолкли, а человек оглох.
Установка на всеобщую равноценность тождественна отказу от аксиологического подхода вообще. Как говорит Калигула у того же Камю, "порядок казней действительно не важен. Вернее, все казни одинаково важны, из чего следует, что они не важны вовсе" [115, с. 420].
"Практический" (или "серьёзный") пессимизм Вл. Соловьёв отличает от пессимизма "теоретического" [224, с. 48], вдвойне ложного. "Между отрицателями жизненного смысла, - пишет он в "Оправдании добра", - есть люди серьёзные; это те, которые своё отрицание завершают делом - самоубийством; и есть несерьёзные, отрицающие смысл жизни лишь посредством рассуждений и целых мнимо-философских систем" [224, с. 83]. И те и другие в равной мере подтверждают наличие отрицаемого ими смысла: "Ясно, что есть смысл в жизни, когда отрицатели его неизбежно сами себя отрицают" [224, с. 86]. Поэтому "пессимизм фальшивых философов и правдивых самоубийц невольно приводит нас к тому, что в жизни есть смысл" [224, с. 89].
Генрих Риккерт справедливо утверждает, что, с точки зрения всякой субъективистски ориентированной философии, "чем лучше объективизм объясняет мир, тем непонятнее делает он его", ибо "мир, понятый только как объект и действительность, лишён смысла". Таким образом, объективизм как будто доказывает нам, "что мир вообще лишён смысла"; однако такое "доказательство" в конечном счёте оказывается "своего рода толкованием мирового смысла, хотя бы и с отрицательным знаком" [Риккерт, Науки, с. 19].
Ставрогинский предсмертный принцип "ничего не смог возненавидеть", выражающий аксиологическое бессилие и окончательную потерю ценностной ориентации, разделяет и сам Камю: "Ничего не отвергать, научиться соединять белую и чёрную нить в одну натянутую до предела струну - о чём ещё могу я мечтать в наше трудное время?" [114, с. 541].
"Камю предложил в "Мифе о Сизифе" свою версию смерти Кириллова, прочитав Достоевского сквозь Ницше" [199, с. 194].
Спиноза утверждает, что "то вечное и бесконечное существо, которое мы называем богом или природою, действует по той же необходимости, по которой существует". Таким образом, основание бытия бога совпадает с основанием его действия, и он, как природа, не имеет целей вне себя, а значит - вовсе не имеет целей [228, с. 242]. "Бога, выступающего у средневековых мыслителей и даже у Декарта внеприродным Творцом вселенной, порождающим её и приводящим в движение с помощью мистического "первотолчка", Спиноза внедрил в саму природу и растворил в ней без остатка, сделав её первопричиной самой себя и всех составляющих её конечных слагаемых вплоть до человека" [53, с. 51-52].
Клеанф (Гимн к Зевсу, 34-35) просит:
... дай причаститься
Мудрости, верный которой ты правишь Вселенной по правде
[249, с. 256].
Стоический бог - это "бог рассудка", представляющий собой "закон, необходимость, право" [246, с. 65].
"Древнее греческое понятие о судьбе, стоящей выше божественной и человеческой воли, стоиками было соединено с теорией естественного закона. При пантеистическом представлении о божестве это так и должно быть" [183, с. 22].
Г. Гомперц характеризует такую установку как античный эталон "внутренней свободы". Стоит только абстрагироваться от "внешнего" положения дел, как станут достижимыми и счастье, и свобода. "Если какой-либо человек в определённый момент понимает мир как целое и, кроме того, как благо, т.е. как предмет утверждения желания (иными словами, начинает хотеть только наличного в его целом. - С.А.), то этот человек в этот момент счастлив" [72, с. 7-8]. Счастлив тот, кто доволен всем тем, что есть - без всякого исключения. Такая психологическая позиция заключает в себе следующий императив: "чтобы во всех положениях мы делали мир как целое предметом нашего утверждения желания, чтобы мы были им довольны как целым, ни одной его части не признавали злом". Эталон "внутренней свободы" оказывается, следовательно, "выражением оптимистического универсализма" [72, с. 8], парализующего личную волю к сублимации наличного.
"Природа в их представлении есть искуснический огонь (πυρ τεχνικον), движущийся по пути к порождению, то есть дыхание (πνευμα), огневидное и искусническое" (Диог. VII, 156).
Спиноза называет даже удовольствие "аффектом", то есть "страстью", сопровождающей переход от меньшего совершенства к большему [228, с. 220]. Поэтому-то удовольствие (как "переход") не составляет самого совершенства, а указывает лишь на приближение к нему [228, с. 221]. Совершенный человек (разумом совпадающий с богом) не переходит к большему совершенству, ибо таковое уже невозможно, а потому аффект удовольствия, связанный с таким переходом, не присущ мудрецу. "Поэтому мы должны сказать, - заявляет Сократ, - что те, кто уже мудры, не стремятся более к мудрости, боги они или люди" (Лисид 218 а); поэтому стремится к мудрости лишь тот, "кто не хорош и не плох" (Лисид 218 b).
Мудрец как эталон стоической этики, по мнению Шопенгауэра, "даже в собственном её изображении никогда не мог обрести жизненности или внутренней поэтической правды, а оставался застылым деревянным манекеном, с которым нельзя иметь никакого дела, который сам не знает, что ему предпринять со своей мудростью, а его невозмутимый покой, удовлетворённость и блаженство прямо противоречат человеческой природе, так что мы не можем их себе наглядно представить" [276, с. 126].
Согласно Спинозе, "сострадание в человеке, живущем по руководству разума, само по себе дурно и бесполезно"; ибо со-страдание есть страдание, иначе говоря, "неудовольствие". Поэтому мудрец никому не со-страдает. "Кто обладает правильным знанием того, что всё вытекает из необходимости божественной природы и совершается по вечным законам и правилам природы, тот, конечно, <...> не будет никому сострадать" [228, с. 301].
Стоики могли представить даже самоубийство в качестве жертвоприношения богам. Так, Сенека, вскрыв вены и приняв яд, лёг в бассейн с тёплой водой и "обрызгал ею стоявших вблизи рабов со словами, что совершает этой влагою возлияние Юпитеру Освободителю" (Тацит, Анналы, XV, 64). Его современник сенатор Клодий Тразея Пет, глава "стоической оппозиции" при Нероне, поливая пол кровью из вскрытых вен, говорит квестору: "Мы совершаем возлияние Юпитеру Освободителю; смотри и запомни, юноша" (Тацит, Анналы, XVI, 35). Этого-то Тразею Марк Аврелий почитал как образец любви к истине и справедливости (Марк Аврелий I, 14).
Ср. с мнением Спинозы, близким к позиции стоического безразличия: "Свободным я назвал того, кто руководствуется одним только разумом"; такой человек "не имеет никакого понятия о зле, а следовательно, также и о добре (ибо понятия добра и зла соотносительны)" [228, с. 322]. О психологической природе так понимаемой свободы сказано выше.
Противоположным образом понимает этическую позицию стоиков Э.Дюркгейм. "Стоицизм <...> учит, что человек должен отречься от всего, что лежит вне его, чтобы жить своим внутренним миром и только с помощью одного себя. Но, так как в таком случае жизнь лишается всякого смысла, то эта доктрина ведёт к самоубийству" [98, с. 379]. Такая характеристика подходит скорее для эпикурейской программы.
Стоическая этика с её эталоном мудреца, считает Шопенгауэр, представляет собой "самое полное развитие практического разума в истинном и подлинном смысле этого слова, крайняя вершина, которой может достигнуть человек с помощью одного только разума" [276, с. 122].
Таков же праксиологический стандарт даосов (у вэй, не-деяние, слияние с природной спонтанностью).
"Справедливое существует от природы, а не по установлению, равно как и закон, и верный разум (так говорит Хрисипп в книге "О прекрасном")" (Диог. VII, 128-129).
Диоген сообщает: "Зенон первый заявил в трактате "О человеческой природе", что конечная цель - это жить согласно с природой, и это то же самое, что жить согласно с добродетелью: сама природа ведёт нас к добродетели. То же говорит Клеанф (в книге "О наслаждении"), Посидоний и Гекатон (в книге "О конечных целях"). И наоборот, жить добродетельно - это значит то же, что жить по опыту всего происходящего в природе (так пишет Хрисипп в I книге "О конечных целях"), потому что наша природа есть лишь часть целого. Стало быть, конечная цель определяется как жизнь, соответствующая природе (как нашей природе, так и природе целого), - жизнь, в которой мы воздерживаемся от всего, что запрещено общим законом, а закон этот - верный разум, всепроникающий и тождественный с Зевсом, направителем и распорядителем всего сущего. Это и есть добродетель и ровно текущая жизнь счастливого человека, в которой всё совершается согласно с божеством каждого и служит воле всеобщего распорядителя" (Диог. VII, 87-88). Стобей считает, что о жизни в согласии с природой впервые сказал Клеанф [см.: 276, с. 125]. "Природу, в согласии с которой следует жить, Хрисипп имеет в виду как общую, так и собственную человеческую, Клеанф только общую, не добавляя к ней никакой частной" (Диог. VII, 89).
Шопенгауэр настаивает на необходимости различения счастья (душевного покоя) как единственной цели стоической этики и добродетельного поведения как средства достижения указанной цели [276, с. 122]. Исходя из такого различения, стоицизм и можно считать "особым видом эвдемонизма" [276, с. 126].
Начиная от стоиков и кончая Юмом мир ценностей включался в мир "природного бытия"; только Кант впервые в философии настоял на разведении этих миров [278, с. 314].
Именно так представлена свобода "зрелого мужа" у Ницше. "Свободный к смерти и свободный в смерти, он говорит священное Нет, когда нет уже времни говорить Да: так понимает он смерть и жизнь" [189, с. 53]. Действие вопреки очевидному, которое только и можно назвать свободным, отрицается здесь во имя вынужденной покорности року.
Ср. с апологией рабства наличному в "Этике" Спинозы: "Человеческая способность весьма ограничена, и её бесконечно превосходит могущество внешних причин; а потому мы не имеем абсолютной возможности приспособлять внешние нам вещи к нашей пользе. Однако мы будем равнодушно переносить всё, что выпадает на нашу долю вопреки требованиям нашей пользы, если сознаем, что мы исполнили свой долг, что наша способность не простирается до того, чтобы мы могли избегнуть этого, и что мы составляем часть целой природы, порядку которой и следуем. Если мы ясно и отчётливо познаем это, то та наша часть, которая определяется как познавательная способность, то есть лучшая наша часть, найдёт в этом полное удовлетворение и будет стремиться пребывать в нём. Ибо, поскольку мы познаём, мы можем стремиться только к тому, что необходимо, и находить успокоение только в том, что истинно. А потому, поскольку мы познаём это правильно, такое стремление лучшей части нашей согласуется с порядком всей природы" [228, с. 339].
"Этика стоиков <...> исходит из мысли о неотвратимости всего того, что происходит. Но при этом она оказывается преисполненной необычайной внутренней энергии, высокого оптимизма. Она учит безропотно принимать все <...> удары судьбы. Но в ней нет ничего, что можно назвать смирением и что вызывает жалость к человеку. Более того, именно эта покорность судьбе как бы наполняет стоика какой-то особой гордостью" [83, с. 173]. Иначе говоря, стоическая мораль, исполненная гордыни и однозначного оптимизма, отрицает смирение и жалость, наполняя человека энергией разрушения и саморазрушения. Эта достаточно точная характеристика не позволяет даже думать о том, чтобы как-то отождествить или хотя бы уподобить её морали христианства.
"Но когда мелочи жизни проедали серебряную броню, когда бессмысленный, но хитрый <...> дух земли ставил перед философом дилемму жить ценой унижения или не жить, стоическая философия учила: умри. Умирая, стоики облегчённо вздыхали. Они позволяли себе умереть, взвесивши все обстоятельства. <...> Они не смотрели на смерть как на уничтожение, но как на возвращение к более лёгкому, к более счастливому, более гармоническому существованию. Тело их шло к четырём элементам, от которых было взято, а искра разума поглощалась огненным океаном вселенской Души. Принцип индивидуальности был для них источником страдания, тяжким бременем, которое они несли лишь из чувства долга перед верховным порядком, им было радостно сбросить с себя индивидуальность, отождествиться с целым" [169, с. 81].
Фридрих Ницше оправдывает естественность вольной смерти мудреца, рассуждая от противного: он объявляет воздержание от самоубийства "неестественным" для человека. "Здесь следует, - пишет он, - наперекор всей трусости предрассудка, прежде всего восстановить правильную, т.е. физиологическую, оценку так называемой естественной смерти, - которая в конце концов является также лишь неестественной, самоубийством. Никогда не гибнешь от кого-либо другого, а всегда от самого себя (точнее, от того рода смерти, который ты сам предпочёл. - С.А.). Только это смерть при презреннейших условиях, несвободная смерть, смерть не вовремя, смерть труса. Следовало бы, из любви к жизни, - желать иной смерти, свободной, сознательной, без случая, без неожиданности" [188, с. 611]. Следует заметить, что христианство, в которое здесь метит Ницше, не считает невольную смерть "естественной" - ни по метафизическому происхождению (как следствие свободно избранного греха), ни по конкретному сроку (как результат Божественного усмотрения). Такая смерть и есть смерть истинно свободная (ибо человек не имеет с ней никакого вольного соглашения, не связывает себя с ней), сознательная (ибо человек в своём отрицательном отношении к смерти не теряет разума), не случайная (ибо промысл Божий не есть ни судьба, ни случай) и всегда предполагаемая (ибо человек, занятый заботой о собственной греховности, занят, по сути дела, заботой о собственной смерти). Ницше видит всё противоположным образом именно потому, что хочет занимать физиологическую позицию.
Диоген пишет: "А о том, как умер Зенон, рассказали и мы в нашей книге "Все размеры" такими стихами:
Так говорят: китиец Зенон, утомлённый годами,
Мукам конец положил, отринув пищу;
Или же так он сказал, ударивши оземь рукою:
"Сам иду я к тебе - зачем зовёшь ты?""
(Диог. VII, 31).
Антипатр Сидонский написал о Зеноне, что "здравая мера ему путь проложила до звёзд" (Диог. VII, 29).
"Скончался он вот каким образом, - пишет Диоген. - У него сильно болели дёсны, и врачи предписали ему три дня воздерживаться от пищи. От этого ему стало легче, и тогда врач разрешил ему вернуться к обычной еде, но он отказался, заявив, что зашёл уже слишком далеко, и продолжал воздержание, пока не умер" (Диог. VII, 176). Клеанф, уточняет Монтень, "изведав уже некую сладость, порождаемую угасанием сил, принял решение не возвращаться вспять и переступил порог, к которому успел уже так близко придвинуться" [177, 2, с. 308].
Видимо, таким же образом покончил с собой и Анаксагор. Сосредоточившись только на "умозрении природы" (Диог. II, 7) и будучи "физиком" (59 A 4 DK), он тем не менее был осуждён на смерть по этическим или политическим мотивам (Диог. II, 12; ср.: 59 A 3 DK). Гермипп в "Жизнеописаниях" рассказывает, что в ожидании казни его заключили в тюрьму; тогда Перикл обратился к народу с вопросом: даёт ли его, Перикла, жизнь какой-нибудь повод к нареканиям? Услышав в ответ, что народу не в чем его упрекнуть, он сказал: "А между тем я ученик этого человека. Так не поддавайтесь клевете и не казните его, а послушайтесь меня и отпустите". Анаксагора отпустили, но он не вынес обиды и сам лишил себя жизни (Диог. II, 13). Диоген так описывает это событие:
Некогда солнце считал огнедышащей глыбой железной
И посему умереть должен был Анаксагор.
Спас его друг Перикл, но он со спокойствием духа,
Как настоящий мудрец, сам себя жизни лишил
(Диог. II, 15).
Это случилось или в Афинах (как думает Плутарх) (59 A 32 DK), или уже в Лампсаке, куда философ удалился в изгнание (59 A 3 DK); способом самоубийства источники согласно называют отказ от пищи. Предварительное согласие со смертью и готовность к самоубийству базируются у Анаксагора на уже известном "физическом" основании: он уверен, что и ему, и его сыновьям, и его судьям "давно уже вынесла свой смертный приговор природа" (Диог. II, 13). Сокрушающимся о его гибели на чужбине он заявил, что "спуск в Аид отовсюду одинаков" (Диог. II, 11; 59 A 34 a DK). На природную необходимость возвращения всего сущего в небытие Анаксагор указывает, квалифицируя время до рождения (а отчасти и сон) в качестве "урока смерти" (59 A 34 DK). По поводу достоверности сообщения Гермиппа о самоубийстве Анаксагора см.: Бергер А.К. Анаксагор и афинская демократия // Вестник древней истории. 1960. N 3. С. 75. На отказ от пищи как один из способов самоубийства указывает Сенека (Ep. LXX, 9). Этот способ избрал и французский король Карл VII (победитель англичан в Столетней войне), который в 1461 году умер от голода, боясь умереть от яда [47, с. 72-73].
Диоген сообщает, что "иные говорят, будто умер он от припадка хохота: увидев, как осёл сожрал его смоквы, он крикнул старухе, что теперь надо дать ослу чистого вина промыть глотку, закатился смехом и испустил дух" (Диог. VII, 185); правда, Диоген предполагает, что ослом мог оказаться сам Хрисипп, до смерти упившийся неразбавленным вином:
Хлебнув вина до головокружения,
Хрисипп без всякой жалости
С душой расстался, с родиной и с Портиком,
Чтоб стать жильцом аидовым
(Диог. VII, 184).
О принципиальном различии индийской аскетики и православного подвига см.: 248, с. 291-292.
По сообщению джайнского предания, Чандрагупта, основатель династии Маурья, победитель Селевка Никатора [25, с. 61], "принял джайнизм", а в конце своей жизни отошёл от политики и стал отшельником [43, с. 85-86]. Он покончил с собой (ок. 300 г. до Р.Х.) традиционным для джайнов способом уморил себя голодом [25, с. 61].
Артур Шопенгауэр своеобразно обосновывает эту идею достижения окончательной пассивности через "добровольно избираемую на высшей ступени аскезы голодную смерть". На этой ступени "полное отрицание воли может достигнуть такой силы, когда отпадает даже та воля, которая необходима для поддержания телесной жизни принятием пищи". Аскет, достигший "абсолютной резиньяции", совершает самоубийство совершенно особого рода: оно "вовсе не вытекает из воли к жизни", как все прочие самоубийства. "Другой род смерти, помимо голодной, здесь даже и немыслим (разве придуманный каким-нибудь особым изуверством), ибо желание прекратить мучения было бы уже в сущности некоторой степенью утверждения воли" [276, с. 369].
Надежда, согласно Спинозе, есть "непостоянное удовольствие, возникающее из идеи будущей или прошедшей вещи, в исходе которой мы до некоторой степени сомневаемся"; страх - это "непостоянное неудовольствие, возникшее из идеи будущей или прошедшей вещи, в исходе которой мы до некоторой степени сомневаемся". Таким образом, страх и надежда связаны друг с другом: "нет ни надежды без страха, ни страха без надежды". Надеющийся боится, что его надежда не осуществится, а боящийся надеется, что причина его страха окажется ложной. Если исчезает сомнение, то надежда оборачивается уверенностью, а страх отчаянием [228, с. 224-226, 299].
Смех, как крайность, нарушающая меру, в Греции должен был осуждаться [13, с. 67]. Так, в "Государстве" Платона Сократ указывает на опасность чрезмерной смешливости: "почти всегда приступ сильного смеха сменяется потом совсем иным настроением"; значит, "нельзя допускать, чтобы изображали, как смех одолевает достойных людей и уж всего менее богов" (Государство 388 е - 389 а). Однако, как видим, в подобных случаях речь вовсе не идёт о "пограничных ситуациях", актуализирующих возможность "божественности" человека.
Божественный хохот предстаёт как "квинтэссенция" [156, с. 495] не только греческих богов. Известна легенда о божественном смехе японских ками. Брат солнечной богини Аматэрасу по имени Сусаноо в припадке бешенства устроил погром в её доме, и Аматэрасу, обидевшись, укрылась в небесной пещере, а мир погрузился во тьму. Небесные божества разными способами пытались выманить Аматэрасу из её укрытия, но тщетно. Тогда "богиня Амэ-но удзумэ, забравшись на перевёрнутый котёл, начала энергично на нём плясать. Войдя в экстаз, она сбросила с себя одежды. Это так развеселило собравшихся ками, что они разразились хохотом, потрясшим небесную страну Такама-га хара". Заинтересовавшись причиной смеха, Аматэрасу выглянула из пещеры, и небесный силач Амэ-но татикарао вытащил её наружу (Светлов Г.Е. Путь богов. М.: Мысль, 1985. С. 32-33).
Трудно сказать определённо, был ли поступок Сократа самоубийством: с одной стороны, он выпил яд не по своей воле, а по приговору суда; с другой стороны, этот приговор был во многом спровоцирован поведением самого Сократа. "Сократ хотел умереть, - утверждает Ф. Ницше, - не Афины, он дал себе чашу с ядом, он вынудил Афины дать ему её" [188, с. 567], ибо жизнь Сократу "надоела" [188, с. 563]. Того же мнения придерживается С.С. Аверинцев [13, с. 69]. Б.Г. Юдин уточняет: решения и действия Сократа "допустимо толковать именно как самоубийство - и в том смысле, что он отказывается от подготовленного друзьями побега, не желая таким образом сохранить свою жизнь, и в том смысле, что он сам добровольно выпивает смертельный яд". Более того, "Сократ действует отнюдь не импульсивно, а, напротив, развивает перед своими слушателями рациональную аргументацию, обосновывающую его выбор" [283, с. 42]. В. Виндельбанд высказывает иную точку зрения: "Может быть, семидесятилетний старик утомился жизнью и захотел, несмотря на своё презрение к самоубийству, воспользоваться рукою судьи? Он был бы худшим из софистов, если бы сознательно и намеренно вызвал с этой целью смертный приговор. <...> Ничего подобного не хотел Сократ. <...> Не заботясь ни о каких последствиях, он делал то, к чему его принуждала его натура: он сказал правду, он высказал своё убеждение. Он верил, что заслужил гражданские почести, и требовал их" [56, с. 67-68]. Тем не менее, если верить Платону, Сократ действительно был готов умереть (Апология 40 а - 41 е). Не будь этой внутренней готовности, не будь этого согласия с положением дел, сама смерть не стала бы необходимостью. Папий Иерапольский рассказал "о чуде с Иустом, Варсавой по прозвищу (Деян 1: 23): он выпил смертельный яд и по милости Господней (δια την του Κυρίου χάριν) не потерпел никакого вреда" (Евсевий, Церковная история III, 39). Это сообщение связано с евангельским знамением (Мк 16:18): "И если что смертоносное выпьют, не повредит им" (Мещерский Н.А. К датировке заключительного зачала Евангелия от Марка // Палестинский сборник. Вып. 28 (91). Л.: Наука, 1986. С. 111). Подобное событие описано и в Житии св. Константина (Кирилла) Философа (см.: Сказания о начале славянской письменности. М.: Наука, 1981. С. 77). Сохранение надежды как возможности синергийного (Бого-человеческого) трансцендирования наличной онтологии позволяет удерживать смерть в статусе проблемы, ни в каком случае не соглашаясь с наступлением её необходимости.
Гегесий, как пишет Цицерон, "рассуждал об этом так пространно, что царь Птолемей, говорят, запретил ему выступать на эту тему, потому что многие, послушавши его, кончали жизнь самоубийством". Гегесию "принадлежит книга "Обессиленный", в которой герой собирается кончить жизнь голодовкой, друзья его разубеждают, а он им в ответ перечисляет все неприятности жизни" (Тускуланские беседы I, XXXIV, 84).
Ср. со словами Лукреция (III, 1082-1084):
То, чего у нас нет, представляется нам вожделенным,
Но, достигая его, вожделенно мы ищем другого,
И неуёмной всегда томимся мы жаждою жизни.
Ср.: "Гегесий говорил, что всё, что касается нашей смерти или нашей жизни, должно зависеть от нас" [177, 2, с. 24].
М. Гюйо предположил, что учение Гегесия явилось "своего рода синтезом, вероятно бессознательным, буддийских идей с идеями киренейцев" [84, с. 199].
См. об этом: Карпицкий Н.Н. Хохот олимпийцев и ирония Мокшадхармы // Дефиниции культуры. Вып. 2. Томск, 1996. С. 85.
Блестящую характеристику сущностной связи смеха с насилием над личностью и со смертью см. в ст.: Аверинцев С.С. Бахтин, смех, христианская культура [12].
Лев Шестов указывал, что "стоицизм под разными нарядами дожил и до наших дней" [174, с. V].
См.: Танатография Эроса. СПб., 1994. С. VI.
За год до смерти Батай написал: "Я думаю, что... может быть, я льщу себе, смерть кажется мне самым смешным делом на свете... Не то чтобы я не боялся её! Но ведь можно посмеяться над тем, чего боишься. Я даже склонен думать, что смех... - это смех над смертью" (Танатография Эроса, с. 344).
Для постмодернизма характерны "размывание (стирание) фундаментальных смысловых, ценностных, моральных оппозиций, которые в социокультурном космосе издавна играли роль "системы координат", создающей возможность для самоидентификации личности", отказ от "различения добра и зла, истины и лжи, сакрального и профанного" [222, с. 48].
Христианская аскетическая традиция утверждает: "если ничто так не согласно со смиренномудрием, как плач, то, без сомнения, ничто столько не противится ему, как смех", признак божественно-самоубийственной гордыни (Преп. Иоанн. Лествица, VII, 8); поэтому лишь тот, "кто облёкся в блаженный, благодатный плач, как в брачную одежду, тот познал духовный смех души", высшую радость богообщения (Лествица, VII, 40). Ср. с призывом апостола Иакова, предлагающего перенести внимание с атараксии на заботу: "Смех ваш да обратится в плач" (Иак 4:9), а также с предупреждением Самого Христа, обращённым к тем, кто не внял такому призыву: "Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете" (Лк 6:25).
В некоторых библейских речениях страх и надежда представлены в двуединстве, почти в тождестве: "В страхе пред Господом надежда твёрдая, и сынам Своим Он прибежище. Страх Господень источник жизни, удаляющий от сетей смерти" (Притч 14:26-27); "Богобоязненность твоя не должна ли быть твоею надеждою, и непорочность путей твоих упованием твоим?" (Иов 4:6).
Те же рассуждения см. в статьях: Аверинцев С.С. Западно-восточный генезис литературных канонов византийского средневековья // Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. М.: Наука, 1974. С. 164-182; Аверинцев С.С. На перекрёстке литературных традиций (Византийская литература: истоки и творческие принципы) // Вопросы литературы. 1973. N 2. С. 150-183.
Смех, безусловно, есть одно из качеств, отличающих человека от животного (как, впрочем, и самоубийство). "Что смех присущ человеку, это означает лишь одно: всем нам, увы, присуща греховность" (Эко У. Имя розы. СПб.: Симпозиум, 2000. С. 565; см. дискуссию о смехе у Эко на с. 150-155). Наряду со смехом плач (как противоположное смеху) тоже "относится к тем проявлениям, которые отличают человека от животного" [276, с. 350]. Замечательны рассуждения Шопенгауэра о смысле плача. Не сама непосредственно ощущаемая боль, а лишь особого рода рефлексия над болью является причиной плача. В эту рефлексию обязательно включён момент со-страдания: мы уверены, что всякий другой страдающий получил бы нашу помощь; но в данном случае страдаем (то есть нуждаемся в сострадании и помощи) мы сами. Так возникает "это удивительно сложное настроение, где непосредственное чувство страдания лишь двойным окольным путём снова становится объектом восприятия, так что мы представляем его себе в виде чужого страдания, сочувствуем ему, а затем вновь неожиданно воспринимаем его как непосредственно собственное страдание". Таким образом, плач - это "сострадание, возвращённое к своему исходному пункту". Следовательно, мы можем сказать что плач всегда "обусловлен способностью к любви и состраданию" (в противоположность смеху как выражению равнодушия и незаинтересованности); "тот, кто ещё может плакать, непременно способен и на любовь" [276, с. 350]. Плач указывает на способность поставить себя на место всякого страждущего, узнать в его обстоятельствах "жребий всего человечества и, следовательно, прежде всего - свой жребий". Такова причина и тех слёз, которые вызваны какой-либо конкретной смертью: "нас охватывает главным образом жалость к судьбе всего человечества, обречённого конечности, в силу которой всякая жизнь, столь кипучая и часто столь плодотворная, должна погаснуть и обратиться в ничто; но в этой общей судьбе человечества каждый замечает прежде всего свой собственный удел" [276, с. 351].
Эту же идею использовали эпикурейцы (в частности, Лукреций). Критика этой идеи будет дана ниже.
Таково же и убеждение Спинозы: "Все наши стремления или желания вытекают из необходимости нашей природы таким образом, что могут быть поняты или через одну только неё как через свою ближайшую причину, или же поскольку мы составляем часть природы" [228, с. 329].
Эпиктет говорил, обращаясь к богу (ср.: Федон 62): "Ты хочешь, чтобы я ещё существовал? Я буду существовать как человек свободный, человек благородный, как захотел ты. Ты ведь создал меня неподвластным помехам во всём моём. Но больше я тебе не нужен? Да будет тебе во благо!" [цит. по: 83, с. 182].
Сенека в данном случае совершенно прав: для коммуникации с имманентными божествами требуется не молитва, а заклинание или жертва.
Знание добра и зла прямо увязывается Сенекой с божественностью человека; философия, дающая такое знание, исполняет функции змея с его "будете как боги" (Быт 3:5). "Сделать меня равным богу - вот что обещала мне философия. Этим она меня манила, ради этого я пришёл. Так сдержи слово!" (Ep. XLVIII, 11).
"Чем велик мудрец? Величием духа" (Ep. LXXXVII, 18). Ср.: Мф 5:3.
В возможности совершенствования, присущей человеку, Сенека видит даже некоторое его преимущество в сравнении с богами. "Намного обогнав всех смертных, ты ненамного отстанешь от богов. Ты спросишь, в чём будет между вами разница? - Они долговечнее тебя. Но ведь, право, нужно быть великим искусником, чтобы в ничтожно малое вместить всё. Для мудрого его век так же долог, как для богов - вечность. А кое в чём мудрец и превосходит бога: тот избавлен от страха благодаря природе, а этот - благодаря себе самому. И это очень немало - при человеческой слабости обладать бесстрашием бога!" (Ep. LIII, 11-12).
Об этом же сообщает и платоновская идея "припоминания" (интеллектуально-мистический тип катарсиса), и эмпедокловская катартическая магия.
Важно, что здесь имеется в виду не то, с чем умирает человек, а как он умирает, то есть само событие смерти, ещё точнее - способ смерти. Этот смысловой нюанс не позволяет сблизить стоическое отношение к умиранию с христианским.
Ср. с противоположным мнением Спинозы о том, что мудрец "ни о чём так мало не думает, как о смерти" [228, с. 322]. Того же мнения о "мудреце" придерживается и Батай: "Идеальный человек, воплощающий разум, остаётся посторонним смерти" [32, с. 228].
Иначе говоря, Сенека предлагает перевести страх в отчаяние, если пользоваться терминологией Спинозы [ср.: 228, с. 225].
Сенека здесь указывает на то, что смерть реальна и актуальна лишь для разумного существа; для животного его смерть действительно ему не дана, поэтому животное не может к ней как-либо относиться.
Эпиктет вопрошал: "Итак, неужели я не буду больше существовать? Нет, будешь, в другой вещи, в которой теперь нуждается мир, ибо ты родился не тогда, когда захотел, но когда мир возымел нужду в тебе" [183, с. 32-33]. Следовательно, справедливая смерть наступает по той же мировой "нужде", что и рождение, согласно необходимому закону универсального целого.
Сенека знал, что говорил, когда приводил в пример театральное действие: будучи автором ряда пьес, он и в них не уставал обсуждать мотивы и способы самоубийства. См.: Сенека. Трагедии. М.: Искусство, 1991. 496 с.
О причинах и способах самоубийства "людей низшего разряда" (Ep. LXX, 19) см.: Ep. IV, 4; Ep. LXX, 19-26; Ep. LXXVII, 15. "Оглянись на наше время, которое мы порицаем за изнеженность и слабость: оно покажет тебе людей всех сословий, всех состояний, всех возрастов, которые смертью положили конец своим несчастьям" (Ep. XXIV, 11).
Эпиктет заявлял: "Вспомни, что двери стоят открытыми. Не будь малодушнее детей. Как эти последние, если история им не нравится, говорят: я не играю больше, - так скажи и ты, если тебе что-либо представляется таким: я не играю больше и ухожу; если же ты остаёшься, то не жалуйся!" [72, с. 224].
По справедливости, конечно, индивид не может не подчиниться природе, что выяснено ещё в рассуждении Анаксимандра.
Именно в вопросе о смертности человека самым серьёзным образом разошлись позиции античной языческой философии и только что родившегося христианства. Апостол Павел, вступив в дискуссию с эпикурейцами и стоиками, был приведён ими в афинский ареопаг (Деян 17:17-20). "И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашёл и жертвенник, на котором написано "неведомому Богу". Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам" (Деян 17:22-23). "Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределённого Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мёртвых. Услышав о воскресении мёртвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время. Итак Павел вышел из среды их" (Деян 17:30-33).
Здесь одно из коренных и очевидных отличий христианства с его опорой на веру, превышающую как незнание, так и знание, от пантеизма, отдающего человека в полное распоряжение знаемого (необходимого). Например, несовместимость учения и жизни Эпиктета с христианством почувствовал даже расположенный к нему Паскаль, заподозрив в нём superbe diabolique, дьявольскую гордыню [268, с. 142]. Этот грех автономной самодостаточности мудреца (будь то Сенека, Эпиктет или Спиноза), способного достичь удовлетворения в своём совершенном совпадении с совершенным этическим эталоном, приводил в ужас Кьеркегора [268, с. 143]. Грех именно и представляет собой "безусловное доверие к знанию, обладающему незыблемыми, ни от кого не зависящими истинами", а также сопровождающее это до-верие "убеждение в возможности, при желании, своими силами осуществить праведную жизнь" [268, с. 190].
Фатализм даёт "на все критические случаи в жизни один ответ: всякая борьба тщетна" [91, с. 61].
По этому поводу Татиан замечает: "Умирайте не ради человеческого славобесия, <...> но презирайте смерть ради познания Бога" (Слово к эллинам, 19). Иными словами, мотивом презрения к смерти должна быть не земная слава, но приближение к Богу.
В раннем платоновском диалоге "Лисид" Сократ прямо говорит о высокой ценности жизни сына для отца; если последний видит, что его сын выпил цикуту (κώνειον, cicuta virosa), то ценным для него становится и вино как средство спасения от отравления (219 е). Самого себя Сократ не стал спасать от цикуты. Смерть Сократа, понятая как самоубийство, - единственное, что может спасти достоинство этого "декадента" в глазах Ницше. Тирания практического разума, утверждаемая Сократом, свидетельствовала лишь об упадке жизненных сил. "Понял ли он это сам, этот умнейший из всех перехитривших самих себя? Не сказал ли он это себе под конец мудростью своего мужества перед смертью?" [188, с. 567]. Вольная смерть Сократа (а не его нравоучения и не его "диалектика") - свидетельство достигнутой им "мудрости". Видимо, именно Сократ имеется в виду в том пассаже Ницше, где он рассуждает о достойной смерти. "Смерть, выбранная добровольно, смерть вовремя, светлая и радостная, принимаемая среди детей и свидетелей: так что ещё возможно действительное прощание, когда ещё существует тот, кто прощается, равным образом действительная оценка достигнутого и того, чего желал, подведение итога жизни" [188, с. 611], - таков ницшеанский стандарт, совпадающий со стоическим.
Марк Порций Катон Младший (95-46 до Р.Х.) - философ-стоик и политик, защитник традиционной республики и противник Помпея и Цезаря в пору их союза. С началом их вражды присоединился к Помпею, а после его разгрома пытался организовать сопротивление Цезарю в Северной Африке. Потерпев поражение, покончил с собой в Утике (Ливия), бросившись на меч, а потом сорвав повязку со своей раны (в память об этом событии он и прозван Утическим). Катон - любимый герой стоической оппозиции [217, с. 431], превратившийся в хрестоматийный "образец для совершенствования" (Ep. XI, 9-10): "Взгляни на Марка Катона, подносящего чистейшие свои руки к святой груди и раздирающего слишком неглубокие раны. Скажешь ли ему: "Желаю тебе исполнения всех желаний" или "Соболезную тебе" - или скажешь: "Счастье твоему делу"?" (Ep. LXVII, 13). Сенека говорит о нём: "Устроив дела, он решил действовать так, чтобы никому не удалось ни убить Катона, ни спасти. И, обнажив меч, который до того дня хранил не запятнанным кровью, он сказал: "Ты ничего не добилась, фортуна, воспрепятствовав всем моим начинаньям! Не за свою свободу я сражался, а за свободу родины, не ради того был так упорен, чтобы жить свободным, но ради того, чтобы жить среди свободных. А теперь, коль скоро так плачевны дела человеческого рода, Катону пора уходить в безопасное место". И он нанёс себе смертельную рану. А когда врачи перевязали её, он, почти лишившись крови, лишившись сил, но сохранив всё мужество, в гневе не только на Цезаря, но и на себя, вскрыл себе рану голыми руками и даже не испустил, а силой исторг из груди свою благородную душу, презирающую любую власть!" (Ep. XXIV, 6-8). Так Катон, "не испустив дух от меча, руками открыл ему дорогу" (Ep. LXX, 19). Катон "и на стороне побеждённых не мог быть побеждён" (Ep. LXXI, 8), своими руками сделав всё, "чтобы Катон не понёс урона" (Ep. LXXI, 10). Катону, считает Сенека, его смерть "послужила к чести" (Ep. LXXXII, 13). "Наш Катон, - пишет Цицерон, - ушёл из жизни так, словно радовался поводу умереть" (Тускуланские беседы I, XXX, 74). В день своего поражения Катон "играл в мяч, в ночь смерти читал книгу; для него было всё равно, что лишиться претуры, что жизни: ведь он убедил себя в необходимости стойко терпеть любые превратности случая" (Ep. LXXI, 11). И всё же, несмотря на это убеждение, Катон, потерпев поражение, не его стал терпеть. Катон, как утверждает В. Соловьёв, принадлежит к разряду таких людей, которые "связывают свою личную страсть с тем или другим историческим интересом", полагая в этом интересе весь смысл своей деятельности; о смысле же "всеобщей жизни", от которого зависит и смысл их собственного существования, они "не хотят ничего знать" [224, с. 85]. Для них источником смерти становится их же собственные политические пристрастия. Верность Богу или ближнему заменена тут верностью политической доктрине или даже просто политической партии.
Эпиктет "обличал философов, которые вместо того, чтобы подражать Зенону и Хризиппу, заучивают наизусть и толкуют отрывки из их сочинений" [268, с. 142]; но мы знаем, чем закончили Зенон и Хрисипп и чем, следовательно, должно закончиться подражание им.
Стоическая "крепость духа", как пишет Бланшо, "впечатляет нас". "Нам приятно видеть, с какой трезвой невозмутимостью встречают свой конец великие люди" [39, с. 206].
Ср. с рассуждением Н.И. Трубникова: "Если ты захотел отнять у себя <...> жизнь, не забудь, что ты отнимешь её у тех, кто теперь лишён силы и власти остановить твою руку. А потом и ты не имеешь нравственной силы и власти, помимо власти грубого насилия, распорядиться их правом на твою и на всякую другую жизнь. Не можешь пренебречь своим долгом перед ними, теперь полностью находящимися в твоей власти, беззащитными перед тобой. Убивая себя, ты убиваешь их, и потому всякое самоубийство есть убийство" [242, с. 109].
Паулина, узнав о полученном Сенекой приказе Нерона покончить с собой, вместе с мужем вскрыла себе вены; однако по указанию императора ей не позволили сразу умереть и остановили кровь; всё же после этого она долго болела и скончалась несколько лет спустя (Тацит, Анналы XV, 61-64).
А.Ф. Лосев трактует эпикурейские πρόληψις как "апперцепции" [92, с. 496]. Цицерон (О природе богов I, 43-44) переводит этот термин как anticipatio ("некоторые предвосхищённые душою представления о вещах, представления, без которых никому невозможно ни понять, ни исследовать, ни рассудить") или praenotio ("предзнание", "предварительное знание").
Имеет место даже такое мнение, что "эпикурейское божество представляло собой гипостазированный образ мудреца, достигшего атараксии, который сам, пребывая в ней, подобен богу" [264, с. 164].
О "междумириях" как местах жительства богов см. также у Цицерона (О природе богов I, 18; О дивинации II, 40).
Однако у поэта Лукреция, прямо воспевавшего животворную силу природы, можно обнаружить и пантеистические тенденции [46, с.22, 24, 25, 27, 29-30]. Да и сам Эпикур был "недалёк от олицетворения природы" [46, с.21].
Шопенгауэр отмечает эту связь физической теологии с эстетикой в античной философии, где "чувственный мир утверждает своё исключительное право на реальность. И боги тоже всецело находятся в нём - как горизонт, замыкающий перспективу и дающий удовлетворение глазам" [277, с. 460].
Термин, образованный от соединения греческих слов "ανθρωπος" - "человек" и "λατρεια" - "служение, поклонение".
Восторженные (почти религиозные) отзывы Лукреция об Эпикуре см.: Лукр. III, 1-17, 28-30, 1042-1043; V, 1-13 и др. Ср.: Цицерон, О природе богов I, 43, где Гай Веллей называет Эпикура "божественным". Безбожие часто и довольно легко перерастает в самообожествление, в человекобожие. Интересный факт приводит Диоген Лаэртский: у известного Аристиппа учился "Феодор, прозванный сперва безбожником, а потом богом" (Диог. VII, 86). Потеряв Бога, человек стремится сам занять Его место.
Собственно говоря, всё познание сводится к пассивному созерцанию атомов. "Диалектику они (то есть эпикурейцы. - С.А.) отвергают как науку излишнюю - в физике, говорят они, достаточно пользоваться словами, соответствующими предметам" (Диог. Х, 31). Но главный предмет "физики" ноуменален - это те же умопостигаемые атомы; поэтому "физика" в конечном и главном смысле есть особого рода метафизика - метафизика наличного.
А.Ф. Лосев называет учение Эпикура о душе "чересчур беспомощным"; это учение - "одна из слабейших и ничтожнейших сторон античного эпикуреизма" [92, с. 500].
Ср. с христологическим догматом, апофатически утверждающим неслиянно-нераздельное сочетание двух природ в единой ипостаси (личности) Христа.
На той же мифологической идее гомогенности и континуальности бытия выстроена "теория эволюции".
Лукреций (III, 1039-1041) пишет, что
Демокрит, когда уже зрелая старость
Предупредила его о слабеющей силе рассудка,
Сам добровольно понёс свою голову смерти навстречу.
"Когда Демокрит почувствовал, что он уже совершенно немощен, он, подобно Анаксагору, добровольно ушёл из жизни" (Виц Б.В. Демокрит. М.: Мысль, 1979. С. 38). Ср.: Диог., IX, 43.
Диоген Синопский не считал жизнь злом; он утверждал, что только "дурная жизнь" - зло (Диог. VI, 55). Поэтому, например, человеку со скверным характером он рекомендует "удавиться" (Диог. VI, 59). Увидев женщин, повесившихся на оливковом дереве, он воскликнул: "О, если бы все деревья приносили такие плоды!" (Диог. VI, 52). По одной из версий, сам Диоген умер, задержав дыхание (об этом сообщают Керекид из Мегалополя и другие); однако Антисфен считает это сообщение домыслом его учеников (Диог. VI, 76-77). Тем не менее Лоренцо Валла уже не сомневается в самоубийстве Диогена, "который, осмелюсь поклясться, наложил на себя руки из-за отвращения к жизни. Какое представление он устроил из самой смерти - и со словами, и с действиями! Он разрезал себе горло и говорил, что не отдаётся смерти, но изгоняет лихорадку" [50, с. 183]. Диоген, "идеал стоиков и киников", на себе самом испытал "искусство гладиаторов", став "и убитым и убийцей" [50, с. 183]. Валла, склонный к эпикурейству в этике [50, с. 5], критически представляет смерть киника Диогена, пользуясь версией, изложенной у блаженного Иеронима (Против Иовиана II, 14) [50, с. 427]. Упомянутый Антисфен, учитель Диогена, высказывал следующее соображение (в передаче Плутарха): "Надо обрести или разум, или петлю"; иначе говоря, по толкованию Шопенгауэра, "жизнь так полна мук и терзаний, что надо либо возвыситься над нею разумной мыслью, либо уйти из неё" [276, с. 123]. О самоубийстве киников Метрокла и Мениппа сообщает Диоген Лаэртский (Диог. VI, 95, 100).
Et saepe usque adeo, mortis formidine, vitae
Percipit humanos odium lucisque videndae,
Ut sibi consciscant moerenti pectore lethum,
Obliti fontem curarum hunc esse timorem.
Здесь Эпикур различает благо и ценность. О таком различении см. статью Владимира Шохина [278, с. 296-297].
Классификацию желаний Эпикур даёт в своих "Главных мыслях" (см.: Диог. Х, 148-149).
Nam si grata fuit vita anteacta priorque,
Et non omnia, pertusum congesta quasi in vas,
Commoda perfluxere atque ingrata interiere,
Cur non, ut plenus vitae conviva recedis,
Aequo animoque capis securam, stulte, quietem?
Феогнид, Элегии, 425-428 (пер. В. Вересаева):
Лучшая доля для смертных - на свет никогда не родиться
И никогда не видать яркого солнца лучей.
Если ж родился, войти поскорее в ворота Аида
И глубоко под землёй в тёмной могиле лежать
[281, с. 309]. Ср. у того же Феогнида (175-176):
Чтоб нищеты избежать, и в глубокую бездну морскую
Броситься стоит, и вниз, в пропасть, с высокой скалы!
[281, с. 305].
Умер он "от роду семидесяти двух лет". "Смерть его случилась от камня в почках, а болел он перед тем четырнадцать дней <...>. Гермипп рассказывает, что он лёг в медную ванну с горячей водой, попросил неразбавленного вина, выпил, пожелал друзьям не забывать его учений и так скончался" (Диог. Х, 15).
Самодостаточность индивида, уклонившегося от всего, ставит его вплотную к смерти. "Самодовление, - заявляет Эпикур в письме к Менекею, - мы считаем великим благом" (Диог. Х, 130). В поэме Лукреция сквозит "трагическое сознание отчуждения личности от внешних сил" [195, с. 327].
Да ведь и сам Эпикур отрицал диалектику! (Диог. Х, 31).
В монистически устроенном мире смерть неизбежна: "здесь, в имманентности" от смерти "некуда деться" [215, с. 122-123]. Поэтому здесь возможны только три типа отношений к собственной смерти: "смирение, экранирование (погружение её в зону "невидимости") и обман смерти" [215, с. 122].
Смерть присутствует в настоящем сознательного существа, и потому эта смерть, как грозящее небытие, ни в коем случае не может быть уравнена с тем небытием, которое мыслимо в прошлом, до индивида. "Контакт с настоящим, - пишет Левинас, - не позволяет такому небытию стать равным небытию, которое ему предшествовало: постоянная угроза смерти не останавливает "фарс жизни", но является его частью. Если смерть - небытие, то это не просто небытие. Оно сохраняет реальность проигранной партии" (Левинас Э. От существования к существующему. С. 48).
Nil igitur mors est ad nos neque pertinet hilum,
Quandoquidem natura animi mortalis habetur.
Et vel ut ante acto nil tempore sensimus aegri.
Sic, ubi non erimus, cum corporis atque animai
Discidium fuerit, quibus e sumus uniter apti,
Scilicet haut nobis quicquam, qui non erimus tum,
Accidere omnino poterit sensumque movere.
Если Эпикур обосновал допустимость самоубийства, то Лукреций реализовал это обоснование. "Не успев отделать своего творения, Лукреций наложил на себя руку и умер в 55 году" [46, с.3]. Известно сообщение отца Церкви блаженного Иеронима о том, что Лукреций "propria manu se interfecit" [46, с.4]. Если рассмотреть известие Иеронима "об умственном расстройстве и о самоубийстве" Лукреция "в связи с мировоззением поэта, поскольку последнее выражено в его поэме, то едва ли можно будет усомниться в достоверности предания" [46, с.5].
Прямая связь атомизма с суицидом зафиксирована в одной из самых известных предсмертных записок. Речь идёт о "дневнике" самоубийцы, опубликованном в приложении к исследованию А.В. Лихачёва в 1882 году. "Я не атеист, но и не теист, - пишет о себе этот самоубийца, тем самым равняя свою мировоззренческую позицию с позицией Эпикура, - для меня нет жизни будущей, а есть только жизнь атомов, выражающаяся в различных сочетаниях, производимых силою взаимного притяжения. Нынче известная масса составляет мою особу, а по смерти она уйдёт на образование других организмов, но никогда не пропадёт, а потому для меня всё равно - жить ли под настоящим моим видом или принять какую-либо иную форму. Вследствие, вероятно, особого склада мозга (я не признаю существования убеждений и то, что другие называют убеждениями, считаю актом того или другого склада мозга) я пришёл к заключению, что человеческая порода так же преходяща, как и все другие, и что даже самый земной шар не вечен, вечны только одни атомы с их взаимным притяжением" [149, с. 242]. Ирина Паперно считает, что автор этого "дневника" - тот самый юрист Крамер, историю самоубийства которого Ф.М. Достоевский узнал от А.Ф. Кони и затем положил в основу образа самоубийцы Крафта в "Подростке" [199, с. 170-171]. Материалистическое "исповедание веры" Крамера, указывает И. Паперно, инспирировано теорией бессмертия материи, сформулированной Бюхнером в книге "Сила и материя" [199, с. 171]. Атомизм в приведённом отрывке положен как необходимое условие суицида, но не как его достаточное основание: "не это заставляет меня поднять на себя руку, эти мысли только дают мне силу расстаться с жизнью" [149, с. 242]. Итак, "если нет Бога и нет бессмертия души, человек ставит себя на место Бога": полагая себя субстанциально бессмертным, человек, который "верит лишь в вечную жизнь атомов", испытывает настойчивую "тягу к самоуничтожению" [199, с. 189], которая может быть реализована в связи с каким угодно поводом.
Этим-то деистическая программа и отличается от теистической. "Эпикурейская этика и христианское нравоучение диаметрально противоположны по содержанию"; в них по-разному отражается "свойственный эпохе интерес к отдельной личности и проблеме достижения ею счастья" [264, с. 164].
Замечу, что отсутствие у нас внежизненного опыта значит только отсутствие у нас внежизненного опыта и ничего больше. Я не имею опыта посмертного существования, но я равно не имею и опыта посмертного не-существования. Знание, основанное только на частном (конечном) опыте, не может быть удовлетворительно применено к решению метафизических вопросов; оно их не решает, а устраняет. Для человека, живущего только наличным опытом, нет бессмертия, как для лягушки нет зимы.
На отсутствии такого критерия настаивает и Спиноза: свободный человек, руководствующийся "одним только разумом", "не имеет никакого понятия о зле, а следовательно, также и о добре" [228, с. 322].
Ср. с противоположным мнением М. Бахтина: "ни одно теоретическое определение и положение не может заключать в себе момент долженствования, и он невыводим из него" [29, с. 85].
Под "возможным" здесь (как обычно) понимается то, что "дано", "отпущено", "предоставлено" человеку как таковому (в себе). Такое "возможное" есть только способ ограничения.
Находились и "подражатели". Сообщают, что Юм одолжил свой "опыт" о самоубийстве одному из своих приятелей, который возвратил сочинение, уверяя, что оно понравилось ему более, чем всё прочитанное им до сих пор. В доказательство того, что сочинение Юма превосходно, этот приятель застрелился на другой день после возвращения рукописи [191, с. 30]. Юм не мог считать себя виновным в смерти товарища: ведь он оказался прав, ибо его сочинение принесло заранее определённый плод. "Знания, как правило, не служат оправданием ценностей; например, знание последствий действия ещё не задаёт предпочтения для действующего субъекта в его выборе самих планов действия, его целей и средств" [170, с. 69].
В связи с изложенной сейчас позицией Юма, оправдывающей безответственность человека, интересно суждение Владимира Соловьёва о Лермонтове. "С ранних лет ощутив в себе силу гения, Лермонтов принял её только как право, а не обязанность, как привилегию, а не как службу. Он думал, что его гениальность уполномочила его требовать от людей и от Бога всего, что ему хочется, не обязывая его относительно их ни к чему. Но пусть Бог и люди великодушно не настаивают на обязанности гениального человека. Ведь Богу ничего не нужно, а люди должны быть благодарны и за те искры, которые летят с костра, на котором сжигает себя гениальный человек. Пусть Бог на небе и люди на земле отпустят ему его медленное самоубийство" [223, с. 284]. Ср. с мнением А. Кручёных о Есенине: "...в том-то и беда, что не Есенин владел своим талантом, а талант Есениным" [141, с. 8].
Вольтер. Письма Меммия к Цицерону // Вольтер. Философские сочинения. М.: Наука, 1989. С. 473.
В качестве независимого (от религии) экспертного суждения об отношении философского деизма и философского пантеизма к собственно религии приведу здесь мнение Фрейда. "Когда дело идёт о вопросах религии, люди берут на себя грех изворотливой неискренности и интеллектуальной некорректности. Философы начинают непомерно расширять значения слов, пока в них почти ничего не остаётся от первоначального смысла. Какую-то размытую абстракцию, созданную ими самими, они называют "Богом" и тем самым выступают перед всем миром деистами, верующими в Бога, могут хвалиться, что познали более высокое, более чистое понятие Бога, хотя их Бог есть скорее пустая тень, а вовсе не могущественная Личность, о которой учит религия. Критики настаивают на том, чтобы считать "глубоко религиозным" человека, исповедующего чувство человеческого ничтожества и бессилия перед мировым целым, хотя основную суть религиозности составляет не это чувство, а лишь следующий шаг, реакция на него, ищущая помощи против этого чувства. Кто не делает этого шага, кто смиренно довольствуется мизерной ролью человека в громадном мире, тот скорее нерелигиозен в самом прямом смысле слова" (Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов. М.: Политиздат, 1989. С. 121). Итак, и деизм, и пантеизм суть варианты атеизма. Об этом мы получили свидетельство от "без-божного мышления", которое, по словам Хайдеггера, вынуждено отказаться от "философского бога, бога как causa sui" и тем самым невольно подвигает нас ближе к "Богу божественному" [256, с. 57-58].
Монтескьё, например, таким образом явил суть просвещенческого гуманизма в сфере защиты прав человека на самоубийство: "Самовольно разрешая душу от тела, самоубийца ведь только изменяет форму, но не уничтожает существа... Разве мировой порядок разрушится от того, что моя душа покинет моё тело? Не тщеславие ли это - воображать, что с уничтожением такого атома, как человеческий организм, связан вопрос о бытии вселенной?" [цит. по: 47, с. 108].
По Платону, начало космоса - "мудрость" или "ум", содержащиеся в универсальной "душе" (Филеб 30 с).
По словам Александра Кожева, именно Платон утвердил в философии принцип монистической (или "идентичной") онтологии [131, с. 69].
"Диалектический метод, - пишет Александр Кожев, - есть не что иное, как метод диалога, то есть дискуссии" [131, с. 21].
Прорыв к трансцендентному возможен только через прерывание диалектического континуитета. Как раз такой "разрыв непрерывности" и невозможно обнаружить у Платона, хотя его часто стремятся представить дуалистом (в противоположность Аристотелю) или, как это делает Александр Кожев, увидеть в нём чуть ли не христианского теолога, экстатически прозревающего "трансцендентного Бога" [131, с. 24]. Думается, не случайно Платон в ряде диалогов использует именно миф, позволяющий на своей территории и своими средствами связать то, что в процессе спекуляции не поддаётся однозначному определению, и тем самым завершить всякий дискурс.
"Благо существует не потому, что оно действует и думает, а только ввиду того, что оно покоится в себе самом. Это нечто, от чего зависит всё, но которое ни от чего не зависит" (Эннеады I, 7, 1) [цит. по: 15, с. 122]. В этом рассуждении Плотина пантеистически слиты понятия Бога, субстанции и судьбы.
Эта Адрастия и у самого Платона именуется "Дике" (Федр 248 с, 249 а).
Круг представлений, связанный с идеей бессмертия души и её перевоплощений - "наиболее весомый восточный идеологический массив в платонизме" [266, с. 145].
О таких "лишних людях" и их неспособности "умереть вовремя" с презрением говорит ницшевский Заратустра. Такому человеку "лучше бы никогда не родиться" [189, с. 51]. "Живут слишком многие, - продолжает Заратустра, - и слишком долго висят они на своих сучьях. Пусть же придёт буря и стряхнёт с дерева всё гнилое и червивое" [189, с. 52].
Самоубийство, как действие, влекущее состояние "экстремальной нечистоты", требовало соответствующей оборонительной (очистительной) реакции полиса. Человек, нарушивший законы социума, лишался своего статуса в нём (даже посмертно). Это выражалось прежде всего в запрете на погребение самоубийцы [218, с. 101]. Но поскольку в античной культуре отсутствовало адекватное представление о личности и личной воле, постольку акт самоубийства неизбежно должен был хотя бы отчасти оцениваться как стихийный, в каком-то смысле - как акт "природы". На такое восприятие самоубийства указывает ещё один способ реакции государства на вольную смерть своего гражданина - судебное преследование "орудия" суицида. В Афинах, например, судили всякий неодушевлённый предмет, который вызвал смерть гражданина, если было доказано, что в убийстве не участвовал человек [233, с. 130]. Данная практика нашла отражение в "Законах" Платона, где суждение о причинении смерти человеку каким-либо животным или предметом следует непосредственно за темой самоубийства. Например, животное уличённое судом в убийстве гражданина, "убивают и выбрасывают за пределы страны" (Законы 873 е); "виновный же предмет надо выбросить вон, как это было указано для животных" (Законы 874 а). Подобным образом подвергалась наказанию и рука самоубийцы. "Мы, - говорит Эсхин, - выбрасываем за пределы страны деревянные предметы, камни и железо, безгласные и бесчувственные вещи, если они, упав на кого-нибудь, убьют его; а если кто-либо покончит с собой, мы совершившую это руку погребаем отдельно от тела" (Эсхин, Против Ктесифонта 244) [282, с. 236]. "Предписывалось даже уничтожить или удалить за пределы города верёвку и сук, на которых повесился самоубийца" [218, с. 101].
Версию смерти Аристотеля Валла даёт по Григорию Богослову (Слово 4, против Юлиана, LXXII) [50, с. 431], который отмечает "любоведение и неутомимость Аристотеля, допытывавшегося причины перемен в Еврипе", что и привело его к смерти [75, 1, с. 92].
Данте в своей "Божественной комедии" помещает Аристотеля в первом круге Ада (Ад IV, 131). Аристотель, Платон, Пифагор и Диоген "мудри быша и во ад угодиша", как пишет о них протопоп Аввакум (Материалы для истории раскола за первое время его существования, издаваемые Братством св. Петра митрополита / Под ред. Н. Субботина. Т. 5. Часть 2: Сочинения бывшего Юрьевецкого протопопа Аввакума Петрова. М., 1879. С. 298). "Виждь, гордоусец и алманашник, где твой Платон и Пифагор! Тако их, яко свиней, вши съели и память их с шумом погибе, гордости их и уподобления ради к Богу" (Там же. С. 299).
Тема прощения возникает и при описании наказания души убийцы в Аиде.
Стоики, как мы видели, активно и результативно осмысливали такое "принуждение" как мотив к самоубийству. "Бог, обитающий в нас, - пишет в этой связи Цицерон, - запрещает нам покидать себя против его воли; но когда он сам предоставляет законный к этому повод, как некогда Сократу, недавно - Катону и нередко - многим другим, тогда поистине мудрец с радостью выйдет из этих потёмок к иному свету: не ломая стен тюрьмы (чтобы не нарушать законы), он выйдет по зову бога, словно по вызову начальника или иной законной власти" (Тускуланские беседы I, XXX, 74).
Монтень пишет: "Платон в своих "Законах" предписывает позорные похороны для того, кто лишил жизни и всего предназначенного ему судьбой своего самого близкого и больше чем друга, то есть самого себя, и сделал это не по общественному приговору и не по причине какой-либо печальной и неизбежной случайности и не из-за невыносимого стыда, а исключительно по трусости и слабости, то есть из малодушия" [177, 2, с. 26]. Например, Аякса (о котором речь пойдёт ниже), как самоубийцу, похоронили особым образом: "Агамемнон запретил предавать его тело огню, и Аякс единственным из всех, кто погиб под Троей, был похоронен в гробу" (Аполлодор, Эпитома V, 7).
Почитание (и непочитание) богов и родителей относилось в древней Греции к области ευσεβεια благочестия, включавшего в себя прежде всего исполнение долга по отношению к богам, родителям и отечеству [52, ст. 558]. Это "благочестие" было ориентировано не столько религиозно (в современном смысле), сколько этически и социально-политически и, более того, базировалось "на рациональном познании природы" (Бергер А.К. Анаксагор и афинская демократия // Вестник древней истории. 1960. N 3. С. 66-67). Самоубийство, как можно судить по диалогам Платона, относилось к указанной области регламентации обязанностей, ибо оно нарушало порядок социально-религиозного благочестия. Недаром Платон, сообщая о высшей мере наказания души, упоминает самоубийц вместе с отступниками от богов и родителей (Государство 615 с), а в "Законах" отдел о самоубийцах помещает вслед за отделом об убийцах родственников (868 с - 873 b) и, более того, явно не противопоставляет их друг другу. В самом греческом языке можно обнаружить следы такого слияния смыслов: так, например, αυτοσφαγης означает "убитый (закланный) собственной рукой или родственниками" [52, ст. 226, 1216], αυτοφοντης - и "самоубийца", и "убийца своих родных" [52, ст. 226, 1323]. Стоит отметить, что в культурах, основанных на примитивном "благочестии", самоубийство часто совершалось как раз руками родственников (то есть представляло собой разновидность эвтаназии) под знаком религиозно окрашенной социальной необходимости [см.: 104; 197; 7]. "Дозволенное" самоубийство сигнализирует нам о преимуществе общего над частным, о власти рода над индивидом; именно поэтому тема самоубийства оказывается необходимо связанной с темой ответственности перед богами и родственниками, то есть заключённой в горизонт ευσεβεια.
Мнение Платона о теле как могиле души приведено выше. По самому своему эйдосу тело является лишь инструментом души и "существует ради души" (Законы 870 b).
Понимание философии в качестве метода очищения божественной души от телесности, в которую она пала (ср.: Федр 248-250), обнаруживает тесную связь платонизма с орфизмом и даже, по мнению С.Я. Шейнман-Топштейн, с ведийской доктриной растворения индивида в Брахмане [266, с. 136]. Такое однозначно негативное отношение к телу есть, по словам Владимира Соловьёва, "ложная духовность"; истинная же духовность есть "перерождение, спасение, воскресение" [225, с. 529].
О политической пользе мифологии, представляющей Аид в положительном свете, см.: Государство 386 ас.
Владимир Янкелевич пишет: "В Федоне смерть - это очищение; в самом деле, умирающий переступает порог, который отделяет мутную двойственность от ясной чистоты, а промежуточность жизни от сверхбытия" [291, с. 13]. Таким образом, смерть оказывается единственным способом осуществления универсального единства.
Именно анализ идей и общего настроения "Федона" дал Владимиру Соловьёву повод предполагать, что самому Платону часто "являлась мысль о самоубийстве" [240, с. 34].
Такая философская позиция действительно могла вести "к обязанности самоубийства как к лучшему средству разорвать насильственную связь с телом и внешним миром"; видимо, таков и был ход мыслей Порфирия, одного из учеников Плотина [58, с. 221]. О случае с Порфирием будет сказано ниже. На стыд, возникающий в связи с отдельностью индивидуального бытия, как на примету "духовного благородства" человека, одержимого Люцифером, указывает Вячеслав Иванов [107, с. 314]. Такой стыд, как считает Владимир Соловьёв, не имеет никакого нравственного достоинства и не предполагает никакого деяния, кроме суицидного. Поскольку для живущего человека невозможно не быть телесным, то этот стыд "или обязывает к самоубийству, или совсем ни к чему не обязывает" [224, с. 327].
Ср.: "Для человечества, странным образом обречённого быть бессмертным, самоубийство, возможно, оказалось бы единственным шансом остаться людьми, единственным выходом в человеческую будущность" [39, с. 205]. Это, однако, был бы ложный выход, ибо он только подтвердил бы природное бессмертие.
Философия как θανατου μελετη - "занятая смертью", "готовящаяся к смерти" или "озабоченная смертью" - близка к хайдеггеровскому понятию "заботы" (Sorge), о чём пишет Деррида в своём "Даре смерти" [80, с. 85].
Евгений Трубецкой по этому поводу пишет следующее: "Для философа, который считает существующие формы общественной жизни основанными на неправде, возможно двоякое отношение к окружающей его действительности: или бегство от мира, или попытка преобразовать мир. С самой кончины Сократа в душе Платона боролись оба эти стремления" [240, с. 33]. У античного философа для бегства от мира "был только один единственный путь - смерть". В его распоряжении "не было монастыря" [240, с. 33], который как раз и даёт возможность преобразования мира через бегство от зла этого мира.
После смерти Ахилла было решено присудить его вооружение самому доблестному воину, и за него вступили в спор Одиссей и Аякс Теламонид; предпочтение было отдано Одиссею. Обиженный Аякс решил ночью перебить всех ахейских военачальников, но Афина, спасая ахейцев, наслала на него безумие, и жертвой Аякса стали стада домашнего скота. Придя в себя и не вынеся позора, Аякс покончил с собой (Аполлодор, Эпитома V, 6-7; Софокл, Аякс 350-866). Климент Александрийский (Строматы II, 15) приводит отрывок из несохранившейся трагедии, где Аякс говорит:
Нет, ничто не может так терзать душу свободного человека,
Как незаслуженное бесчестье.
От него страдаю я; и глубокое оскорбление, мне нанесённое,
Возмущает до глубины души,
А в тело моё вонзает ядовитое жало бешенства
[194, с. 149].
Таким образом, если следовать мысли Платона, самоубийство Аякса не может считаться преступным сразу по двум основаниям: в связи с провокационным решением суда и с учётом невыносимого для героя позора. Гомер же устами Одиссея находит ещё одно оправдание для Аякса:
... о тебе мы
Все, как о сыне могучем Пелея, всечасно крушились,
Раннюю смерть поминая твою; в ней никто не виновен,
Кроме Зевеса, постигшего рать копьеносных данаев
Страшной бедою; тебя он судьбине безвременно предал
(Одиссея XI, 556-560).
В мифе, заключающем "Государство" Платона, душа Аякса выбирает для своего следующего воплощения жизнь льва (Государство 620 ab).
Согласно взгляду на сущее с диалектической (в данном случае платонической) позиции, как добро, так и зло оказываются "в порядке вещей" [15, с. 119]. Этот порядок организует бытие как эстетически уравновешенную целостность, в которой имеют место как конструктивные, так и деструктивные акты. "В подлинной драме, которой лишь подражают произведения драматургов, - утверждает Плотин, - роль актёра выполняет душа. Роль ей даётся поэтом вселенной. Как актёры получают костюмы, ослепительные наряды или лохмотья, так и душа получает свою судьбу не случайно, а следуя плану вселенной. Если душа применяется к своей судьбе, она согласует свою игру со строем драмы и с всемирным разумом" (Эннеады III, 2, 17) [цит. по: 15, с. 120]. В этой драме предусмотрено и зло: "в звучании хора прекрасен и диссонанс". Даже то, что кажется "противоестественным", "в масштабе вселенной согласуется с природой". Поэтому даже палач прекрасен "на своём месте" (Эннеады III, 2, 17) [цит. по: 15, с. 120]. "Эта излюбленная аргументация стоиков целиком воспринята Плотином и занимает в его "системе" центральное положение" [270, с. 343]. А.Ф. Лосев указывает, что главная идея эстетики Плотина состоит в том, что "никакие беспорядки в жизни и бытии, никакая гибель или трагедия чего бы то ни было и никакой хаос в реальной жизни, человеческой и мировой, не способны отвлечь внимание Плотина от повсеместно царящей гармонии в самом разнообразном смысле этого слова. Так, весь космос у Плотина (как и во всей античности) основан на правильном и вечном круговом движении небесных сфер". Однако внутри этого космоса-лада имеет место и беспорядок, война, "борьба противоположностей"; тем не менее "весь этот беспорядок, всю эту вечную борьбу противоположностей, <...> доходящую до безусловной трагедии, Плотин также считает и гармонией, и красотой вообще" [Лосев, ИАЭ, Поздний эллинизм, с. 893]. Само условие гармонии и красоты - высшее Благо - понимается Плотином так, что в нём оказывается заложенной возможность размывания границ добра и зла, что связано в первую очередь с "безличным характером" Единого [Ситников А. Этика Плотина и христианство, с. 240]. Универсальный строй включает в себя все частные нестроения, точно так же, как и универсальный разум содержит в себе неразумность. "Логос Плотина вовсе не обязан творить только разумное и прекрасное. Он может творить и даже обязан творить всё беспорядочное, неразумное и злое. По Плотину, всё злое так же необходимо, как и благое" [Лосев, ИАЭ, Поздний эллинизм, с. 893]. Неоплатонизм требует признать некую всеобщую "хаокосмическую гармонию", которая "царит во всём и над всем"; всё хаотическое (деструктивное) "отражает в себе безусловную космическую гармонию и совершенство", в которых изначально "заложены" несовершенство и распад [Лосев, ИАЭ, Поздний эллинизм, с. 894]. "В порождённом Единым космосе вечно и неизбежно зло. Оно, по мнению неоплатоников, вносит разнообразие и украшает мир, оно эстетически оправдано, ибо частные недостатки мироздания лишь усиливают совершенство целого (III, 2, 3)" [Ситников А. Этика Плотина и христианство, с. 240]. "Жизнь полна несовершенств. Но это и прекрасно и логично, потому что несовершенство жизни только и возможно благодаря вечному совершенству глубинных основ жизни и бытия" [Лосев, ИАЭ, Поздний эллинизм, с. 897]. "Драматическая борьба частей находит своё выражение в некоторой гармонии; подобно тому как мелодия складывается из разнородных звуков, мир, будучи единым, состоит из гармонически согласующихся между собой противоположностей"; отсюда и заявление Плотина о том, что "моральное зло приносит пользу всему свету. Оно позволяет проявиться Божественной справедливости" (III, 2, 5); поэтому "о страданиях, несовершенствах отдельных людей беспокоиться нечего": всё это, по мнению Плотина, "полезно для целого" [Ситников А. Этика Плотина и христианство, с. 241].
Ницше высказывает по этому поводу сходные мысли. "Больной, - пишет он, - паразит общества. В известном состоянии неприлично продолжать жить. Прозябание в трусливой зависимостит от врачей и искусственных мер, после того как потерян смысл жизни, право на жизнь, должно бы вызывать глубокое презрение общества. Врачам же следовало бы быть посредниками в этом презрении, - не рецепты, а каждый день новая доза отвращения к своему пациенту... Создать новую ответственность, ответственность врача, для всех случаев, где высший интерес жизни, восходящей жизни, требует беспощадного подавления и устранения вырождающейся жизни - например, для права на зачатие, для права быть рождённым, для права жить..." [188, с. 611]. В этих настойчивых рекомендациях легализации эвтаназии и в этих кровожадных претензиях на право распоряжаться чужой жизнью и смертью Ницше предстаёт в качестве прямого наследника Асклепия (как тот представлен Сократом в "Государстве") и отчасти самого Платона.
Лоренцо Валла именует его Феоброттом [50, с. 179].
Об этом четверостишии упоминает Цицерон: "У Каллимаха есть эпиграмма на Клеомброта Амбракийского, который будто бы без всякой бедственной причины бросился в море со стены только оттого, что прочитал диалог Платона" (Тускуланские беседы I, XXXIV, 84).
У Монтеня причина и результат самоубийственного намерения Клеомброта предстают уже в таком виде: "Клеомброт Амбракийский, прочтя "Пир" Платона, так загорелся жаждой грядущей жизни, что без всяких других к тому поводов бросился в море" [177, 2, с. 34].
Давид Анахт как философ принадлежит к тому же этапу неоплатонизма, что и Олимпиодор Младший, а именно - к александрийскому неоплатонизму V-VI веков [85, с. 10]. Об Олимпиодоре см.: 157, с. 599-602. Сочинение Олимпиодора "Жизнь Платона" см. в: 92, с. 412-415.
Сходная позиция обнаруживается у Экхарта: любовь к Истине (к Богу) есть род смерти, ибо "она также убивает человека в духовном смысле и по-своему разлучает душу с телом". Такое умирание "есть излияние жизни вечной, смерть телесной жизни, в которой человек всегда стремится жить для собственного своего блага" [280, с. 151]. Экхарт, как представляется, оказался в том же поле встречи язычества и христианством, в котором работали александрийские неоплатоники. К примеру, вот так Экхарт (почти по Плотину) поясняет цель мистического умирания: "Только любовь даёт нам такое отрешение (от стремления к личному спасению. - С.А.), любовь, которая сильна, как смерть; и она убивает в человеке его я, и разлучает душу с телом, так что душа, ради пользы своей, не хочет иметь ничего общего с телом и ни с чем ему подобным. А потому расстаётся она вообще и с этим миром и отходит туда, где её место по заслугам её. А что же иное заслужила она, как не уйти в Тебя, о Бог Предвечный, если ради этой смерти через любовь Ты будешь её жизнью" [280, с. 154].
Давид Анахт стремится здесь понимать смерть не в буквальном смысле, не как намеренное прекращение собственной жизни (самоубийство), но как умерщвление страстей для достижения добродетельной жизни [156, с. 43].
О том же говорит св. Иоанн Дамаскин в своём "Источнике знания": философия "есть помышление о смерти, как произвольной, так и естественной. Ибо жизнь двух видов бывает: естественная, которой мы живём, и произвольная, в силу которой мы со страстью привязываемся к настоящей жизни. Двух видов бывает и смерть: смерть естественная, которая есть отделение души от тела, и смерть произвольная, по которой мы, пренебрегая настоящей жизнью, стремимся к будущей" (Диалектика, III). "В философии, - пишет священник Георгий Флоровский, - Дамаскин исходит из Аристотеля, но вернее назвать его эклектиком; во многих случаях он скорее платоник - под влиянием своих отеческих авторитетов (Григория Богослова или Дионисия)" (Флоровский Г.В. Византийские отцы V-VIII веков. М.: Паломник, 1992. С. 229).
Возможно, Плотин испытал влияние христианского аскетического идеала, адаптировав его к язычеству (хотя обычно говорят только о влияниях платонизма на христианство, что представляется по меньшей мере странным). В этой связи представляет интерес рецепция неоплатонической соматологии блаженным Августином. Вопрос о необходимости и даже пользе ненавистного ему тела Плотин, по мнению Августина, решает в том смысле, что телесность есть знак милосердия Бога к человеку. Узы материальности предел, положенный своеволию души, фактор, сдерживающий её деструктивные возможности. Смертным телом ограничена потенциальная безбрежность злодеяний человеческих душ, дабы они "в смерти могли находить успокоение от бедствий" (Августин, О Граде Божием IX, 10). При этом, конечно, у Плотина нет речи о вечном спасении души; под справедливым воздаянием за дела он понимает благое "душепереселение" [58, с. 223].
Возражение против действенности такого рецепта находим у Сенеки: "Больному следует искать не новых мест, а лекарства. <...> Так неужели, по-твоему, можно вылечить переменою мест душу, сломанную и вывихнутую во многих местах? Слишком силён этот недуг, чтобы лечить его прогулками в носилках. <...> Поверь мне, нет дороги, которая уведёт тебя прочь от влечений, от гнева, от страха <...>. Все эти недуги будут томить тебя и иссушать в странствиях по морям и по суше, пока ты будешь носить в себе их причины. Ты удивляешься, что бегство тебе не помогло? Но всё, от чего ты бежишь, с тобою. Значит, исправься сам!" (Ep. CIV, 17-20).
Я акцентирую внимание, естественно, только на тех элементах системы Гегеля, которые могут прояснить его отношение именно к самоубийству. При этом я следую прежде всего такому бесспорному авторитету, как Александр Кожев. Комментарии последнего представляют собой не просто воспроизведение гегелевских идей, а (что особенно важно) являют "текст Гегеля в его современной жизни" [199, с. 202]. Гегелевская философия включена здесь в широкий современный контекст, в универсальный философский дискурс. Гегель в прочтении Кожева - это "смесь идей Гегеля, Фейербаха, Маркса, Хайдеггера и Ницше" [199, с. 202] с непременным участием Достоевского. Так, образ Кириллова, воспринятого во многом "сквозь Ницше", оказал заметное влияние на интерпретацию русско-французским философом "Феноменологии духа" [199, с. 195]. Может быть, поэтому Кожев представил понятия о "способности человека к смерти" и "страхе смерти" как центральные в философии Гегеля; эти понятия "сходятся" в идее самоубийства, "добровольной смерти, не вызванной необходимостью, которая является для Гегеля выражением абсолютной свободы" [199, с. 195]. При этом сам Кожев замечает, что данная идея Гегеля получила развитие в образе Кириллова [199, с. 195]. Итак, "Kojeve явно прочитал Гегеля сквозь Ницше, а Ницше - сквозь Достоевского" [199, с. 196]. Таким образом, Гегель стал непосредственным участником диалога о самоубийстве.
Феноменология, по А.Ф. Лосеву, есть "описание статически данных эйдосов, как некоторым образом оформленных смыслов". Феноменология объединяет части в целое (в категорию, в категориальный эйдос). Диалектика же устанавливает связь эйдосов; она занята вопросом эйдетического обоснования (в конечном счёте - самообоснования). "Она эйдетически соединяет не часть с частью в целое, но целое с целым, категорию с категорией в новую категорию" [152, с. 73]. Очевидно, что соединяя категорию с категорией, можно получить только категорию. Соединяя целое с целым, получим хоть и новое, но опять-таки только целое, замкнутое на себя, самодостаточное, всякое различие имеющее только в себе, иначе говоря, тотальное. О совпадении у Гегеля диалектики и феноменологии в области метода будет сказано далее.
О взаимной обусловленности гносеологической раскрытости и онтологической закрытости в связи с темой экспликации необходимого условия самоубийства см.: Аванесов С.С. О двух типах культуры // Дефиниции культуры. Вып. 2. Томск, 1996. С. 160-163.
Змея, кусающая себя за хвост, в христианстве есть символ греха как бытийной замкнутости на данное, в конечном счёте - на себя; см.: 248, с. 166. Таким образом, система Гегеля в её главных основаниях выстроена по "схеме" греха.
"Ты, - пишет Кьеркегор, - примиряешь противоположности в своего рода высшую галиматью, философия - в высшее единство" [144, с. 217].
"Тотальность, в сущности, есть не что иное, как извечное стремление к единству", - пишет Альбер Камю [113, с. 300].
Только в этом смысле и можно говорить, что у Гегеля диалектика выступает как "тоталитарная философская идея" (Пушкарёв А.А. Диалектический дискурс как псевдофилософия // Вторые Копнинские чтения. Томск, 1997. С. 153), в свете которой человек рассматривается как производное от универсальных "сил" и "отношений" (с. 154).
Такой сущностный недостаток диалектики, как принудительный монизм, приписываемый реальности, может быть преодолён с помощью символизма, предполагающего одновременно и тождество, и различие вещи и идеи (смысла) этой вещи. Видимо, именно это имеет в виду А.Ф.Лосев, когда говорит, что "диалектика неминуемо ведёт к реалистическому символизму" [158, с. 630-631].
В этом можно видеть своеобразную рецепцию кантовской идеи о "предписывании" рассудком своих законов природе (ср.: 119, с. 213, 716).
Кожев критикует Гегеля за его монистическое объединение мира природы (идентичности) и мира человека или истории (негативности). В этом пункте Гегель сделал шаг назад в сравнении с Кантом, у которого можно обнаружить попытку целенаправленного построения "дуалистической онтологии". К онтологическому дуализму, по мнению Кожева, склоняется и Хайдеггер. "Что же касается самой дуалистической онтологии, то её создание представляется мне основной философской проблемой будущего" [131, с. 68-69]. Правда, критику Кожева можно в свою очередь подвергнуть критике. Действительно, полагая возможность преодоления гегелевского монизма путём различения природного и человеческого, Кожев, вслед за Гегелем, понимает то и другое вовсе не в онтологическом, а только в метафизическом смысле! При этом ничто не препятствует тому, чтобы мир человека и мир природы, положенные как метафизически различные, оказались онтологически тождественными. "Сказать, что бытие диалектично, значит сказать, что (с онтологической точки зрения) оно представляет собой Тотальность, включающую в себя идентичность и негативность", метафизически реализующиеся как мир природы и мир истории [131, с. 129]. О различении феноменологии, метафизики и онтологии у Гегеля см.: 131, с. 65-66.
Н.А. Бердяев указывает, что и "учение о всеединстве", характерное для русской философской мысли, "есть онтологический монизм"; Владимир Соловьёв находился "под сильным влиянием Гегеля" [36, с. 211]. "Мне, - пишет Бердяев, - совершенно чужд монизм, эволюционизм и оптимизм (то есть уверенность в необходимости всего имеющего совершиться. - С.А.) Фихте, Шеллинга и Гегеля" [36, с. 7]. Лев Шестов с сожалением отмечает, что именно эта безжизненная и порабощающая "идея всеединства, идея целого" от Фалеса до наших дней была и остаётся "основоположением философии" [272, с. 371].
Для Кьеркегора мгновение есть "точка взаимопроникновения времени и вечности" [42, с. 147]. В экзистенциальном мгновении, пишет О. Больнов, открывается "некий абсолют", свободный от временнóй природы и не разрушимый временем. Это не что-то сверх-настоящее, но нечто сверх-временное. "Стало быть, в понимании экзистенциального мгновения недостаточно исходить из напряжённого единства соотношения с будущим, настоящим и прошлым, если это соотношение одновременно не выводит к надвременному. В качестве звена реальной жизни мгновение принадлежит протекающему времени и как таковое стремительно минует, но то, что в нём обнаруживается, лежит по ту сторону времени" [42, с. 147]. В так переживаемом мгновении "смерть и судьба становятся преодолимы", но не за счёт отдачи себя мгновению времени через наслаждение этим мгновением, "но единственно за счёт того, что в самóм времени здесь достигается абсолютная опора", благодаря чему судьба и смерть, расположенные во временности, теряют (или вовсе не могут приобрести) абсолютное значение [42, с. 148].
Следовательно, "добиться мгновенности, избавившись от негативности времени, равносильно переходу в вечность и победе над небытием смерти" [291, с. 163].
Сущность "созерцания" (или "умозрения"), согласно мнению Льва Шестова, состоит в том, "что человек приучается видеть в себе часть единого целого и убеждает себя, что смысл его существования, его "назначение" - безропотно и даже радостно сообразовывать свою жизнь с бытием целого" [272, с. 370]. Созерцание есть пассивная в экзистенциальном отношении позиция; она сообщает знание лишь о том, что "и живые люди и неодушевлённые предметы" (как части целого, как вещи) "имеют чисто служебное назначение" [272, с. 371].
По мнению Витгенштейна, философия "чисто дескриптивна" [57, с. 167].
"Только рассматривая себя в рамках этой науки в качестве смертного или конечного свободного исторического индивида, - пишет А. Кожев о гегелевской системе, - человек достигает полноты самосознания, которое больше не имеет никакого желания отрицать себя и становиться другим" [131, с. 128]. Для монистической парадигмы такая финальная позиция вполне естественна: когда я осознал своё сущностное единство с универсумом, мне уже действительно нечего отрицать и некуда изменяться, ибо "всё это" и есть "я". В данном пункте Гегель гораздо ближе к восточным пантеистическим доктринам, чем, например, Платон.
Это рассуждение самогó А. Кричевского делает совершенно необоснованной его же собственную попытку представить гегелевскую философию в качестве теистической [см.: 140, с. 168-170].
Если для античных греков природа (субстанция, сущность) в божестве онто-логически предшествует субъективности (то есть является "первичной" по отношению к ней), то для Гегеля в божестве (абсолютном духе) субстанция диалектически тождественна субъекту. В теизме субъективность (личность) Бога онто-логически предшествует Его природе; последняя же, таким образом, вообще не может быть определена в качестве субстанции (ибо она - не сама по себе, но только через ипостась). Ср. высказывание св. Григория Паламы по поводу Исх 3:14, суммирующее святоотеческую традицию рассмотрения этого вопроса: ου γαρ εκ της ουσιας ο ων, αλλ'εκ του οντος η ουσια - "не от сущности ведь Сущий, а от Сущего сущность" (Триады III, 2, 12). Иначе говоря, Бог как Сущий (Личность) не есть ни сущность, ни бытие, но Тот, Кому принадлежит сущность, и Тот, Кто обладает бытием. Подобные утверждения точно указывают, где надо искать истоки экзистенциализма.
На этой же идее поглощения человеческой природы Божественной природой строится монофизитская доктрина.
Кьеркегор, намекая, конечно, на Гегеля, пишет, что мышление некоторых немецких философов доведено "до высшей степени объективного спокойствия, и всё-таки они живут в отчаянии. Они только развлекают себя чистым объективным мышлением, являющимся едва ли не самым одуряющим из всех способов и средств, к которым человек прибегает для развлечения: абстрактное мышление требует ведь возможного обезличения человека" [144, с. 264].
Например, в мировоззрении Спинозы атеизм неотделим от пантеизма.
Как пишет Лев Шестов (пересказывая мысли Кьеркегора), "Ничто" тотально овладевает диалектическим человеком. "Больше того, в силу какой-то бессмысленной и кошмарной диалектики мы всё делаем, чтоб укрепить власть и могущество Ничто. Мы сами превратили его в Необходимость, в Этическое, в Вечность, в Бесконечность. Наше познание, наша совесть полонена им не извне, а, если так можно выразиться, изнутри, мы не способны усомниться в законности его притязаний, даже когда оно предъявляет к нам самые отвратительные требования: в сомнении мы усматриваем противоречие, а Ничто нас приучило думать, что лучше принять какие угодно ужасы - только бы не было противоречия" [268, с. 190]. Примиряющая противоречия синтетическая диалектика заставляет человека впускать смерть (ничто) в собственное существование и тем самым придавать ей статус сущности.
Это ложное утверждение. Напротив, лишь свободное существо может быть смертным. Однозначно и непоправимо смертное существо не свободно от собственной конечности и потому вынуждено изобретать для себя утешительный суррогат свободы под именем "осознанной необходимости".
Александр Кожев сравнивает отношение к смерти в гегельянстве и христианстве. Для христианина, пишет он, смерть есть выход за пределы этой жизни; следовательно, христианин "не приемлет смерти в собственном смысле слова" [131, с. 186]. Действительно, христианское смирение не включает в себя примирение со смертью, ибо она есть недолжное, предмет активного отрицания. "Христианский человек, - пишет далее Кожев, - не стоит перед лицом Ничто" [131, с. 186]; и это так, потому что христианин на самом деле, помышляя о смерти, не стоит, а действует с целью победы над ней. В своём существовании христианин соотносится с другим миром, "в сущности, - считает А. Кожев, - с миром данным" [131, с. 186]. Мало того, что автор здесь противоречит самому себе: ведь он сам утверждает, что "данный" мир есть природа [131, с. 186], а христианство, по его же словам, выводит человека за пределы этого мира в "другой". Но принципиальная ошибка Кожева состоит в том, что христианству он приписывает языческое отношение к Богу как к судьбе, а к экзистенциальным перспективам человека как к "данному", но не как к заданному. Получается, что христианин "лишён трансценденции (=свободы) в гегелевском и хайдеггеровском смысле слова" [131, с. 186]. С последним заявлением всякий христианин согласится с радостью и облегчением.
Философия Гегеля, пишет Генрих Волков, "делает упор не на ставшем, а на становлении (но становление происходит только по раз и навсегда ставшему порядку! - С.А.), не на вещах и предметах, а на отношениях между ними, на взаимопереходах. Во всякой смерти она видит рождение, а в рождении - смерть, но не как абсолютное небытие, а как момент перехода в новые формы бытия. <...> Во всём и на всём она видит печать неизбежного падения" (Волков Г. Сова Минервы. М., 1985. С. 84-85). Точно так же смотрят на вещи и греческие философы.
"Хайдеггер, - замечает Кожев, - повторяя мысль Гегеля, скажет, что человеческое существование (Dasein) есть "жизнь для смерти" (Leben zum Tode)" [131, с. 186].
Такое подавление личности философски обоснованным универсальным вызывает протест Э. Левинаса. "Левинас, - пишет А.В. Ямпольская, - видит корни насилия в философии в господстве безличного обобщения (будь то идея для Платона, понятие для Гегеля или бытие для Хайдеггера) над сущим - личным, частным, конкретным и беззащитным. Осмысливая философскую подоплёку насилия, Левинас восстаёт против безличности понятия бытия, которое, согласно Левинасу, в философии Хайдеггера поставлено прежде сущего". Левинас же хочет обратного: "поставить сущее впереди бытия". Он "определяет подчинение сущего бытию этого сущего как инверсию, то есть как жест насилия. Любое обобщение, любая нейтральность (характерная для вненормативной онтологии. - С.А.), без-личность есть насилие, и далеко не последним в этом ряду является насилие теории" (Ямпольская А.В. Безмерность в мире мер // Левинас Э. Избранное: Тотальность и Бесконечное. М.; СПб., 2000. С. 406).
Любая философия "сущности" (как бы эта "сущность" ни именовалась) - всегда только трансцендентальная философия; к трансцендентному речь о "сущности" не имеет отношения.
Эрих Фромм предлагает различать "рациональную волю" и "иррациональную волю". Под первой он разумеет "энергичные усилия, направленные на достижение некоторой рациональной (то есть осознаваемой. - С.А.) цели". Такая целеустремлённая деятельность "требует реализма, дисциплины, внимательности и умения не отдаваться на волю минутных порывов". Иррациональная воля представляется как "побуждение, в основе которого лежит иррациональная по своей природе страсть" [251, с. 155]. Можно думать, что Шопенгауэр подразумевает обе разновидности воли, однако подлинной волей считает лишь иррациональную, "чистую", бесцельную волю.
Спиноза тоже определяет сущность человека через волю. В своей "Этике" он пишет: "Желание есть самая сущность человека, поскольку она представляется определённой к какому-либо действию каким-либо данным её состоянием" [228, с. 219]. Желание - это "влечение, соединённое с его сознанием; влечение же есть самая сущность человека, поскольку она определена к таким действиям, которые служат к её сохранению", то есть представляет собой волю к жизни. По большому счёту, нет никакой принципиальной разницы между бессознательным влечением и желанием: "будет ли человек сознавать своё влечение или нет, влечение остаётся всё тем же" [228, с. 219-220]. Желание в широком смысле - это понятие, схватывающее и выражающее "все стремления человеческой природы", которые могут быть обозначены и как воля, и как стремление, и как побуждение, и как хотение [228, с. 220]. Указание на "определённость" человеческой сущности к действию сообразно "состоянию" этой сущности полагает зависимость активности индивида от его природы, утверждает отсутствие способности к трансцендированию наличного положения дел: "под состоянием человеческой сущности мы разумеем всякое расположение этой сущности, будет ли оно врождённым, будет ли представляться под одним только атрибутом мышления или атрибутом протяжения, или, наконец, будет относиться к обоим вместе" [228, с. 220].
По словам Хайдеггера, именно бытие являет себя в исторически меняющихся формах, каковы: φυσις, λογος, εν, ιδεα, воля [256, с. 52].
Вот как идею о воле как сущности индивида излагает "подпольный человек" у Достоевского: "Видите ли-с: рассудок, господа, есть вещь хорошая, это бесспорно, но рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочной способности человека, а хотенье есть проявление всей жизни, то есть всей человеческой жизни, и с рассудком, и со всеми почёсываниями. И хоть жизнь наша в этом проявлении выходит зачастую дрянцо, но всё-таки жизнь, а не одно только извлечение квадратного корня" [96, 5, с. 115].
Недаром Николай Бердяев называет Шопенгауэра (вслед за Гегелем) "антиперсоналистом" [36, с. 231]. Действительно, воля у Шопенгауэра (как и "дух" у Гегеля) - субъект, но не личность.
Главная книга Шопенгауэра - "Мир как воля и представление" - книга о самоубийстве: именно к этой теме ведёт Шопенгауэр всё своё "изложение" [276, с. 126].
Столь же необратима нирвана в буддизме.
Слово "квиетив" образовано от латинского quietus, что означает "спящий", "спокойный", "не принимающий участия", "бездеятельный" [201, с. 527]. Латинское слово quies значит "покой" или "сон", а в поэтическом употреблении - "вечный покой, вечный сон, смерть" [201, с. 526].
Поскольку Шопенгауэр, как пантеист, не хочет вести речь об "утверждении бытия должного и истинного", постольку единственной целью "внутреннего действия" им полагается "угашение самой воли к бытию"; с так положенной "целью" связана "мистическая мораль пессимизма", в которой Вячеслав Иванов совершенно справедливо видит "virus буддизма" [107, с. 54].
"Из всего этого, - пишет Паульсен, - он выводит такое следствие: не жить лучше, чем жить. Спокойствие навсегда - такова цель, к которой следует стремиться самым пламенным образом. Как же достигнуть этого? Есть лишь одна дорога: отрицание воли. Отбросить жизнь, прибегнуть к самоубийству было бы напрасно: бегство от страданий есть акт утверждения воли, а пока есть воля к жизни, до тех пор есть и жизнь. Только с угасанием воли угасает жизнь. Мудрец Будда сказал последнее слово мудрости" [200, с. 35].
Это вполне буддийский пример: здесь капли аллегорически означают дхармы, а радуга - сантану.
На этом же основании самоубийство отвергается и буддизмом.
Мы теперь прекрасно видим, что это не так; напротив, почти все этические системы прямо или косвенно дозволяют самоубийство.
Как видим, и здесь являет себя уже знакомый нам пантеистический взгляд на мир как на нечто несерьёзное и не имеющее ценности.
В этой связи представляется значительным замечание В.В. Бибихина о ценности беспрепятственного проявления воли. "Мы блюдём форму волевого поведения тем настойчивее, чем больше мы растеряны" [37, с. 10], то есть чем больше мы дезориентированы.
Это положение о проявлении во всяком индивидуальном акте только универсальной природы (как подлинного агента) соответствует содержанию даосского концепта у вэй (не-деяния).
Воление есть "стремление к тому, чего лишён" [94, с. 182]. Согласно речи Сократа в "Пире", волящий "вожделеет к тому, чего у него нет" (Пир 202 d). Здесь речь идёт об Эроте, олицетворении страстного стремления, вожделения. Когда есть Эрос, тогда отсутствует его предмет; при наличии такого предмета отсутствует Эрос.
Преподобный Иоанн Дамаскин (Против манихеев, 36) пишет, что "неизменно пребывающие во зле" (прежде всего сам диавол) движимы "огнём вожделения ко злу и греху"; этот попаляющий их "огонь неудовлетворённого вожделения" не имеет истинных целей (предметов), ибо зло не имеет собственного бытия. "Поэтому, вожделея и не имея предмета вожделения, они сжигаются вожделением, словно огнём" [111, с. 51]. Так может быть теистически представлена идея о слепо хотящей, самозаконной и саморазрушительной (греховной) воле, не имеющей действительных целей вне себя.
Деятель, таким образом, не виноват в насилии над жизнью; это действующая в нём воля ошиблась.
"У всякого человека, - пишет Уильям Джеймс, - бывают минуты, когда ему приходится решать для себя вопрос: стоит ли жить? Предположим, что, наблюдая мир и видя, как богат он несчастьями, бедствиями и страданиями, как недостоверно его собственное будущее, человек склонится к пессимизму, предастся чувству отвращения и страха, перестанет стремиться к чему-либо и кончит самоубийством. В таком случае к М - сумме мировых явлений, не зависящих от него как субъекта, он прибавит субъективный признак х, который окрасит всю картину в совершенно чёрный цвет, не оживляемый ни одним лучом света. Полный пессимизм, подтверждаемый моральной реакцией на него человека и кончающийся его самоубийством, - несомненная истина. В формуле М + х выражается абсолютно печальная картина мира. Вера пессимиста прибавила к ней всё недостающее, а теперь, когда это сделано, сама вера оправдалась" [91, с. 68-69]. Пессимизм, таким образом, есть однозначная (закрытая, финалистская) позиция человека в отношении мира, чреватая самоубийством - либо эмпирическим, либо (как у Шопенгауэра) метафизическим. Пессимизм, в сущности, есть "религиозная болезнь"; он утверждается благодаря тому, что на "религиозный запрос" не даётся "нормального религиозного ответа" [91, с. 32-33].
Владимир Соловьёв, критикуя "пессимизм" подобных Шопенгауэру теоретиков (а значит, и его самого), утверждает: поскольку "пессимистическая оценка жизни" не есть себе довлеющая система рассуждений (подобная "математической истине"), но "необходимо включает в себя личное, субъективное отношение к жизни", постольку она требует "практического осуществления" этой оценочной истины [224, с. 83-84], то есть требует самоубийства. "Когда теоретический пессимист утверждает как настоящую предметную истину, что жизнь есть зло и страдание, то он этим выражает своё убеждение, что жизнь такова для всех, но если для всех, то, значит, и для него самого, а если так, то на каком же основании он живёт и пользуется злом жизни, как если бы оно было благом?" [224, с. 84]. Такой непоследовательный пессимизм есть только "игра ума", за которой не срывается никакой "серьёзности", проявляемой всяким практическим самоубийцей [224, с. 85].
Так, у Данте (Божественная комедия, Рай, XXIX, 72) ангелы не имеют желаний, ибо не лишены причастия тому, в чём состоит источник их бытия.
Можно без труда обнаружить "связь между необходимым и этическим", если такая связь "устанавливается разумом", пишет Лев Шестов [268, с. 124]. Всё "очарование" так понимаемого этического "держится единственно и исключительно его связью с Необходимостью" [268, с. 125]. Рациональные "истины" и предписываемые разумом законы, "когда они становятся автономными, когда они освобождаются от Бога, когда они облекаются в ризы вечности и неизменности, - перестают быть истинами. Они окаменевают сами и всех, кто на них глядит, превращают в камень" [268, с. 197]. Такова этика Канта.
Человек из "подполья" выразил эту мысль таким образом: "Человеку надо - одного только самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела" [96, 5, с. 113].
М. Рубинштейн отмечает: "Кант пессимистичен во взгляде на человека, но он полон глубокого религиозного оптимизма, поскольку речь идёт об объективном развитии и объективных (не индивидуально-человеческих) силах" [211, с. 264].
"Разум", "свобода" - природа человека, точнее - природа в человеке. Она - сущность и цель сама по себе. Трансцендентально данная ноуменальная природа растворяет в себе личность.
"Кант, - пишет Я.А. Слинин, - по-видимому, полагал, что движение и изменение могут происходить только во времени. Если так, то в ноуменальном мире, который "обособлен" от времени, всё застывает, становится покоящимся и неизменным" [221, с. 39]. Кант при этом не принимает во внимание, например, "ортодоксальное" понятие вечности (видимо, в силу его антиномичности. - С.А.), в которой "осуществляются вневременные события, такие, например, как предвечное рождение Сына или исхождение Духа Святого" [221, с. 39]. Эта позиция Канта в конце концов обессмысливает всякую этику: если "умозрительный характер" принципиально не подвержен изменению (на чём Кант настаивает), то никакое движение в нём от зла к добру невозможно ни предположить, ни осуществить [221, с. 39-40].
Это имманентное (природа) соединяет в себе "звёздное небо" и "нравственный закон", как "две вещи" [118, с. 562], которые и не могут не иметь общего горизонта. Кант, таким образом, своими собственными методами воспроизводит известную интуицию метафизического единства мира, выраженную ещё в античной классике, где "вечность, красота и постоянство движений небесного свода были идеалом также и для внутренней жизни человеческой личности" [155, с. 117].
Намекая на склонность деизма к подмене реального богообщения покорностью вечному и неизменному закону, пантеист Шопенгауэр заявляет, что все деисты - "это необрезанные евреи" [277, с. 477].
Если какое-либо благодеяние совершается по внутренней склонности (например, с радостью и удовольствием), то оно, считает сумрачный Кант, "не имеет никакой нравственной ценности" [124, с. 167]. Вообще никакой ценности! Таков результат морального анализа: или действие совершается только по склонности, или только из чувства долга. Долг не может совпасть со склонностью, ибо долг принуждает! На самом деле (то есть в жизни, а не в голове Канта) такое совпадение, конечно, вполне возможно предположить, если не считать человека априорно злым по природе. Более того, именно в таком случае оказывается выполненным то условие, которое поставил перед практическим разумом сам Кант: признавать моральными те поступки, которые совершаются безотносительно к условиям их совершения, а значит безотносительно и к субъективно-психологическим обстоятельствам, например, к присутствию или отсутствию "склонности" к таким поступкам. Ставя непременным условием морального действия отсутствие "склонности", Кант утверждает зависимость этого действия от случайных обстоятельств, то есть противоречит самому себе.
Шопенгауэр, характеризуя этику стоиков как "самое полное развитие практического разума" [276, с. 122], применяет к ней вполне кантианское (ограничивающее) суждение: "так как в нашей власти находятся лишь принципы поведения, а не результаты и внешние обстоятельства, то для того чтобы всегда быть последовательным, надо стремиться к первым, а не к последним" [276, с. 125].
Как утверждает Хайдеггер (апеллируя к Шелеру), личность, с одной стороны, не есть только "вещное субстанциальное бытие"; но, с другой стороны, её бытие "не может сводиться к тому, чтобы быть субъектом разумных поступков известной законосообразности" [252, с. 47], вольно подчинять своё активное становление данному и неизменному порядку.
Вместо личности у Канта имеет место, по словам М.М. Бахтина, "теоретический субъект", выносящий разумно-познавательные (гносеологические) суждения с точки зрения трансцендентального порядка. А "поскольку мы отрываем суждение от единства исторически действительного акта-поступка его осуществления и относим в то или иное теоретическое единство, изнутри его содержательно-смысловой стороны нет выхода в долженствование и в действительное единственное событие бытия" [29, с. 86]. Всяким "оторванным содержанием познавательного акта овладевает имманентная ему законность"; поскольку мы согласились с этой оторванностью (автономностью) данного акта, постольку "мы уже во власти его автономной законности, точнее, нас просто нет в нём - как индивидуально ответственно активных" [29, с. 86], то есть свободных.
Как верно замечает Ф. Ницше, "сама по себе никакая мораль не имеет ценности", ибо она обесценивает "нас самих" [188, с. 613].
Замечательна подлая казуистика Канта в известном примере об убийце и свидетеле ("О мнимом праве лгать из человеколюбия"). Я должен выдать собственного друга убийце, который его преследует, дабы не нарушить императивное требование никогда не лгать. Имеет значение не моя "склонность" спасти человека от угрозы насильственной смерти, а только чистота исполнения "закона"! Как сказал Камю, "тут есть над чем посмеяться честному человеку" [116, с. 235]. Те возможные последствия лжи, негативные для преследуемого, которые здесь предполагает Кант, выглядят совершенно надуманными и негодными для нормального живого свидетеля, готового скорее морально пасть в глазах кантианствующего ригориста, чем добровольно содействовать убийце. Но для Канта закон выше человека; из двух возможных в данной ситуации императивов - "говори правду" или "спасай друга" - он выбирает первый. Вряд ли после этого можно говорить, что Кант "стоит на стороне жертв" [221, с. 7]. Апологетическое изложение этого казуса см.: 78, с. 159.
Захваченность человека именно "внутренним", а не "внешним" (которое в принципе подлежит воздействию и изменению) у Канта обнаруживается как раз на почве обоснования индивидуальной свободы. "Человек живёт в двух мирах, - пересказывает мысль Канта Арсений Гулыга. - У человека два характера: эмпирический, привитый окружением, и ноуменальный, интеллигибельный, как бы присущий ему изнутри". Этот внутренний "характер" и выражается "в поведении человека" [78, с. 123].
Этот моральный релятивизм кантовской "этики" отмечает Шопенгауэр, указывая, что автономность действия чистого практического разума не связана с "этической ценностью" этого действия: "поступать разумно и поступать добродетельно - две вполне различные вещи". Разум "так же соединим с великой злобой, как и с великой добротой и своим сотрудничеством только и сообщает обеим великую силу"; он "одинаково готов служить для методического, последовательного выполнения как благородного, так и низкого замысла" [276, с. 122].
Иначе говоря, у "христианского" философа Канта абсолютно доброй волей признана такая воля, которая в христианстве определена как однозначно злая.
В этом пункте Кант проявляет почти манихейское упорство. Для него "разум и чувственность - два вечных антагониста" [211, с. 253]. Для Канта, отмечает Я.А. Слинин, "всё чувственное, связанное с явлениями, подчиняющееся природной причинности, составляет область зла, а всё разумное, ноуменальное, связанное с вещами в себе и с причинностью свободы относится к области добра" [221, с. 31].
Кантовское "автономное добро", замечает Н.О. Лосский, состоит в исполнении долга "без любви", что и есть гордыня, ведущая либо "к аскетическому отрицанию индивидуального бытия" у Шопенгауэра, либо к сверхчеловеческому "всё позволено" у Ницше [165, с. 172].
Габриэль Марсель пишет: "Кантовские постулаты касаются лишь чистого субъекта, который должен быть рассмотрен, насколько это возможно, вне условий воплощения его в конкретном опыте" [цит. по: 232, с. 217]. Ю. Хабермас отмечает, что кантовский императив "совершенно не нуждается в наличии других людей" [232, с. 217]. Действительно, у Канта для морального действия (то есть для акта безусловной и бесцельной воли) совсем не требуется конкретный другой; да и сам морально действующий субъект - не столько "я", сколько место действия трансцендентальной воли (то есть практического разума, дающего законы самому себе).
Греческое "αυτοχειρια" буквально означает "собственноручное дело"; имеет устойчивое значение убийства (себя самого или другого), совершённого собственными руками [52, ст. 227]; от "αυτος" - "сам" [52, ст. 225] и "χειρ" - "рука" [52, ст. 1341], а также "χειροομαι" - "подчинять, покорять, прибирать к рукам, побеждать, убивать" [52, ст. 1341-1342].
Такое же исключительно важное место в области нравственной философии отводит проблеме самоубийства и Людвиг Витгенштейн. "Если самоубийство дозволено, - пишет он в "Дневниках", - тогда всё дозволено. Если что-то не дозволено, тогда самоубийство не дозволено. Это проливает свет на сущность этики. Ибо самоубийство есть, так сказать, элементарный грех. И когда его исследуют, это подобно исследованию ртутного испарения, чтобы понять сущность испарений" [57, с. 114]. Этот своеобразный силлогизм, как отмечает Ирина Паперно, "явно исходит из положения Ивана Карамазова: если Бога нет, то всё позволено" [199, с. 194]. Представляется, что на самом деле Витгенштейн тут соединяет рассуждения Ивана Карамазова и Кириллова в один силлогизм; карамазовское "всё позволено" в нём тождественно кирилловскому "Бога нет"; следовательно, этот силлогизм можно прочитать и так: если позволено самоубийство, значит, Бога нет, а если Бог есть, то самоубийство не позволено. "Внимательный читатель Достоевского, Витгенштейн обратил внимание именно на то, что самоубийство занимает центральное место в мире без Бога" [199, с. 194]. Для Витгенштейна, как и для Камю, самоубийство было фундаментальной философской проблемой, и, как и Ницше, он работал над этой проблемой в интимном документе - записной книжке. Суицидологический фрагмент Витгенштейна оканчивается так: "Или же самоубийство в себе не является ни добрым, ни злым?" [57, с. 114]. Последняя фраза, пишет Ирина Паперно, "явно навеяна Ницше - как и другие философы двадцатого века, Витгенштейн рассматривал проблему самоубийства сквозь двойную призму Достоевского и Ницше" [199, с. 195]. По словам биографа (Ray Monk), Витгенштейн знал отрывки из "Братьев Карамазовых" наизусть [199, с. 202]. Витгенштейн усматривал в романах Достоевского именно анализ логики суицида. Самоубийство было для него не только философско-логической проблемой, но и глубоко личной (три брата Витгенштейна покончили с собой, и сам он не раз был близок к самоубийству) [199, с. 194].
Аргументация Канта неточна. На самом деле не всякого "неудачливого" самоубийцу ужасает собственный акт, да и не всякий ужаснувшийся покидает ряды потенциальных самоубийц. Известны (зарегистрированы) как повторные, так даже и серийные суицидные попытки. Для сознательного самоубийцы, замечает Достоевский, "очнуться" после неудачной суицидной попытки значит "очнуться для нового самоубийства" [95, с. 356]. "Человек, по неловкости промахнувшийся и миновавший свою смерть, - пишет Бланшо, - напоминает привидение, являющееся лишь затем, чтобы по-прежнему целиться в ту же мишень; ему остаётся только вновь и вновь убивать себя" [39, с. 208].
"И здесь Кант, - пишет В. Шохин, - вступал в оппозицию тому уже давнему, но непреходяще новому "коперниканскому перевороту" в области "экзистенциальной философии", по которому не человек существует ради субботы, - пусть хоть и "субботы категорического императива", - но суббота или любой закон ради человека (Мк 2:27)" [278, с. 315].
"Даже в отношении самого себя, и притом с помощью знания, какое человек имеет о себе благодаря внутреннему восприятию, он не может притязать на знание о том, каков он сам по себе" [124, с. 231].
Напротив, именно так и есть сама по себе природа, в которой диалектически сопряжены эрос и танатос.
Шопенгауэр (Новые паралипомены XIII, 373) пытается ответить на этот вопрос Канта следующим образом. "Кто идёт на смерть за своё отечество, тот преодолевает иллюзию, которая ограничивает существование собственной личностью: он распространяет его (существование) на массу людей своего отечества (и этим - на свой вид), в котором (как в этом виде) он продолжает жить. То же самое происходит, собственно, при всякой жертве, которую приносят другим: расширяют своё существование до пределов рода" [277, с. 470]. Поскольку "отрицание воли к жизни проявляется лишь в моменте рода" [277, с. 471], а самоубийство выражает собой, напротив, напряжённую индивидуальную волю, постольку указанные Кантом случаи вообще не подходят под понятие суицида.
Как только Бог "уходит из жизни", человеком овладевает сила наличного (автономного, то есть от-падшего) мира; именно она (а не человек) достигает независимости через "смерть Бога" и подтверждает себя в самоубийстве.
Здесь надо заметить, что сам перевод смерти в статус "возможной" (иначе говоря, не обязательной, не гарантированной, не исключительной перспективы) и удержание её в этом статусе невозможны для человека как такового. Отсюда понятно значение надежды как экзистенциально-онтологической (трансцендирующей) настроенности человека.
"В системе понятий великих религий, - пишет Морис Бланшо, - смерть составляет важное событие, но не парадоксально голый, лишённый истины факт; она образует нашу связь с миром иным, где как раз и обретается источник истины; она представляет собой путь к истине, и пусть залогом её не служат ощутимые достоверности нашего земного мира, зато она обладает гарантией неощутимых, но незыблемых достоверностей мира вечного" [39, с. 201].
Побробнее см.: 4, с. 96-110.



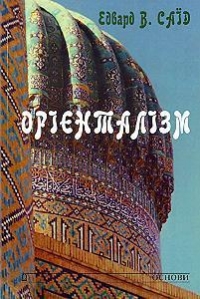
Комментарии к книге «Философская суицидология (Курс лекций)», Сергей Сергеевич Аванесов
Всего 0 комментариев