Ха Джун Чхан 23 ТАЙНЫ: то, что вам не расскажут про капитализм
Посвящается Ци Чжун, Юне и Цзин ГуюБЛАГОДАРНОСТИ
Многие люди оказали мне поддержку при написании этой книги. Айвен Малкехи, мой литературный агент, чьим усилиям в значительной мере обязана своим успехом моя предыдущая книга, «Злые самаритяне», посвященная развивающимся странам, постоянно побуждал меня написать еще одну книгу, более широкого охвата. Питер Джинна, мой редактор в издательстве «Блумсбери» (США), не только вдумчиво исправлял недочет рукописи, но и сыграл решающую роль в определении структуры текста, придумав название «Двадцать три тайны капитализма» еще на стадии осмысления проекта. Уильям Гудлед, мой редактор в издательстве «Аллан Лейн», задал направление редакционной работе и отлично справился с тем, чтобы привести рукопись в надлежащий вид. Многие читали отдельные главы этой книги и внесли немало полезных исправлений. Дункан Грин прочел текст целиком и поделился со мной крайне ценными советами, как по структуре, так и по содержанию. Джефф Харкорт и Дипак Найяр прочли каждый по несколько глав и разделили со мной свои знания. Дирк Беземер, Крис Крамер, Шайладжа Феннелл, Патрик Аймем, Дебора Джонстон, Эми Клацкин, Барри Линн, Кения Парсонс и Боб Роуторн читали отдельные главы, и благодаря им я исправил множество недочетов.
Без помощи моих научных секретарей я бы не смог собрать ту фактическую информацию, которая легла в основу книги. Я благодарю, в алфавитном порядке, Бхаргава Адхварью, Хасана Акрама, Антонио Андреони, Юрендру Баснетта, Мухаммеда Ирфана, Виерайюта Канчучата и Франческу Рейнхардт.
Я также хотел бы поблагодарить Сен-иль Чжуна и Бум Ли за предоставление данных, которые отсутствовали в открытом доступе.
Наконец я чрезвычайно обязан своей семье, без поддержки и любви которой эта книга никогда не была бы закончена. Ци Чжун, моя жена, любезно взвалила на себя все заботы по дому, занималась с детьми и оказывала мне эмоциональную поддержку. Кроме того, она прочла весь текст и помогла мне сформулировать мои аргументы в более логичной и удобной для читателя форме. Я был очень рад тому, что некоторые мои мысли нашли отклик в сердце Юны, моей дочери, и откликалась она с интеллектуальной зрелостью, удивительной для 14-летнего подростка. Цзин Гуй, мой сын, еще слишком мал, чтобы понять, о чем рассуждает его отец, зато он всячески поддерживал меня морально. Я посвящаю эту книгу своей семье.
7 СПОСОБОВ ЧИТАТЬ ЭТУ КНИГУ
Способ 1. Если вы понятия не имеете, что такое капитализм: Тайны 1, 2, 5, 8, 13, 16, 19, 20 и 22.
Способ 2. Если вы считаете политику пустой тратой времени: Тайны 1, 5, 7, 12, 16, 18, 19, 21 и 23.
Способ 3. Если вы гадаете, почему ваша жизнь не становится лучше, несмотря на постоянный рост доходов и развитие технологий:
Тайны 2, 4, 6, 8, 9, 10, 17, 18 и 22.
Способ 4. Если вы уверены, что одни люди богаче других, поскольку они более талантливы, лучше образованны и более предприимчивы:
Тайны 3, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20 и 21.
Способ 5. Если вы хотите узнать, почему бедные страны бедны и как они могут стать богаче:
Тайны 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17 и 23.
Способ 6. Если вы думаете, что в мире нет справедливости, и исправить ничего нельзя, как ни пытайся: Тайны 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 20 и 21.
Способ 7. Читайте все главы подряд.
ВВЕДЕНИЕ
Мировая экономика лежит в руинах. Пусть фискальные и монетарные меры, применяемые в беспрецедентных масштабах, предотвратили превращение финансового кризиса 2008 года в полный крах мировой экономики, кризис 2008 года по-прежнему остается в памяти человечества вторым по глубине экономическим кризисом в истории после Великой депрессии. Когда я заканчивал эту книгу (март 2010 года), некоторые уже заговорили об окончании рецессии, однако устойчивое восстановление экономики отнюдь не представлялось неизбежным. В отсутствие финансовых реформ мягкая денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика ведет к образованию новых финансовых «пузырей», а реальная экономика лишается средств. Если эти «пузыри» лопнут, мировая экономика может пострадать от следующей, второй волны рецессии. И даже если восстановление действительно началось, последствия кризиса будут ощущаться в течение многих лет. Понадобится, возможно, несколько лет, чтобы корпоративный сектор и домашние хозяйства восстановили положительный баланс. Огромный бюджетный дефицит, порожденный кризисом, заставит правительства сокращать государственные инвестиции и существенно ограничить социальные расходы, что негативно скажется на экономическом росте, усугубит проблемы бедности и социальной нестабильности, решать которые, быть может, придется на протяжении десятилетий. Некоторые из тех, кто потерял работу и дом во время кризиса, больше никогда не вернутся к активной экономической жизни. Пугающая перспектива, не правда ли?
Эта катастрофа, в конечном счете, явилась логичным следствием идеологии свободного рынка, которые правит миром с 1980-х годов. Нас уверяли, что, если предоставить рынкам самостоятельность, эти рынки обеспечат наиболее эффективное и справедливое распределение средств. Эффективное потому, что индивиды лучше понимают, как использовать ресурсы, которыми они обладают, а справедливое потому, что конкуренция гарантирует — вознаграждение за труд соответствует производительности. Нам говорили, что бизнесу следует даровать максимум свободы. Компании, действуя непосредственно на рынках, отлично знают, что лучше для бизнеса. Если позволить им делать то, к чему они стремятся, создание богатства будет максимизировано и принесет пользу обществу в целом. Нас убеждали, что вмешательство государства в рыночную экономику ведет к снижению эффективности последней. Государственное вмешательство часто направлено на ограничение масштабов создания богатства — по ошибочно толкуемым эгалитарным соображениям. И даже если это не так, никакое правительство не в состоянии превзойти результаты самого рынка, так как оно не имеет ни необходимой информации, ни стимулов принимать эффективные бизнес-решения. Короче, нам предлагали положиться во всем на рынки и попросту не мешаться под ногами.
Следуя этому совету, большинство стран придерживались в течение последних трех десятилетий политики свободного рынка — приватизировали государственные промышленные и финансовые компании, обеспечивали дерегулирование финансового и промышленного секторов, либерализовывали международную торговлю и процедуры инвестирования, а также снижали налог на прибыль и социальные расходы. Подобная политика, как признавали даже ее поборники, может временно породить ряд проблем, скажем, увеличить социальное неравенство, но в итоге всем станет лучше, а общество сделается более динамичным и богатым. Прилив поднимает все лодки вместе — очень популярная метафора, помните?
На деле же последствия этой политики оказались полной противоположностью увлекательным обещаниям. Забудем на время о финансовом кризисе, шрам от которого останется на «лице» мира много десятилетий. Еще до него, о чем не подозревало население планеты, политика свободного рынка привела к замедлению темпов роста, усугублению социального неравенства и повышению нестабильности в большинстве стран. Во многих богатых государствах эти проблемы удавалось прятать за грандиозной кредитной экспансией, и потому тот факт, что в США заработная плата оставалась на уровне 1970-х, хотя продолжительность рабочего времени увеличилась, маскировался, к радости властей, кредитно-потребительским бумом. А если оставить богатые страны в стороне, мы увидим, что в развивающихся странах дела обстояли еще хуже. Уровень жизни в странах Африки южнее Сахары нисколько не улучшился за последние три десятилетия, тогда как в Латинской Америке рост доходов на душу населения сократился на две трети в течение того же периода. Да, некоторые развивающиеся страны сумели обеспечить быстрый прирост экономики (пусть и за счет стремительного нарастания социального неравенства), например, Китай и Индия, но именно эти страны, хотя и допустили частичную либерализацию, отказались принимать целиком политику свободного рынка.
Итак, то, что в чем нас убеждали апологеты свободного рынка — как их часто называют, неолиберальные экономисты, — оказалось в лучшем случае правдой лишь отчасти (а в худшем — откровенной ложью). Как я покажу на страницах этой книги, «истины», которые пропагандируют идеологи свободного рынка, основаны на некорректных гипотезах и зашоренном видении, даже на неприкрытой корысти. Моя цель состоит в том, чтобы поведать некоторые важные факты, о которых идеологи свободного рынка обычно умалчивают.
Эта книга не является антикапиталистическим манифестом. Да, она критикует идеологию свободного рынка, но это не означает, что я выступаю против капитализма как такового. Несмотря на немалые проблемы и свойственные ему ограничения, капитализм, по моему мнению, является наилучшей экономической системой среди всех, изобретенных человечеством на сегодняшний день. Я критикую конкретную версию капитализма, доминирующую в мире в последние три десятилетия, то есть свободно-рыночный капитализм. Это отнюдь не единственный вариант капитализма и явно не самый лучший, как показывает история последних трех десятилетий. В книге рассказывается, что существуют другие варианты капитализма, куда более разумные и эффективные.
Хотя кризис 2008 года заставил нас задаться вопросом, как устроена и как работает наша экономика, большинство людей все же игнорируют этот вопрос, наивно полагая, что он интересен только для специалистов. Да, так и есть — но до определенного уровня. Точные ответы требуют знаний во многих технических областях, причем зачастую настолько сложных, что сами специалисты нередко путаются. И естественно, что большинству из нас попросту не хватает времени или необходимой подготовки, чтобы разобраться в технических деталях, дабы осмысленно рассуждать об эффективности программы TARP (спасения «плохих» активов), полезности существования группы G20, целях и методах национализации банков или выплатах топ-менеджменту. А когда речь заходит о нищете в Африке, деятельности Всемирной торговой организации или правилах обеспеченности капиталом банковских операций при международных расчетах, в большинстве своем мы откровенно теряемся.
Тем не менее, нам вовсе не нужно отлично понимать технические детали, чтобы оценить происходящее в мире и требовать того, что я называю «активным экономическим гражданством», то есть добиваться правильных действий от различных звеньев в цепочке принятия решений. В конце концов, мы же судим о многих сложных вопросах, не обладая необходимыми специфическими знаниями. Нет нужды привлекать эксперта-эпидемиолога, чтобы осознать обязательность гигиены в пищевой промышленности и в ресторанном бизнесе. Разговоры об экономике ничем не отличаются от прочих: если вы понимаете основные принципы и факты, значит, вы в состоянии выносить некоторые обоснованные суждения, не вдаваясь в технические детали. Единственное условие — снимите, пожалуйста, розовые очки неолиберальной идеологии, которые мы привыкли носить с утра до вечера. Эти очки делают мир простым и прекрасным. Но пора их снять и взглянуть на реальность, нас окружающую, собственным взглядом.
Когда вы осознаете, что на самом деле свободный рынок — не более чем фикция, вас больше не обманут люди, осуждающие любое регулирование на том основании, что оно ограничивает свободу рынка (см. Тайну 1). Когда вы поймете, что большое активное правительство может содействовать развитию экономического динамизма, вам станет ясно, что широко распространенное недоверие к институту правительства является необоснованным (см. Тайны 19 и 21). Зная, что мы живем вовсе не в постиндустриальной экономике, вы усомнитесь в мудрости пренебрежения (или даже неявного одобрения) спадом промышленного производства, свойственным отдельным правительствам (см. Тайны 9 и 17). А когда усвоите, что «усеченная» экономика не работает, вы поймете, что истинный смысл радикального снижения налогов на богатство — это просто перераспределение доходов, а не способ сделать богатыми всех, как нас уверяют (см. Тайны 13 и 20).
То, что произошло в мировой экономике, не было случайностью или следствием действия непреодолимой силы. Вовсе не потому, что сработал какой-то суровый закон рынка, заработная плата обычных американцев заморозилась, а рабочее время увеличилось, тогда как доходы топ-менеджеров и банкиров выросли в разы (см. Тайны 10 и 14). Вовсе не из-за неостановимого прогресса в технологиях связи и транспорта мы все острее ощущаем международную конкуренцию и беспокоимся о собственной занятости (см. Тайны 4 и 6). И вовсе не был неизбежностью отрыв финансового сектора от реальной экономики в последние три десятилетия, отрыв, с каждым годом возраставший и в конечном счете обернувшийся экономической катастрофой, которую мы сегодня переживаем (см. Тайны 18 и 22). И бедные страны бедны отнюдь не по причине каких-то постоянных структурных факторов — тропического климата, неудачного географического положения или слаборазвитой культуры (см. Тайны 7 и 11).
Человеческие решения, в особенности решения тех, кто обладает могуществом устанавливать правила, заставляют происходить именно те события, которые происходят (ниже я объясню подробнее). Пусть ни один человек, принимающий решения, не может быть уверен, что его выбор обязательно приведет к желаемому результату, — те решения, которые были приняты до сих пор, не являлись неизбежными. Надо признать, что мы живем не в лучшем из всех возможных миров. Будь приняты иные решения, мир оказался бы совершенно другим. Учитывая это, мы должны спросить: а основаны ли решения, принимаемые богатыми и сильными мира сего, на здравом смысле и надежных доказательствах? И только после этого мы вправе требовать правильных действий от корпораций, правительств и международных организаций. Без активного экономического гражданства мы обречены оставаться жертвами людей, которые имеют возможность решать за нас, которые объясняют нам, что все происходит потому, что так надо, а значит, изменить что-либо невозможно, какими бы тяжелыми и несправедливыми ни казались эти решения.
Моя книга призвана наделить читателя пониманием того, как на самом деле устроен и работает капитализм, и как можно заставить его работать лучше. Однако это не экономика для «чайников». Она одновременно проще и сложнее.
Она в известном смысле проще экономики для «чайников», поскольку я не слишком вдаюсь в технические подробности, каковые объясняются даже в базовых книгах по экономике. Снова оговорюсь: этими техническими деталями я пренебрегаю не потому, что убежден, будто они недоступны пониманию.
Я верю, что 95 процентов экономики — это здравый смысл, зачем-то нарочито усложненный; и даже оставшиеся 5 процентов можно разъяснить простыми словами, равно как и пресловутые технические подробности. Просто-напросто я считаю, что лучший способ познать экономические принципы — это использовать их для проникновения в суть проблем, более всего интересующих читателя. Следовательно, я останавливаюсь на технических деталях лишь тогда, когда они актуальны, и не следую систематическому принципу изложения, как в учебниках.
Но, будучи полностью доступной для читателей-неспециалистов, эта книга одновременно гораздо сложнее экономики для «чайников». Более того, она гораздо глубже многих передовых книг по экономике в том отношении, что ставит под сомнение изрядное число экономических теорий и эмпирических фактов, которые прочие авторы принимают как данность. Хотя может показаться, что некорректно заставлять читателя-неспециалиста подвергать сомнению теории, одобренные «экспертами», и не доверять эмпирическим «фактам», признанным большинством специалистов в данной области, вы увидите, что все на самом деле проще, нежели видится со стороны, стоит только перестать безоговорочно принимать на веру заявления большинства «экспертов».
Основная часть вопросов, которые я затрагиваю в книге, не имеет простых ответов. Во многих случаях я как раз и стараюсь доказать, что простого ответа не существует, вопреки заверениям идеологов свободного рынка. Тем не менее, если не разобраться в этих вопросах, мы не поймем, как в действительности устроен мир. И не поняв этого, мы не сумеем защитить наши собственные интересы, не говоря уже о том, чтобы действовать в качестве экономически активных граждан.
ТАЙНА ПЕРВАЯ. ПОНЯТИЯ «СВОБОДНЫЙ РЫНОК» НЕ СУЩЕСТВУЕТ
ЧТО ВАМ РАССКАЗЫВАЮТ
Рынкам необходимо быть свободными. Когда правительство вмешивается, диктуя, что делать, а чего не делать участникам рынка, поток ресурсов не может двигаться с наибольшей эффективностью. Если люди не имеют возможности делать то, что считают наиболее прибыльным, они лишаются стимула для инвестиций и инноваций. Так, например, если правительство устанавливает лимит на квартирную плату, домовладельцы теряют стимул содержать в порядке свою недвижимость или строить новые объекты. Или если правительство ограничивает виды финансовых продуктов, которые можно продавать, то две стороны договора, каждая из которых могла бы получить выгоду от осуществления инновационной сделки, удовлетворяющей их специфическим запросам, не извлекают возможной выгоды из заключения свободного контракта. Людям необходимо предоставить «свободу выбора» — так называется знаменитая книга апологета свободного рынка Милтона Фридмана.
ЧТО ОТ ВАС СКРЫВАЮТ
Свободного рынка не существует. Любой рынок имеет определенные правила и рамки, которые ограничивают свободу выбора. Если с виду рынок представляется свободным, это только потому, что мы всецело принимаем лежащие в его основе установления, так что даже не замечаем их. Не существует объективного способа определить, насколько рынок «свободен». «Свободный рынок» — понятие политическое. Традиционное заявление рыночных экономистов, что они стремятся защитить рынок от политизированного вмешательства правительства, несостоятельно. Правительство так или иначе всегда вовлечено в происходящее на рынке, и экономисты-«рыночники» столь же политически ангажированы, как и все остальные. Преодолеть миф об объективном существовании «свободного рынка» — первый шаг к пониманию капитализма.
ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ СВОБОДНЫМ
В 1819 году на обсуждение британского парламента был вынесен новый законопроект, регламентирующий детский труд: Акт о регулировании труда на бумагопрядильных фабриках. По современным меркам, предложенный закон был удивительно «скромен». Он запрещал принимать на работу маленьких детей — то есть, тех, кому еще не исполнилось девяти лет. При этом детям постарше (в возрасте от десяти до шестнадцати лет) по-прежнему разрешалось работать, но количество рабочих часов для них сокращалось до двенадцати в день (да, с детишками начали обходиться очень мягко). Новые правила относились только к бумагопрядильным фабрикам, которые, по общему мнению, славились особенным пренебрежением к здоровью рабочих.
Предложение вызвало большую полемику. Противники видели в нем нарушение незыблемости свободы заключения договора и, тем самым, подрывание самих основ свободного рынка. Обсуждая законопроект, некоторые члены палаты лордов высказывались против на том основании, что «труд должен быть свободным». Их аргумент гласил: дети хотят работать (и им нужна работа), а владельцы фабрик хотят принимать их на работу, так что же в этом плохого?
Сегодня даже самым горячим сторонникам свободного рынка в Британии и других богатых странах и в голову не придет снова включить детский труд в пакет требований либерализации рынка, которой они так жаждут. Однако до конца XIX — начала XX века, когда в Европе и Северной Америке были введены первые серьезные ограничения на использование детского труда, многие уважаемые люди рассматривали регулирование детского труда как противоречащее принципам свободного рынка.
При таком подходе «свобода» рынка так же субъективна, как для влюбленного красота его возлюбленной. Если вы считаете, что дети должны быть лишены необходимости работать, и это их право важнее, чем право владельцев фабрик нанимать того, кого они считают наиболее выгодным нанимать, то вы не станете усматривать в запрете на детский труд нарушение свободы рынка рабочей силы. Если же вы уверены в обратном, то будете наблюдать «несвободный» рынок, скованный неоправданным государственным регулированием.
Нет нужды возвращаться на два века назад, чтобы увидеть, как ограничения, которые мы принимаем как само собой разумеющиеся (и воспринимаем как несущественные «возмущения на поверхности» свободного рынка), на первых порах подвергались жесткой критике за подрыв основ свободной конкуренции. Когда несколько десятилетий назад появились экологические нормы (например, ограничения на выхлопные газы и промышленные выбросы в атмосферу), многие восприняли их в штыки как серьезные нарушения нашей свободы выбора. Противники этих норм задавали вопрос: если люди хотят ездить на машинах, которые загрязняют воздух, или если фабрики считают более грязное производство более прибыльным, с какой стати правительство должно препятствовать им в осуществлении выбора? Сегодня большинство людей воспринимает эти ограничения как естественные. Они убеждены, что действия, наносящие вред другим, пусть даже непреднамеренный (такой, как загрязнение окружающей среды), необходимо сдерживать. Многие также понимают, что бережное расходование энергетических ресурсов — разумно, поскольку далеко не все из этих ресурсов возобновимы. Да и влияние человека на климатические изменения тоже нелишне было бы снизить.
Если степень свободы одного и того же рынка различными людьми оценивается по-разному, то значит, объективного способа оценить, насколько свободен этот рынок, не существует. Иными словами, свободный рынок — это иллюзия. Если некоторые рынки с виду кажутся свободными, то только потому, что мы всецело одобряем ограничения, на которых они базируются, и поэтому эти ограничения становятся для нас незаметны.
РОЯЛЬНЫЕ СТРУНЫ И МАСТЕРА КУН-ФУ
Подобно многим, в детстве я восхищался попирающими законы гравитации мастерами кун-фу из гонконгских фильмов. И горькое разочарование постигло меня — как, подозреваю, и многих других детей, — когда я узнал, что на самом деле эти мастера висели на рояльных струнах.
Примерно таков и свободный рынок. Законность некоторых ограничений настолько одобряется нами, что мы перестаем их замечать. При более детальном рассмотрении обнаруживается, что рынки держатся на ограничениях — и достаточно многочисленных.
Начнем с того, что существует огромное количество разнообразных ограничений на то, чем можно торговать, и речь идет не о простом запрете на «очевидные» вещи, наподобие наркотических веществ или человеческих органов. Голоса на выборах, посты в правительстве и судебные решения в современной экономике не подлежат продаже, по крайней мере открыто, хотя в прошлом в большинстве стран они вполне считались товаром. Учебные места в университетах обычно не продаются, хотя в некоторых странах их можно купить за деньги — либо незаконным путем, платя экзаменаторам, либо законным, делая пожертвования в пользу университета. Многие страны запрещают торговлю огнестрельным оружием и алкоголем. Лекарства, как правило, перед выпуском на рынок безоговорочно подлежат государственному лицензированию, подтверждающему их безопасность. Правомерность всех этих ограничений может показаться спорной — каковым полтора века назад был запрет на продажу человеческих существ, работорговлю.
Существуют ограничения и на то, кто имеет право выходить на рынок. Сегодня запрет на использование детского труда не допускает появление детей на рынке трудовых ресурсов. Для специальностей, которые оказывают существенное влияние на жизнь человека, таких как врачи и юристы, требуются лицензии (которые иногда может выдавать не государство, а профессиональные ассоциации). Многие страны разрешают учреждать банки только компаниям, чей капитал превышает определенный показатель. Даже фондовый рынок, нерегулируемость которого послужила причиной глобального кризиса 2008 года, оговаривает, кто имеет право на нем торговать. Вы не можете просто так появиться на Нью-Йоркской фондовой бирже с мешком акций и начать их продавать. Компании обязаны выполнить условия получения биржевой котировки, на протяжении ряда лет соответствовать строжайшим аудиторским стандартам, и только тогда они могут разместить свои акции для торгов. Покупка и продажа акций ведется только лицензированными брокерами и трейдерами.
Условия торговли тоже оговариваются. Одна из реалий, поразивших меня в Великобритании, когда я впервые приехал туда в середине 1980-х, состояла в том, что можно попросить полного возврата денег за товар, который вам не понравился, даже если он не бракованный. В те времена в Корее это было невозможно, за исключением отдельных элитных универмагов. В Британии право потребителя изменить свое решение считалось более важным, чем право продавца избежать расходов, связанных с возвратом производителю невостребованных, хотя и полноценных товаров. Существует множество других правил, регламентирующих различные стороны товарооборота: ответственность за качество товара, за ненадлежащую доставку, за невыполнение обязательств по кредиту и т. д. Во многих странах также требуются разрешения на размещение торговых точек — действуют ограничения на уличную продажу или законы зонирования, которые запрещают коммерческую деятельность в жилых кварталах.
Вдобавок существуют и ценовые ограничения. Я говорю не только об очевидных явлениях, таких как регулирование арендной платы или минимального размера оплаты труда, которые любят подвергать нападкам рыночные экономисты.
Заработная плата в богатых странах в большей степени определяется иммиграционным контролем, чем каким-либо другим фактором, включая любые законы о минимальной заработной плате. Как определяется иммиграционный максимум? Не «свободным» рынком труда, на котором, если дать ему волю, рано или поздно 80–90% местных работников сменят более дешевые, а зачастую и эффективнее работающие иммигранты. Иммиграцию, по большей части, определяет проводимая в стране политика. Так что если у вас остались еще какие-то сомнения в масштабах влияния государства на свободный рынок, подумайте, и вы поймете, что все наши зарплаты, в основе своей, политически обусловлены (см. Тайну 3).
После финансового кризиса 2008 года во многих странах цена кредита (если вам удастся его получить или если у вас уже есть кредит с плавающей ставкой) существенно понизилась, благодаря постоянному снижению процентной ставки. Произошло ли это потому, что люди внезапно расхотели брать кредиты и банкам пришлось понижать цены, чтобы стимулировать клиентов? Нет, таков был результат политического решения увеличить спрос путем урезания процентных ставок. Даже в спокойные времена процентные ставки в большинстве стран устанавливает центральный банк, а это означает, что в дело незаметно вступают политические соображения. Иными словами, процентные ставки также определяются политикой.
Если зарплаты и процентные ставки в значительной степени политически обусловлены, то политически обусловлены и остальные цены, поскольку они связаны с зарплатами и процентными ставками.
СПРАВЕДЛИВА ЛИ СВОБОДНАЯ ТОРГОВЛЯ?
Мы замечаем предписание, когда не разделяем стоящих за ним моральных ценностей. Введение в XIX веке федеральным правительством США высоких тарифов, ограничивших свободу торговли, возмутило рабовладельцев, которые, в то же время, не видели ничего дурного в свободной торговле людьми. У тех, кто был убежден, что люди могут являться собственностью, запрет на торговлю рабами вызывал такие же возражения, как ограничение торговли промышленными товарами. Корейские лавочники 1980-х годов, вероятно, сочли бы требование «безоговорочного возврата денег» несправедливым и обременительным вмешательством государства, сдерживающим свободу рынка.
Тот же конфликт ценностей стоит и за нынешней полемикой о справедливой торговле в противоположность свободной торговле. Многие американцы полагают, что международная торговля, которую ведет Китай, возможно, свободна, но не справедлива. По их мнению, выплачивая работникам недопустимо низкую заработную плату и заставляя их трудиться в нечеловеческих условиях, Китай прибегает к нечестной конкурентной борьбе. Китайцы, в свою очередь, могут парировать, что недопустима ситуация, когда богатые страны, проповедуя свободную торговлю, в то же время ставят на пути китайского экспорта искусственные препоны, пытаясь ограничить импорт продукции «потогонного производства». Китайцы считают несправедливым, что их лишают возможности эксплуатировать единственный ресурс, который имеется у них в изобилии: дешевую рабочую силу.
Вся сложность состоит в том, что невозможно объективно установить, что такое «недопустимо низкая зарплата» и «нечеловеческие условия труда». При огромной разнице в уровне экономического развития и качества жизни между разными странами, нет ничего удивительного, что «нищенская заработная плата» в США считается довольно высокой в Китае (где средняя зарплата составляет 10% от американской) и целым состоянием в Индии (где средняя заработная плата — 2% от американской). Большинство американских сторонников идеи «справедливой торговли» не купили бы продукты, произведенные собственными дедами, которые помногу часов подряд трудились в нечеловеческих условиях. До начала XX века средняя продолжительность рабочей недели в США составляла около 60 часов. В то время (в 1905 году, если быть точным) это была страна, Верховный суд которой объявил неконституционным закон штата Нью-Йорк, ограничивающий рабочий день булочников до 10 часов, на том основании, что этот закон «лишал булочника свободы работать столько, сколько он пожелает».
Таким образом, вся полемика вокруг справедливой торговли, в сущности, сводится к полемике о моральных ценностях и политических решениях, а не к экономике в обычном понимании. Хотя эта полемика ведется вокруг экономического вопроса, инструментарий, имеющийся в распоряжении экономистов, не позволяет им вынести адекватного суждения.
Это отнюдь не означает, что необходимо становиться на релятивистские позиции и никого не критиковать, основываясь на том, что все разрешено. Мы можем иметь свою точку зрения (как я) на приемлемость существующих в Китае — или в любой другой стране — трудовых норм и пытаться как-то их изменить, но при этом не считать, что все, кто придерживается иной точки зрения, коренным образом заблуждаются. Даже если Китай и не в состоянии позволить себе американские зарплаты или шведские условия труда, он, во всяком случае, может поднять зарплаты и улучшить условия труда своих работников. Многие китайцы не мирятся с существующими условиями и требуют более строгих норм. Но экономическая теория (по крайней мере, рыночная экономика) не может сказать нам, каковы должны быть «правильные» зарплаты и условия труда в Китае.
КАЖЕТСЯ, МЫ УЖЕ НЕ ВО ФРАНЦИИ
В июле 2008 года, когда американская финансовая система потерпела крах, правительство США вложило 200 миллиардов долларов в ипотечных заимодателей «Фанни Мэй» и «Фредди Мак» и национализировало их. Наблюдая за происходящим, сенатор-республиканец от штата Кентукки Джим Баннинг резко раскритиковал эти меры, которые, по его словам, допустимы лишь в «социалистической» стране, такой как Франция.
Франция — еще полбеды, но 19 сентября 2008 года родная страна сенатора Баннинга стараниями лидера его же собственной партии стала воистину «Империей зла». Согласно плану, объявленному в этот день президентом Джорджем Бушем-младшим и впоследствии названному «Программой по спасению проблемных активов», правительство США выделяло из средств налогоплательщиков по меньшей мере 700 миллиардов долларов, чтобы выкупить «токсичные активы», и блокировало тем самым финансовую систему.
Президент Буш, однако, придерживался иной точки зрения на происходящее. Он утверждал, что план отнюдь не советский, он просто является развитием американской системы свободного предпринимательства, которая «зиждется на убеждении, что федеральное правительство должно вмешиваться в рыночный процесс только в случае необходимости». И национализация огромной доли финансового сектора была вызвана, по его мнению, наступлением одного из подобных случаев.
Утверждение президента Буша являет собой крайнее проявление политической демагогии: один из крупнейших в истории примеров вмешательства государства в экономику подавался как часть обыденного рыночного процесса. Однако своим заявлением Буш обнажил шаткое основание, на котором стоит миф о свободном рынке. Как отчетливо показывает это заявление, что является необходимым государственным вмешательством, совместимым с рыночным капитализмом, а что нет — это лишь вопрос точки зрения. Научно определенных границ свободного рынка не существует.
Если существующие границы какого-либо отдельного рынка не являются неприкосновенными, то попытка изменить их столь же законна, как и попытка защитить. В сущности, история капитализма представляет собой постоянную борьбу за изменение границ рынка.
Многое из того, что сегодня не является рыночным товаром, было выведено за пределы рынка политическим решением, а не самим рыночным процессом: человеческие существа, должности в правительстве, голоса на выборах, судебные решения, поступление в университет или нелицензированные лекарства. До сих пор предпринимаются попытки купить что-то из вышеперечисленного незаконно (путем подкупа правительственных чиновников, судей или избирателей) или законно (прибегая к помощи дорогих адвокатов для выигрыша судебного процесса, пожертвованиями политическим партиям и т. д.), но, несмотря на то, что движение идет в обоих направлениях, существует тенденция к меньшей маркетизации.
Для товаров, которые остаются предметом купли-продажи, со временем вводятся все новые и новые ограничения. Даже по сравнению с ситуацией, существовавшей несколько десятилетий назад, сейчас мы видим гораздо более строгие, чем раньше, требования к тому, кто и что может производить (например, сертификаты для производителей органических продуктов или товаров, выпущенных по системе «справедливой торговли»), как те или иные товары можно производить (например, запрет на загрязнение окружающей среды или на выбросы углекислого газа) и как эти товары можно продавать (например, правила маркировки товара, возврата денег).
Более того, отражая свою политическую сущность, процесс переопределения границ рынка порой сопровождается вооруженными конфликтами. Американцы сражались в гражданской войне, непосредственно связанной с свободной торговлей рабами (хотя свободная торговля товарами — а также проблема тарифов — также имели большое значение){1}. Британское правительство вело опиумную войну против Китая, чтобы наладить свободную торговлю опиумом. Ограничения на свободном рынке детского труда были введены, как я уже рассказывал, лишь в результате борьбы общественных реформаторов. Признание незаконным свободного рынка должностей в правительстве или голосов избирателей встретило жесткое сопротивление со стороны политических партий, которые покупали голоса и раздавали правительственные посты своим верным сторонникам в награду. Положить конец подобной практике помогло только сочетание высокой политической активности, реформ избирательной системы и изменений в правилах приема сотрудников на правительственные должности.
Признание того факта, что границы рынка размыты и не могут быть очерчены объективно, позволяет нам понять, что экономика — не наука, подобно физике или химии, но политическая практика. Возможно, экономисты-рыночники хотят убедить вас, что истинные границы рынка могут быть определены научным образом, но это неверно. Если границы того, что вы изучаете, нельзя научно определить, тогда то, чем вы занимаетесь, — не наука.
Сопротивление введению нового запрета равносильно утверждению, что статус кво, каким бы несправедливым он ни казался некоторым, не должен быть изменен. Говорить, что существующий запрет необходимо отменить, равносильно утверждению, что сфера рынка должна быть расширена, а значит, те, у кого есть деньги, должны получить в этой области больше власти, поскольку рынок управляется по принципу «один доллар — один голос».
Поэтому когда экономисты-рыночники говорят, что не следует вводить некий запрет, так как он ограничит «свободу» того или иного рынка, то просто выражают политическое мнение, что они отвергают права, которые должны быть защищены предлагаемым законом. Они рядятся в идеологические одежды, призванные продемонстрировать, что проводимый ими политический курс — вообще-то не политика, а отражает скорее объективную экономическую истину, тогда как политика остальных — на самом деле лишь политика. Однако они политически ангажированы в той же мере, что и их оппоненты.
Вырваться из плена иллюзии объективности рынка — вот первый шаг на пути к пониманию капитализма.
ТАЙНА ВТОРАЯ. КОМПАНИЯМИ НЕЛЬЗЯ УПРАВЛЯТЬ В ИНТЕРЕСАХ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЧТО ВАМ РАССКАЗЫВАЮТ
Компании принадлежат акционерам. Поэтому компании должны работать в их интересах. Это не только моральный постулат. Акционерам не гарантированы фиксированные выплаты, в отличие от работников (которые получают фиксированные зарплаты), от поставщиков (которым выплачивают определенные цены), от банков-кредиторов (которые получают фиксированные проценты) и от других участников бизнеса. Доходы акционеров варьируются в зависимости от показателей компании, что дает им мощнейший стимул заботиться о том, чтобы компания показывала хорошие результаты. Когда компания становится банкротом, держатели акций теряют все, тогда как остальные заинтересованные лица получают хотя бы что-то. Тем самым, акционеры несут риск, который не несут остальные участники, что заставляет первых максимизировать результаты компании. Когда вы управляете компанией на пользу акционерам, ее доход (то, что остается после осуществления всех фиксированных выплат) максимально увеличивается, что, в свою очередь, максимально увеличивает ее общественный вклад.
ЧТО ОТ ВАС СКРЫВАЮТ
Возможно, акционеров и можно считать владельцами корпораций, но их, как наиболее непостоянных из всех «участников процесса», зачастую меньше всего заботит отдаленное будущее компании (за исключением случаев, когда они являются столь крупными пайщиками, что не могут продать свои акции, не нанеся при этом серьезного ущерба бизнесу). Поэтому акционеры, особенно мелкие, но не только они, предпочитают корпоративные стратегии, которые максимально увеличивают краткосрочную прибыль, обычно в ущерб долгосрочным инвестициям, и максимально увеличивают дивиденды с этой прибыли, что еще больше ослабляет долгосрочные перспективы компании — тем, что сокращают объем нераспределенной прибыли, которую можно было бы пустить на реинвестирование. Когда компанией управляют акционеры, это нередко снижает ее возможности долгосрочного развития.
КАРЛ МАРКС ЗАЩИЩАЕТ КАПИТАЛИЗМ
Вы, вероятно, замечали, что у множества компаний в англоязычном мире присутствует в названии буква «L» — PLC, LLC, Ltd и пр. Буква «L» в этих аббревиатурах означает «limited» («ограниченный»), что есть сокращение от «limited liability» — «с ограниченной ответственностью»: «public limited company» (PLC) — «акционерная компания открытого типа с ограниченной ответственностью», «limited liability company» (LLC) или просто «limited company» (Ltd.) — «акционерное общество с ограниченной ответственностью». «Ограниченная ответственность» означает, что в случае банкротства компании инвесторы, вложившие деньги в компанию, потеряют только то, что они вложили (свой «пай»).
Но возможно, вы не осознавали, что именно эти слова с буквой «L», то есть «limited liability» («ограниченная ответственность»), сделали возможным современный капитализм. Сегодня эта форма организации коммерческого предприятия принимается как нечто само собой разумеющееся, но так было не всегда.
До изобретения в Европе XVI века общества с ограниченной ответственностью — или «общества на паях», как оно называлось в ранние годы, — бизнесмены, основывая предприятие, рисковали всем. Когда я говорю «всем», я действительно подразумеваю все — не только личное имущество (неограниченная ответственность означала, что неудачливый бизнесмен для уплаты долга должен был продать все свое личное имущество), но и личную свободу (не сумевший расплатиться по долгам предприниматель мог и в долговую тюрьму отправиться). Чудо, что кто-то вообще испытывал желание основать бизнес.
К сожалению, даже после появления понятия ограниченной ответственности ее до середины XIX века было очень трудно применять на практике — чтобы учредить компанию с ограниченной ответственностью, необходима была королевская грамота (или, в республике, правительственный декрет). Считалось, что те, кто управляет компанией с ограниченной ответственностью, не владея ею на сто процентов, будут идти на чрезмерные риски, поскольку часть денег, которыми они рискуют, — не их собственные. В то же время инвесторы, вкладывающие деньги в общества с ограниченной ответственностью, но не участвующие в управлении компанией, тоже не слишком бдительно следят за деятельностью управляющих, поскольку их собственные риски ограничены вложенным ими капиталом. Потому Адам Смит, отец экономической науки и святой покровитель рыночного капитализма, и не одобрял ограниченной ответственности. Он высказывался достаточно резко: «Однако от директоров подобных [акционерных] компаний, которые заведуют в большей степени чужими деньгами, чем своими собственными, нельзя ожидать такой неусыпной осторожности, какую участники частного торгового товарищества [т. е. товарищества, которое требует неограниченной ответственности] проявляют в управлении своим капиталом»{2}.
Поэтому правительство страны, как правило, разрешало ограниченную ответственность только исключительно крупным и рискованным предприятиям, судьба которых явно представляет национальный интерес — таким, как основанная в 1602 году голландская Ост-Индская компания (и ее главный конкурент английская Ост-Индская компания), а также печально известная английская Компания Южных морей, спекулятивный пузырь вокруг которой, раздутый в 1721 году, на несколько поколений вперед создал обществам с ограниченной ответственностью дурную славу.
Однако к середине XIX века, с появлением крупной промышленности, такой как железные дороги, сталелитейная и химическая промышленность, потребность в ограниченной ответственности стала ощущаться все более остро. Очень немногие предприниматели располагали достаточно большим состоянием, чтобы в одиночку основать сталелитейный завод или железную дорогу, поэтому, начиная в 1844 году со Швеции, за которой в 1856 год последовала Великобритания, страны Западной Европы и Северной Америки, стали все шире прибегать к ограниченной ответственности широко — в основном, это происходило в 1860–1870-х годах.
Тем не менее недоверие к ограниченной ответственности сохранялось. Если верить одной влиятельной работе по истории западноевропейского предпринимательства, даже в конце XIX века, спустя несколько десятилетий после введения общей ограниченной ответственности, в Великобритании все еще косо смотрели на мелких бизнесменов, «которые, будучи владельцем компании и ее действительным руководителем, стремились ограничить ответственность за долги компании посредством оформления общества [с ограниченной ответственностью]»{3}.
Интересно, что одним из первых значение ограниченной ответственности для развития капитализма осознал Карл Маркс, который считается главным врагом капитализма. В отличие от многих современных ему апологетов свободного рынка (а также жившего ранее Адама Смита), которые критиковали ограниченную ответственность, Маркс понял, каким образом она способствует привлечению капиталов, необходимых для только еще складывающейся тяжелой и химической промышленности, сокращая риск отдельных инвесторов. Работая над своим трудом в 1865 году, когда фондовый рынок во многом все еще играл в капиталистической пьесе второстепенную роль, Маркс пророчески называл акционерную компанию «капиталистическим производством в высшем его проявлении». Подобно своим оппонентам — сторонникам свободного рынка, Маркс осознавал — и за это ее критиковал — присущее ограниченной ответственности свойство провоцировать управляющих на чрезмерные риски. Однако Маркс считал указанную тенденцию побочным эффектом мощного материального прогресса, началу которого должно было способствовать это организационное нововведение. Конечно, защищая «новый» капитализм от критики сторонников свободного рынка, Маркс был движим своими, скрытыми мотивами. Он полагал, что акционерная компания — «точка перехода» к социализму, поскольку она разделяет владение и управление и, тем самым, дает возможность уничтожить капиталистов (которые больше не управляют фирмой), не ставя под удар достигнутый капитализмом материальный прогресс.
СМЕРТЬ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО КЛАССА
Пророчество Маркса о том, что новый капитализм, опирающийся на акционерные общества, проложит путь социализму, не сбылось. Тем не менее, его предсказание о том, что новый институт общей ограниченной ответственности выведет производительные силы капитализма на новый уровень, оказалось в высшей степени прозорливым.
В конце XIX — начале XX века ограниченная ответственность существенно ускорила накопление капитала и технический прогресс. Капитализм прошел путь от системы, состоящей из адамсмитовских булавочных фабрик, мясных лавок и пекарен, с десятком наемных работников и управляемых одним-единственным владельцем, до системы огромных корпораций, нанимающих сотни и даже тысячи сотрудников, в том числе руководителей самого высшего звена, и обладающих сложной организационной структурой.
Существовавшие долгое время опасения, связанные с мотивацией руководства обществ с ограниченной ответственностью и заключающиеся в том, что их директора, манипулируя чужими деньгами, будут идти на чрезмерные риски, поначалу не представлялись такой уж важной проблемой. В первое время существования обществ с ограниченной ответственностью многими крупными фирмами руководили харизматические предприниматели — такие, как Генри Форд, Томас Эдисон или Эндрю Карнеги, — которые владели значительной долей компании. Хотя такой директор-совладелец мог злоупотребить своим положением и пойти на неоправданный риск (что они зачастую и делали), этому риску был предел. Владея большой долей компании, они нанесли бы себе серьезный ущерб, приняв чересчур рискованное решение. Более того, многие из подобных совладельцев были людьми исключительных талантов и прозорливости, так что даже их непродуманные решения зачастую оказывались более удачными, чем решения, принятые мотивированными директорами, являвшимися единственными собственниками своего предприятия.
Но со временем харизматических предпринимателей сменил новый класс профессиональных управленцев. По мере увеличения фирмы одному человеку становилось все труднее оставаться собственником существенной ее доли, хотя в ряде европейских стран, например в Швеции, семьи основателей бизнеса (или принадлежащие им фонды) продолжали являться основными держателями акций, благодаря законодательно закрепленной возможности выпускать новые акции, которые при голосованиях учитывались как 10% обычной (как правило, но иногда даже и 0,1%). В результате этих изменений главными игроками при определении путей развития компании становились профессиональные менеджеры, а акционерам отводилась все более пассивная роль.
Начиная с 1930-х годов, все чаще говорят о рождении управленческого капитализма, при котором капиталистов в традиционном смысле — «капитанов промышленности», как называли их в викторианскую эпоху, — сменили профессиональные бюрократы (бюрократы частного сектора, но все же бюрократы). Нарастало беспокойство, что эти наемные управленцы руководят предприятиями в собственных интересах, а не в интересах законных владельцев, то есть акционеров. Утверждалось, что вместо того чтобы максимально увеличивать прибыль, менеджеры максимизируют продажи (чтобы как можно больше увеличить компанию и, тем самым, свой собственный авторитет) и собственные привилегии или, что еще хуже, участвовали в престижных проектах, что преумножало их самомнение, но не доходы компании и ее стоимость (измеряемую прежде всего совокупной рыночной стоимостью выпущенных ею акций).
Были и такие, кто воспринял возвышение профессиональных управленцев как неизбежное, а то и положительное явление. В 1940-х годах Йозеф Шумпетер, американский экономист австрийского происхождения, известный своей теорией предпринимательства (см. Тайну 15), утверждал, что с укрупнением компаний и введением научных принципов корпоративных исследований и разработок, отважных предпринимателей раннего капитализма сменят профессиональные бюрократы-директора. Шумпетер считал, что это снизит динамичность капитализма, но полагал эту смену неизбежной. Работавший в 1950-е годы американский экономист канадского происхождения Джон Кеннет Гэлбрейт также утверждал, что возвышение крупных корпораций, руководимых профессиональными менеджерами, неминуемо и, следовательно, единственный способ противопоставить «уравновешивающую силу» этим предприятиям заключается в увеличении государственного регулирования и в усилении роли профсоюзов.
Однако в течение нескольких последующих десятилетий более последовательные сторонники частной собственности были уверены, что управленческие стимулы должны формироваться так, чтобы директора максимизировали прибыли. Многие светлые умы работали над этой проблемой «модели мотивации», но «святой Грааль» не давался им в руки. Директорам всегда удавалось найти способ соблюсти букву контракта, но не его дух, особенно в тех случаях, когда акционерам непросто проверить, обусловлена ли плохая динамика прибыли результатом недостаточного внимания менеджера к показателям прибыли или она вызвана силами, ему неподвластными.
«БРАТСТВО ГРААЛЯ» ИЛИ «СОЮЗ НЕЧЕСТИВЫХ»?
И вот в 1980-х Грааль был найден. Он назывался «принцип максимизации акционерной стоимости». Утверждалось, что профессиональные управленцы должны получать вознаграждение в соответствии с величиной дохода, которую они могут обеспечить акционерам. Для достижения этого предлагалось сперва максимально увеличить прибыли, безжалостно урезая расходы — на фонды заработной платы, на капиталовложения, на материально-производственные запасы, на руководителей среднего звена и так далее. Затем наибольшую возможную долю этих доходов необходимо распределить между акционерами — через дивиденды и выкуп акций. Чтобы у директоров был стимул следовать этой схеме, необходимо увеличить долю, которую занимают опционы на акции компании в компенсационном пакете, так чтобы менеджеры не отделяли свои интересы от интересов акционеров. Эту идею поддерживали не только акционеры, но и многие руководители компаний, среди самых известных из них был Джек Уэлч, долгое время занимавший пост председателя совета директоров «Дженерал электрик». Уэлча нередко вспоминают как создателя термина «акционерная стоимость», который он впервые использовал в публичном выступлении в 1981 году.
Вскоре после речи Уэлча максимизация акционерной стоимости стала в американском деловом мире символом эпохи. Поначалу казалось, что эта идея превосходно работает и в отношении управляющих, и в отношении акционеров. Доля прибыли в национальном доходе, которая с 1960-х годов имела тенденцию к снижению, в середине 1980-х резко возросла и с тех пор демонстрирует рост{4}. Акционеры же получали более крупную долю этих прибылей в качестве дивидендов, а стоимость их акций возрастала. В периоде 1950-х по 1970-е гг. распределенная прибыль как часть общей прибыли корпораций США фиксировалась на уровне 35–45%, но с конца 1970-х она находилась на подъеме и сейчас стоит на уровне примерно 60%.{5} На глазах управляющих величина их вознаграждения взлетела (см. Тайну 14), но акционеры, довольные постоянно растущими курсами акций и дивидендами, перестали задавать вопросы о размерах зарплатных пакетов. Подобная практика вскоре получила распространение и в других странах — с большей легкостью в таких, как Великобритания, где структура управления корпорациями и культура управления были схожи с американскими, и не так легко в других странах, как мы вскоре увидим.
Средства на поддержание этого «союза нечестивых» между акционерами и профессиональными менеджерами были целиком получены за счет интересов других действующих лиц компании (потому он намного медленнее завоевывал популярность в других богатых странах, где другие заинтересованные стороны имеют больший вес). Рабочие места безжалостно сокращались, многих рабочих уволили и снова наняли, но уже как не членов профсоюза, на более низкую зарплату и с меньшими льготами, повышение зарплат было приостановлено (зачастую за счет перевода производства в страны с низкими зарплатами, например, в Китай или Индию, или привлечения дешевой рабочей силы из таких стран, или же под угрозой осуществления подобных шагов). Поставщики — и их работники — также были скованы постоянным снижением закупочных цен, а правительство было вынуждено понижать ставки налогов на корпорации и/или предоставлять им больше субсидий, под угрозой ухода компаний в страны с более низкими налогами и/или более высокими субсидиями. В результате стремительно возросло неравенство в доходах (см. Тайну 13), и во время корпоративного бума, казавшемся нескончаемым (но закончившимся в 2007 году), подавляющее большинство населения Америки и Великобритании могло приобщиться к этому — исключительно внешнему — процветанию только посредством займов под беспрецедентные проценты.
Прямое перераспределение дохода в прибыль уже было достаточно опасным, но неуклонный рост доли прибыли в национальном доходе, начавшийся еще в 1980-х годах, также не был использован для увеличения инвестиций (см. Тайну 13). Инвестиции как доля национального продукта США не то что не поднялись, а даже упали — с 20,5% в 1980-х годах до 18,7% в последующие годы (1990–2009). С этим можно было бы смириться, если бы снизившийся темп роста капиталовложений компенсировался более эффективным использованием капитала, ведущим к новому росту. Но темп прироста дохода на душу населения в США упал приблизительно с 2,6% в год в 1960–1970-х гг. до 1,6% за 1990–2009 гг. — период расцвета акционерного капитализма. В Великобритании, где в поведении компаний происходили аналогичные изменения, темп прироста дохода на душу населения упал с 2,4% в 1960–1970-х годах, когда страна страдала от так называемой «английской болезни», до 1,7% в 1990–2009 гг. Так что управление компаниями в интересах акционеров не приносит пользы даже экономике в целом (то есть, если не принимать во внимание всевозрастающее перераспределение дохода).
Это еще не все. Самое неприятное в максимизации акционерной стоимости — то, что она не приносит добра и самой компании. Самый легкий для компании способ максимизировать прибыль — снижение расходов, так как увеличить доходы сложнее: сократить фонд заработной платы путем уменьшения численности рабочих мест и сократить капиталовложения, минимизируя инвестиции. Однако формирование более высокой прибыли — это лишь начало максимизации акционерной стоимости. Полученная таким образом прибыль должна быть по максимуму передана акционерам в виде более высоких дивидендов. Или компании нужно использовать часть доходов на выкуп собственных акций, в результате сохраняя высокие цены на акции и, тем самым, косвенно перераспределяя в пользу акционеров еще большую долю прибыли (акционеры, если решат продать часть своих акций, при этом получат более высокий доход с капитала). На протяжении нескольких десятилетий, до начала 1980-х годов, на обратный выкуп акций выделялось менее 5% американских корпоративных доходов, но с тех пор эта доля неуклонно увеличивалась и достигла к 2007 году эпохального показателя в 90% и абсурдных 280% в 2008 году{6}. По мнению Уильяма Лазоника, американского промышленного экономиста, если бы с 1986 по 2002 годы «Дженерал моторе» не потратила свои 20,4 миллиарда долларов на выкуп акций, а положила их в банк (под 2,5% годовых после вычета налогов), то в 2009 году компании бы не составило труда найти необходимые 35 миллиардов долларов для предотвращения банкротства{7}. И во всем этом буме прибылей профессиональные менеджеры тоже оказываются в огромном выигрыше, поскольку, благодаря опционам, они и сами владеют большим количеством акций.
В отдаленной перспективе все это наносит вред компании. Сокращение рабочих мест может на время повысить производительность труда, но в будущем способно повлечь негативные последствия. Меньшее число работников в штате означает увеличение интенсивности труда, рабочие сильнее устают и совершают больше ошибок, что отрицательно сказывается на качестве продукта, а тем самым, и на репутации компании. Более того, обостряющееся чувство незащищенности, порожденное постоянной угрозой сокращения, лишает рабочих желания вкладывать силы в приобретение необходимых для компании навыков и подрывает производительный потенциал компании. Более высокие дивиденды и массированная скупка компанией собственных акций уменьшают нераспределенную прибыль, которая является основным источником корпоративных инвестиций в США и других богатых капиталистических странах, и, тем самым, сокращают инвестирование. Эффект от снижения капиталовложений, возможно, в краткосрочной перспективе и не ощущается, но в конечном итоге приводит к отставанию в технологической сфере и угрожает самому выживанию компании.
Но разве это не должно заботить акционеров? Как владельцы компании, разве не они больше всех потеряют, если их компания в конце концов придет в упадок? Не в том ли состоит весь смысл владения имуществом — будь то дом, участок земли или компания, — что владелец заботится о поддержании его в рабочем состоянии на долгие годы? Сторонники сложившегося положения вещей будут утверждать, что если собственники все это допускают, то, должно быть, потому, что именно этого они хотят, каким бы безумием ни выглядело это со стороны.
К сожалению, несмотря на то, что акционеры являются полноправными владельцами компании, среди всех прочих сторон именно их в наименьшей степени интересует ее долгосрочная стабильность. Это происходит потому, что именно им легче всех выйти из компании: как только они сообразят, что не следует слишком долго держаться за безнадежное дело, то им достаточно просто продать свои акции, пусть даже с небольшой потерей. Остальным же заинтересованным сторонам, таким как рабочие и поставщики, напротив, труднее покинуть компанию и найти другое занятие, поскольку они, скорее всего, уже накопили умения и основное оборудование (это касается поставщиков), специфичные для компании, с которой они ведут бизнес. Тем самым, они больше многих других участников заинтересованы в ее прочной стабильности. Поэтому максимизирование акционерной стоимости плохо не только для компании, но и для всей экономики в целом.
ГЛУПЕЙШАЯ ИДЕЯ НА СВЕТЕ
Ограниченная ответственность способствовала мощному прогрессу производительных сил, позволив накопить огромные капиталы, именно потому, что предложила акционерам возможность легкого выхода из компании, сократив тем самым риск, неизбежный при любых инвестициях. Но в то же время именно подобная легкость выхода делает акционеров ненадежными гарантами долгосрочного будущего компании.
Поэтому большинство богатых стран за пределами англо-американского мира постарались сократить влияние миноритариев и поддерживать (или даже специально создавать) различными официальными и неофициальными способами группу долговременных партнеров — включая часть акционеров. Во многих странах существенной долей собственности на ключевых предприятиях владеет правительство — либо напрямую (например, на «Рено» во Франции, на «Фольксвагене» в Германии), либо косвенно, когда компанией владеют принадлежащие государству банки (например, во Франции и в Корее), — и выступает как стабильный акционер. Как уже было сказано, в ряде стран, таких как Швеция, разрешено прибегать к дифференцированному праву голоса для различных классов акций, что позволило семьям основателей сохранить значительный контроль над корпорацией, привлекая в то же время дополнительный капитал. В некоторых странах в управление компании входят официальные представительства рабочих, которые больше ориентированы на долгосрочное сотрудничество, чем миноритарии (в частности, представители профсоюзов присутствуют в наблюдательных советы компаний в Германии). В Японии компании свели до минимума влияние миноритариев, введя взаимное участие в акционерном капитале с дружественными компаниями. В результате в этих странах профессиональным управляющим и колеблющимся акционерам сформировать «союз нечестивых» гораздо труднее, хотя и они предпочитают модель максимизации акционерной стоимости, видя для себя все ее очевидные преимущества.
Испытывая мощное влияние, а то и полностью попадая под контроль долгосрочных акционеров, компании в этих странах не с такой легкостью увольняют работников, оказывают давление на поставщиков, пренебрегают инвестициями и пускают доходы на дивиденды и скупку собственных акций, как американские и британские компании. Все это означает, что в конечном итоге они могут стать более конкурентоспособными, чем американские или британские компании. Вспомните хотя бы, как утратила свое абсолютное лидерство в мировой автомобильной индустрии компания «Дженерал моторе», которая, в конце концов, обанкротилась, находясь при этом в передовых рядах сторонников максимизации акционерной стоимости, постоянно разукрупняясь и избегая инвестиций (см. Тайну 18). Слабость стратегии руководства «Дженерал моторе», рассчитанной лишь на короткий срок, стала очевидной не позже конца 1980-х годов, но взятый им курс продолжал осуществляться вплоть до самого банкротства в 2009 году, поскольку удовлетворял и директоров, и акционеров, хотя при этом ослаблял компанию.
Управлять компаниями в интересах миноритариев не только несправедливо, но и неэффективно — как для национальной экономики, так и для самой компании. Как недавно признался Джек Уэлч, акционерная стоимость — пожалуй, «глупейшая идея на свете».
ТАЙНА ТРЕТЬЯ. БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ В БОГАТЫХ СТРАНАХ ПОЛУЧАЮТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОНИ ТОГО ЗАСЛУЖИВАЮТ
ЧТО ВАМ РАССКАЗЫВАЮТ
В рыночной экономике люди получают денежное вознаграждение в соответствии с производительностью своего труда. Пусть сердобольным либералам трудно смириться, что в Стокгольме человек получает в 50 раз больше, чем его коллега в Нью-Дели, но этот факт отражает их относительную производительность труда. Попытки искусственно сократить эти различия — например, вводя в Индии закон о минимальной оплате труда, — лишь приводят к несправедливому и неэффективному вознаграждению талантов и усилий отдельного человека. Лишь свободный рынок труда может определять вознаграждение эффективно и справедливо.
ЧТО ОТ ВАС СКРЫВАЮТ
Разница в заработной плате между богатыми и бедными странами существует не столько потому, что существует разница в индивидуальной производительности труда, но, главным образом, из-за контроля над иммиграцией. Если бы миграция была свободной, большинство рабочих в богатых странах можно было бы заменить рабочими из бедных стран, причем именно так все и произошло бы. Иными словами, зарплаты в значительной степени определяются политическими причинами. Оборотная сторона медали в том, что бедные страны бедны не из-за своих бедных, многие из которых могли бы дать фору своим собратьям в богатых странах, а из-за своих богатых, большинство из которых не в состоянии похвастаться тем же. Это, однако, не означает, что богатые в богатых странах могут похвалить себя за свои выдающиеся достижения. Их высокая производительность труда стала возможна только благодаря исторически унаследованным общественным институтам, на которые они опираются. Если мы хотим построить по-настоящему справедливое общество, то должны отказаться от мифа, что всем нам платят соответственно нашим индивидуальным достоинствам.
ЕХАТЬ ПРЯМО… ИЛИ ПЕТЛЯТЬ МЕЖДУ КОРОВ И РИКШ
Водитель автобуса в Индии, в Нью-Дели, получает около 18 рупий в час. Такой же водитель в Стокгольме получает около 130 крон, что составляло, на лето 2009 г., около 870 рупий. Иными словами, шведский водитель получает почти в пятьдесят раз больше, чем индийский.
Рыночная экономика говорит нам, что, если один продукт дороже, чем другой сравнимый с ним продукт, то это потому, что первый продукт лучше. Иначе говоря, на свободном рынке продукты (включая оказание услуг) оплачиваются так, как они того заслуживают. Поэтому если шведский водитель — назовем его Свен — получает в пятьдесят раз больше индийского водителя — назовем его Рам, — то это потому, что Свен как водитель, должно быть, в пятьдесят раз лучше, чем Рам.
В скором будущем, как признают некоторые (хотя и не все) рыночные экономисты, люди, возможно, начнут платить завышенную цену за продукт по собственной прихоти или модному поветрию. Например, люди, охваченные общим спекулятивным ажиотажем, платили невообразимые цены за «токсичные активы» во время недавнего финансового бума (который обернулся крупнейшим после Великой депрессии кризисом). Однако, могут нам возразить, подобные явления продолжаются недолго, так как люди рано или поздно понимают истинную цену вещей (см. Тайну 16). Точно так же, даже если малоквалифицированному рабочему обманным путем удается получить хорошо оплачиваемую работу (например, подделав диплом или сблефовав на собеседовании), его быстро уволят и заменят другим, потому что вскоре станет очевидно, что демонстрируемая им производительность труда не оправдывает его зарплату. Поэтому, продолжая аргументацию, если Свен получает в пятьдесят раз больше Рама, он, вероятно, показывает в пятьдесят раз более высокие результаты, чем Рам.
Но так ли происходит на деле? Во-первых, а возможно ли водить автобус в пятьдесят раз лучше другого водителя? Даже если мы найдем способ количественно измерить уровень вождения, возможен ли для водителей такой разрыв в уровне работы? Возможно, да, если мы будем сравнивать профессиональных гонщиков, таких как Михаэль Шумахер или Льюис Хэмилтон, и какого-нибудь особенно неловкого восемнадцатилетнего юнца, который вчера сдал на права. Но я не могу себе представить, как обычный водитель автобуса может водить в пятьдесят раз лучше другого водителя автобуса.
Более того, если уж на то пошло, Рам, скорее всего, намного более квалифицированный водитель, чем Свен. Свен может быть хорошим водителем по шведским меркам, но приходилось ли ему когда-нибудь в жизни объезжать на дороге корову, что Раму приходится проделывать регулярно? От Свена по большей части требуется умение ехать прямо (хорошо, учтем пару маневров уклонения, когда в субботу вечером приходится иметь дело с подвыпившими водителями), тогда как Раму чуть ли не каждую минуту за рулем приходится выбирать дорогу между повозками с впряженными в них волами, между рикшами и велосипедами, которые на три метра в высоту нагружены стоящими друг на друге ящиками. Поэтому, согласно логике свободного рынка, Раму нужно платить больше, чем Свену, а не наоборот.
В ответ рыночный экономист мог бы возразить, что Свен получает больше потому, что обладает более значимым «человеческим капиталом», то есть навыками и знаниями, накопленными в ходе обучения и практики. И действительно, Свен, скорее всего, окончил школу, у него за плечами двенадцать лет среднего образования, тогда как Рам, возможно, с трудом умеет читать и писать, проучившись всего пять лет в родной деревне в Раджастане.
Но из того дополнительного человеческого капитала, который Свен накопил за свои семь лишних лет обучения в школе, мало что требуется для вождения автобуса (см. Тайну 17). Чтобы хорошо водить автобус, ему не нужны знания ни о хромосомах человека, ни о шведско-русской войне 1809 года. Поэтому дополнительный человеческий капитал Свена не позволяет объяснить, почему тот получает в пятьдесят раз больше Рама.
Главная причина, по которой Свен получает в пятьдесят раз больше, чем Рам, — это, если говорить без экивоков, протекционизм: шведские работники защищены от конкуренции со стороны работников из Индии и других бедных стран иммиграционным контролем. Если задуматься, нет оснований для того, чтобы заменить всех шведских водителей автобусов, да и вообще всю рабочую силу в Швеции (или в любой другой богатой стране) индийцами, китайцами или ганцами. Большинство этих иностранцев с радостью удовольствуются малой частью той зарплаты, которую получают шведские работники, и при этом все они смогут работать не хуже, а то и лучше них. И мы говорим не только о малоквалифицированных рабочих, вроде уборщиц или дворников. Огромное количество инженеров, банковских служащих и программистов в Шанхае, Найроби или Кито с легкостью способны заменить своих коллег в Стокгольме, Линчепинге или Мальме. Но эти работники не могут свободно переехать в Швецию из-за того, что у них на пути стоит иммиграционный контроль. В результате шведские работники могут похвастаться в пятьдесят раз большими зарплатами, чем индийские, несмотря на то, что многие из них не показывают более высоких, по сравнению с индийскими работниками, показателей производительности труда.
НЕУДОБНАЯ ТЕМА
Наш рассказ о водителях автобуса — типичная «неудобная» тема. Он демонстрирует, что жизненный уровень подавляющего большинства людей в богатых странах существенно зависит от наличия самого жесткого контроля над рынками труда: от иммиграционного контроля. Несмотря на это, при обсуждении достоинств свободного рынка для многих роль контроля иммиграции остается невидимой, а другие сознательно о ней умалчивают.
В Тайне 1 я уже говорил, что не существует такого понятия, как свободный рынок, но пример с иммиграционным контролем раскрывает все масштабы регулирования рынка, которое мы имеем в предположительно свободной рыночной экономике, но которое упорно не желаем замечать.
Хотя экономисты жалуются на закон о минимальной оплате труда, нормирование рабочего времени и различные «искусственные» барьеры на рынке труда, установленные профсоюзами, мало кто из этих экономистов упоминает иммиграционный контроль как одно из тех скверных ограничений, что сковывают деятельность свободного трудового рынка. Вряд ли кто из упомянутых специалистов ратует за отмену иммиграционного контроля. Но если они хотят быть последовательными, то должны также ратовать и за свободную иммиграцию. Тот факт, что поддерживают ее лишь немногие из них, вновь подтверждает мои слова, высказанные в Тайне 1, о том, что границы рынка определяются политически и что рыночные экономисты так же политизированы, как и те, кто стремится регулировать рынки.
Конечно, критикуя непоследовательность рыночных экономистов по отношению к иммиграционному контролю, я отнюдь не утверждаю, что иммиграционный контроль необходимо отменить — мне нет нужды этого делать, потому что (как вы уже, наверное, заметили) я не рыночный экономист.
Страны вправе решать, в каком количестве и в какие сегменты рынка труда они принимают иммигрантов. Возможности «переварить» иммигрантов, которые зачастую имеют совсем иные культурные традиции, ограничены у любого общества, и было бы ошибкой требовать, чтобы страна превышала этот лимит. Слишком большой приток иммигрантов не только приведет к внезапному росту конкуренции за рабочие места, но и создаст дополнительную нагрузку на материальную и социальную инфраструктуру, в частности, на жилье и систему здравоохранения, и внесет напряжение в отношения с местным населением. Не менее же важным, хотя и сложнее поддающимся количественному определению, является вопрос национальной идентичности. Это миф — необходимый, но тем не менее миф, — что нации обладают незыблемой национальной самобытностью, которая не может и не должна быть изменена. Тем не менее, если в страну одновременно приедет много иммигрантов, принимающему их обществу будет непросто, поскольку оно вынуждено будет вырабатывать новое национальное самосознание, без которого ему трудно поддерживать социальную сплоченность. Поэтому темпы и масштабы иммиграции должны находиться под контролем.
Это не значит, что действующая в богатых странах иммиграционная политика не может быть усовершенствована. Хотя у любого общества возможности ассимилировать иммигрантов ограничены, общая численность населения не является величиной фиксированной. Общества могут решить, придерживаться ли им большей или меньшей открытости по отношению к иммигрантам, выбирая те или иные социальные установки и определяя политический курс в вопросе иммиграции. Что касается состава иммигрантов, то, с точки зрения развивающихся стран, большинство богатых стран принимает слишком много «неправильных» людей. Некоторые государства фактически продают свои паспорта по схемам, согласно которым те, кто привозит с собой определенный объем «инвестиций», получают гражданство практически сразу. Подобная схема лишь усугубляет недостаток капиталовложений, от которого страдает большинство развивающихся стран. Богатые страны также способствуют и утечке мозгов из развивающихся стран тем, что охотнее принимают переселенцев, обладающих высокой квалификацией. А это люди, которые, останься они у себя на родине, внесли бы более значимый вклад в развитие своих стран, чем неквалифицированные иммигранты.
БЕДНЫ ЛИ БЕДНЫЕ СТРАНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗ-ЗА СВОИХ БЕДНЯКОВ?
Наш рассказ о водителях автобусов не только развенчивает миф о справедливой оплате для всех, в соответствии с их ценностью на свободном рынке, но также дает нам ключ к пониманию причин бедности в развивающихся странах.
Многие считают, что бедные страны бедны из-за своего бедного населения. Богатые в бедных странах, как правило, находят причины нищеты своей страны в невежестве, лени и пассивности своих бедняков. Если бы их соотечественники работали, как японцы, были пунктуальны, как немцы, и изобретательны, как американцы, — скажут вам многие из таких людей, захоти вы их выслушать, — то их страна была бы богата.
С точки зрения арифметики верно, что бедные люди — это те, которые тянут вниз средний доход на душу населения в бедных странах. Но при этом богатые люди в бедных странах плохо понимают, что их страны бедны не из-за бедных, а из-за них самих. Возвращаясь к нашему примеру с водителем автобуса: основная причина, почему Свену платят в пятьдесят раз больше, чем Раму, состоит в том, что Свен делит свой рынок труда с другими людьми, которые работают не в пятьдесят раз, а намного более эффективно, чем их индийские коллеги.
Даже при том, что средняя зарплата в Швеции примерно в пятьдесят раз выше, чем в Индии, большинство шведов явно не в пятьдесят раз производительнее своих индийских коллег. Многие из них, включая Свена, вероятно, даже менее квалифицированны. Но есть и некоторые другие шведы — топ-менеджеры, ученые и инженеры ведущих мировых компаний, таких как «Эриксон», «Сааб» и SKF, — которые в сотни раз производительнее, чем аналогичные индийские специалисты, поэтому средняя национальная производительность в Швеции, в конечном итоге, оказывается примерно в пятьдесят раз выше индийской.
Иначе говоря, бедные люди из бедных стран обычно способны не ударить в грязь лицом при сравнении со своими коллегами из богатых стран. Это богатые из бедных стран не могут похвастаться тем же. Это их низкая относительная производительность труда делает их страны бедными, так что вечные упреки богатых, что их страны бедны из-за всех этих бедняков, абсолютно неправомерны. Вместо того чтобы обвинять своих бедняков в том, что они тянут страну вниз, богатые в бедных странах должны спросить себя, почему они не могут тянуть вверх остальную страну, как это делают богатые в богатых странах.
Наконец, вот предостережение богатым в богатых странах, дабы они не слишком о себе возомнили, услышав, что их беднякам хорошо платят только из-за иммиграционного контроля и высокой производительности труда богатых людей.
В богатых странах даже в тех отраслях, где отдельные люди действительно работают эффективнее, чем их коллеги в бедных странах, производительность труда во многом обязана системе, а не самим индивидуумам. Некоторые люди в богатых странах в сотни раз производительнее своих коллег в бедных странах не просто потому, что умнее и лучше образованы (и даже в основном не поэтому). Они достигают большей эффективности потому, что живут в условиях экономики с более совершенными технологиями, лучше организованными фирмами, лучше работающими институтами и более развитой материальной инфраструктурой — всем тем, что во многом создано коллективными усилиями, предпринимаемыми на протяжении многих поколений (см. Тайны 15 и 17). Известный финансист Уоррен Баффет удачно выразился в телевизионном интервью 1995 года: «Я считаю, что весьма существенный процент того, что я заработал, — это заслуга общества. Забросьте меня куда-нибудь в глубь Бангладеш или Перу, и увидите, многого ли сумеет добиться талант на неправильной почве. И спустя тридцать лет я по-прежнему буду пытаться свести концы с концами. Я работаю в рыночной системе, которая, уж так получилось, очень хорошо вознаграждает то, что я делаю, — непропорционально хорошо».
Мы вернулись к тому, с чего начали. То, что платят конкретному человеку, не в полной мере является отражением его достоинств. Большинство людей, в богатых странах и в бедных, получают те деньги, которые они получают, только потому, что существует иммиграционный контроль. Даже те граждане богатых стран, которых не так просто заменить иммигрантами, а поэтому можно считать, что они на самом деле получают то, чего достойны (но может, и нет — см. Тайну 14), демонстрируют высокоэффективную работу только благодаря социально-экономической системе, в которой они существуют. Не только личные таланты и упорный труд позволяют им работать с высокой производительностью.
Широко распространенное убеждение, что если оставить рынок в покое, то всем будут платить правильно, а значит, справедливо, по заслугам, — это миф. Только расставшись с этим мифом и начав понимать политическую природу рынка и коллективную природу производительности труда отдельно взятого человека, мы сможем построить более справедливое общество, в котором, принимая решение о том, как поощрять людей, во внимание принимаются историческое наследие и коллективные действия, а не одни лишь индивидуальные таланты и достижения.
ТАЙНА ЧЕТВЕРТАЯ. СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ИЗМЕНИЛА МИР БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЕГО ИЗМЕНИЛ ИНТЕРНЕТ
ЧТО ВАМ РАССКАЗЫВАЮТ
Недавняя революция в коммуникационных технологиях, представленная изобретением Интернета, коренным образом изменила способ работы нашего мира. Она привела к «смерти расстояния». В созданном таким образом «мире без границ» старые соглашения о национальных экономических интересах и роли национальных правительств не действуют. Картину века, в котором мы живем, определяет научно-техническая революция. Если страны (или компании, да и отдельные люди) не будут меняться с той же скоростью, их сметет. Нам — отдельным людям, фирмам или странам — придется стать еще более гибкими, что требует большей либерализации рынков.
ЧТО ОТ ВАС СКРЫВАЮТ
Наблюдая за изменениями, мы, как правило, считаем самые последние изменения наиболее революционными. Нередко это расходится с фактами. Недавний прогресс в телекоммуникационных технологиях не настолько революционен, в относительном выражении, как появление в конце XIX века проводного телеграфа. Более того, если говорить о последовавших затем экономических и социальных изменениях, то интернет-революция оказалась (по крайней мере, на данный момент) не столь значимой, как распространение стиральных машин и прочей домашней техники, которая, заметно снизив затраты сил и времени на выполнение работ по дому, позволила женщинам выйти на рынок труда и фактически уничтожила такую профессию, как домашняя прислуга. Не стоит «переворачивать бинокль», когда мы смотрим в прошлое, недооценивая старое и переоценивая новое. Подобный шаг приводит нас к разного рода неверным решениям по поводу национальной экономической политики, корпоративной политики и собственной карьеры.
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ У КАЖДОГО ЕСТЬ ПРИСЛУГА
Как рассказывала одна моя американская подруга, в испанском учебнике, по которому она в 1970-х годах училась в школе, было предложение (на испанском, конечно): «В Латинской Америке у каждого есть прислуга».
Если вдуматься, то здесь присутствует логическая невозможность. А у прислуги в Латинской Америке тоже есть прислуга? Возможно, существует некая схема обмена прислугой, о которой я не слышал, согласно которой горничные по очереди становятся горничными друг у друга, так чтобы у каждой из них тоже была прислуга, но лично я в этом сомневаюсь.
Понятно, почему американский автор сделал подобное утверждение. В бедных странах прислугу заводит гораздо больше людей, чем в богатых странах. В богатой стране школьный учитель или молодой менеджер в небольшой компании и мечтать не могут о том, чтобы взять в дом постоянную прислугу, но у их коллег в бедной стране, вполне вероятно, есть горничная, и не исключено, что даже две горничных. Цифры получить трудно, но, по оценкам МОТ (Международной организации труда), 7–8% трудоспособного населения в Бразилии и 9% в Египте работают в качестве домашней прислуги. Соответствующие цифры по Германии — 0,7%, по США — 0,6%, по Англии и Уэльсу — 0,3%, по Норвегии — 0,05%, а по Швеции — всего 0,005% (все цифры взяты на 1990-е гг., за исключением Германии и Норвегии, данные по которым приведены на 2000-е гг.){8}. Таким образом, пропорционально, в Бразилии в 12–13 раз больше домашней прислуги, чем в США, а в Египте — в 1800 раз больше, чем в Швеции. Неудивительно, что многие американцы считают, будто у «каждого» в Латинской Америке есть горничная, а шведу в Египте кажется, будто в стране куда ни глянь — домашняя прислуга.
Интересно, что в сегодняшних богатых странах доля трудоспособного населения, работавшего в качестве домашней прислуги, ранее была сопоставима с той, что можно наблюдать в развивающихся странах сейчас. В США около 8% работающих по найму в 1870-х годах были домашними слугами. В Германии до 1890-х годов их доля также составляла около 8%, хотя впоследствии начала довольно быстро падать. В Англии и Уэльсе, где благодаря сильному классу землевладельцев «культура домашних слуг» продержалась дольше, чем в других странах, процент был еще выше — между 1850 и 1920 годами в качестве домашней прислуги было занято 10–14% трудоспособного населения (с периодами роста и падения этого числа). Если станете читать романы Агаты Кристи, написанные до 1930-х годов, то вы заметите, что слуги есть не только у газетного магната, убитого у себя в запертой библиотеке, но также и у стесненной в средствах старой девы из среднего класса, пусть даже у нее всего одна служанка (которая спуталась с разгильдяем-механиком из гаража, оказавшимся незаконнорожденным сыном газетного магната, и ее тоже убивают на 111 странице за то, что ей хватило глупости упомянуть в разговоре нечто такое, чего ей видеть не полагалось).
Основная причина, по которой в богатых странах настолько меньше домашних слуг (в пропорциональном отношении), — хотя, очевидно, и не единственная причина, учитывая культурные различия между странами со сходным уровнем дохода, сегодня и в прошлом, — это более высокая сравнительная стоимость труда. Чем выше экономическое развитие страны тем сравнительно дороже становятся люди (вернее, их труд), а не «вещи» (см. также Тайну 9). В результате в богатых странах домашние слуги стали роскошью, которую себе могут позволить только богатые, тогда как в развивающихся странах прислуга до сих пор сравнительно дешева, чтобы пользоваться спросом даже у низов среднего класса.
НА СЦЕНУ ВЫХОДИТ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
Каковы бы ни были относительные изменения в цене «людей» и «вещей», сокращение доли людей, работающих в качестве прислуги, не было бы столь стремительным, каким оно оказалось в прошлом веке в богатых странах, если бы не появление целой армии домашней техники, в качестве представителя которой я взял стиральную машину. Как бы ни было дорого (в сравнительном соотношении) нанимать людей, которые стирают, убирают в доме, топят, готовят еду и моют посуду, их так или иначе пришлось бы нанимать, если бы все это нельзя было сделать при помощи машин. Или же вам пришлось бы тратить часы на то, чтобы все это проделать самим.
Стиральные машины сэкономили уйму времени. Данные найти нелегко, но, согласно исследованию, проведенному в середине 1940-х годов американским Управлением электрификации сельских районов, с появлением электрической стиральной машины и электрического утюга, время, требующееся на стирку 38 фунтов белья, сократилось практически вшестеро (с 4 часов до 41 минуты), а время, требующееся на его глажение, — более чем в 2,5 раза (с 4,5 часов до 1,75 часов){9}. Появление водопровода означало, что женщинам не нужно тратить многие часы на то, чтобы натаскать домой воду (на что, согласно Программе ООН по развитию, в ряде развивающихся стран уходит до двух часов в день). Пылесосы дали нам возможность убирать дома намного чище за малую долю того времени, которое требовалось на уборку в прежние времена, когда ее приходилось делать с помощью швабры и тряпки. Газовые или электрические кухонные плиты и центральное отопление существенно сократили время, необходимое для того, чтобы собрать дрова, развести и поддерживать огонь, почистить печь и разогреть или приготовить еду. Сегодня у многих людей в богатых странах есть даже посудомоечная машина, изобретатель которой (на тот момент будущий), некто И. М. Рубинов, сотрудник министерства сельского хозяйства США, заявил в 1906 году в своей статье в «Джорнал оф политикал экономи», что она станет «поистине благодетельницей человечества».
Распространение бытовой техники, а также электричества, водопровода и газа, полностью изменило образ жизни женщин, а соответственно, и мужчин. Оно позволило намного большему числу женщин выйти на рынок труда. Например, в США доля замужних белых женщин в самом главном периоде трудоспособного возраста (35–44 года), работающих вне дома, возросло с нескольких процентов в конце 1890-х годов до почти 80% сегодня{10}. Как мы уже видели выше, использование бытовых устройств также радикально изменило профессиональный состав женщин, дав возможность обществу обходиться намного меньшим числом людей, занятых в качестве домашней прислуги. Например, в США в 1870-х годах почти у 50% работающих женщин сфера деятельности называлась «прислуга и официантки» (можно предположить, что большинство из них были скорее прислугой, чем официантками, если учесть, что питание в общественных заведениях еще не стало распространенной традицией){11}. Возросшая активность женщин на рынке труда, без сомнения, подняла их статус дома и в обществе, благодаря чему также сократилось преимущество, отдаваемое сыновьям, и увеличились вложения в образование женщин, что, в свою очередь, еще больше расширило участие женщин на рынке труда. Даже те образованные женщины, которые в конце концов решают остаться дома с детьми, имеют в семье более высокий статус, поскольку способны выдвинуть убедительную угрозу, что они смогут содержать себя сами, в случае если решат покинуть своих супругов. Вместе с появлением возможностей работы вне дома, возросли расходы на детей, что вынудило семьи заводить меньше детей. Все это изменило традиционную динамику семьи. В совокупности, изменения складываются весьма существенные.
Разумеется, отмеченные изменения произошли не исключительно — или даже не преимущественно — вследствие изменений в области бытовой техники. Мощное влияние на женское образование и на рост активности женщин на рынке труда оказали «волшебные таблетки» и другие контрацептивы, позволившие им контролировать время наступления и регулярность беременности. Есть также причины, не связанные с техническим прогрессом. В разных странах, даже если их население использует одни и те же предметы бытовой техники, соотношение женщин на рынке труда и структура занятости могут кардинально различаться, поскольку зависят от таких факторов, как общественное мнение, определяющее, приемлемо ли работать женщине из среднего класса (женщины из бедных слоев работали всегда), налоговые льготы для работающих женщин, имеющих детей, и доступность детских учреждений. Но при всем том, по-прежнему верно, что без стиральной машины (и прочей экономящей силы домашней техники), изменения роли женщины в обществе и в семье не приобрели бы столь впечатляющий размах.
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ОБХОДИТ ИНТЕРНЕТ
По сравнению с изменениями, вызванными появлением стиральной машины (и ее собратьев), влияние Интернета, который, по мнению многих, полностью изменил мир, не было столь фундаментальным — по крайней мере, до сих пор. Несомненно, что Интернет до неузнаваемости изменил то, как люди проводят досуг: бродят по сайтам, выходят в чат с друзьями на «Фейсбуке», связываются с ними по «скайпу», играют в электронные игры с партнером, сидящим на расстоянии пяти тысяч миль, и прочее, и прочее. Кроме того, Интернет существенно увеличил эффективность поиска всевозможной информации — о видах страховок, отпусках, ресторанах и даже о ценах на капусту и на шампунь.
Но если говорить о производственных процессах, неясно, было ли его влияние на них столь же революционным. Бесспорно, для некоторых людей Интернет глубоко изменил характер их работы. Знаю это по собственному опыту. Благодаря Интернету я смог написать целую книгу совместно со своим другом, а иногда и соавтором профессором Илен Грейбл, которая преподает в Денвере (штат Колорадо), причем нам хватило всего одной личной встречи и пары телефонных звонков{12}. Но на эффективность труда многих других Интернет не оказал заметного воздействия. Ряд исследователей предпринимали попытки обнаружить положительное влияние Интернета на общую производительность — как выразился лауреат Нобелевской премии экономист Роберт Солоу, «свидетельства тому есть везде, только не в цифрах».
Можете сказать, что мое сравнение несправедливо. У названных мною бытовых приборов имелось в распоряжении, по меньшей мере, несколько десятилетий существования, иногда целый век, чтобы начать творить свои чудеса, тогда как Интернет едва насчитывает два десятилетия. Отчасти это так. Как сказал в своей увлекательной книге «Потрясение для старых времен — техника и всемирная история с 1900 г.» выдающийся историк науки Дэвид Эджертон, максимально широкое использование техники, а следовательно, и наибольший эффект от нее часто наступает спустя несколько десятилетий после ее изобретения. Но даже если говорить о сегодняшнем дне, сомневаюсь, что Интернет — настолько уж революционная технология, как многие из нас полагают.
ПОБЕДА ТЕЛЕГРАФА НАД ИНТЕРНЕТОМ
До начала работы трансатлантического проводного телеграфа в 1866 году, для того чтобы доставить сообщение на другую сторону Атлантики, требовалось около трех недель — за такое время пересекали Атлантический океан парусные суда. Даже отправляя «срочное» сообщение на паровом судне — которые вошли в обиход только в 1890-х годах, — приходилось отводить на это две недели (рекордный срок перехода через Атлантику составлял в то время 8–9 дней).
С появлением телеграфа время передачи сообщения слов на триста сократилось до семи-восьми минут. Могло быть и быстрее. «Нью-Йорк тайме» сообщала 4 декабря 1861 года, что доклад Авраама Линкольна конгрессу, состоявший из 7578 слов, был передан из Вашингтона всей стране за 92 минуты или, в среднем, по 82 слова в минуту, что позволяет отправить то самое сообщение в триста слов за менее чем за четыре минуты. Но то был рекорд — средний показатель достигал примерно сорока слов в минуту, что дает нам семь с половиной минут для передачи 300 слов. Сокращение срока с двух недель до семи с половиной минут — это более чем в 2500 раз.
Время передачи сообщения в 300 слов Интернет снизил с десяти секунд при передаче по факсу до, скажем, двух секунд, но это всего лишь пятикратное сокращение времени. Использование Интернета позволяет еще больше уменьшить время передачи, когда речь заходит о более длинных сообщениях — скажем, документ на 30 000 слов можно отослать за десять секунд (с учетом того, что документ надо загрузить в компьютер), что при передаче по факсу заняло бы свыше 16 минут, или 1000 секунд, и скорость передачи, таким образом, увеличивается в 100 раз. Но сравните это с сокращением в 2500 раз, достигнутым телеграфом.
Интернет, несомненно, обладает другими революционными чертами. Он позволяет нам с большой скоростью отправлять изображения (этого не могли обеспечить даже телеграф и факс, почему приходилось полагаться только на физическую пересылку). Доступ к Интернету возможен из множества мест, не только в почтовых отделениях. Что самое важное, используя Интернет, мы можем искать нужную нам информацию в огромном массиве источников. Но в плане простого увеличения скорости он далеко не так революционен, как скромный проволочный телеграф (не говоря уже о беспроволочном).
Мы непомерно преувеличиваем роль Интернета только потому, что сегодня он для нас важен. Вообще люди, как правило, попадают под обаяние новейших и наиболее заметных технических средств. Еще в 1944 году Джордж Оруэлл критиковал тех, кто приходит в неуемный восторг из-за «отмены расстояния» и «исчезновения границ», произошедших благодаря аэроплану и радио.
ПРАВДА ОБ УВЛЕЧЕНИИ НОВИЗНОЙ
Какая разница, заблуждаются люди или нет, полагая, будто Интернет оказал на нашу жизнь более существенное влияние, чем телеграфия или стиральная машина? Почему важно то, что на людей большее впечатление производят самые последние новшества?
Это не было бы важно, будь подобное искажение перспектив лишь чьим-то частным мнением. Но эти искаженные перспективы оказывают реальное влияние на людей, поскольку ведут к неправильному использованию и без того ограниченных ресурсов.
Преклонение перед революцией ИКТ (информационно-коммуникационных технологий), которую олицетворяет Интернет, заставило некоторые богатые страны — особенно США и Великобританию — прийти к неверным выводам о том, что производство вещей настолько «вчерашний» процесс, что надо стараться жить за счет эксплуатации идей. И, как будет рассказано в Тайне 9, вера в «постиндустриальное общество» вынудила эти страны с излишним пренебрежением отнестись к производственному сектору, что имело неблагоприятные последствия для национальных экономик.
Еще тревожнее, что увлечение людей в богатых странах Интернетом стало вызывать обеспокоенность международного сообщества существованием «цифровой пропасти» между богатыми и бедными странами. В результате компании, благотворительные фонды и отдельные люди начали делать денежные пожертвования развивающимся странам на покупку компьютерного оборудования и средств доступа в Интернет. Вопрос, однако, в другом: в этом ли больше всего нуждаются развивающиеся страны? Возможно, пожертвования на нечто менее модное, например, на то, чтобы выкопать колодец, расширить сеть электроснабжения и выпустить более доступные стиральные машины, улучшили бы жизнь людей больше, чем если бы мы раздали каждому ребенку по ноутбуку или устроили в деревнях интернет-кафе. Я не утверждаю, что все эти дела однозначно важнее, но многие благотворители бросились участвовать в модных программах, не просчитав со всей тщательностью сравнительные долгосрочные расходы и преимущества иного приложения своих денег.
Вот еще пример. Увлечение всем новым заставило людей поверить, что недавние технологические изменения в сфере коммуникации и транспорта настолько революционны, что сейчас мы живем в «мире без границ», как озаглавлена известная книга японского бизнес-гуру Кеничи Омаэ. В итоге за последние примерно двадцать лет многие начали считать, что любые происходящие сегодня изменения — результат глобального технологического прогресса, идти против которого — все равно что пытаться запустить часы в обратную сторону. Веря в такой мир, многие правительства сняли ряд очень нужных ограничений на приток капитала, труда и товаров из-за границы, что привело к печальным результатам (см., например, Тайны 7 и 8). Но, как я уже продемонстрировал, последние изменения в этих отраслях техники далеко не столь революционны, как аналогичные изменения вековой давности. В сущности, столетие назад мир, при намного менее развитых технологиях коммуникации и транспорта, был намного более глобализованным, чем в I960–1980-е годы, поскольку в указанный период правительства, особенно сильные, были убеждены в необходимости жесткого регулирования трансграничных потоков. Степень глобализации (иначе говоря, национальной открытости) определяет политика, а не техника. Но если мы допустим, чтобы любовь к новейшим революционным достижениям техники искажала наше восприятие действительности, то мы не осознаем этого факта и в результате начинаем проводить неверную политику.
Понимание технических тенденций очень важно для того, чтобы верно спланировать экономическую политику, как на национальном, так и на международном уровне (и в личном плане — чтобы сделать правильный выбор карьеры). Но наше чрезмерное восхищение новым и недооценка уже привычного способны завести и уже завели нас во многие дебри. Я специально сформулировал это утверждение достаточно провокационно, противопоставив скромную стиральную машину и Интернет, но мои примеры призваны показать, что технический фактор формирует экономическое и социальное развитие при капитализме намного более сложным образом, чем принято считать.
ТАЙНА ПЯТАЯ. ПРЕДПОЛОЖИТЕ О ЛЮДЯХ ХУДШЕЕ, И ВЫ ПОЛУЧИТЕ ХУДШЕЕ
ЧТО ВАМ РАССКАЗЫВАЮТ
Известно изречение Адама Смита: «Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов». Рынок прекрасно умеет обуздывать энергию эгоистичных индивидуумов, заботящихся только о себе (самое большее — о своих семьях), и обратить ее на создание общественной гармонии. Коммунизм потерпел поражение потому, что отрицал этот человеческий инстинкт и управлял экономикой, исходя из предположения, что каждый — бескорыстен или хотя бы исполнен альтруизма. Если мы хотим выстроить прочную экономическую модель, то должны предполагать о людях худшее — что думают они исключительно о себе.
ЧТО ОТ ВАС СКРЫВАЮТ
Стремление к личной выгоде — у большинства людей самая сильная черта. Но это не единственная сила, движущая нами. Очень часто она даже не является нашим основным мотивом. Если бы мир был заполнен корыстолюбцами из учебников по экономике, он бы забуксовал, поскольку мы бы только и делали, что обманывали, пытались поймать обманщиков и наказывали пойманных. Мир более или менее функционирует лишь потому, что люди не совсем такие эгоисты, как считает рыночная экономика. Надо разработать такую экономическую систему, которая, признавая, что люди часто бывают эгоистичны, в полной мере использует другие человеческие мотивы и добивается от людей максимальной отдачи. Получается, если мы предполагаем о людях худшее, то худшее от них мы и получим.
КАК НАДО И КАК НЕ НАДО УПРАВЛЯТЬ КОМПАНИЕЙ
В середине 1990-х годов я приехал в Японию на конференцию по «восточноазиатскому чуду», организованную Всемирным банком. С одной стороны дискуссию представляли люди, которые, подобно мне, утверждали, что вмешательство правительства сыграло позитивную роль в истории экономического роста Восточной Азии, поскольку шло против рыночной конъюнктуры и защищало и субсидировало такие отрасли, как автомобилестроение и электроника. Другую сторону представляли экономисты, поддерживающие позицию Всемирного банка, который утверждал, что участие правительства не сыграло никакой важной роли, а то и принесло Восточной Азии больше вреда, чем пользы. Более того, добавляли они, даже если бы восточноазиатское чудо действительно было чем-то обязано правительственному вмешательству, это не означает, что практические шаги, предпринятые восточноазиатскими странами, могут быть рекомендованы и другим странам. Правительственные чиновники, которые определяют политику, — как и все мы, люди, ищущие своей выгоды, отмечалось на конференции, и они больше заинтересованы в укреплении собственной власти и престижа, чем в поддержании национальных интересов. Эти участники конференции заявляли, что вмешательство правительства оправдало себя в Восточной Азии лишь потому, что, в силу исторических причин (о которых мы не будем здесь распространяться), чиновники в этих странах исключительно бескорыстны и профессиональны. С этим моментом соглашались даже некоторые из тех экономистов, которые одобряли активную роль правительства.
Слушая эту полемику, некий благородного вида японский господин из публики поднял руку. Представившись одним из топ-менеджеров «Кобе стил», на тот момент четвертого по величине производителя стали в Японии, он упрекнул экономистов в непонимании характера современной бюрократии, как в правительстве, так и в частном секторе.
Менеджер «Кобе стил» сказал (перефразирую): «Мне неприятно об этом говорить, но вы, экономисты, не отдаете себе отчет, как работает реальный мир. У меня степень по металлургии, и я уже почти тридцать лет работаю в “Кобе стил”, так что имею некоторое представление о том, как выплавляется сталь. Но моя компания сейчас столь велика и сложно устроена, что даже я не понимаю половины того, что в ней происходит. Что до остальных менеджеров — с образованием в области бухгалтерии и маркетинга, — они вообще мало что представляют. Несмотря на это, наш совет директоров регулярно одобряет большинство проектов, предлагаемых нашими сотрудниками для блага компании. Если бы мы все время исходили из того, что каждый действует, лишь преследуя собственные интересы, и подвергали сомнению мотивы, которые движут нашими работниками, то компания бы встала, поскольку мы бы тратили все время на разбор предложений, в которых ничего не понимаем. Вы просто не сможете управлять большой бюрократической организацией, будь то “Кобе стил” или правительство, если будете исходить из того, что каждый печется лишь о собственном благе».
Это всего лишь частный случай из жизни, но он представляет собой мощное подтверждение недостатков общепринятой экономической теории, которая предполагает, что личный интерес — единственная движущая человеком сила, которую стоит принимать во внимание. Поясню.
КОРЫСТНЫЕ МЯСНИКИ И БУЛОЧНИКИ
Рыночные экономисты исходят из предположения, будто все субъекты рынка — своекорыстны, что резюмируется в изречении Адама Смита о мяснике, пивоваре и булочнике. Красота рыночной системы, заявляют они, в том, что рынок перенаправляет худшие проявления человеческой природы — эгоизм, или, если хотите, жадность, — в более продуктивные и социально полезные.
Следуя своей корыстной природе, владельцы магазинов постараются взять с вас побольше, рабочие будут всеми силами отлынивать от работы, а профессиональные управляющие будут стремиться максимально поднять свои зарплаты и авторитет, а не прибыли компании, которые пойдут не им самим, а держателям акций. Но сила рынка жестко ограничивает, а то и полностью искореняет подобную практику: владельцы магазинов не станут обманывать вас, если у них за углом будет располагаться конкурент; рабочие не посмеют лодырничать, если будут знать, что им легко найдется замена; наемные директора не смогут обирать акционеров, если станут работать в условиях динамичного фондового рынка, законы которого таковы, что директора, дающие самую низкую прибыль, а значит, понижающие цену акций, рискуют потерять работу в результате поглощения своей компании.
Для рыночных экономистов государственные служащие — политики и правительственные чиновники — представляют собой уникальный вызов. Поскольку на них рыночная дисциплина не распространяется, то рыночные факторы слабо сдерживают преследование ими собственных интересов. Да, политикам угрожает определенная конкуренция со стороны коллег, но выборы происходят так нечасто, что их дисциплинирующее воздействие ограничено. Следовательно, государственные служащие имеют широкое поле деятельности, где они могут проводить политику, направленную на росту их власти и богатства, ценой национального благосостояния. У профессиональных бюрократов пространства для удовлетворения личных интересов еще больше. Даже если политики, их политические хозяева, попытаются заставить их претворять в жизнь планы, идущие на пользу интересам электората, бюрократы всегда найдут способы запутать политиков и манипулировать ими, как это блестяще показано в комедийном сериале Би-би-си «Да, господин министр» и его продолжении «Да, господин премьер-министр». Более того, в отличие от политиков, профессиональным бюрократам гарантировано рабочее место, если не пожизненные полномочия, так что они способны «пересидеть» своих политических хозяев, попросту затягивая решение вопросов. Вот суть проблем, которые экономисты Всемирного банка изложили на мероприятии в Японии, которое я упомянул в начале этой Тайны.
Следовательно, доля экономики, контролируемой политиками и бюрократами, должна быть сведена к минимуму, рекомендуют рыночные экономисты. Сокращение государственного регулирования и приватизация в этой связи не только экономически эффективны, но и политически разумны, поскольку минимизируют саму возможность того, что государственные чиновники станут использовать государство как средство продвижения собственных интересов в ущерб общественной пользе. Некоторые из экономистов — сторонники так называемой «новой модели государственного управления» — заходят еще дальше и рекомендуют сделать так, чтобы и работа правительства подчинялась действию рыночных сил: решительнее вводить оплату по результатам работы и краткосрочные контракты для чиновников; чаще передавать государственные контракты для выполнения в частный сектор; проводить более активную ротацию кадров между государственным и частным секторами.
ВОЗМОЖНО, МЫ НЕ АНГЕЛЫ НО…
Постулат об эгоистическом индивидуализме, который лежит в основе рыночной экономики, во многом перекликается с нашим личным опытом. Нас всех обманывали нечистоплотные торговцы, будь то продавец фруктов, который положил несколько гнилых слив на дно бумажного пакета, или выпускающая йогурты компания, чересчур восхваляющая пользу своей продукции для здоровья. Нам известно слишком много продажных политиков и ленивых бюрократов, чтобы мы поверили, будто все слуги народа служат исключительно народу. Большинству из нас, и я не исключение, случалось и самим отлынивать от работы, а некоторых из нас приводили в отчаяние младшие коллеги и помощники, которые находили любые отговорки, лишь бы не браться за серьезную работу. Более того, в новостях нам сообщают о том, что профессиональные управляющие, даже такие, казалось бы, ревностные защитники интересов акционеров, как Джек Уэлч из «Дженерал электрик» и Рик Вагонер из «Дженерал моторе», на самом деле не вполне служат этим интересам (см. Тайну 2).
Все это так. Но у нас есть и большое число фактов (не просто историй, а систематических свидетельств), показывающих, что эгоизм — не единственный для человека стимул, имеющий значение в нашей экономической жизни. Эгоизм, бесспорно, один из важнейших мотивов, но у нас есть и множество других: честность, самоуважение, альтруизм, любовь, сочувствие, вера, чувство долга, товарищество, лояльность, гражданственность, патриотизм и так далее, — которые иногда важнее в качестве движущей силы наших поступков, чем эгоизм{13}.
Приведенный ранее пример «Кобе стил» демонстрирует, что преуспевающими компаниями руководят на основе доверия и лояльности, а не подозрительности и корыстолюбия. Если вы считаете, что это — специфичный пример из страны «рабочих муравьев», которая подавляет индивидуальность человеческой натуры, возьмите любую книгу по лидерству в бизнесе или любую автобиографию добившегося успеха бизнесмена, опубликованную на Западе, и посмотрите, что они говорят. Разве они говорят, что надо подозревать людей и все время следить за ними, чтобы они не работали спустя рукава и не обманывали? Нет, вероятно, они большей частью говорят о том, как «устанавливать связь» с работниками, изменять их видение, вдохновлять их и внедрять среди них командный метод работы. Хорошие управляющие знают, что люди — не узкомыслящие роботы, заботящиеся лишь о себе. Они знают, что у людей бывают «хорошие» и «плохие» стороны и что секрет хорошего руководства — в усилении первых и ослаблении вторых.
Еще один удачный пример, иллюстрирующий неоднозначность человеческой мотивации, — практика «работы строго по правилам», когда рабочие замедляют рабочий процесс, буквально следуя правилам, регламентирующим их задачи. Вы спросите, как могут рабочие навредить работодателю, работая по правилам? Но этот способ частичной забастовки — известный также как «итальянская забастовка» (как его называют сами итальянцы, «шоперо бьянко», или «белая забастовка») — сокращает производительность на 30–50%. Происходит это потому, что не все можно регламентировать в договоре найма («правилах»), а значит, все производственные процессы во многом зависят от доброй воли работников предпринимать какие-то дополнительные усилия, которые не требуются по договору, или проявлять инициативу и избирать кратчайший путь, чтобы ускорить выполнение задачи, когда правила слишком громоздки. Причины, стоящие за подобным бескорыстным поведением рабочих, разнообразны: любовь к своей работе, гордость за свое мастерство, самоуважение, солидарность с коллегами, доверие к руководству или лояльность компании. Но суть в том, что компании, а значит, и вся наша экономика, застопорились бы, если бы люди в своих поступках руководствовались исключительно эгоистичными побуждениями, как того ждет от них рыночная теория.
Не осознавая сложный характер мотивации работника, капиталисты ранней эпохи массового производства считали, что конвейер, полностью лишив рабочих контроля над скоростью и интенсивностью работы, а значит, и возможности саботажа, максимально увеличит производительность труда. Но вскоре эти капиталисты обнаружили, что, будучи лишенными самостоятельности и чувства собственного достоинства, рабочие в ответ становились пассивны, бездумны и даже конфликтны. Поэтому, начиная с возникшей в 1930-х годах «школы человеческих отношений», которая утверждала необходимость налаживания хороших контактов с рабочими и между рабочими, появилось множество управленческих подходов, подчеркивающих многогранность мотивации человека и предлагающих способы добиться от рабочих как можно большего. Вершиной такого подхода является так называемая японская производственная система (иногда называемая «производственная система “Тойоты”»), которая использует добрую волю и творческий потенциал сотрудников, возлагая на них ответственность и доверяя им как людям, отвечающим за свои действия. В японской системе рабочим отдается довольно существенный контроль над производственной линией. Кроме того, поощряется предложения работников по улучшению производственного процесса. Этот подход позволил японским фирмам достичь такой эффективности и качества производства, что сейчас им начинают подражать многие неяпонские компании. Не предполагая о своих рабочих худшее, японские компании получили от них лучшее, на что те способны.
НРАВСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ИЛЛЮЗИЯ?
Итак, если вы оглянетесь вокруг и задумаетесь, то увидите, что мир полон примеров благородных поступков, которые идут вразрез с представлениями рыночных экономистов. Сталкиваясь с подобными поступками, они часто отвергают их как «оптические иллюзии». Если с виду кажется, будто люди ведут себя морально, утверждают экономисты, то это только потому, что наблюдатели не видят скрытых вознаграждений и санкций, на которые они ориентируются.
По этой логике, люди всегда остаются эгоистами. Если они ведут себя морально, то не потому, что верят в сам моральный кодекс, но потому, что такое поведение максимально увеличивает награду и сводит к минимуму наказание для них лично. Например, если торговцы воздерживаются от обмана, даже когда нет юридического принуждения или нет конкурентов, готовых забрать их бизнес, это не означает, что они верят в честность. Так происходит потому, что они знают: репутация честного торговца приносит больше клиентов. Многие туристы, которые ведут себя плохо, не совершают на родине скверных поступков не потому, что по возвращении домой они внезапно становятся приличными людьми, но потому, что дома они лишены анонимности туриста, а значит, боятся, что их начнут осуждать или избегать люди, которых они знают и которые для них важны.
Определенная доля истины в этом есть. Существуют неявные вознаграждения и санкции, которые не сразу заметны, и люди действительно на них ориентируются. Но эта цепь рассуждений в какой-то момент становится несостоятельной.
Дело в том, что, даже когда не работают никакие скрытые механизмы вознаграждения и порицания, многие из нас ведут себя честно. Например, почему мы — или по крайней мере, те из нас, кто хорошо бегает, — не убегаем, не заплатив, когда проедем в такси?{14} Далеко за нами таксист не побежит, потому что не может бросить машину надолго. Если вы живете в большом городе, у вас нет буквально никаких шансов еще раз встретиться с тем же самым таксистом, так что не надо бояться даже того, что в будущем таксист вам отомстит. Поэтому весьма примечательно, что так мало людей убегает, не заплатив после поездки на такси. Возьмем еще один пример: на отдыхе за границей некоторые из вас, возможно, встречали автомеханика или уличного торговца, которые не обманули вас, хотя у вас не было никакой возможности вознаградить их, распространяя за ними славу честных людей, — что особенно трудно, когда вы даже не можете прочитать название турецкого гаража или когда камбоджийская продавщица лапши, чье имя вы все равно не в состоянии запомнить, возможно, даже не торгует на одном и том же месте изо дня в день.
Более того, в мире, населенном эгоистами, невидимый механизм вознаграждений и наказаний существовать не может. Проблема в том, что поощрение и наказание стоят времени и сил только людям, осуществляющим их, тогда как следование высоким нравственным стандартам поведения приносит пользу всем. Возвращаясь к вышеприведенным примерам: если вы как водитель такси захотите догнать и побить сбежавшего клиента, то рискуете быть оштрафованными за незаконную парковку или подвергаете свою машину опасности взлома. Но каков шанс, что вы получите какую-то пользу от высокого стандарта поведения того пассажира, которого вы, возможно, никогда больше не встретите? Вы потратите силы и время на то, чтобы распространить добрые слова о турецком гараже, но зачем вам это делать, если вы, возможно, никогда больше не посетите этот уголок мира? Поэтому, как исполненный эгоизма индивид, вместо того чтобы возиться самому, вы ждете, пока не найдется другой, которому достанет глупости потратить собственное время и силы и воздать должное несознательным пассажирам такси или добросовестным, никому не известным механикам. Но если бы все были такими же эгоистами, заботящимися лишь о самих себе, то они бы поступили точно так же, как вы. В результате никто бы не стал награждать других за хорошие поступки или наказывать за плохие. Иными словами, невидимые механизмы награды/порицания, которые, по утверждениям рыночных экономистов, создают иллюзию нравственности, могут существовать только потому, что мы не эгоисты, не те безнравственные фигуранты, которыми нас выставляют.
Нравственность — не иллюзия. Когда люди что-то совершают бескорыстно — не обманывают клиентов, хорошо работают, хотя никто за ними не следит, или не берут взяток, будучи низкооплачиваемым чиновником, — многие из них, если не все, делают так потому, что искренне верят, что так и должно быть. Невидимые механизмы вознаграждения и наказания важны, но объяснить все бескорыстные поступки — или хотя бы большинство их — они не могут, пусть даже по той простой причине, что они не были бы совершены, будь мы эгоистами до глубины души. Вопреки утверждению Маргарет Тэтчер: «Не существует такого понятия, как общество. Есть отдельные мужчины и женщины, и есть семьи», — человеческие существа никогда не существовали как изолированные единицы, движимые собственной корыстью и не связанные никакими общественными узами. Мы рождаемся в обществе с определенными моральными устоями и воспитанием подготавливаемся к тому, чтобы «вобрать в себя» эти моральные устои.
Все это, конечно, не отрицает, что поиск личной выгоды — одно из важнейших побуждений человека. Но если бы каждый и в самом деле преследовал исключительно собственные интересы, мир бы уже остановился, поскольку в торговле царил бы сплошной обман, а в производстве — сплошное разгильдяйство. Более того, если мы разработаем экономическую систему на основе подобного предположения, то результатом, скорее всего, будет более низкая, а не более высокая эффективность. Люди почувствовали бы, что их сознательности не доверяют, и перестали бы поступать этично, и нам пришлось бы тратить огромные ресурсы на слежку, осуждение и наказание. Если предполагать в людях худшее, худшее от них мы и получим.
ТАЙНА ШЕСТАЯ. ВЫСОКАЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ НЕ СДЕЛАЛА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ БОЛЕЕ СТАБИЛЬНОЙ
ЧТО ВАМ РАССКАЗЫВАЮТ
До 1970-х годов для экономики врагом номер один была инфляция. Катастрофическую по силе гиперинфляцию пережили многие страны. Даже не доходя до масштабов гиперинфляции, экономическая нестабильность, наступающая в результате высокой и переменной инфляции, не способствовала инвестициям, а значит, и развитию. К счастью, дракон инфляции был повержен в 1990-х годах, благодаря жесткому подходу к дефициту государственного бюджета и появлению все большего числа политически независимых центробанков, которые целенаправленно занимались контролем над инфляцией. Поскольку для долгосрочных капиталовложений и, следовательно, развития в целом необходима экономическая стабильность, приручение зверя по имени инфляция заложило основу для бурного и долгого процветания.
ЧТО ОТ ВАС СКРЫВАЮТ
Возможно, инфляцию и приручили, но мировая экономика стала существенно менее устойчивой. Наши восторженные заявления последних трех десятилетий об успешном обуздании колебания цен умалчивали о крайней нестабильности, демонстрируемой в то время экономиками всего мира. Многочисленные финансовые кризисы, включая глобальный финансовый кризис 2008 года, многим разрушили жизнь долгами, банкротством и безработицей. Чрезмерное внимание к инфляции отвлекло нас от проблем занятости и экономического роста. Во имя «гибкости рынка труда» занятость приобрела неустойчивый характер, что, в свою очередь, дестабилизировало жизнь многих людей. Вопреки утверждению, что стабильность цен — предпосылка экономического роста, с 1990-х годов, когда инфляция считалась окончательно побежденной, меры, направленные на снижение инфляции, вызвали лишь вялый экономический подъем.
ТАМ ЛЕЖАТ ДЕНЬГИ — ИЛИ НЕ ТАМ?
В январе 1923 года французские и бельгийские войска оккупировали Рурскую область Германии, славящуюся углем и сталью. Причиной послужило то, что за 1922 год немцы серьезно запаздывали с выплатой репараций по Версальскому договору, завершившему Первую мировую войну.
Но если бы французы и бельгийцы желали денег, им бы следовало оккупировать банки (ведь «там лежат деньги», как сказал, по легенде, знаменитый американский грабитель Вилли Саттон, когда его спросили, почему он грабит банки), а не захватывать угольные шахты и сталелитейные заводы. Почему же они так не сделали? Потому, что их беспокоила германская инфляция.
Начиная с лета 1922 года, инфляция в Германии стала выходить из-под контроля. За шесть месяцев второго полугодия 1922 года индекс прожиточного минимума возрос в 16 раз. Конечно, гиперинфляция была, по крайней мере отчасти, вызвана обременительными репарационными требованиями французов и бельгийцев, но как только она началась, Франции и Бельгии резонно было оккупировать Рур, чтобы обеспечить себе получение репараций товарами, такими как уголь и сталь, а не бесполезной бумагой, чья ценность стремительно уменьшалась.
Решение не было случайным. После оккупации Рура инфляция в Германии стала совершенно неуправляемой — цены поднялись еще в 10 миллиардов раз (да, миллиардов, не тысяч и даже не миллионов), пока в ноябре 1923 года не была введена новая валюта, рентная марка.
Германская гиперинфляция оставила на развитии германской, да и мировой истории глубокие и долго не заживавшие следы. Есть мнение, и не безосновательное, что гиперинфляция заложила основы для подъема нацизма, дискредитировав либеральные институты Веймарской республики. Те, кто придерживаются этой точки зрения, в сущности утверждают, что германская гиперинфляция 1920-х годов стала одной из основных причин Второй мировой войны. Шок, который перенесла Германии от гиперинфляции, был столь велик, что Бундесбанк, центральный банк Западной Германии после Второй мировой войны, прославился своей чрезмерной неприязнью к мягкой кредитно-денежной политике. Даже после рождения единой европейской валюты, евро, и последующего упразднения национальных центробанков в странах еврозоны, под давлением Германии Европейский Центробанк (ЕЦБ) избрал жесткий курс в своей кредитно-денежной политике, даже несмотря на упорно не снижающуюся безработицу, пока в 2008 году всемирный финансовый кризис не заставил его, вместе с другими центробанками мира, пойти на беспрецедентное ослабление валютной политики. Таким образом, говоря о последствиях германской гиперинфляции, мы ведем речь об ударной волне, продолжавшейся почти столетие после самого события и оказавшей воздействие не только на Германию, но и на европейскую, и на мировую историю.
НАСКОЛЬКО ПЛОХА ИНФЛЯЦИЯ?
Германия — не единственная страна, испытавшая гиперинфляцию. В наше время для финансовой прессы синонимом гиперинфляции стала Аргентина, но самый высокий уровень инфляции, который она пережила, составлял «всего лишь» около 20000%. Хуже германской были венгерская инфляция после Второй мировой войны и инфляция в Зимбабве в 2008 году, в последние дни диктатуры президента Роберта Мугабе (сейчас он делит власть с бывшей оппозицией).
Гиперинфляция подрывает саму основу капитализма, превращая рыночные цены в пустой звук. В разгар венгерской инфляции 1946 года цены вырастали вдвое каждые 15 часов, а в худшие дни германской гиперинфляции 1923 года цены удваивались каждые четыре часа. Нельзя руководствоваться одними лишь ценовыми показателями, что я не устаю утверждать на каждой странице своей книги, но когда цены растут такими темпами, невозможно развивать нормальную экономику. Кроме того, гиперинфляция часто является результатом или причиной политических катастроф, таких как приход к власти Адольфа Гитлера или Роберта Мугабе. Вполне понятно, почему люди отчаянно стремятся избежать гиперинфляции.
Но не всякая инфляция — гиперинфляция. Да, есть те, кто боится, что любая инфляция, если предоставить ее самой себе, разовьется в гиперинфляцию. Например, хорошо известно, как в начале 2000-х годов Масару Хайями, управляющий центральным банком Японии, отказался обесценить денежную массу на том основании, что опасается возможной гиперинфляции — несмотря на то, что его страна переживала в то время дефляцию (падение цен). Но свидетельств тому, что инфляция неизбежно превратится — или хотя бы может превратиться — в гиперинфляцию, нет. Никто не возьмется говорить о желательности или хотя бы приемлемости гиперинфляции, но весьма спорен вопрос о том, любая ли инфляция плоха, вне зависимости от ее темпа.
С 1980-х годов экономисты-рыночники убеждают — и сумели убедить — весь остальной мир, что к экономической стабильности, которую они определяют как очень низкую (в идеале, нулевую) инфляцию, нужно стремиться любой ценой, поскольку инфляция вредна для экономики. Приемлемый уровень инфляции, которого они рекомендуют достичь, составляет около 1–3% — такие цифры были предложены Стэнли Фишером, бывшим профессором экономики Массачусетского технологического института и главным экономистом МВФ с 1994 по 2001 годы{15}.
Но на самом деле нет никаких подтверждений тому, что инфляция (на низком уровне) вредна для экономики. Например, даже в исследованиях, проведенных экономистами-рыночниками, которые работали с такими организациями, как Университет Чикаго или МВФ, высказывается предположение, что инфляция ниже 8–10% не оказывает никакого влияния на уровень экономического роста в стране[1]. В ряде других исследований порог ставится еще выше — 20%, а то и 40%{16}.
Опыт некоторых стран подсказывает, что довольно высокая инфляция совместима даже со стремительным экономическим ростом. В 1960–1970-х годах Бразилия имела средний показатель инфляции в 42%, но была одной из самых быстроразвивающихся стран мира, и ее доход на душу населения вырастал на 4,5% в год. В тот же период доход на душу населения в Южной Корее увеличивался на 7% в год, несмотря на среднегодовой уровень инфляции почти на 20%, что выше, чем во многих странах Латинской Америки на тот момент[2].
Более того, имеются данные, что излишне активные антиинфляционные меры могут нанести экономике вред. С 1996 года, когда Бразилия — пройдя болезненную фазу быстрой инфляции, не достигшей, впрочем, гиперинфляционных масштабов, — начала инфляцию сдерживать, подняв реальную процентную ставку (номинальная процентная ставка минус темп инфляции) до одной из самых высоких в мире (10–12% в год), ее инфляция упала до 7,1% в год, но пострадал и ее экономический рост: увеличение дохода на душу населения составило всего 1,3% в год. Южная Африка начала испытывать подобное с 1994 года, когда сдерживанию инфляции было придано первостепенное значение и процентную ставку взвинтили до уровня вышеупомянутой бразильской.
Почему так происходит? Потому что меры, направленные на сокращение инфляции, если их слишком форсировать, сокращают инвестиции и тем самым — экономический рост. Экономисты-рыночники нередко пытаются оправдать свое воинственное отношение к инфляции заявлениями, что экономическая стабильность стимулирует накопления и инвестиции, которые, в свою очередь, способствуют экономическому росту. Поэтому, пытаясь доказать, что макроэкономическая стабильность, выраженная в низкой инфляции, была ключевым фактором в стремительном экономическом росте стран Восточной Азии (утверждение, которое, на самом деле, не применимо к Южной Корее, как видно из вышесказанного), Всемирный банк в докладе от 1993 года заявляет: «Макроэкономическая стабильность стимулирует долгосрочное планирование и частные инвестиции и, влияя на реальную процентную ставку и реальную стоимость финансовых активов, помогла увеличить финансовые накопления». Но суть в том, что меры, необходимые для того, чтобы свести инфляцию к очень низкому — выражающемуся малым однозначным числом — уровню, отпугивают инвесторов.
Если реальные процентные ставки установлены на уровне 8,10 или 12%, это означает, что потенциальные инвесторы не сочтут нефинансовые капиталовложения привлекательными, поскольку мало какие из таких инвестиций приносят доходы выше 7%[3]. В этом случае, единственный вариант прибыльного инвестирования — вложение в высокорискованные, высокоприбыльные финансовые активы. Но, несмотря на то, что финансовые инвестиции могут на время подстегнуть экономический рост, такой рост не может продолжаться долго, поскольку эти инвестиции рано или поздно должны быть подкреплены стимулирующими эффективную деятельность долгосрочными вложениями в сфере материального производства, как наглядно показал финансовый кризис 2008 года (см. Тайну 22).
Экономисты-рыночники намеренно воспользовались оправданными страхами людей перед гиперинфляцией, чтобы протолкнуть избыточные антиинфляционные меры, которые приносят больше вреда, чем пользы. Это уже достаточно плохо, но на самом деле все еще хуже. Антиинфляционные меры не только нанесли вред инвестированию и экономическому росту, но и не достигли намеченной цели — а именно, укрепления экономической стабильности.
ЛОЖНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
С 1980-х, а особенно с 1990-х годов контроль над инфляцией во многих странах стоял среди важнейших задач на повестке дня. Странам настойчиво рекомендовалось ограничивать государственные расходы, чтобы дефицит бюджета не активизировал инфляцию. Также предлагали предоставить Центробанку политическую независимость, с тем, чтобы он мог достаточно высоко поднять процентные ставки — если необходимо, даже вопреки протестам общественности, чему политики сопротивляться не могли.
Борьба потребовала времени, но в последние годы в большинстве стран зверь по имени инфляция был укрощен. По данным ВМФ, с 1990 по 2008 г. средний уровень инфляции упал в 97 из 162 стран, по сравнению с показателями 1970-х и 1980-х. Особенно успешно битва с инфляцией шла в богатых странах. Во всех них инфляция упала. Средняя инфляция для стран Организации экономического сотрудничества и развития (большинство из которых богаты, хотя не все богатые страны принадлежат к ОЭСР) между 1970–1980-ми и 1990–2000 гг. упала с 7,9% до 2,6%. Мир, особенно если вы живете в богатой стране, стал более стабильным — но так ли это?
Суть в том, что мир стал стабильнее, только если рассматривать низкую инфляцию как единственный показатель экономической стабильности, но не стабильнее в том смысле, в каком стабильность понимают большинство из нас.
За последние три десятилетия господства свободного рынка и мощной антиинфляционной политики мир стал нестабильнее — в частности, увеличилась частота и масштабы экономических кризисов. Согласно исследованию Кеннета Рогоффа, бывшего главного экономиста ВМФ, а ныне профессора Гарвардского университета, и Кармен Райнхарт, профессора университета Мэриленда, с конца Второй мировой войны и до середины 1970-х гг., когда мир, если судить по инфляции, был намного нестабильнее, чем сегодня, фактически ни одна страна не переживала банковский кризис. С середины 1970-х до конца 1980-х годов, когда во многих странах инфляция стала набирать темп, доля стран, испытывающих банковский кризис, возросла до 5–10%, если считать их долю мирового дохода, что, на первый взгляд, подтверждает истинность картины мира, ставящей инфляцию во главу угла. Однако в середине 1990-х годов, когда мы, казалось бы, окончательно приручили зверя по имени инфляция и достигли постоянно ускользающей от нас цели — экономической стабильности, доля стран-жертв банковского кризиса взлетела до 20%. Затем, в середине 2000-х годов, их число на несколько лет упало до нуля, но снова поднялось до 35%, вслед за глобальным финансовым кризисом 2008 года (и, вероятно, к моменту завершения работы над книгой, то есть к началу 2010 года, поднимется еще выше){17}.
Еще один критерий, демонстрирующий, что мир за последние три десятилетия стал нестабильнее, — то, что для многих людей в этот период возросла гарантия занятости. Гарантированность рабочего места в развивающихся странах всегда была низка, но количество негарантированных мест в так называемом «неофициальном секторе» (совокупности незарегистрированных фирм, которые не платят налоги и не соблюдают законов, включая те, что обеспечивают гарантию занятости) за этот период во многих развивающихся странах увеличилось, по причине преждевременной либерализации торговли, уничтожившей множество гарантированных «официальных» рабочих мест в соответствующих отраслях. В богатых странах ненадежность рабочих мест за 1980-е годы также повысилась, по причине возрастающей (по сравнению с 1950–1970-ми годами) безработицы, которая во многом явилась результатом сдерживающих макроэкономических мер, которые сдерживание инфляции ставили превыше всего. С 1990-х уровень безработицы упал, но негарантированность рабочих мест, по сравнению с периодом до начала 1980-х, выросла еще больше.
Тому есть немало причин. Во-первых, доля краткосрочной занятости в большинстве богатых стран возросла, хотя не настолько радикально, как считают некоторые. Во-вторых, хотя те, кто сохраняют за собой рабочее место, порой продолжают работать на прежней работе почти так же долго, как их коллеги до начала 1980-х гг., стало больше случаев принудительного расторжения трудового договора, по крайней мере в ряде стран, особенно в США. В-третьих, и в особенности это касается Великобритании и США, должности, которые вплоть до начала 1980-х годов считались преимущественно надежными — административные, церковные и требующие высокой квалификации, — с 1990-х годов стали ненадежными. В-четвертых, даже если рабочее место осталось надежным, характер и интенсивность работы стали подвержены более частым и существенным изменениям — и зачастую к худшему. Например, согласно проведенному в 1999 году исследованию Фонда Джозефа Раунтри, британского благотворительного фонда социальных реформ, названного в честь известного бизнесмена, мецената и квакера, почти две трети британских рабочих ответили, что за предыдущие пять лет испытывали увеличение темпа или интенсивности работы. И последнее, по списку, но не по значимости: во многих (хотя и не во всех) богатых странах с 1980-х гг. отказались от модели «государства всеобщего благоденствия», поэтому люди чувствуют себя более незащищенными, хотя объективно вероятность потери работы осталась прежней.
Суть в том, что стабильность цены — лишь один из показателей экономической стабильности. Для большинства людей это даже не самый главный показатель. Наиболее дестабилизирующие события в жизни большинства людей связаны с потерей работы (или необходимостью радикально ее изменить) или дома из-за финансового кризиса, а не с неповышением цен, если только они не достигли гиперинфляционного размаха (положа руку на сердце, действительно ли вы в состоянии заметить разницу между инфляцией в 4% и в 2%?). Поэтому обуздание инфляции большинству людей не принесло полного ощущения стабильности, как обещали сторонники антиинфляционных мер.
Ценовая стабильность (то есть, низкая инфляция) и одновременный рост неценовых проявлений экономической нестабильности, таких как участившиеся банковские кризисы и увеличение негарантированности рабочих мест, — это не случайное совпадение. Все это результаты одного и того же комплекса рыночных мер.
В указанном выше исследовании Рогофф и Райнхарт отмечают, что число стран, подверженных банковским кризисам, тесно связано со степенью международной мобильности капитала. Рост международной мобильности — главная цель экономистов-рыночников, которые полагают, что достижение большей свободы движения капитала через границы увеличит эффективность его использования (см. Тайну 22). Поэтому они ратуют за распространение рынка капиталов на весь мир, хотя еще недавно они смягчали свою позицию в отношении развивающихся стран.
Аналогично, увеличившаяся негарантированность занятости — прямое следствие рыночной политики. Ненадежность занятости, проявившаяся в 1980-х гг. в богатых странах в виде высокой безработицы, была результатом жестких антиинфляционных макроэкономических мер. В период между 1990-ми годами и разразившимся в 2008 году кризисом, несмотря на упавший уровень безработицы, возросли шансы работника на принудительное увольнение, увеличилось количество краткосрочных контрактов, должностные инструкции переписывались чаще, и на многих позициях интенсивность работы стала выше — все это происходило в результате изменений в законодательстве о рынке труда, направленных на увеличение его гибкости и, тем самым, экономической эффективности.
Пакет рыночных реформ, часто называемый неолиберальным пакетом, особо обращает внимание на низкую инфляцию, большую мобильность капитала и большую незащищенность рабочих мест (скромно именуемую «повышением гибкости рынка труда»), главным образом потому, что этот пакет предложений защищает в основном интересы держателей финансовых активов. Важность сдерживания инфляции подчеркивается потому, что многие финансовые активы номинально имеют фиксированные ставки дохода, поэтому инфляция сокращает их фактическую доходность. Большая мобильность капитала пропагандируется потому, что для держателей финансовых активов основной источник получения более высокого дохода, по сравнению с держателями других (физических и человеческих) активов, — это возможность быстрее перемещать свои активы (см. Тайну 19). Большая гибкость рынка труда требуется потому, что, с точки зрения финансовых инвесторов, если облегчить прием на работу и увольнение сотрудников, то компании можно реструктурировать быстрее, демонстрируя более привлекательные цифры в краткосрочных балансовых отчетах, а значит, их легче продавать и покупать, получая более высокие доходы (см. Тайну 2).
Даже несмотря на то, что реформы, нацеленные на рост ценовой стабильности, увеличили финансовую нестабильность и ненадежность занятости, они могли быть отчасти оправданы, если бы увеличили инвестиции и, тем самым, экономический рост, как предсказывали ярые защитники жесткого курса по отношению к инфляции. Но за период низкой инфляции после 1980-х годов мировая экономика развивалась намного медленнее, чем в период высокой инфляции 1960–1970-х, не в последнюю очередь потому, что в большинстве стран упал объем инвестиций (см. Тайну 13). Даже в богатых странах, где инфляцию полностью обуздали, с 1990-х годов доход на душу населения упал с 3,2% в 1960–1970-х до 1,4% в 1990–2009 годах.
В целом, инфляция, на уровне от невысокого до умеренного, не так опасна, как ее подают экономисты-рыночники. Попытки снизить инфляцию до предельно низкого уровня уменьшили инвестиции и экономический рост, вопреки утверждению, что большая экономическая стабильность, которую приносит с собой низкая инфляция, будет стимулировать инвестиции и тем самым экономический рост. Более того, низкая инфляция большинству из нас не принесла и подлинной экономической стабильности. Либерализация капитала и рынков труда, составляющая неотъемлемую часть рыночного пакета мер, в котором контроль над инфляцией — ключевой элемент, увеличили финансовую нестабильность и неустойчивость занятости, отчего мир для большинства из нас стал более нестабильным. В качестве обидного довершения нерадостной картины, — ожидавшийся благотворный результат введения контроля над инфляцией так и не проявился.
С нашим нездоровым интересом к инфляции необходимо покончить. Инфляция стала жупелом, который используется для оправдания реформ, играющих на руку, главным образом, держателям финансовых активов, в ущерб прочной стабильности, экономическому росту и счастью людей.
ТАЙНА СЕДЬМАЯ. МЕТОДЫ СВОБОДНОГО РЫНКА РЕДКО ДЕЛАЮТ БЕДНЫЕ СТРАНЫ БОГАТЫМИ
ЧТО ВАМ РАССКАЗЫВАЮТ
Освободившись от колониального господства, развивающиеся страны пытались развивать свою экономику путем государственного вмешательства, иногда даже начиная откровенно исповедовать социализм. Они пытались искусственно развивать такие отрасли, как сталелитейную и автомобильную промышленность, что выходило за пределы их возможностей, и использовали при этом такие методы, как торговый протекционизм, запрет на прямые зарубежные капиталовложения, промышленные субсидии и даже государственную собственность на банки и промышленные предприятия. На эмоциональном уровне это вполне можно понять, учитывая то, что все бывшие хозяева колоний были капиталистическими странами и пользовались методами рыночной политики. Однако эта стратегия привела в лучшем случае к стагнации, в худшем — к катастрофе. Рост был вялым (а то и отрицательным), и получавшие поддержку отрасли экономики не спешили «вырастать». К счастью, большинство из этих стран в 1980-х годах одумались и начали перенимать рыночные методы. В сущности, так и надо было поступать с самого начала. Все нынешние богатые страны, за исключением Японии (и, быть может, Кореи, хотя это спорно), разбогатели благодаря политике свободного рынка, особенно посредством свободной торговли с остальным миром. И те развивающиеся страны, которые восприняли эту политику более полно и последовательно, в последнее время показывают лучшие результаты.
ЧТО ОТ ВАС СКРЫВАЮТ
Вопреки обычным утверждениям, экономические показатели развивающихся стран в период государственного регулирования превосходили достижения этих стран за соответствующий период рыночных реформ. Было и несколько весьма показательных случаев неудачного государственного вмешательства, но большинство из этих стран развивались гораздо быстрее и демонстрировали более справедливое распределение доходов и намного меньшее число финансовых кризисов в «недобрые старые времена», чем в период рыночных реформ. Ошибочно и мнение, будто чуть ли не все богатые страны разбогатели благодаря осуществлению рыночной политики. Верно, в каком-то смысле, противоположное. С небольшими исключениями, все сегодняшние богатые страны, включая Великобританию и США — считающихся колыбелью свободной торговли и свободного рынка, — стали богатыми благодаря сочетанию протекционизма, субсидий и прочих методов, которые они же в настоящее время развивающимся странам советуют не перенимать. До сего дня рыночная политика обогатила лишь считанные страны, и в будущем она вряд ли поможет многим странам разбогатеть.
ДВА ДОХОДЯГИ
Вы — экономический аналитик, пытающийся оценить перспективы роста двух развивающихся стран. Вот характеристики этих двух стран. Каково ваше мнение?
Страна А: Еще десяток лет назад в стране активно проводилась политика протекционизма, а средний тариф для промышленных потребителей существенно превышал 30%. Несмотря на недавнее снижение тарифов, по-прежнему заметны явные и неявные торговые ограничения. В стране строго регламентировано движение трансграничных финансовых потоков, банковский сектор принадлежит государству и жестко регулируется, наложены многочисленные ограничения и на владение финансовыми активами иностранцами. Зарубежные фирмы, занимающиеся в стране производством, жалуются, что местные власти подвергают их дискриминации, вводя дифференцированные налоги и законы. Выборы не проводятся, страна пронизана коррупцией. Имущественные права непрозрачны и запутаны. В частности, права на интеллектуальную собственность защищены слабо, отчего страна считается пиратской столицей мира. В стране большое число государственных предприятий, многие из которых несут большие убытки, но поддерживаются на плаву субсидиями и монопольными правами, предоставляемыми правительством.
Страна В: За последние несколько десятилетий торговая политика в стране была фактически самой протекционистской в мире, а средние промышленные тарифы составляли 44–55%. Большинство населения не может голосовать, широко распространены покупка голосов и подтасовка выборов. Процветает коррупция, политические партии продают посты в правительстве своим финансовым покровителям. В стране ни один государственный служащий никогда не был принят на работу на открытой конкурентной основе. Бюджетные средства находятся в плачевном состоянии, причем случались невыплаты государственных займов, что вызывает беспокойство иностранных инвесторов. Несмотря на это, по отношению к иностранным инвесторам применяется жесткая дискриминация. В особенности это касается банковского сектора, где иностранцам не разрешается становиться директорами, а иностранные акционеры даже не могут воспользоваться своим правом голоса, если они не являются резидентами страны. Нет антимонопольного законодательства, поэтому картели и прочие формы монополий разрастаются безнаказанно. Защита прав интеллектуальной собственности действует выборочно, и особенно омрачает ситуацию то, что страна не желает охранять авторские права иностранцев.
Обе страны погрязли в недостатках, которые, казалось бы, должны препятствовать экономическому развитию: масштабный протекционизм, дискриминация иностранных инвесторов, слабая защищенность прав на собственность, существование монополий, слабая демократия, коррупция, недостаточная меритократия и так далее. Можно было бы подумать, что развитие обеих стран движется к катастрофе. Но не торопитесь.
Страна А — это сегодняшний Китай, как, вероятно, уже поняли многие читатели. Но вряд ли многие догадались, что страна В — это США около 1880 года, когда Америка была чуть победнее современного Китая.
Вопреки всем, казалось бы, тормозящим развитие принципам и институтам, Китай последние три десятилетия является одной из самых динамичных и успешных мировых экономик, тогда как США в 1880-х годах были одной из самых быстрорастущих — и стремительно становящихся одной из богатейших — стран мира. Иными словами, обе экономические суперзвезды — и конца XIX века (США), и нынешнего времени (Китай) — следовали политическим рецептам, которые полностью идут вразрез с сегодняшним неолиберальным рыночным фундаментализмом.
Как такое возможно? Разве теория свободного рынка не выкристаллизовалась из двухвекового опыта успешного развития пары десятков богатых сегодня стран? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно углубиться в историю.
МЕРТВЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ МОЛЧАТ
Некоторые американцы называют долларовые купюры «мертвыми президентами». Это не совсем точно. Да, они действительно мертвые, но не все политики, чей портрет украшает доллар, являлись президентами Соединенных Штатов.
Бенджамин Франклин — представленный на одном из самых известных в истории образцов бумажных денег, стодолларовой купюре, — никогда президентом не был. Хотя вполне мог быть. Он был старшим из «отцов-основателей» и, возможно, самым почитаемым политиком новорожденной страны. Хотя Франклин был слишком стар, а по сравнению с ним Джордж Вашингтон обладал слишком большим политическим весом, Франклин был единственным человеком, способным составить для Вашингтона конкуренцию в борьбе за президентский пост.
Неподдельное удивление вызывает включение в пантеон президентов на зеленых купюрах Александра Гамильтона, представленного на десятидолларовой банкноте. Как и Франклин, Гамильтон никогда не был президентом США. Но, в отличие от Франклина, чья жизнь стала американской легендой, он был… скажем так, не Франклин. Гамильтон всего лишь занимал пост министра финансов, пусть и самого первого в истории страны. Что он делает среди президентов?
Гамильтон здесь потому, что он — пусть это и не ведомо для большинства сегодняшних американцев, — стал архитектором современной американской экономической системы. В 1789 году Гамильтон в неслыханно молодом возрасте тридцати трех лет стал министром финансов, а два года спустя представил «Доклад о мануфактурах», в котором предложил для своей молодой страны стратегию экономического развития. В докладе он утверждал, что «промышленность в младенческом состоянии», такую, как в Америке, правительство должно защищать и лелеять, пока она не встанет на ноги. Доклад Гамильтона касался не только торгового протекционизма — в нем также говорилось о государственных инвестициях в инфраструктуру (такую как каналы), о развитии банковской системы, о стимулировании рынка государственных облигаций, — но в основе предложенной стратегии лежал протекционизм. С такими убеждениями, будь Гамильтон сегодня министром финансов одной из развивающихся стран, он бы подвергся за свою ересь жесткой критике со стороны министерства финансов США. Возможно даже, что ВМФ и Всемирный банк отказали бы его стране в кредите.
Интересно, что в своих идеях Гамильтон был не одинок. Все остальные «мертвые президенты» сегодня столкнулись бы с таким же неодобрением министерства финансов США, МВФ, Всемирного банка и прочих поборников рыночной веры.
На однодолларовой купюре изображен первый президент, Джордж Вашингтон. На свою инаугурационную церемонию он принципиально надел американскую одежду — из ткани, специально сотканной по этому случаю в Коннектикуте, — а не британскую, более высокого качества. Сегодня это считалось бы нарушением предложенного ВТО принципа прозрачности правительственных закупок. И не будем забывать, что именно Вашингтон назначил Гамильтона министром финансов, прекрасно понимая, какова его позиция по экономической политике: в годы войны за независимость США Гамильтон был адъютантом Вашингтона, а впоследствии — его ближайшим политическим союзником.
На пятидолларовой купюре мы видим Авраама Линкольна, известного протекциониста, который во время Гражданской войны поднял ставки тарифов до самого высокого уровня{18}. На пятидесятидолларовой купюре представлен Улисс Грант, герой Гражданской войны, ставший президентом. Отвергая настойчивые требования Великобритании о введении в США свободной торговли, он как-то заметил: «Через двести лет, когда Америка получит от протекционизма все, что возможно, она тоже введет свободную торговлю».
Бенджамин Франклин, не разделяя теорию Гамильтона о «младенчестве промышленности», настаивал на введении системы покровительственных тарифов, но по другой причине. В то время земля в США почти ничего не стоила, что вынуждало американских производителей выплачивать зарплаты, почти вчетверо превосходящие средние в Европе, поскольку в противном случае рабочие убегали бы и открывали фермы (опасность была вполне реальной, если вспомнить, что прежде многие из них были фермерами). Поэтому, заявлял Франклин, американским производителям было бы не выжить, если бы их не защищали от конкуренции Европы с ее низкими зарплатами — или, как сейчас говорят, от «социального демпинга» (см. Тайну 10). Именно эту логику использовал ставший политиком миллиардер Росс Перо в дискуссии о НАФТА (Североамериканском соглашении о свободной торговле) в ходе президентской предвыборной кампании 1992 года — логику, которую охотно поддержали 18,9% американских избирателей.
Правда, как вы, безусловно, можете возразить, Томас Джефферсон (на редкой двухдолларовой купюре) и Эндрю Джексон (на двадцатидолларовой), святые-покровители американского рыночного капитализма, «тест министерства финансов США» успешно бы прошли.
Пусть Томас Джефферсон и был против протекционизма Гамильтона, но, в отличие от Гамильтона, который поддерживал патентную систему, активно выступал против патентов. Джефферсон полагал, что идеи — «как воздух», и поэтому они не должны принадлежать никому. При том внимании, какое большинство современных экономистов-рыночников уделяет защите патентов и других прав на интеллектуальную собственность, его взгляды потерпели бы в этой аудитории подверглись бы жесточайшей критике.
А Эндрю Джексон, этот защитник «простого человека» и финансовый консерватор (он впервые в истории США выплатил все федеральные долги)? К сожалению его поклонников, тест не прошел бы даже он. При Джексоне промышленные тарифы в среднем составляли около 35–40%. Вдобавок он был печально известен своим негативным отношением к иностранцам. Когда в 1836 году он отозвал лицензию полугосударственного (второго) Банка США, который на 20% принадлежал федеральному правительству США, одна из основных причин состояла в том, что «слишком большой долей» банка владеют иностранные инвесторы (главным образом, британские). И какова же эта «слишком большая» доля? Всего 30%. Если бы сегодня президент какой-нибудь развивающейся страны аннулировал лицензию банка на тех основаниях, что этим банком на 30% владеют американцы, министерство финансов США хватил бы удар.
И что мы имеем? Десятки миллионов американцев изо дня в день расплачиваются за такси и сэндвичи «Гамильтоном» или «линкольном», получая сдачу в «Вашингтонах», и не отдают себе отчета, что эти досточтимые политики — отвратительные протекционисты, которых обожает яростно критиковать большинство средств массовой информации их страны, как либеральных, так и консервативных. Нью-йоркские банкиры и чикагские университетские профессора неодобрительно качают головами, читая в «Уолл-стрит джорнал», купленном за «эндрю Джексона», статьи, в которых критикуются направленные против иностранцев выпады венесуэльского президента Уго Чавеса, и не осознают, что сам Джексон к ним испытывал гораздо большую антипатию, чем Чавес.
«Мертвые президенты» молчат. Но если бы они могли говорить, то рассказали бы Америке и остальному миру, что политика, проводимая сегодня их преемниками, представляет собой прямую противоположность методам, которые использовали они, чтобы превратить второстепенную страну с аграрной экономикой, опирающейся на труд рабов, в одну из величайших промышленных держав мира.
ДЕЛАЙ ТАК КАК Я ГОВОРЮ, А НЕ ТАК, КАК Я ДЕЛАЛ
Когда экономистам-рыночникам напоминают о протекционистском прошлом США, они, как правило, возражают, что страна пришла к успеху вопреки, а не благодаря протекционизму. Они утверждают, что стране в любом случае был уготован быстрый рост, поскольку она богато наделена природными ресурсами и приняла множество целеустремленных и трудолюбивых иммигрантов. Говорят также, что большой внутренний рынок страны несколько смягчил негативные эффекты протекционизма, предоставив некоторую возможность конкуренции между местными фирмами.
Но недостаток этих аргументов в том, что, как бы неожиданно это ни звучало, США — не единственная страна, которая добилась успеха методами, идущими вразрез с теорией свободного рынка. Более того: как я подробнее поясню ниже, большинство сегодняшних развитых стран пришли к успеху, проводя именно такую политику{19}. И, учитывая, что это страны с очень разными условиями, нельзя сказать, что у всех них была некая общая ситуация, которая нейтрализует негативное влияние протекционизма и прочей «ошибочной» политики. Возможно, США выиграли от наличия большого внутреннего рынка, но что тогда сказать о крошечных Финляндии или Дании? Если вы считаете, что США помогло изобилие природных ресурсов, то как объясните успех таких стран, как Корея и Швейцария, которые не имели практически никаких природных ресурсов, достойных упоминания? Если иммиграция для США оказалась позитивным фактором, то что сказать обо всех остальных странах — от Германии до Тайваня, — которые потеряли часть лучших своих людей, уехавших в США и другие страны Нового Света? Аргумент об «особых условиях» попросту не работает.
Великобритания, страна, где, по мнению многих, был придуман свободный рынок, построила свое процветание на принципах, сходных с теми, что предлагал Гамильтон. И это не случайно. Хотя Гамильтон первым сформулировал утверждение о «младенчестве промышленности», многие из его методов были позаимствованы у Роберта Уолпола, первого английского премьер-министра, стоявшего у руля страны с 1721 по 1742 гг.
В середине XVIII века Великобритания занялась производством шерсти, «хай-тек» отраслью того времени, в которой лидировали так называемые Нижние земли (сегодняшние Бельгия и Нидерланды), и помогли ей в этом тарифный протекционизм, субсидии и прочие виды поддержки, которую оказывали местным производителям шерсти Уолпол и его последователи. Вскоре эта отрасль промышленности стала для Британии основным источником экспортных поступлений, что позволило стране импортировать продукты питания и сырье, позволившие ей в конце XVIII — начале XIX вв. начать промышленную революцию. Свободную торговлю Британия ввела только в 1860-х гг., когда ее промышленное господство было абсолютным. Как и США, которые на протяжении почти всего периода своего могущества (с 1830-х по 1940-е годы) были самой протекционистской страной в мире, так и Великобритания была одной из самых протекционистских стран в течение почти всего периода собственного экономического подъема (с 1720-х по 1850-е гг.).
Фактически все сегодняшние богатые страны использовали протекционизм и субсидии, чтобы развивать свои младенческие отрасли промышленности. Многие из этих стран (особенно Япония, Финляндия и Корея) также строго ограничивали иностранные инвестиции. С 1930-х по 1980-е гг. Финляндия, как правило, классифицировала все предприятия с долей иностранного капитала свыше 20% как «опасные». Некоторые из этих стран (особенно Франция, Австрия, Финляндия, Сингапур и Тайвань) для развития ключевых отраслей использовали государственные предприятия. Сингапур, известный своей политикой свободной торговли и благожелательным отношением к иностранным инвесторам, более 20% своей продукции производит на государственных предприятиях, тогда как в среднем по миру этот показатель составляет приблизительно 10%. Не слишком усердно охраняли нынешние богатые страны и интеллектуальную собственность иностранцев, а то и не охраняли вовсе — во многих из этих стран было вполне законным запатентовать сделанное другим изобретение, при условии, что тот — иностранец.
Бывали, конечно, и исключения. Нидерланды, Швейцария (до Первой мировой войны) и Гонконг редко прибегали к протекционизму, но и эти страны не следовали сегодняшним фундаменталистским доктринам. Утверждая, что патенты — искусственные монополии, противоречащие принципу свободной торговли (соображение, которое странным образом ускользает из поля зрения большинства современных экономистов-рыночников), Нидерланды и Швейцария вплоть до начала XX века отказывались защищать патенты. Гонконг, хотя и не на столь принципиальных основаниях, был до недавнего времени еще более знаменит попранием прав интеллектуальной собственности, чем две другие вышеупомянутые страны. Наверняка у вас — или хотя бы у кого-то из ваших друзей — есть знакомый, которому случалось покупать пиратские компьютерные программы, поддельные часы «Ролекс» или «неофициальную» футболку «Кэлвин энд Хоббс» из Гонконга.
Большинство читателей, возможно, назовут мой исторический экскурс противоречащим здравому смыслу. После того, как им многократно повторяли, что политика свободного рынка больше всего благоприятствует экономическому развитию, они будут озадачены, узнав, что большинство стран сегодня используют подобные, казалось бы, вредные методы — такие как протекционизм, субсидии, регулирование и государственная собственность на промышленные предприятия — и тем не менее богатеют.
Ответ заключается в том, что по нескольким причинам эти вредные методы были на самом деле методами полезными — учитывая уровень экономического развития, на котором в то время находились эти страны. Первая из причин — аргумент Гамильтона о «младенчестве промышленности», на котором я подробнее останавливаюсь в одной из моих книг под названием «Злые самаритяне», в главе «Мой шестилетний сын должен получить работу». По тем же основаниям, что мы отправляем детей в школу, а не заставляем их конкурировать с взрослыми на рынке труда, развивающимся странам надо защищать и взращивать собственных производителей, до тех пор пока те не станут способны конкурировать на мировом рынке самостоятельно, без посторонней помощи. Во-вторых, на ранних стадиях развития рынки функционируют не слишком эффективно по разным причинам: плохой транспорт, плохой обмен информацией, малый объем рынка, который облегчает манипулирование им со стороны крупных участников, и так далее. Это означает, что государство вынуждено активнее регулировать рынок, а некоторые рынки иногда даже специально создавать. В-третьих, на этих этапах правительству необходимо многое делать самому, через государственные предприятия, по той простой причине, что в частном секторе недостаточно фирм, готовых взять на себя крупномасштабные проекты, связанные с высоким риском (см. Тайну 12).
Забывая собственную историю, богатые страны заставляют развивающиеся страны открывать границы и подставлять свою экономику под удар глобальной конкуренции. Для этого богатые страны лишь на определенных условиях соглашаются предоставлять экономическую помощь и займы контролируемых ими международных финансовых организаций (таких как МВФ и Всемирный банк), а также, пользуясь своим интеллектуальным превосходством, оказывают идеологическое давление. Проводя политику, которой, будучи развивающимися странами, сами не следовали, они говорят развивающимся странам: «Делай как я говорю, а не так, как я делал».
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ТОРМОЗЯЩАЯ РАЗВИТИЕ
Когда богатым странам указывают на их историческое лицемерие, защитники свободного рынка возражают: «Да, возможно, протекционизм и другие формы вмешательства и были эффективны в Америке XIX века или в Японии середины XX века, но когда развивающиеся страны попытались применить эту политику в 1960-х и в 1970-х годах, то лишь наломали дров». Что работало в прошлом, говорят они, не обязательно сработает сегодня.
Суть в том, что развивающиеся страны вовсе не так плохо показали себя в 1964)-1970-х, в «старые недобрые времена» протекционизма и государственного вмешательства. Их экономический рост в этот период намного превосходил показатели, достигнутые с начала 1980-х при большей открытости и отмене государственного контроля.
С 1980-х годов, помимо роста неравенства (чего и следует ожидать от реформ, осуществляемых в интересах богатых стран, — см. Тайну 13), большинство развивающихся стран испытали существенное замедление темпов экономического роста. Рост дохода на душу населения в «третьем мире» упал с 3% в год в 1960–1970-х годах до 1,7% в 1980–2000 годах, когда рыночные реформы получили наибольший размах. В 2000-е годы в экономическом росте развивающихся стран наметился некоторый прогресс, благодаря которому показатель роста за период 1980–2009 гг. возрос до 2,6%, но произошло это, главным образом, вследствие стремительного развития Китая и Индии — двух гигантов, которые, внедряя либерализацию, вовсе не спешили применять неолиберальную политику.
Показатели роста в регионах, где неукоснительно следовали неолиберальным рецептам, — в Латинской Америке и Африке к югу от Сахары, — оказались существенно ниже, чем в «старые недобрые времена». В 1960–1970-х годах Латинская Америка развивалась темпами в 3,1%, если считать по уровню национального дохода на душу населения. С 1980 по 2009 годы — примерно в треть этих темпов: 1,1%. И даже такой результат отчасти был обусловлен быстрым ростом тех стран региона, которые чуть ранее других открыто отвергли неолиберальную политику: Аргентина, Эквадор, Уругвай и Венесуэла. Африка южнее Сахары в «старые недобрые времена» развивалась с темпами в 1,6% по доходу на душу населения, но в 1980–2009 гг. темпы ее экономического развития составляли всего 0,2% (см. Тайну 11).
Подводя итог, скажем, что политика свободной торговли, свободного рынка оказывалась эффективной редко, а то и никогда. Большинство богатых стран сами не применяли эту политику, когда были развивающимися странами, и за последние три десятилетия указанная политика замедлила экономический рост развивающихся стран и увеличила неравенство доходов. Весьма немногие страны разбогатели на пути свободной торговли и свободного рынка, и вряд ли число таких стран в будущем увеличится.
ТАЙНА ВОСЬМАЯ. У КАПИТАЛА ЕСТЬ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
ЧТО ВАМ РАССКАЗЫВАЮТ
Подлинным героем глобализации стала транснациональная корпорация. Транснациональные корпорации, как следует из названия, — это корпорации, которые вышли за пределы своих первоначальных национальных границ. Их штаб-квартиры могут по-прежнему располагаться в стране основания, но производственные и исследовательские мощности по большей части находятся за пределами родной страны, и там, в том числе на многих ответственных должностях, работают люди со всего мира. В нашу эпоху капитала, лишенного национальной принадлежности, националистическая политика по отношению к зарубежному капиталу, как минимум, неэффективна и, как максимум, контрпродуктивна. Если правительство страны проводит по отношению к транснациональным корпорациям политику дискриминации, то они не станут инвестировать в этой стране. Возможно, такое правительство руководствуется стремлением помочь национальной экономике, стимулируя национальные компании, но на самом деле подобные меры только вредят ей, не давая обосноваться в стране наиболее эффективным фирмам.
ЧТО ОТ ВАС СКРЫВАЮТ
Несмотря на увеличивающуюся «транснационализацию» капитала, большинство транснациональных компаний, по сути дела, остаются национальными компаниями, ведущими международные операции, а не вненациональными компаниями как таковыми. Основную часть своей профильной деятельности, в частности, высокотехнологичные исследования и выработку стратегии, они проводят дома. Большинство руководителей — родом из страны происхождения компании. Когда приходится закрывать фабрики или сокращать рабочие места, обычно в последнюю очередь это делается на родине, по различным политическим и, что более важно, экономическим причинам. Это означает, что львиную долю прибылей транснациональной корпорации присваивает себе страна ее базирования. Конечно, национальность — не единственный критерий, определяющий, как ведут себя корпорации, но игнорировать национальность капитала мы можем только на свой страх и риск.
КАРЛОС ГОН — ВОПЛОЩЕНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Карлос Гон родился в 1954 году в семье ливанцев в бразильском городе Порту-Велью. В шесть лет он с матерью переехал в Ливан, в Бейрут. Окончив там среднюю школу, он отправился во Францию и получил инженерные дипломы двух самых престижных учебных заведений страны — Политехнической школы и Высшей горной школы в Париже. За восемнадцать лет работы у французского производителя шин «Мишлен», куда Гон поступил на работу в 1978 году, он снискал репутацию результативного менеджера, наладив работу не приносившего прибыли южноамериканского направления и успешно проведя слияние филиала компании в США с «Юниройял Гудрич», что удвоило объем операций «Мишлен» в США.
В 1996 году Гон перешел на работу во французский государственный автомобилестроительный концерн «Рено» и сыграл ключевую роль в возрождении компании, укрепив свою репутацию как руководителя, готового безжалостно урезать расходы. Именно там он заработал прозвище «Убийца издержек», хотя в действительности его подход был не настолько авторитарным, как подразумевает подобное имя. Когда в 1999 году «Рено» приобрел японскую компанию «Ниссан», Гон был отправлен в Японию наладить работу убыточного автопроизводителя. Поначалу он столкнулся с резким сопротивлением своему неяпонскому стилю управления, допускавшему, в частности, увольнение рабочих, но за несколько лет Гон сумел кардинально улучшить дела компании. После этого японцы признали его своим, причем до такой степени, что сделали персонажем комиксов-манга, что сопоставимо с причислением к лику блаженных в католической церкви. В 2005 году Карлос Гон снова поразил мир, вернувшись в «Рено» в качестве генерального директора и президента, при этом оставаясь сопредседателем совета директоров «Ниссан» — подвиг, который кто-то уподобил работе футбольного тренера с двумя командами сразу.
Биография Карлоса Гона соединяет в себе сюжеты всей глобализации. Люди мигрируют в поисках лучшей жизни, иногда едут буквально на другой конец света, как семья Гона. Некоторые из мигрантов, как мать Гона, возвращаются домой. В этом резкое отличие сегодняшнего дня от тех времен, когда, например, итальянские иммигранты в США не учили своих детей итальянскому, преисполненные решимости не возвращаться в Италию и желающие, чтобы их дети полностью ассимилировались. Сегодня многие молодые люди из бедных стран, наделенные честолюбием и умом, едут учиться в богатую страну, как это сделал Гон. Многие менеджеры работают в компаниях, базирующихся в других странах, что зачастую означает, что им придется жить и работать в третьей (или четвертой) стране, поскольку их компания — «транснациональная». Гон, ливано-бразильский репатриант, работал в двух французских компаниях в Бразилии, США и Японии.
Как гласит распространенное утверждение, в нашем глобализованном мире национальность капитала — понятие бессмысленное. Корпорации могут быть основаны и по-прежнему иметь штаб-квартиру в определенной стране, но они выходят за пределы своих национальных границ. Сейчас они осуществляют свои операции там, где выше прибыль. Например, штабквартира швейцарского пищевого гиганта «Нестле» расположена в швейцарском городе Веве, но в Швейцарии производится менее 5% ее продукции. Даже если считать, что «домом» «Нестле» является не Швейцария, а Европа, то и тогда «домашние предприятия» приносят лишь около 30% ее доходов. За пределами страны основания транснациональные корпорации осуществляют не только операции низшего звена, такие как производство. Сегодня даже более сложная деятельность, такая как научно-исследовательская работа, нередко проводится за пределами страны основания — все чаще и чаще, в развивающихся странах, таких как Китай и Индия. Даже топ-менеджеры подобных компаний отбираются, подобно Гону, из международной копилки талантов, а не исключительно из национальной.
Главная идея состоит в том, что для компании больше нет понятия верности нации. Бизнес будет делать то, что необходимо для увеличения прибыли, даже если это наносит ущерб родной стране тем, что закрываются заводы, сокращаются рабочие места и даже ввозятся иностранные рабочие. Поэтому часто утверждается, что налагать ограничения на иностранное участие, как это ранее делали многие правительства, — неразумно. Страну не должно беспокоить, владеют ли компанией граждане этой страны или иностранцы, до тех пор пока компания производит богатство и создает рабочие места в этой стране. Сегодня все основные компании готовы в поисках новых прибылей двинуться куда угодно, и если усложнить процесс инвестирования для иностранных компаний, это будет означать, что ваша страна недополучит своей выгоды от этих иностранных компаний, определивших инвестиционные перспективы вашей страны как положительные. Логично, не так ли?
«КРАЙСЛЕР»: АМЕРИКАНСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, СНОВА АМЕРИКАНСКИЙ, И, МАЛО-ПОМАЛУ, ИТАЛЬЯНСКИЙ
В 1998 году немецкая автомобильная компания «Даймлер-Бенц» слилась с американским автопроизводителем «Крайслером». По сути дела, это было поглощение «Крайслера» «Даймлером-Бенцем». Но когда о слиянии было объявлено, его представили как брак двух равных партий. Новая компания, «Даймлер-Крайслер» даже имела в правлении равное число немцев и американцев. Однако так продолжалось только первые несколько лет. Вскоре немцы в правлении уже численно превышали американцев: обычно 10–12 против одного-двух американцев, в зависимости от конкретного года.
К сожалению, слияние оказалось не слишком успешным, и в 2007 году «Даймлер-Бенц» продал «Крайслер» американскому фонду прямых инвестиций «Керберус». Фонд «Керберус», будучи американской компанией, составил совет директоров «Крайслера» большей частью из американцев (с некоторым представительством «Даймлера», который по-прежнему имел 19,9% акций).
Получилось так, что «Керберус» не смог оживить компанию, и в 2009 году «Крайслер» обанкротился. Он был реструктурирован при финансовой поддержке федерального правительства США и благодаря крупному вложению в акционерный капитал со стороны итальянского автогиганта «Фиат». Когда «Фиат» стал главным акционером, то генеральный директор «Фиата» Серджо Маркьонне стал одновременно и генеральным директором «Крайслера». В состав совета девяти директоров «Крайслера» вошел еще один директор от «Фиата». Учитывая, что в настоящий момент у «Фиата» всего 20% капитала, но есть возможность увеличить эту долю до 35%, а в конце концов — и до 51%, весьма вероятно, что со временем, когда доля собственности «Фиата» увеличится, с ее увеличением вырастет и доля итальянцев в правлении.
И оказалось, что «Крайслером», одной из типичнейших американских компаний, в последнее десятилетие управляли немцы, снова американцы и, все больше и больше, итальянцы. Не существует такого понятия, как «вненациональный» капитал. Когда одну компанию поглощает другая, иностранная, даже мощные американские — бывшие американские — компании в конце концов оказываются под управлением иностранцев (с другой стороны, ведь поглощение, в сущности, именно это и подразумевает). Однако в большинстве компаний, насколько транснациональными ни казались бы их операции, люди, принимающие важнейшие решения, по-прежнему остаются гражданами страны основания компании — то есть, страны проживания собственника, — несмотря на то, что удаленное управление (когда поглощающая сторона не посылает топ-менеджеров в приобретенную фирму) может снизить эффективность руководства, а направление топ-менеджеров в иностранную компанию оказывается предприятием дорогостоящим, особенно когда географическая и культурная дистанция между двумя странами велика. Карлос Гон — во многом исключение, подтверждающее правило.
Корпорации проявляют «тяготение к отечественному» не только в отношении назначения ключевых фигур. Подобного рода предпочтение также очень сильно в сфере научно-практических разработок, которые в большинстве передовых отраслей лежат в основе конкурентоспособности компании. Большая часть исследований и разработок компании остается «дома». Если они и перемещаются за рубеж, то обычно в другие развитые страны, и все равно строго с учетом «регионального» аргумента (под регионами здесь понимаются Северная Америка, Европа и Япония, которая в этом отношении представляет собой отдельный регион). В последнее время все больше исследовательских центров открывается в развивающихся странах, таких как Китай и Индия, но исследования, которые они проводят, находятся, как правило, на начальных уровнях сложности.
Даже в отношении производства, возможно, самой простой сферы деятельности компании и, следовательно, наиболее вероятного кандидата на перемещение за рубеж, большинство транснациональных корпораций по-прежнему прочно базируется в своих родных странах. Существуют отдельные фирмы, вроде «Нестле», которые производят большую часть продукции за рубежом, но они представляют собой редкое исключение. Среди базирующихся в США транснациональных корпораций менее одной трети продукции производственных фирм производится за границей. В случае с японскими компаниями эта доля существенно ниже 10%. В Европе в последнее время подобное соотношение быстро выросло, но большинство зарубежных производств европейских фирм находятся в пределах Европейского союза, поэтому эту тенденцию нужно понимать как процесс создания национальных фирм новой нации под названием Европа, а не как процесс превращения европейских фирм в транснациональные в полном смысле этого слова.
Короче говоря, не многие корпорации являются на самом деле транснациональными. Подавляющее большинство из них продолжают выпускать большую часть своей продукции в родной стране. Высокотехнологичные виды деятельности, принятие стратегических решений и сложные научные разработки особенно прочно привязаны к стране основания компании. Заявления о мире без границ сильно преувеличены{20}.
ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЕТ «ПРИСТРАСТИЕ К ОТЕЧЕСТВЕННОМУ»?
Почему в нашем глобализованном мире существует тенденция отдавать предпочтение родной стране? Точка зрения свободного рынка состоит в том, что национальность капитала не имеет значения — и не должна иметь значения, поскольку компаниям нужно максимально увеличивать прибыль, чтобы выжить, и, следовательно, патриотизм — роскошь, которую они с трудом могут себе позволить. Что интересно, многие марксисты согласились бы с этим утверждением. Они тоже считают, что капитал охотно уничтожает национальные границы ради получения более высоких прибылей и расширения самовоспроизводства. Язык кардинально другой, но идея та же: деньги есть деньги, и почему компания должна делать что-то менее прибыльное просто потому, что это идет во благо ее родной стране?
Однако существуют веские причины, почему компании в своей деятельности ориентируются на родную страну. Для начала, как и большинство из нас, топ-менеджеры чувствуют определенные личные обязательства перед обществом, из которого они вышли. Эти люди могут облекать свои обязательства в различные формулировки — патриотизм, дух сообщества, «ноблесс оближ» или желание «что-то дать взамен обществу, которое сделало их тем, чем они сегодня стали» — и могут переживать их с различной степенью интенсивности. Суть в том, что это ощущение у них имеется. И поскольку в большинстве компаний большинство людей, занимающих ответственные должности, — представители страны компании, в их решениях естественным образом присутствует некий перекос в сторону своей родины. Хотя экономисты-рыночники отвергают любые мотивы, кроме выгоды, «моральные» мотивы существуют, и они гораздо важнее, чем нас вынуждают считать (см. Тайну 5).
Помимо личных чувств директоров, у компании нередко есть реальные исторические обязательства перед страной, в которой она «выросла». Компании, особенно (хотя и не исключительно) на ранних стадиях развития, часто поддерживаются государственными средствами, прямо или косвенно (см. Тайну 7). Многие из них получают прямые субсидии на определенные виды деятельности, такие как капиталовложения в оборудование или в обучение персонала. Иногда они даже бывают спасены от банкротства на государственные средства, как это было с «Тойотой» в 1949 году, с «Фольксвагеном» в 1974 году и «Дженерал моторе» в 2009 году. Или же предприятия получают непрямые субсидии в форме протекционистских пошлин или закрепленных законом монопольных прав.
Разумеется, компании обычно не упоминают, или даже старательно замалчивают подобные истории, но между сторонами существует негласная договоренность о том, что компании, по причине этих исторических долгов, имеют определенные моральные обязательства перед родной страной. Поэтому национальные компании намного более открыты увещеваниям со стороны государства и общества, чем иностранные, когда от них ожидают — не имея юридической возможности обязать — каких-то действий на пользу страны против их собственных (по крайней мере, сиюминутных) интересов. Например, в октябре 2009 года сообщалось, что во время разразившегося осенью 2008 года мирового финансового кризиса, агентство финансового надзора Южной Кореи не сумело отыскать возможность убедить банки с иностранным управлением предоставлять более крупные ссуды малым и средним компаниям, хотя эти банки, наряду с национальными, уже подписали с агентством соответствующий протокол о намерениях.
Как ни важны моральные и исторические аргументы, без преувеличения самой важной причиной отдать предпочтение родной стране является экономическая: то, что составляет важнейший потенциал компании, нелегко перевести за границу.
Обычно компания становится транснациональной и начинает свою деятельность в другой стране потому, что обладает технологическими и/или организационными возможностями, которыми не обладают фирмы в этой стране. Эти возможности обычно воплощаются в людях (руководителях, инженерах, квалифицированных рабочих), принципах деятельности (внутренних правилах компании, традициях работы, «коллективной памяти организации») и сети смежных компаний (поставщиков, финансирующих организаций, отраслевых объединений и даже сообществ бывших одноклассников, которые простираются за пределы границ компании), и все это нелегко переместить в другую страну.
Большинство станков можно легко вывезти за рубеж, но гораздо накладнее вывезти квалифицированных рабочих и менеджеров. Еще труднее насадить в другой стране организационные принципы или обзавестись сетью деловых контактов. Например, когда в 1980-х годах японские автомобильные компании начали открывать филиалы в Юго-восточной Азии, они просили субподрядчиков тоже основывать собственные филиалы, поскольку нуждались там в надежных субподрядчиках. Более того, чтобы функционировать должным образом, эти нематериальные свойства, воплощенные в людях, принципах работы и сети контактов, зачастую должны иметь вокруг себя необходимую экономико-правовую среду (юридическую систему, неформальные правила, деловую культуру). Какой бы мощной ни была компания, она не в состоянии переместить в другую страну свои экономико-правовые условия.
По всем указанным причинам самые сложные виды деятельности, требующие высокой человеческой и административной компетенции и благоприятной институциональной среды, остаются, как правило, в своей стране. Ориентация на родную страну существует не в силу эмоциональной привязанности или исторических причин. Ее существование имеет под собой прочную экономическую основу.
«КНЯЗЬ ТЬМЫ» ПЕРЕДУМАЛ
Лорд Питер Мандельсон, во время создания этой книги (начало 2010 года) де-факто являвшийся заместителем премьер-министра британского правительства, снискал определенную репутацию своей макиавеллиевской политикой. Внук весьма уважаемого политика-лейбориста Герберта Моррисона и телепродюсер по профессии, Мандельсон был главным политтехнологом, обеспечившим возвышение так называемой «новой лейбористской партии» под руководством Тони Блэра. Благодаря своей знаменитой способности улавливать и использовать сдвиги политических настроений и организовывать с их учетом эффективную кампанию в средствах массовой информации, а также своей жесткости он удостоился прозвища «Князь тьмы».
После солидной, но бурной карьеры в кабинете министров, омраченной двумя отставками вследствие причастности к коррупционным скандалам, Мандельсон покинул британскую политику и переместился в Брюссель, став в 2004 году европейским комиссаром по внешней торговле. Используя свой образ политика, поддерживающего интересы бизнеса, образ, заработанный еще в 1998 году во время недолгого пребывания на посту министра торговли и промышленности Великобритании, Мандельсон завоевал в мире прочную репутацию одного из ведущих апологетов свободы торговли и инвестиций.
Поэтому когда Мандельсон, совершивший удивительное возвращение в британскую политику и ставший в начале 2009 года министром по делам бизнеса, заявил в интервью «Уолл-стрит джорнал» в сентябре 2009 года, что из-за снисходительного отношения Великобритании в вопросе владения иностранцами английских компаний, «британская промышленность может все проиграть», его слова вызвали волну удивления, хотя он и оговорился, что произойдет это «разумеется, не в одну ночь, а займет продолжительное время».
Была ли это типичная шутка в стиле Мандельсона, которому чутье подсказало, что пришло время разыграть национальную карту? Или он наконец понял то, что он и остальные деятели британской политики должны были уяснить уже давно: чрезмерная концентрация национальной экономики в руках иностранных владельцев бывает пагубна?
Можно утверждать, что если фирмы ориентированы на родную страну, отсюда вовсе не следует, что нужно налагать ограничения на иностранные инвестиции. Да, при наличии данного фактора инвестиции от зарубежной компании, возможно, и не самое желательное решение, но инвестиции есть инвестиции, и они в любом случае увеличат объем выпускаемой продукции и создадут рабочие места. Если наложить ограничения на то, что разрешено делать иностранными инвесторам, — например, не разрешать им инвестировать в определенные «стратегические» отрасли промышленности, запретить владеть контрольным пакетом акций или потребовать от них передачи технологий, — то иностранные инвесторы просто уйдут, и страна потеряет рабочие места и богатства, которые эти инвестиции могли бы создать. Многие считают, что развивающимся странам, у которых не так много национальных фирм, способных осуществить подобные капиталовложения, в особенности неразумно отвергать иностранные инвестиции на том основании, что они иностранные. Даже если в стране осуществляются только примитивные операции, такие как сборка, ее благосостояние все равно выше с инвестициями, чем без них.
Это рассуждение в своем роде верно, но прежде, чем придем к выводу, что не должно быть ограничений на право владения для иностранцев, надо рассмотреть и другие вопросы (здесь мы не берем во внимание портфельные инвестиции, которые являются инвестициями в акции компании с целью финансовой выгоды и без вмешательства в прямое управление, и остановимся на прямом инвестировании из-за рубежа, которое обычно определяется как приобретение более чем 10% акций компании с намерением включиться в управление).
Прежде всего, нужно помнить, что большая часть зарубежных инвестиций — так называемые «коричневые» инвестиции, то есть, приобретение существующих фирм иностранной фирмой, в противоположность «зеленому» инвестированию, при котором зарубежная фирма строит новые производственные мощности. С 1990-х годов на долю «коричневых» инвестиций пришлось более половины всех прямых иностранных инвестиций в мире, и к 2001 году, в самый пик бума международных слияний и поглощений, доля таких инвестиций достигала целых 80%. Это означает, что большая часть прямых иностранных инвестиций направлена на приобретение контроля над уже существующими фирмами, а не на создание новых продуктов и рабочих мест. Конечно, новые владельцы могут привнести более широкие административные и технологические возможности и возродить компанию на сложном этапе ее существования — как было в случае с «Ниссан» при Карлосе Гоне, — но нередко такое поглощение осуществляется с намерением использовать возможности, уже имеющиеся у поглощаемой компании, а не для того, чтобы создавать новые. И что еще более важно, если ваша национальная компания поглощается зарубежной компанией, в конечном итоге ориентация на родную страну у поглощающей компании установит потолок на пути продвижения вашей компании по внутренней иерархии «порядка клевания» поглощающей компании.
Даже в случае с «зелеными» инвестициями ориентация на родную страну остается важным фактором, который нельзя упускать из виду. Да, «зеленые» инвестиции создают новые производственные возможности, поэтому они, по определению, лучше, чем их альтернатива, а именно отсутствие инвестиций. Однако вопрос, который должны рассмотреть стратеги, прежде чем согласиться принять инвестиции, состоит в том, насколько эти инвестиции повлияют на будущую траекторию развития их национальной экономики. Различные виды деятельности обладают различным потенциалом для технологических инноваций и роста производительности, и, следовательно, то, что вы делаете сегодня, влияет на то, что вы будете делать в будущем и что вы в результате получите. Как гласило изречение, популярное в 1980-х годах у американских экспертов по промышленной политике, мы не можем делать вид, будто не имеет никакого значения, производите ли вы картофельные чипсы, древесные чипсы или микрочипы. И скорее всего, иностранная компания будет производить в вашей стране картофельные или древесные чипсы, а не микрочипы.
При этом, в особенности для развивающейся страны, чьи национальные компании еще недостаточно развились, лучше, возможно, ограничить прямые иностранные капиталовложения, по крайней мере в некоторых отраслях, и попытаться развивать национальные фирмы, с тем чтобы они, как инвесторы, стали надежной альтернативой иностранным компаниям. Вероятно, в ближайшей перспективе страна потеряет какие-то инвестиции, но в конечном итоге подобная практика позволит ей заполучить в свои границы более высокотехнологичные операции. А еще лучше, если правительство развивающейся страны разрешит иностранные инвестиции на условиях, которые помогут этой стране быстрее повысить возможности национальных компаний — например, потребует создания совместных предприятий (на которых будет осуществляться передача управленческого опыта), заставит активнее передавать технологии или потребует в обязательном порядке проводить обучение персонала.
Говорить, что иностранный капитал окажется менее полезен для вашей страны, чем собственный национальный капитал, — это не то же самое, что утверждать, будто следует всегда предпочитать национальный капитал иностранному. Национальная принадлежность — не единственный критерий, определяющий поведение капитала. Имеют значение также намерение и возможности капитала.
Предположим, вы задумали продать государственную автомобильную компанию, переживающую не лучшие времена. В идеале, вы хотите, чтобы новый владелец имел желание и возможности в долгосрочной перспективе вывести компанию на новый уровень. Потенциальный покупатель скорее будет располагать для этого техническими возможностями, когда он является автопроизводителем с уже установившейся репутацией, причем неважно — национальным или зарубежным, а не в том случае, если он представляет финансовый капитал, — к примеру, фонд прямого инвестирования.
В последние годы фонды прямого инвестирования начали играть все более и более важную роль в корпоративном поглощении. Даже несмотря на то, что у них нет штатных специалистов в определенных областях, теоретически они в состоянии приобрести компанию на длительный срок, нанять отраслевых экспертов в качестве руководителей и поставить перед ними задачу развить возможности компании. Но на практике подобные фонды обычно не имеют намерения развивать приобретенную компанию на долгосрочную перспективу. Они приобретают фирмы с целью последующей продажи по истечении трех-пяти лет, реструктуризировав и сделав прибыльными. Такая реструктуризация, с учетом горизонта прогнозирования, обычно включает в себя снижение издержек (главным образом, увольнение работников и отказ от долгосрочных инвестиций), а не увеличение имеющегося потенциала. Подобная реструктуризация плохо влияет на долгосрочные перспективы развития компании, в целом ослабляя ее способность к росту производительности. В худших случаях фонды прямых инвестиций покупают компании с явным намерением поживиться за счет размывания активов — продать ценные активы компании, без оглядки на ее отдаленное будущее. То, что сделала скандально известная сейчас «Финикс венчер холдинге» с британским автопроизводителем «Ровер», который был ею куплен у «БМВ», — классический тому пример (так называемая «финиксовская четверка» особенно прославилась тем, что себе выплачивала огромные зарплаты, а своим друзьям — астрономические гонорары за консультации).
Все это, разумеется, не означает, что фирмы, уже работающие в отрасли, обязательно предполагают развивать приобретенную ими компании в расчете на долгий срок. Когда «Дженерал моторе» в течение десяти лет, предшествовавших ее банкротству в 2009 году, купила ряд небольших зарубежных автомобильных компаний — таких как шведский «Сааб» и корейская «Дэу», — в ее планы входило жить за счет технологий, созданных и наработанных этими компаниями, а не развивать сами компании (см. Тайну 18). Кроме того, в последнее время разделение между промышленным капиталом и финансовым капиталом стало нечетким, и промышленные гиганты, такие как «Дженерал моторе» и «Дженерал электрик», более высокие прибыли получают в финансовой сфере, а не в промышленности (см. Тайну 22), и если поглощающая фирма работает в определенной отрасли, это еще не гарантия того, что интересы этой фирмы останутся надолго связанными с той же отраслью.
Поэтому если вашу национальную компанию, имеющую долгосрочные и серьезные обязательства, собирается купить иностранная компания, которая работает в той же сфере, возможно, лучше продать вашу компанию такому покупателю, чем местному фонду прямых инвестиций. Однако, при прочих равных, есть шанс, что ваша местная компания будет действовать наиболее благоприятным для вашей национальной экономики образом.
Тем самым, невзирая на глобалистскую риторику, национальная принадлежность фирмы по-прежнему остается ключевым фактором при принятии решений о том, где будут размещаться ее важнейшие структурные подразделения, такие как научно-технические лаборатории и отдел стратегического планирования. Национальность — не единственный показатель, определяющий поведение фирмы, поэтому мы должны принимать в расчет и другие факторы, такие как: имеются ли в соответствующей отрасли сведения об инвесторе и насколько сильно его стратегические планы связаны с приобретаемой компанией. Хотя огульный отказ от иностранного капитала неразумен, было бы крайне наивно выстраивать экономическую политику на мифе о том, что капитал уже не имеет национальных корней. Ведь запоздалые сомнения лорда Мандельсона, оказывается, имеют под собой серьезную и реальную основу.
ТАЙНА ДЕВЯТАЯ. МЫ ЖИВЕМ НЕ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ
ЧТО ВАМ РАССКАЗЫВАЮТ
Наша экономика за последние несколько десятилетий коренным образом преобразилась. Промышленное производство, некогда движущая сила капитализма, ныне уже не имеет большой значимости, особенно в богатых странах. При естественной тенденции относительного роста спроса на услуги вместе с ростом экономического благосостояния и с развитием высокопроизводительных наукоемких услуг (таких как банковские услуги и управленческий консалтинг), обрабатывающая промышленность во всех развитых странах пришла в упадок. Эти страны вступили в «постиндустриальную» эпоху, когда большинство людей трудится в сфере услуг и большая часть производимого продукта — услуги. Уменьшение роли промышленности — естественный процесс, а потому не только не следует беспокоиться, но, напротив, стоит искренне ликовать. С подъемом наукоемких услуг некоторым развивающимся странам, возможно, было бы даже полезнее вообще миновать этот злосчастный этап развития производства и перескочить напрямую к постиндустриальной экономике, базирующейся на оказании услуг.
ЧТО ОТ ВАС СКРЫВАЮТ
Возможно, мы действительно живем в постиндустриальном обществе, в том смысле, что большинство из нас работает в магазинах и офисах, а не на фабриках. Но мы не вошли в постиндустриальную стадию развития в том смысле, что промышленность потеряла свою важность. Во многом (хотя и не полностью), сокращение доли производства в валовом продукте объясняется не падением абсолютного количества произведенных товаров, а падением их цен в сравнении с ценами на услуги, что вызвано более стремительным ростом производительности последних (количество продукта на единицу вложений). И хотя деиндустриализация происходит главным образом благодаря этому неравномерному, в разных секторах, росту производительности и поэтому сама по себе не может быть отрицательным явлением, она оказывает негативное влияние на рост производительности экономики в целом и на платежные балансы, а это уже важно. Что касается предположения о том, будто развивающиеся страны могут, по большому счету, проскочить индустриализацию и сразу войти в постиндустриальную фазу, — это фантазия. Ограниченные возможности увеличения производительности услуг делают их плохим двигателем роста. Низкая реализуемость услуг ведет к тому, что экономика, основанная главным образом на оказании услуг, будет иметь более низкие возможности экспорта. Более низкие доходы от экспорта влекут за собой ослабление возможности покупать за границей передовые технологии, что, в свою очередь, приводит к замедлению экономического роста.
БЫВАЕТ ЛИ ЧТО-НИБУДЬ, СДЕЛАННОЕ НЕ В КИТАЕ?
Однажды Цзинь Гуй, мой девятилетний сын (да, тот самый, который фигурирует в моей книге «Недобрые самаритяне» в качестве «моего шестилетнего сына» — воистину, разносторонний актер) подошел ко мне и спросил: «Папа, а бывает что-нибудь такое, что сделано не в Китае?» Я сказал ему: да, может быть, с виду не скажешь, но другие страны все еще что-то производят. Потом я захотел привести пример, но замялся. Сперва я решил было назвать его «японскую» игровую приставку «Нинтендо DSi», но потом вспомнил, что видел на ней «Made in China». Сообразив, я сказал ему, что некоторые мобильные телефоны и плоские телевизоры делают в Корее, но других изделий, знакомых девятилетнему мальчику, припомнить не удалось (для таких вещей, как «БМВ», он еще маловат). Неудивительно, что Китай сейчас называют мастерской мира.
Трудно поверить, но название «мастерская мира» изначально было придумано для Великобритании, которая сегодня, по словам французского президента Николя Саркози, «не имеет промышленности». Успешно начав промышленную революцию раньше других стран, к середине XIX века Англия настолько явно стала доминирующей промышленной державой, что без колебаний полностью либерализировала торговлю (см. Тайну 7). В 1860 году она произвела 20% мирового объема продукции обрабатывающей промышленности. В 1870 году на ее долю приходилось 46% мирового промышленного производства. Сегодня доля Китая в мировом экспорте составляет всего лишь около 17% (по данным на 2007 год), хотя, казалось бы, «все» производится в Китае, так что можете себе представить степень британского доминирования в те времена.
Однако лидирующее положение Великобритании продлилось недолго. После того как примерно к 1860 году она либерализировала торговлю, начиная с 1880-х годов страна начала терять свои позиции, и ее стали быстро нагонять США и Германия. К началу Первой мировой войны Англия утратила лидерство в мировой экономике, но главенство обрабатывающей промышленности в британской экономике продолжалось еще долго. До начала 1970-х годов в Великобритании, наряду с Германией, доля занятых в промышленности относительно общей численности работающих, была одной из самых высоких в мире: около 35%. В тот период Великобритания имела типичную промышленную экономику, экспортируя промышленные товары и импортируя продукты питания, топливо и сырье. Ее положительный внешнеторговый баланс в сфере производства (экспорт промышленных товаров минус импорт промышленных товаров) на протяжении 1960–1970-х годов постоянно оставался между 4 и 6% ВВП.
Но после 1970-х годов значение британского промышленного сектора стремительно падает. В 1950 году объем производства обрабатывающей промышленности относительно всего английского ВВП составлял 37%. Сегодня на его долю приходится всего лишь около 13%. Доля промышленности в общем числе работающих упала с 35% в начала 1970-х до чуть более 10%.{21} Позиции британской промышленности во внешней торговле также резко изменились. Сегодня Великобритания ежегодно имеет дефицит торгового баланса в промышленности в 2–4% ВВП в год. Что же произошло? Надо ли Британии беспокоиться?
Господствует мнение, что беспокоиться не о чем. Начнем с того, что Британия — в общем-то, не единственная страна, где произошли подобные явления. Уменьшение доли промышленного производства в валовом продукте и в занятости — явление, известное как «деиндустриализация», — по утверждению многих исследователей, естественный процесс, общий для всех развитых стран (в случае с Великобританией, ускорившийся после обнаружения нефти в Северном море). Широко распространено убеждение, что причина этого явления — в том, что, становясь богаче, люди начинают требовать больше услуг, чем промышленных изделий. Когда спрос падает, естественно, производственный сектор сокращается и страна входит в постиндустриальную стадию развития. Многие даже приветствуют подъем значимости сектора услуг. По их словам, происходящий в последнее время рост сферы «наукоемких» услуг с быстрым ростом производительности — таких как финансы, консультирование, дизайн, компьютерная обработка данных и информационные услуги, научно-конструкторские разработки, — свидетельствует о том, что услуги заместили производство в качестве двигателя роста, по крайней мере в развитых странах. Производство сейчас — второстепенная деятельность, которую осуществляют развивающиеся страны, такие как Китай.
КОМПЬЮТЕРЫ И СТРИЖКИ: ПОЧЕМУ ПРОИСХОДИТ ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
На самом ли деле мы вступили в постиндустриальную эпоху? Стало ли производство маловажным? Ответы на эти вопросы — «Лишь отчасти» и «Нет».
Не вызывает сомнения, что в развитых странах гораздо меньшая часть населения работает на фабриках, чем ранее. Было время, в конце XIX — начале XX века, когда в некоторых странах (в частности, в Великобритании и в Бельгии) около 40% всех работающих были заняты в промышленности. Сегодня эта доля составляет, самое большее, 25%, а в некоторых странах (особенно в США, Канаде и Великобритании) — едва ли 15%.
При настолько сократившемся (в пропорциональном отношении) количестве людей, работающих на фабриках, изменился характер общества. Отчасти нас формирует опыт работы (этот момент большинство экономистов упускают из вида), поэтому то, где и как мы работаем, влияет на то, кем мы являемся. По сравнению с заводскими рабочими, офисные работники и продавцы в магазине проделывают меньше физической работы и, не будучи связанными с конвейерами и другими механизмами, имеют возможность осуществлять больший контроль над своим процессом труда. Фабричные рабочие более тесно общаются на работе и за ее пределами со своими коллегами, особенно на мероприятиях, организуемых профсоюзами. Работники магазинов и офисов, напротив, больше трудятся индивидуально и деятельностью профсоюзов почти не охвачены. Продавцы и некоторые офисные работники напрямую общаются с клиентами, тогда как фабричные рабочие своих клиентов никогда не видят. Я недостаточно социолог и недостаточно психолог, чтобы высказать на эту тему какое-либо глубокое суждение, но все это означает, что люди в нынешних развитых странах не только работают по-разному, но и отличаются от своих родителей и дедов. В этом смысле можно сказать, что в социальном плане в развитых странах сегодня существует постиндустриальное общество.
Однако в экономическом плане постиндустриальными они не стали. Производство по-прежнему играет в их экономике ведущую роль. Чтобы убедиться в этом, мы сперва должны понять, почему в развитых странах произошла деиндустриализация.
Небольшая, но заметная часть деиндустриализации — «оптическая иллюзия», в том смысле, что деиндустриализация отражает изменения в статистической классификации, а не в реальных процессах. Одна подобная иллюзия возникает благодаря передаче некоторых видов деятельности сторонним исполнителям, и эти виды деятельности по своей сути являются услугами, но ранее проводились внутри компании и поэтому учитывались как промышленный продукт (например, организация питания, уборка, техническая поддержка). Когда эти функции отдают стороннему исполнителю, формальный объем оказанных услуг возрастает без реального увеличения деятельности по оказанию услуг. Даже несмотря на то, что объективной оценки объемов аутсорсинга не существует, эксперты сходятся в том, что в США и в Великобритании, особенно в 1980-х годах, он был существенным фактором деиндустриализации. Помимо влияния аутсорсинга, степень сокращения промышленного производства представляется более высокой, чем она есть на самом деле, по причине так называемого эффекта реклассификации[4]. По оценке, приведенной в докладе британского правительства, до 10% падения занятости в промышленном секторе Великобритании с 1998 по 2006 гг. может быть объяснено тем, что ряд компаний-производителей, видя, что оказываемые ими услуги начинают преобладать, обращаются в государственное статистическое агентство с просьбой переклассифицировать их как фирмы по оказанию услуг, хотя при этом остаются вовлечены и в промышленное производство.
Одна из подлинных причин деиндустриализации недавно привлекла большое внимание. Это рост объема промышленного импорта из развивающихся стран, где издержки производства невелики, в особенности из Китая. Каким бы стремительным ни выглядел этот рост, далеко не им одним объясняется деиндустриализация в развитых странах. До конца 1990-х годов экспорт из Китая важного значения не имел, но в большинстве развитых стран процесс деиндустриализации начался еще в 1970-х. Большинство исследований показывают, что на подъем Китая как новой «мастерской мира» можно отнести лишь около 20% деиндустриализации, прошедшей на сегодня в развитых странах.
Многие полагают, что оставшиеся 80% в значительной степени можно объяснить естественной тенденцией к некоторому падению спроса на промышленные товары с ростом благосостояния. Но при более пристальном рассмотрении оказывается, что на деле влияние спроса весьма невелико. Судя по всему, мы тратим все большую часть дохода на услуги не потому, что, в абсолютном выражении, потребляем все больше услуг, но главным образом потому, что услуги, в относительном выражении, становятся все дороже и дороже.
На те деньги, которые вы десять лет назад заплатили за свой компьютер, сегодня, с учетом инфляции, вы сможете купить три, если не четыре компьютера той же, если не большей мощности (и, безусловно, меньшего размера). Поэтому у вас, вероятно, не один компьютер, а целых два. Но даже при наличии двух компьютеров доля вашего дохода, потраченная вами на компьютеры, существенно снизилась (для удобства я предполагаю, что ваш доход, с учетом инфляции, остался прежним). Напротив, стрижетесь вы, вероятно, столь же часто, как и десять лет назад (если, конечно, за это время ваша шевелюра не поредела). Цена стрижки, скорее всего, несколько возросла, так что доля вашего дохода, которая идет на стрижку, выше, чем десять лет назад. В результате кажется, что доля дохода, которую вы тратите на стрижку, стала больше (а на компьютеры — меньше), чем ранее, но на самом деле вы потребляете гораздо больше компьютеров, чем раньше, а ваше потребление услуг парикмахера осталось прежним.
Если вы следите за изменениями в относительных ценах (или, пользуясь профессиональным жаргоном, если вы проводите сравнения в неизменных ценах), то падение промышленного производства в развитых странах оказывается гораздо более резким, чем кажется. Например, если взять Великобританию, то доля промышленности в валовом продукте, без учета эффекта изменения относительных цен (на профессиональном жаргоне — в текущих ценах), с 1955 по 1990 год упала более чем на 40% (с 37% до 21%). Однако если принять во внимание эффект изменения относительных цен, то падение составило всего около 10% (с 27% до 24%){22}. Иными словами, реальный эффект спроса — то есть, эффект спроса после учета сравнительных изменений цен — невелик.
Почему же тогда относительные цены промышленных товаров падают? Это происходит потому, что для отраслей промышленности, как правило, характерен более быстрый рост производительности труда, чем для сферы услуг. Поскольку объем производства в промышленном секторе растет быстрее, чем в сфере услуг, цены на промышленные товары, по сравнению с ценами на услуги, снижаются. В промышленности, где применение механизации и химических процессов существенно облегчено, проще поднять и производительность, чем в сфере услуг. Напротив, многие услуги, по самой своей природе, не допускают роста производительности без ущерба для качества продукта.
В ряде случаев повышение производительности само по себе может уничтожить продукт. Если струнный квартет проскачет 27-минутную музыкальную пьесу за девять минут, вы же не скажете, что его производительность труда утроилась?
В случае других услуг видимый рост производительности происходит из-за ухудшения конечного продукта. Учительница может «увеличить» производительность труда в четыре раза, взяв к себе в класс вчетверо больше учеников, но качество ее «продукта» будет испорчено тем, что она окажется не в состоянии уделять отдельным ученикам столько же внимания, что и раньше. Увеличение производительности розничного обслуживания в США и Великобритании объясняется снижением качества самого розничного обслуживания, когда клиенту настойчиво предлагают более дешевые ботинки, диваны и яблоки; в обувных магазинах работает меньше продавцов, так что ждать приходится по двадцать минут вместо пяти; доставки мебели надо ждать не две, а четыре недели и, возможно, придется брать отгул на работе, потому что доставляют вашу покупку «от 8 утра до 6 вечера»; вы тратите гораздо больше времени, чем раньше, на то, чтобы доехать до нового супермаркета и попетлять по его длинным проходам, потому что яблоки и замороженная пицца в нем дешевле, чем в старом супермаркете, по той простой причине, что новый расположен бог знает где и поэтому может позволить себе аренду больших торговых площадей.
Есть некоторые виды услуг, например, банковские, которые сравнительно с другими услугами располагают гораздо большими возможностями для роста производительности. Но, как показал финансовый кризис 2008 года, рост производительности в этих услугах произошел, по большей части, не благодаря реальному увеличению эффективности труда (например, сокращению издержек обращения за счет использования более совершенных компьютеров), а благодаря финансовым инновациям, которые, вместо того чтобы реально уменьшить рискованность финансовых активов, ее завуалировали, позволив тем самым финансовому сектору расти недопустимо быстро (см. Тайну 22).
Итак, падение доли промышленного производства в валовом продукте развитых стран происходит отнюдь не из-за относительного падения спроса на промышленные товары, как считают многие. И не только по причине увеличения объема промышленного экспорта из Китая и других развивающихся стран, хотя на некоторые сектора экономики оно оказало немалое влияние. Основным двигателем процесса деиндустриализации стало падение относительных цен на промышленные товары, произошедшее из-за более быстрого роста производительности в промышленном секторе, чем в любом другом. Таким образом, если в плане занятости граждане развитых стран и живут в постиндустриальном обществе, то с точки зрения производства значение промышленности в экономике этих стран уменьшилось не до такой степени, чтобы провозглашать наступление постиндустриальной эпохи.
СТОИТ ЛИ БЕСПОКОИТЬСЯ ИЗ-ЗА ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ?
Но если причиной деиндустриализации является динамичность развития производственного сектора страны, возможно, деиндустриализация — это хорошо?
Не обязательно. Тот факт, что деиндустриализация вызывается главным образом лишь относительной динамичностью производственного сектора по сравнению с сектором услуг, ничего не говорит нам о том, хорошо ли развивается этот сектор по сравнению с промышленными секторами других стран. Если производственный сектор в стране имеет более низкий рост производительности, чем производственные сектора в других странах, то он утратит конкурентоспособность на международном рынке, что в краткосрочной перспективе приведет к проблемам платежного баланса, а в долгосрочной — к падению уровня жизни. Иными словами, деиндустриализация может сопровождаться как экономическим подъемом, так и экономическим спадом. Странам нельзя успокаиваться тем, что деиндустриализация вызывается в основном лишь относительной динамичностью производственного сектора, поскольку даже нединамичный, по мировым стандартам, производственный сектор в своей стране может оказаться более динамичным, чем сектор услуг (как обычно и происходит).
Динамичен производственный сектор страны по мировым меркам или нет, уменьшение его удельного веса оказывает негативное влияние на рост производительности. По мере того как в экономике начинает доминировать сфера услуг, где производительность растет медленнее, замедляется рост производительности и всей экономики в целом. Если только мы, по примеру некоторых аналитиков, не станем считать, что страны, переживающие деиндустриализацию, сейчас настолько богаты, что не нуждаются в дополнительном росте производительности, то спад производительности для таких стран должен стать поводом для беспокойства — или, по крайней мере, явлением, с которым надо смириться.
Деиндустриализация также оказывает негативное влияние на платежный баланс страны, поскольку услуги, по определению, труднее экспортировать, чем промышленные товары. Дефицит платежного баланса свидетельствует о том, что страна не способна «сама заплатить за себя» в мире. Конечно, такая страна может на время «заткнуть дыру» внешними займами, но рано или поздно, ей придется понизить ценность своей валюты, тем самым уменьшив свои возможности для импорта и, соответственно, уровень жизни.
В основе низкой «продаваемости» услуг лежит тот факт, что, в отличие от промышленных товаров, которые могут быть доставлены в любую точку мира, большинство услуг требует, чтобы их поставщики и потребители находились в одном и том же месте. Еще никто не изобрел способа дистанционно делать стрижку или производить уборку помещений. Конечно, эта проблема будет снята, если поставщик услуги (в приведенных примерах, парикмахер или уборщик) может переехать в страну клиента, но в большинстве случаев это означает иммиграцию, чему большинство стран жестко сопротивляются (см. Тайну 3). Поэтому увеличение доли услуг в экономике означает, что страна, при прочих равных, будет получать меньшие поступления от экспорта. Если экспорт промышленных товаров не будет непропорционально увеличиваться, страна не сможет платить за тот же объем импорта, что и раньше. Если ее деиндустриализация — негативного характера, сопровождается ослаблением международной конкурентоспособности, проблема платежного баланса может оказаться еще серьезнее, поскольку промышленный сектор в этом случае не сможет увеличить объем экспорта.
Разумеется, не все услуги одинаково «непродаваемые. Наукоемкие услуги, о которых я говорил ранее, — банковские услуги, консультирование, инженерное обеспечение и так далее — весьма и весьма реализуемы. Например, в Великобритании с 1990-х годов экспорт наукоемких услуг сыграл важную роль для затыкания в платежном балансе дыры, оставленной деиндустриализацией (и падением объемов экспорта нефти Северного моря, которая позволила стране хоть как-то пережить негативные финансовые последствия деиндустриализации в 1980-х годах).
Однако даже в Великобритании, которая больше других преуспела в экспорте наукоемких услуг, положительное сальдо платежного баланса, сформированное этими услугами, составляет существенно меньше 4% ВНП, — едва покрывая дефицит торговли промышленными товарами. Учитывая, что после всемирного финансового кризиса 2008 года глобальное финансовое регулирование должно усилиться, маловероятно, что Великобритания сможет в будущем поддерживать этот уровень торгового баланса в финансовых и других наукоемких услугах. В случае США, еще одной предполагаемой модели постиндустриальной экономики, положительное сальдо торгового баланса в наукоемких услугах составляет менее 1% ВНП — крайне мало, чтобы возместить дефицит в торговле промышленными товарами, который равняется примерно 4% ВНП{23}. США поддерживали такой высокий дефицит в торговле промышленными товарами лишь потому, что могли в больших объемах брать в долг за рубежом (с учетом изменений в мировой экономике, в ближайшие годы эта возможность будет уменьшаться и уменьшаться), а не потому, что для заполнения бреши вперед вышел сектор услуг, как в случае с Великобританией. Кроме того, открытым остается вопрос, сумеют ли США и Великобритания и далее сохранить сильные позиции в наукоемких услугах. В таких услугах, как инженерно-конструкторские работы и дизайн, где особую роль играют идеи, рожденные производством, непрерывное сокращение промышленной базы приведет к снижению качества продукции (в данном случае, продукции сферы услуг) и, как следствие, к дальнейшим потерям в экспортных поступлениях.
Если даже Великобритания и США — две страны, где, казалось бы, больше чем где-либо развиты наукоемкие услуги, — не в состоянии, в конечном итоге, путем экспорта этих услуг справиться с урегулированием своего платежного баланса, то крайне маловероятно, что с этой задачей справятся другие страны.
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ
Полагая, что деиндустриализация является результатом переключения механизма развития с производства на услуги, некоторые исследователи утверждают, что развивающиеся страны могут, по большому счету, миновать индустриализацию и двигаться напрямую к экономике услуг. С увеличением количества услуг, переносящихся за границу, эта точка зрения стала очень популярна среди некоторых экспертов из Индии. К чему все эти грязные производства, говорят они, — давайте перейдем от сельского хозяйства напрямую к сфере услуг? Если Китай — «мастерская мира», продолжают они, то Индия должна постараться стать «офисом мира».
Однако считать, что бедная страна способна развиваться, опираясь исключительно на сферу услуг, — это чистая фантазия. Как уже говорилось ранее, для промышленного сектора характерен гораздо больший рост производительности, чем в секторе услуг. Безусловно, существуют отрасли сферы услуг, обладающие потенциалом стремительного роста производительности, в особенности, среди наукоемких услуг. Однако это услуги, которые направлены прежде всего на обслуживание фирм-производителей, поэтому эти отрасли очень трудно развивать, не развив сперва мощную производственную базу. Если с самого начала строить развитие экономики на основе сферы услуг, то в долгосрочной перспективе рост производительности будет идти намного медленнее, чем если опираться на производство.
Кроме того, мы уже видели, что поскольку услуги гораздо менее торгуемы, то страны, специализирующиеся на оказании услуг, могут столкнуться с более серьезными проблемами платежного баланса, чем страны, специализирующиеся на промышленном производстве. Это достаточно неприятно и для развитой страны, где проблемы платежного баланса снижают уровень жизни населения. Для развивающейся же страны это серьезная беда. Дело в том, что для обеспечения собственного развития развивающаяся страна должна импортировать сложные технологии из-за рубежа (либо это машины, либо лицензии на технологические процессы). Следовательно, когда развивающаяся страна сталкивается с дефицитом платежного баланса, то для нее затрудняется сама возможность внедрить более совершенные технологии и, тем самым, развивать свою экономику.
Когда я излагаю все эти негативные аспекты стратегии экономического развития на основе услуг, меня могут спросить: а такие страны, как Швейцария и Сингапур? Разве они не развивались на базе сферы услуг?
Но их экономика — тоже не совсем то, что о ней говорят. На самом деле это истории успеха промышленности. Так, многие считают, что Швейцария живет на украденные деньги, размещенные в ее банках диктаторами «третьего мира», или на деньги, вырученные от продажи коровьих колокольчиков и часов с кукушкой японским и американским туристам, но на самом деле это одна из самых индустриализированных экономик в мире. Да, мы не так часто видим продукты швейцарского производства, потому что страна невелика (около семи миллионов человек) и невелико общее количество швейцарских продуктов, а также потому, что местные производители специализируются на товарах производственного значения, таких как оборудование и промышленные химикаты, а не на потребительских товарах, которые у всех на виду. Но в расчете на душу населения страна имеет самый высокий объем промышленного производства в мире (иногда, в зависимости от конкретного года, она оказывалась второй после Японии). Сингапур также входит в пятерку самых промышленно ориентированных экономик в мире (опять же, из расчета производства условно-чистой продукции на душу населения), наряду с Финляндией и Швецией. За исключением отдельных государств, вроде Сейшельских островов, где очень небольшое население и исключительно благоприятные ресурсы для туризма (85 тысяч человек с доходом около 9 тысяч долларов на душу населения), ни одна страна до настоящего момента не достигла не то что высокого, но даже сносного уровня жизни, опираясь на сферу услуг, и в будущем таких стран не появится.
Подытоживая, скажу, что даже богатые страны не превратились в безусловно постиндустриальные. Хотя большинство населения в этих странах уже не работает на заводах, важность промышленного сектора в их системе производства не слишком упала, если учитывать эффект изменения относительных цен. Но даже если деиндустриализация — не всегда симптом промышленного спада (хотя и такое бывает), она оказывает в долгосрочном плане негативное влияние на рост производительности и платежный баланс, что тоже необходимо не забывать. Миф о том, что сегодня мы живем в постиндустриальную эру, заставил многие правительства игнорировать негативные последствия деиндустриализации.
Что касается развивающихся стран, то считать, будто они в состоянии перескочить стадию индустриализации и построить свое благосостояние на основе отраслей сферы обслуживания, — это чистая фантазия. Большинство услуг отличает медленный рост производительности, а большинство услуг, характеризующихся высоким ростом производительности, — это услуги, которые не могут развиваться без развития сильного промышленного сектора. Низкая реализуемость услуг означает, что развивающаяся страна, специализирующаяся на услугах, столкнется с более серьезной проблемой дефицита платежного баланса, а для развивающейся страны это означает уменьшение возможности модернизации экономики. Постиндустриальные сказки достаточно вредны и для богатых стран, но для развивающихся стран они категорически опасны.
ТАЙНА ДЕСЯТАЯ. У США НЕ САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ В МИРЕ
ЧТО ВАМ РАССКАЗЫВАЮТ
Несмотря на свои недавние экономические проблемы, США по-прежнему могут похвастаться самым высоким уровнем жизни в мире. С учетом рыночного обменного курса, существует несколько стран с более высоким доходом на душу населения, чем США. Но если принять во внимание, что на один и тот же доллар (или любую другую общую валюту, которую мы выберем) в США можно купить больше товаров и услуг, чем в других богатых странах, американский уровень жизни оказывается самым высоким в мире, за исключением карликового государства Люксембург. По этой причине другие страны пытаются подражать США, что иллюстрирует превосходство рыночной системы, которую США очень точно (если не сказать, идеально) собой воплощают.
ЧТО ОТ ВАС СКРЫВАЮТ
Действительно, средний американский гражданин имеет в своем распоряжении больше товаров и услуг, чем гражданин любой другой страны мира, за исключением Люксембурга. Однако, учитывая большое неравенство в стране, этот средний показатель менее точно показывает уровень жизни людей, чем аналогичный показатель для других стран с более ровным распределением дохода. Высокое неравенство доходов стоит и за более низкими показателями здоровья и худшей криминальной статистикой в США по сравнению с другими странами. Кроме того, на один и тот же доллар в США можно купить больше, чем в большинстве других богатых стран, главным образом потому, что в Соединенных Штатах более дешевые услуги, чем в других сравнимых с ними странах, благодаря более высокой иммиграции и худшим условиям труда. Далее, американцы работают существенно больше европейцев. Количество товаров и услуг, которые они получают за один отработанный час, меньше, чем в некоторых европейских странах. Можно спорить о том, какой образ жизни лучше — больше материальных благ и меньше свободного времени (как в США) или меньше материальных благ, но больше свободного времени (как в Европе), — но отсюда следует, что в США не существует однозначно более высокого уровня жизни, чем в сравнимых с ними странах.
ДОРОГИ НЕ ВЫМОЩЕНЫ ЗОЛОТОМ
С 1880 по 1914 года в США эмигрировали почти три миллиона итальянцев. Когда они приехали, многие были горько разочарованы. Их новый дом не был раем, как они себе представляли. Говорят, что многие из них отписали домой: «Дороги вовсе не вымощены золотом, они совсем не замощены; вообще-то, как предполагается, именно мы и должны мостить дороги».
Не только итальянские иммигранты считали, что США — место, где сбываются мечты. Самой богатой страной мира США стали только около 1900 года, но даже на заре своего существования они не на шутку будоражили воображение бедняков всего мира. В начале XIX века доход на душу населения в США все еще был сравним со среднеевропейским и примерно на 50% ниже, чем в Великобритании и Нидерландах. Но нищие европейцы по-прежнему хотели переселиться туда, потому что страна обладала практически безграничными запасами земли (правда, если вы готовы прогнать оттуда горстку индейцев, коренных ее обитателей) и испытывала острую нехватку кадров, что сулило зарплаты в три-четыре раза выше, чем в Европе (см. Тайну 7). Самое главное: отсутствие феодального наследия предполагало, что эта страна обладает гораздо большей социальной мобильностью, чем страны Старого Света, что и заключено в понятии американской мечты.
Соединенные Штаты Америки привлекают не только потенциальных иммигрантов. В последние несколько десятилетий, больше, чем когда-либо, бизнесмены и правящие круги всего мира желают скопировать американскую экономическую модель и даже пытаются это осуществить. Система свободного предпринимательства, если верить поклонникам американской модели, предоставляет людям возможность неограниченной конкуренции и вознаграждает победителей без помех со стороны правительства или ложной уравнительской культуры. Тем самым, эта система создает исключительно сильные стимулы для предпринимательства и инноваций. Ее свободный рынок труда, где легко принимают на работу и увольняют, позволяет предприятиям быть более гибкими и, как следствие, более конкурентоспособными, поскольку они способны быстрее своих конкурентов переводить работников с одного места на другое, реагируя на изменение ситуации на рынке. Когда предприниматели щедро вознаграждаются, а работники должны быстро адаптироваться, система действительно порождает большое неравенство. Но, как утверждают ее адепты, даже неудачники в этой игре с готовностью принимают подобней исход, потому что при столь высокой социальной мобильности в стране их дети могут стать новыми Томасом Эдисоном, Дж. П. Морганом или Биллом Гейтсом. При таких стимулах к добросовестной работе и проявлению находчивости неудивительно, что в последний век страна была богатейшей в мире.
АМЕРИКАНЦЫ ВСЕГО ЛИШЬ ЛУЧШЕ ЖИВУТ…
На самом деле это не совсем так. США уже не самая богатая страна в мире. Сейчас у нескольких европейских стран доход на душу населения выше. Данные Всемирного банка говорят нам, что доход на душу населения в США в 2007 году составлял 46 040 долларов. Есть семь стран с более высоким доходом на душу населения в пересчете на американский доллар — первое место занимает Норвегия (76 450 долларов), далее идут Люксембург, Швейцария, Дания, Исландия, Ирландия и замыкает список Швеция (46 060 долларов). Если исключить два мини-государства, Исландию (311 000 человек) и Люксембург (480 000 человек), США оказываются шестой самой богатой страной в мире.
Но этого не может быть, заявят некоторые из вас. Когда вы приезжаете в США, вы видите, что люди там живут лучше, чем норвежцы или швейцарцы.
Одна из причин, по которой может сложиться такое впечатление, — то, что в США неравенство выше, чем в европейских странах, и поэтому Америка в глазах зарубежных гостей выглядит более процветающей, чем на самом деле, — иностранцы в любой стране редко забираются в нищие ее уголки, а в США таких мест намного больше, чем в Европе. Но даже если игнорировать фактор неравенства, есть веская причина, по которой большинство людей полагает, будто в США уровень жизни выше, чем в европейских странах.
В Женеве за проезд в такси на расстояние пяти миль (или восьми километров) вы заплатите 35 швейцарских франков, или 35 долларов, тогда как в Бостоне та же поездка обошлась бы вам около 15 долларов. В Осло вы заплатите 550 крон, или 100 долларов, за обед, который в Сент-Луисе вряд ли стоил бы больше 50 долларов, или 275 крон. Все будет наоборот, если в отпуске вы поменяете ваши доллары на тайские баты или мексиканские песо. Проходя шестой за неделю массаж спины или заказывая третий бокал «Маргариты» перед ужином, вы почувствуете, как ваши сто долларов разрослись до двухсот, если не трехсот долларов (или это вы просто немножко перебрали?). Если бы рыночный обменный курс адекватно отражал различия между жизненными уровнями в разных странах, подобных явлений бы не было.
Почему столь велики различия между тем, что вы можете купить в разных странах на одну и ту же, казалось бы, сумму денег? Подобные несоответствия существуют главным образом потому, что рыночные обменные курсы, по большому счету, определяются спросом и предложением на продаваемые на международном рынке товары и услуги (хотя валютные спекуляции временно могут повлиять на рыночные обменные курсы). А то, сколько можно купить на некоторую сумму в отдельно взятой стране, определяется ценами на все товары и услуги, не только на те, которые продаются за рубеж.
Самые важные среди неторгуемых продуктов — это услуги, предоставляемые человеком человеку, такие как перевозки в такси и обслуживание в ресторане. Продажа этих услуг требует миграции за рубеж, но миграция жестко ограничивается миграционным контролем, поэтому оказывается, что цены на такие услуги сильно разнятся от страны к стране (см. Тайны 3 и 9). Иными словами, поездки в такси и обед в ресторане дороги в таких странах, как Швейцария и Норвегия, потому что там дорогостоящие рабочие. В странах, где рабочая сила дешева, как в Мексике и Таиланде, эти услуги дешевы. Если мы говорим о товарах, продаваемых на международном рынке, как телевизоры или мобильные телефоны, их цены более или менее одинаковы во всех странах, как богатых, так и бедных.
Чтобы учесть различие цен на неторгуемые продукты и услуги в разных странах, экономисты предложили идею «международного доллара». Основанная на понятии паритета покупательной способности (ППС) — измерении ценности валюты в зависимости от того, какую часть общей потребительской корзины разных стран можно на нее купить, — эта условная денежная единица позволяет перевести доходы разных стран в общую меру жизненного уровня.
В результате перевода доходов различных стран в международный доллар получается, что доходы богатых стран оказываются, как правило, ниже, чем доходы этих стран по рыночному обменному курсу, а доходы бедных стран — выше. Причина в том, что большую часть из потребляемого нами составляют услуги, которые в богатых странах намного дороже. В некоторых случаях разница между доходом по рыночному валютному курсу и доходом с учетом паритета покупательной способности невелика. Согласно данным Всемирного банка, доход США по рыночному валютному курсу в 2007 году составил 46 040 долларов, а доход с учетом ППС был приблизительно таким же: 45 850 долларов. В случае Германии разница между одним и другим показателями была выше: 38 860 долларов против 33 820 долларов (можно сказать, 15%-ная разница, хотя на самом деле сравнивать обе цифры напрямую нельзя). Для Дании эта разница составила около 50% (54 910 против $ 36 740 долларов). Напротив, доход Китая в 2007 году при переводе в ППС увеличивается более чем вдвое, с 2360 до 5370 долларов, а Индии — почти в три раза: с 950 до 2740 долларов.
Вычисление обменного курса каждой валюты к условному международному доллару — дело непростое, и не в последнюю очередь потому, что основано на предположении, будто все страны потребляют одну и ту же корзину товаров и услуг, что заведомо неверно. Таким образом, доход по ППС крайне чувствителен к используемым методикам и исходным данным. Например, когда в 2007 году Всемирный банк изменил метод оценки доходов по ППС, доход Китая на душу населения в исчислении по ППС сразу упал на 44% (с 7740 до $5370 долларов), а Сингапура — вырос на 53% (с 31 710 до 48 520 долларов).
Несмотря на эти недостатки, исчисление дохода страны в международных долларах дает более адекватное представление о жизненном уровне, чем долларовый доход по рыночному обменному курсу. И если мы подсчитаем доходы различных стран в международных долларах, то США почти возвращаются на ведущие позиции в мире. Все зависит от расчетов, однако Люксембург — единственная страна, у которой по всем показателям доход по ППС на душу населения выше, чем у США. Таким образом, если не учитывать крошечное государство Люксембург с населением менее полумиллиона человек, средний американский гражданин на свой доход может купить самое большое в мире количество товаров и услуг.
Позволяет ли нам это сказать, что в США самый высокий уровень жизни в мире? Возможно. Но прежде чем сделать поспешный вывод, надо учесть ряд факторов.
…НО ЖИВУТ ЛИ ОНИ ЛУЧШЕ?
Для начала, более высокий средний доход по сравнению с другими странами не обязательно означает, что все американские граждане живут лучше, чем граждане других стран. Лучше или хуже — зависит от распределения дохода. Конечно, ни в одной стране средний доход не дает адекватную картину того, как живут люди, но в стране с более высоким неравенством показатель среднего дохода, скорее всего, окажется особенно недостоверным. Учитывая, что в США существует самое неравномерное среди богатых стран распределение доходов, мы можем с уверенностью предположить, что в Америке доход на душу населения завышает реальный уровень жизни у большего числа ее граждан, чем в других странах. И это предположение косвенно подтверждается другими индикаторами уровня жизни. Например, несмотря на самый высокий доход по ППС, США стоят всего лишь где-то на тридцатом месте в мире по показателям статистики здравоохранения, таким как продолжительность жизни и детская смертность (да, свою роль здесь сыграла и неэффективная американская система здравоохранения, но не будем сейчас на этом останавливаться). Намного более высокий, чем в Европе или в Японии, уровень преступности — в расчете на душу населения в США в восемь раз больше людей содержатся в тюрьмах, чем в Европе, и в 12 раз больше, чем в Японии, — показывает, что в США существенно многочисленнее низший слой общества.
Во-вторых, сам факт того, что доходы по ППС и по рыночному курсу примерно равны, служит доказательством того, что более высокий средний уровень жизни в США построен на бедности широких слоев населения. Что я имею в виду? Как я уже отмечал выше, нет ничего удивительного, если у богатой страны доход по ППС ниже, иногда существенно ниже, чем доход, исчисляемый по рыночному курсу, поскольку в такой стране дорогостоящи работники сферы услуг. Тем не менее, в США подобного не происходит, поскольку, в отличие от других богатых стран, в ней дешевы работники сферы обслуживания. Прежде всего, имеется большой приток низкооплачиваемых иммигрантов из бедных стран, многие из них даже прибыли нелегально, отчего их труд становится еще дешевле. Кроме того, даже местные рабочие имеют в США гораздо более слабые позиции для отступления, чем в европейских странах со сравнимым уровнем дохода. Из-за гораздо более низкой надежности рабочих мест и более слабого бытового обслуживания американские рабочие, особенно не состоящие в профсоюзе работники отраслей сферы обслуживания, трудятся за более низкую зарплату и в худших условиях, чем их европейские коллеги. Потому-то такие услуги, как поездки в такси или обед в ресторане, в США намного дешевле, чем в других развитых странах. Это не может не радовать, когда вы клиент, но не когда вы водитель такси или официантка. Иными словами, более высокая покупательная способность среднего американского заработка куплена ценой более низкого дохода и худших условий работы для многих американских граждан.
И наконец, сравнивая уровень жизни в различных культурах, мы не должны забывать о разнице в продолжительности рабочей недели. Даже если кто-то зарабатывает на 50% больше денег, чем я, вы не скажете, что у него более высокий уровень жизни, чем у меня, если этому человеку приходится трудиться в два раза больше рабочих часов, чем мне. То же самое применимо и к США. Американцы, подтверждая свою репутацию трудоголиков, работают больше, чем граждане любой другой страны с доходом на душу населения в более 30 000 долларов по рыночному курсу 2007 года (из всего списка этих стран беднейшей является Греция, с доходом в чуть менее 30 000 долларов на душу населения). Американцы работают на 10% больше, чем большинство европейцев, и примерно на 30% больше, чем голландцы и норвежцы. Согласно расчетам исландского экономиста Торвальдура Гюльвасона, в 2005 году по доходу на отработанный час (с учетом ППС) США занимали всего лишь восьмое место — после Люксембурга, Норвегии, Франции (да, Франции, этой страны праздных людей), Ирландии, Бельгии Австрии и Нидерландов — и очень близко за ними шла Германия{24}. Иначе говоря, на единицу затраченных усилий американцы получают более низкий жизненный уровень, чем жители конкурирующих с ними стран. Эту более низкую производительность труда они возмещают гораздо более продолжительной рабочей неделей.
Кто-то мог бы резонно возразить, что он желает работать больше часов, если это необходимо для получения более высокого дохода — и что он с большей охотой получил бы еще один телевизор, чем лишнюю неделю отпуска. И кто такой я (или кто-то другой), чтобы заявлять, будто человек неправильно расставил приоритеты?
Однако все же правомерно спросить, правильно ли поступают люди, которые много работают даже при очень высоком уровне дохода. Большинство согласится, что при низком уровне доходов увеличение дохода повысит качество вашей жизни, даже если повлечет за собой необходимость работать больше. На этом уровне, даже если вам придется больше работать у себя на фабрике, возросший доход, по всей вероятности, принесет вам более высокое качество жизни в целом, поскольку улучшится ваше здоровье (благодаря более здоровому питанию, наличию отопления, гигиене и здравоохранению) и сократятся затраты физических сил на работу по дому (благодаря появлению большего количества домашних приборов, водопровода, газа и электричества — см. Тайну 4). Однако выше определенного уровня доходов уменьшается сравнительная ценность материального потребления в сравнении с наличием свободного времени, поэтому получение большего дохода ценой большей продолжительности рабочей недели может снизить качество жизни человека.
Немаловажно и то, что если жители некой страны работают дольше, чем жители других сравнимых с ней стран, то это не обязательно означает, что этим людям нравится работать больше. Возможно, они вынуждены работать больше, даже если на самом деле хотят брать более продолжительные отпуска. Как я уже указывал выше, на то, сколько человек работает, влияют не только его собственные предпочтения в отношении баланса работы и отдыха, но также и социальное обеспечение, защита прав трудящихся и полномочия профсоюзов. Отдельным людям приходится принимать эти факторы как данность, но государства имеют возможность выбора. Страна может переписать трудовое законодательство, наладить систему социального обеспечения и предпринять другие шаги в политике, чтобы людям не приходилось работать по много часов.
Популярность американской модели во многом основана на том «факте», что в США самый высокий в мире уровень жизни. В том, что уровень жизни в США самый высокий в мире, сомнений нет, но их мнимое превосходство выглядит гораздо слабее, как только мы введем более широкое понятие жизненного уровня, чем то, сколько можно купить на средний доход в стране. Существенное экономическое неравенство в США ведет к тому, что среднедушевой доход менее точно отражает уровень жизни граждан, чем в других странах. Это отражается в таких показателях, как развитие здравоохранения и уровень преступности, по которым США демонстрируют гораздо более низкие результаты по сравнению с другими странами. Более высокая покупательная способность жителей США (сравнительно с жителями других богатых стран) во многом обязана более низким зарплатам, более слабому соцобеспечению и большей негарантированности занятости для многих американских граждан, особенно в отраслях сферы услуг. Кроме того, американцы работают существенно больше, чем граждане конкурирующих стран. В США доход на один отработанный час ниже, чем в ряде европейских странах, даже из расчета покупательной способности. Правомерность описания подобной картины как более высокого уровня жизни — спорна.
Сравнивать уровень жизни в различных странах нелегко. Пожалуй, одним из самых надежных показателей здесь является доход на душу населения, особенно с учетом покупательной способности. Однако если сосредоточить внимание только на том, сколько товаров и услуг можно купить на наш доход, мы упустим из виду многие другие элементы, составляющие «хорошую жизнь», такие как количество достойного свободного времени, надежность рабочего места, отсутствие преступности, доступность услуг здравоохранения, социальное обеспечение и так далее. Хотя разные люди и страны, безусловно, будут иметь разные взгляды на то, как соотносятся эти показатели друг с другом и с суммой дохода, этими параметрами не следует пренебрегать, если мы хотим построить общество, где люди смогут в самом деле «хорошо жить».
ТАЙНА ОДИННАДЦАТАЯ. АФРИКА НЕ ОБРЕЧЕНА НА ОТСТАЛОСТЬ
ЧТО ВАМ РАССКАЗЫВАЮТ
Африка обречена на отсталость. Там плохой климат, который приводит к возникновению серьезных тропических заболеваний. Там отвратительная география: многие страны со всех сторон заблокированы странами с маленькими рынками, ограничивающими экспортные возможности, и эти страны вовлечены в вооруженные конфликты, выплескивающиеся на соседей. Слишком много природных ресурсов, отчего жители ленивы, коррумпированы и то и дело затевают бурные конфликты. Африканские государства этнически разобщены, отчего ими трудно управлять и отчего там постоянно происходят ожесточенные столкновения. Там слабо развиты политические и экономические институты, которые плохо защищают инвесторов. Там плохая культура — люди не умеют работать, не умеют копить деньги и не умеют сотрудничать друг с другом. Все эти принципиальные недостатки объясняют, почему, в отличие от других регионов, африканский континент не начал развиваться даже после осуществления в 1980-х годах значительной либерализации рынка. Для Африки нет иного пути движения вперед, кроме как сесть на постоянное «пособие по нетрудоспособности» в виде зарубежной помощи.
ЧТО ОТ ВАС СКРЫВАЮТ
Африка не всегда находилась в застое. В 1960–1970-х годах, когда, казалось бы, наличествовали те же предполагаемые структурные препятствия, а зачастую и более непреодолимые, она демонстрировала неплохой экономический рост. Более того, большинство сегодняшних развитых стран сталкивались с теми же структурными трудностями, которые вроде как должны сдерживать развитие Африки: плохой климат (арктический и тропический), изолированность, богатые природные ресурсы, этническая разобщенность, слабые институты власти и плохая культура. Эти структурные особенности, вероятно, мешают развитию Африки лишь потому, что страны континента еще не располагают необходимыми технологиями, институтами и организационными навыками, чтобы справиться с выпавшими им неблагоприятными условиями. Подлинной причиной африканской стагнации за последние три десятилетия является политика свободного рынка, которую континент в этот период был вынужден претворять в жизнь. В отличие от истории или географии, политику можно изменить. Африка не обречена на отсталость.
МИР ПО САРЕ ПЕЙЛИН… ИЛИ ПО «СПАСАТЕЛЯМ»?
Говорят, Сара Пейлин, кандидат на пост вице-президента от республиканской партии на выборах президента США в 2008 году, считала, что Африка — это не континент, а страна. Многие удивлялись, откуда она это взяла, но кажется, я знаю ответ. Из диснеевского мультфильма 1977 года «Спасатели».
«Спасатели» — мультфильм о группе мышей, носящей название «Общество помощи и спасения», которая ездит по миру, помогая попавшим в беду животным. В одной из сцен показан международный конгресс Общества, куда съехались мыши-делегаты от всевозможных стран в традиционных костюмах и с соответствующими акцентами (те, кому случалось заговорить). Там присутствовала французская мышь в берете, немецкая мышь в мрачной синей одежде и турецкая мышь в феске. Была еще мышь из Латвии в меховой шапке и с бородой, а также мышь женского пола, представляющая… ну да, Африку.
Возможно, Дисней на самом деле и не считал Африку страной, но он отвел по одному представителю и стране с 2,2 миллионами жителей, и континенту, где более чем 900 миллионов человек живут почти в 60 странах (точное число зависит от того, признаете ли вы в качестве отдельных стран Сомалиленд и Западную Сахару) — это кое-что говорит о его отношении к Африке. Подобно Диснею, многие считают Африку аморфной массой стран, страдающей от одинаково жаркой погоды, тропических болезней, невыносимой нищеты, гражданской войны и коррупции.
Хотя не следует сваливать все африканские страны в одну кучу, нельзя отрицать и то, что большинство африканских стран крайне бедны — особенно, если мы ограничимся Африкой южнее Сахары (субсахарской, или «черной», Африкой), которую, в сущности, и имеют в виду, когда обычно говорят об Африке. Согласно Всемирному банку, средний доход на душу населения в Африке к югу от Сахары оценивался в 2007 году в 952 долларов. Это несколько выше, чем 880 долларов в Южной Азии (Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан и Шри Ланка), но ниже, чем в любом другом регионе мира.
Помимо этого, многие говорят о «трагедии роста» Африки. В отличие от Южной Азии, темпы роста которой с 1980-х годов ускорились, Африка страдает от «хронического дефицита экономического роста»{25}. Субсахарская Африка по уровню дохода на душу населения сегодня находится приблизительно на том же месте, что и в 1980 году. Еще больше беспокоит тот факт, что отсутствие экономического роста вызвано, главным образом, не плохим выбором политики (как и многие другие развивающиеся страны, страны этого региона с 1980-х годов осуществляли рыночные реформы), а, в основном, трудностями, доставшимися им от природы и истории и потому крайне трудно поддающимися изменению, если их вообще возможно изменить.
Список предполагаемых «конструктивных недостатков», сдерживающих развитие Африки, впечатляет.
Прежде всего, это определенные природой условия: климат, географическое положение и природные ресурсы. Располагаясь слишком близко к экватору, Африка страдает от свирепствующих тропических болезней, таких как малярия, которые сокращают производительность труда и поднимают расходы на здравоохранение. Многим странам, оказавшимся в плотном окружении других стран, тяжело интегрироваться в глобальную экономику. Они находятся в «плохом соседстве», в том смысле, что окружены другими бедными странами, имеющими маленькие рынки (что ограничивает для них возможности ведения торговли) и зачастую страдающими от вооруженных столкновений (которые часто выплескиваются на соседей). Африка также богата природными ресурсами, что многие считают ее «проклятием», утверждая, что изобилие ресурсов делает африканцев ленивыми — поскольку можно «лежать под пальмой и ждать, пока упадет кокос». Так обрисовывает ситуацию популярное изречение (хотя те, кто так говорит, явно не пробовали сидеть под пальмой — есть риск, что свалившийся кокос размозжит голову). «Незаслуженное» благосостояние, основанное на природных ресурсах, также провоцирует коррупцию и конфликты вокруг правительственных должностей. Экономические успехи бедных природными ресурсами восточноазиатских стран, таких как Япония и Корея, часто приводят в качестве примеров противоположности «проклятию ресурсов».
Не только природа, но и собственная история сдерживает развитие Африки. Африканские государства этнически слишком многообразны, отчего люди не доверяют друг другу, и поэтому рыночные операции обходятся недешево. Утверждают, что этническое многообразие может спровоцировать вооруженные конфликты, особенно если имеется всего несколько в равной мере сильных групп (а не множество небольших групп, организовать которые труднее). Колониальная история оставила в большинстве африканских стран неэффективные учреждения, поскольку колонизаторы не хотели селиться в странах, где слишком много тропических болезней (так что между климатом и государственными институтами есть связь), и поэтому создавали только минимально необходимые институты, которые необходимы были для добычи ресурсов, а не для развития местной экономики. Некоторые аналитики даже рискуют утверждать, будто африканская культура не подходит для экономического развития: африканцы плохо работают, не строят планов на будущее и не умеют сотрудничать друг с другом[5].
Со всем вышесказанным перспективы Африки на будущее выглядят унылыми. По отношению к некоторым из структурных недостатков любое решение представляется недостижимым или неприемлемым. Если развитие Уганды сдерживается ее изолированностью, слишком близким расположением к экватору и плохим соседством — что ей делать? Физически переместить страну — такой вариант не рассматривается, поэтому единственно возможное решение — колониализм, то есть Уганда должна завоевать, скажем, Норвегию и переселить всех норвежцев в Уганду. Если наличие слишком большого числа этнических групп мешает развитию, следует ли Танзании, одной из самых этнически многообразных стран мира, взять на вооружение этнические чистки? Если излишнее изобилие природных ресурсов препятствует экономическому росту, не следует ли Демократической Республике Конго попытаться продать часть своей территории, где залегают полезные ископаемые, скажем, Тайваню, чтобы передать проклятие природных ресурсов кому-то другому? Что должен делать Мозамбик, если после колонизаторов у него остались негодные политические институты? Изобрести машину времени и подкорректировать историю? Если Камерун обладает культурой, плохо способствующей экономическому развитию, надо ли ему начать некую программу по промыванию мозгов или отправить людей в лагеря на перековку, как делали в Камбодже красные кхмеры?
Все подобные предложения о дальнейших действиях либо физически невозможны (перемещение страны, изобретение машины времени) или политически и морально неприемлемы (завоевание другой страны, этнические чистки, исправительные лагеря). Поэтому те, кто убежден в важной роли этих «конструктивных недостатков», но находят подобные радикальные решения неприемлемыми, утверждают, что африканские страны необходимо посадить на своего рода «пособие по нетрудоспособности», предоставляемое через зарубежную помощь, и оказывать им дополнительную поддержку в сфере международной торговли (например, богатые страны начинают снижать степень защиты своего сельского хозяйства от внешней конкуренции только для африканских стран — и других таких же бедных и изначально находящихся в невыгодном положении стран).
Но нет ли иного пути будущего развития Африки, кроме как безропотно принять свою судьбу или положиться на внешнюю помощь? Или у африканских стран нет надежды самостоятельно встать на ноги?
АФРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ РОСТА?
Но прежде чем попытаться объяснить африканскую трагедию роста и рассмотреть возможные способы ее преодоления, мы должны задать один вопрос: существует ли эта трагедия вообще? И ответ таков — нет, не существует. Отсутствие роста в регионе наблюдалось отнюдь не всегда.
В 1960–1970-х годах доход на душу населения в Африке южнее Сахары увеличивался солидными темпами. При величине около 1,6% он был далек от темпов роста Восточной Азии (5–6%) или даже Латинской Америки (около 3%) в тот же период. Однако и к таким результатам нельзя относиться пренебрежительно. Он выигрывает по сравнению с показателями 1–1,5%, которых достигали нынешние развитые страны во времена, которые назывались — ни больше, ни меньше — их «промышленной революцией» (около 1820–1913 годов).
Тот факт, что до 1980-х годов Африка развивалась солидными темпами, заставляет предположить, что «структурные» факторы не могут служить главным обоснованием отсутствия экономического роста в регионе (по сути дела, отсутствие имело место лишь в последнее время). В противном случае в Африке никогда бы не наблюдалось экономического роста. Нельзя сказать, что африканские страны вдруг переместились в тропики или некая сейсмическая активность вдруг отрезала некоторым из них выход к морю. Если бы «конструктивные» факторы имели такое важное значение, то экономический рост Африки со временем должен был бы нарастать, поскольку по крайней мере некоторые из этих факторов были бы ослаблены или ликвидированы. Например, отказались бы от оставшихся после колонизаторов неудачных государственных институтов или усовершенствовали бы их. Даже этническое многообразие уменьшилось благодаря введению обязательного образования, воинской повинности и деятельности средств массовой информации, как то произошло во Франции, которая смогла превратить «крестьян во французов», как озаглавлена классическая книга американского историка Юджина Вебера, вышедшая в 1976 году[6]. Однако этого не произошло — с 1980-х годов экономический рост Африки вдруг резко упал.
Поэтому если «конструктивные» факторы присутствовали всегда и если их влияние, как минимум, со временем уменьшалось, они не могут объяснить, почему в 1960–1970-х годах Африка развивалась приличными темпами, а потом вдруг рост остановился. Резкое прекращение роста должно объясняться каким-то явлением, которое имело место около 1980-х годов. Первый подозреваемый — произошедшее примерно в этот период резкое изменение в политическом курсе.
С конца 1970-х годов (начиная с Сенегала в 1979 году), субсахарские африканские страны были вынуждены принять политику свободного рынка и свободной торговли на условиях, навязанных им так называемыми «программами структурной стабилизации» Всемирного банка и МВФ (и богатых стран, которые в конечном счете контролируют деятельность этих организаций). Вопреки общепринятой точке зрения, эти меры вовсе не идут на пользу экономическому развитию (см. Тайну 7).
Внезапно выставив едва оперившихся производителей на арену международной конкуренции, эти программы привели к краху того немногого, что смогли наработать небольшие промышленные сектора этих стран за 1960–1970-е годы. Таким образом, вынужденные снова полагаться на экспорт основных видов сырья, таких как какао, кофе и медь, африканские страны по-прежнему страдали от резких колебаний цен и от использования отсталых производственных технологий, которые связаны с добычей большинства этих видов сырья. Мало того, когда «программы структурной стабилизации» потребовали резкого увеличения экспорта, африканские страны, обладающие технологическими возможностями лишь в ограниченной сфере видов деятельности, в конце концов переходили на экспорт схожей продукции — будь то традиционные продукты, такие как кофе и какао, или новые, такие как свежие цветы. Результатом зачастую был обвал цен на эти товары, по причине резкого увеличения их поставок, и выходило, что по объему эти страны экспортировали больше, но зарабатывали с этого меньше. Оказываемое на правительства давление с целью заставить их сбалансировать бюджет приводило к урезанию расходов, последствия чего проявлялись не сразу: например, сокращались расходы на инфраструктуру. Но со временем катастрофически ухудшающаяся инфраструктура поставила африканских производителей в еще более невыгодное положение, отчего «неблагоприятные географические условия» стали сказываться еще трагичнее.
Результатом «программ структурной стабилизации» — и их разнообразных позднейших модификаций, включая нынешнюю «Стратегию Всемирного банка по сокращению бедности», — стала застойная экономика, которая не могла развиваться (по доходу на душу населения) в течение трех десятилетий. В 1980–1990-х годах среднедушевой доход в субсахарской Африке упал до 0,7% в год. В 2000-х годах в регионе наконец наметился рост, но депрессия предыдущих двух десятилетий привела к тому, что среднегодовой темп роста доходов на душу населения в субсахарской Африке с 1980 по 2009 годы составил 0,2%. То есть, после почти 30 лет применения «более совершенной» (то есть рыночной) политики, среднедушевой доход по сути остался на том же уровне, что в 1980 году.
Таким образом, пресловутые «структурные факторы» — это пустые оправдания, которые выпячиваются экономистами-рыночниками. Видя, что поддерживаемые ими меры не приносят положительных результатов, они вынуждены были предложить иные объяснения застою в Африке (или регрессу, если не считать последние несколько лет резкого подъема, вызванного сырьевым бумом, который уже подходит к концу). Они не в состоянии представить себе, что такие «правильные» рыночные программы могут потерпеть неудачу. Неслучайно, что «структурные факторы» стали приводить в качестве главного объяснения плохих экономических показателей в Африке лишь после того, как в начале 1980-х годов от успехов не осталось и следа.
МОЖЕТ ЛИ АФРИКА ПОПРАВИТЬ СВОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И СВОЮ ИСТОРИЮ?
Хотя мы и отмечаем, что адепты рыночной экономики, не желая попадать в неловкую ситуацию, отводят вышеупомянутым структурным факторам главную роль, это вовсе не означает, что данные факторы неактуальны. Многие теории, предложенные для объяснения влияния той или иной структурной характеристики на экономические показатели, вполне разумны. Плохой климат на самом деле способен препятствовать экономическому развитию. Если страна находится «в плохом окружении», то ее экспортный потенциал ограничен, а возможность того, что вооруженные конфликты в соседней стране выплеснутся за ее границы, более чем реальна. Этническое многообразие или изобилие природных ресурсов могут запустить нежелательные политические процессы. Но все эти последствия отнюдь не являются неизбежными.
Прежде всего, существует множество различных способов, которыми эти структурные факторы могут проявиться. Например, богатые природные ресурсы могут спровоцировать трагические события, но могут и поддерживать экономический рост. Иначе мы не стали бы воспринимать низкие экономические показатели богатых природными ресурсами стран как нечто неестественное. Природные ресурсы позволяют бедным странам заработать иностранную валюту и приобрести современную технику. Говорить, что природные ресурсы — это проклятие, все равно что говорить, будто все дети, родившиеся в богатых семьях, во взрослой жизни станут неудачниками, потому что будут избалованы доставшимся им по наследству богатством. С некоторыми так и происходит, но есть и многие другие, которые сумели толково распорядиться тем, что им досталось в наследство, и добиться еще больших успехов, чем родители. То, что некий фактор является «структурным» (то есть, данным природой или историей), не означает, что результат его воздействия предопределен заранее.
Все эти структурные недостатки не являются непреодолимыми, доказательством чему тот факт, что большинство сегодняшних богатых стран стали развитыми несмотря на то, что сталкивались со схожими трудностями{26}.
Рассмотрим сначала вопрос с климатом. Считается, что тропический климат парализует экономический рост, так как отрицательно сказывается на здоровье людей из-за тропических болезней, в первую очередь малярии. Это тяжелая проблема, но вполне решаемая. Многие сегодняшние богатые страны раньше страдали от малярии и прочих тропических заболеваний, по крайней мере в течение лета — не только Сингапур, который расположен посреди тропиков, но и Южная Италия, юг Соединенных Штатов, Южная Корея и Япония. Эти болезни уже не вызывают таких опасений, как раньше, потому, что уровень гигиены в этих странах повысился (что существенно сократило количество заболеваний), а медицинское обслуживание, благодаря экономическому развитию, улучшилось. Более серьезная критика довода о неблагоприятном климате состоит в том, что холодный арктический климат, который влияет на ряд богатых стран, таких как Финляндия, Швеция, Норвегия, Канада, а также на ряд районов США, налагает такое же экономически тяжелое бремя, как и тропический климат: глохнут машины, стоимость топлива повышается до заоблачных цифр, а транспорт застревает в снегах и льдах. Нет никакой причины изначально считать, что холодная погода благоприятнее для экономического развития, чем жаркая. Холодный климат не тормозит развитие указанных стран, потому что они располагают финансовыми средствами и техническим оснащением для борьбы с ним (то же можно сказать и в отношении Сингапура и тропического климата). Поэтому возлагать вину за слабое экономическое развитие Африки на климат означает путать причины экономической отсталости и ее симптомы — плохой климат не бывает причиной экономической отсталости. Неспособность страны справиться с плохим климатом — всего лишь проявление экономической отсталости.
Если говорить о географическом положении, настойчиво подчеркивается изолированность многих африканских стран от моря. Но что тогда говорить о Швейцарии и Австрии? Это две страны с самой богатой экономикой в мире, но у них нет выходов к морю. Читатель может возразить, что эти страны смогли развиваться потому, что там хорошо развит речной транспорт, но многие не имеющие выхода к морю африканские страны потенциально находятся в том же положении, например, Буркина-Фасо (река Вольта), Мали и Нигер (река Нигер), Зимбабве (река Лимпопо) и Замбия (река Замбези). Так что проблема не в самой географии, а в отсутствии инвестирования в речную транспортную систему. Из-за замерзания морей зимой и скандинавские страны, по сути дела, в течение полугода оказывались отрезанными от мира, пока в конце XIX века не был изобретен ледокол. Влияние «плохого соседства», пожалуй, существует, но оно не так уж непреодолимо: взгляните на недавний стремительный подъем Индии, которая расположена в беднейшем регионе мира (как уже отмечалось выше, беднее, чем субсахарская Африка), на долю которого тоже пришлось немало военных конфликтов (долгая история вооруженного противостояния между Индией и Пакистаном, маоистские повстанцы-наксалиты в Индии, гражданская война между тамилами и сингальцами в Шри Ланке).
Многие говорят о проклятии ресурсов, но история развития таких стран, как США, Канада и Австралия, которые намного щедрее наделены природными богатствами, чем все африканские страны, за исключением, возможно, Южной Африки и Демократической Республики Конго, показывает, что богатые природные ресурсы могут быть и благословением. Большинство африканских стран на самом деле обладают не слишком изобильными природными ресурсами — на сегодняшний день лишь в десятке стран Африки обнаружены сколь бы то ни было значительные запасы полезных ископаемых{27}. В сравнительном отношении большинство африканских стран, возможно, и располагают щедрыми запасами ископаемых, но это лишь потому, что у них так мало ресурсов, созданных человеком, таких как машины и оборудование, инфраструктура, а также квалифицированной рабочей силы. К тому же, в конце XIX — начале XX века самыми быстроразвивающимися в мире были богатые природными ресурсами регионы, такие как Северная Америка, Латинская Америка и Скандинавия. Поэтому и напрашивается мысль, что проклятие ресурсов существовало не всегда.
Национальные различия могут по-разному мешать развитию, но их влияние не стоит преувеличивать. И в остальной части света этническое многообразие является нормой. Даже если забыть о многообразии национального состава стран, в основе своей имеющих иммиграцию, как США, Канада и Австралия, многие из сегодняшних богатых стран Европы страдают от разделенности языковыми, религиозными и идеологическими барьерами — особенно в «умеренной степени» (то есть когда существует лишь несколько, а не множество групп); последние, как считается, в наибольшей мере чреваты жестокими конфликтами. В Бельгии есть две этнических группы (если не учитывать крошечное немецкоговорящее меньшинство). В Швейцарии четыре языка и две религии, и она пережила ряд гражданских войн, главным образом, на религиозной почве. Испания испытывает серьезные проблемы с каталонским и баскским меньшинствами, и там дело дошло даже до терактов. В результате 560-летнего владения Швеции Финляндией (с 1249 по 1809 год, когда Швеция уступила ее России), в Швеции проживает заметное финское меньшинство (около 5% населения), а в Финляндии — примерно такое же шведское. И так далее.
Даже восточноазиатские страны, которые считаются этнически однородными (и в чем видят их преимущество), испытывают серьезные проблемы с внутренними противоречиями. Возможно, вы полагаете, что Тайвань этнически однороден, поскольку все его граждане — «китайцы», но население острова стоит из двух (или четырех, если использовать более тонкую классификацию) языковых групп: «материковые китайцы» и тайваньцы, и настроены они друг к другу враждебно. Япония переживает серьезные межэтнические проблемы в отношении корейцев, окинавцев, айнов и буракуминов. Южная Корея, возможно, одна из самых этнолингвистически однородных стран в мире, но это не мешает моим соотечественникам ненавидеть друг друга. Так, например, в Южной Корее есть два региона, которые особенно ненавидят друг друга (Юго-восток и Юго-запад), причем до такой степени, что некоторые местные жители не разрешают своим детям вступать в брак с уроженцами «оттуда». Интересно, что Руанда почти столь же однородна в этнолингвистическом отношении, как Корея, но это не помешало национальному большинству хуту проводить этнические чистки среди ранее доминировавшего национального меньшинства тутси — пример, который доказывает, что «этническая принадлежность» — явление политическое, а не природное. Иными словами, богатые страны не страдают от этнической разнородности не потому, что там она отсутствует, а потому, что им удалось сформировать свою нацию (что, надо заметить, часто было неприятным процессом, а порой и сопряженным с насилием).
Высказывается мнение, что развитие Африки сдерживают и плохо работающие политические институты (и это действительно так), но когда богатые страны находились на уровне материального развития, сопоставимого с уровнем развития современной Африки, их институты были в гораздо более плачевном состоянии{28}. Тем не менее эти страны продолжали развиваться и достигли больших высот. Адекватные политические институты были выстроены существенно позже или, по крайней мере, строились одновременно с экономическим ростом. Это демонстрирует, что качество институтов в равной мере представляет собой как причинный фактор, так и результат экономического развития. Следовательно, неудовлетворительное политическое устройство не может служить объяснением отсутствия экономического роста в Африке.
Говорят и о «плохом» менталитете Африки, но менталитет большинства нынешних богатых стран в свое время тоже называли плохим — примеры я привожу в своей книге «Недобрые самаритяне» в главе «Ленивые японцы и вороватые немцы». Вплоть до начала XX века австралийцы и американцы, побывав в Японии, говорили, что японцы ленивы. До середины XIX века британцы, побывавшие в Германии, говорили, что немцы слишком глупы, слишком эгоистичны и слишком эмоциональны, чтобы поднять экономику своих стран (тогда Германия еще не была объединена) — полная противоположность существующему сегодня стереотипу немцев и ровно то же, что сегодня говорят об африканцах. Японская и немецкая культуры в процессе экономического развития трансформировались, поскольку требования высокоорганизованного индустриального общества заставили людей быть более дисциплинированными, думающими и открытыми для сотрудничества. В этом смысле менталитет скорее является результатом, а не причиной экономического развития. И ошибочным будет возлагать вину за низкое экономическое развитие Африки (как и любого другого региона или страны) на менталитет ее народов.
Получается, что факторы, кажущиеся незыблемыми, изначально заложенными препятствиями для экономического развития Африки (да и любого другого региона), на поверку оказываются преодолимыми и уже кое-где преодоленными, при условии применения более совершенной техники, осуществления более продуманных административных решений и выстраивания более адекватных политических институтов. Косвенным доказательством этого утверждения является тот факт, что сегодня большинство богатых стран сами в прошлом страдали (и в какой-то степени продолжают страдать) от тех же проблем. Более того, невзирая на все эти препятствия — которые, бывало, принимали и более суровые формы, — африканские страны и сами не испытывали в 1960–1970-х годах проблем роста. Главная причина недавно начавшегося упадка лежит в сфере политики — а именно, в политике свободы торговли, свободного рынка, которая была навязана континенту через «программы структурной стабилизации». Природа и история не обрекают страну на неудачи. Если проблемы вызваны политикой, будущее изменить даже еще легче. То, что мы еще этого не наблюдаем, — вот настоящая трагедия Африки, а не якобы хронический ее упадок.
ТАЙНА ДВЕНАДЦАТАЯ. ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ ВЫБИРАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ЧТО ВАМ РАССКАЗЫВАЮТ
Государства не в состоянии определять «победителей» посредством промышленной политики. Оно просто не располагает необходимой информацией и компетенцией, чтобы принимать обоснованные решения в бизнесе и «решать, кому присудить победу». Во всяком случае, люди в правительстве, принимающие ответственные решения, скорее всего, выберут каких-нибудь откровенных неудачников, учитывая, что чиновников больше интересует не прибыль, а власть, и что им не придется отвечать за финансовые последствия своих решений. Если же государство пытается идти против рыночной логики и поддерживать отрасли, которые не соотносятся с имеющимися у страны ресурсами и умениями, то результаты тем более оказываются катастрофическими, что доказывают многочисленные дорогостоящие и бесполезные, как белый слон короля Сиама, проекты, запущенные в развивающихся странах.
ЧТО ОТ ВАС СКРЫВАЮТ
Государство способно назначать победителей и иногда делает это просто блестяще. Если смотреть беспристрастно, по всему миру найдется множество примеров, когда государство делало удачную ставку. Аргумент же, что решения государства, касающиеся бизнеса компаний, заведомо хуже решений, принимаемых самими компаниями, несостоятелен. Владение более подробной информацией не гарантирует принятия более удачных решений — порой, находясь «в гуще событий», бывает труднее принять правильное решение. Вдобавок у государства есть способы собрать больше информации и качественно улучшить принимаемые им решения. К тому же решения, которые хороши для отдельных компаний, могут оказаться неудачными для национальной экономики в целом. Поэтому государство, делая ставку на ту или иную компанию вопреки рыночной конъюнктуре, может улучшить показатели национальной экономики, особенно если такое решение оно принимает в тесном (но не слишком тесном) сотрудничестве с частным сектором.
ХУДШЕЕ ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В МИРЕ
Юджин Блэк, дольше всех своих коллег удержавшийся на посту президента Всемирного банка (1949–1963), критиковал развивающиеся страны за излишнее поклонение трем идолам: автомагистрали, комплексному сталелитейному заводу и памятнику главе государства.
Возможно, замечание господина Блэка насчет памятника было не вполне справедливо (в то время многие политические лидеры развивающихся стран не жаждали возвеличивания собственной персоны), но он имел основания беспокоиться относительно широко распространенной тенденции увлекаться престижными проектами, такими как строительство автомагистралей и сталелитейных заводов, независимо от их экономической целесообразности. В те времена очень многие развивающиеся страны строили дороги, которые оставались пустыми, и литейные заводы, которые выживали только благодаря крупным государственным субсидиям и протекционистским пошлинам. В этот период для описания подобных проектов придумали выражения «белый слон» и «замок в пустыне».
Но на фоне всех тогдашних потенциальных «замков в пустыне» одним из самых нелепых выглядел задуманный в 1965 году план Южной Кореи по строительству сталеплавильного комплекса.
В те времена Корея была одной из беднейших стран мира и жила за счет экспорта природных ресурсов (рыбы, вольфрамовой руды) или трудоемких товаров (например, дешевой одежды, париков из натуральных волос). Согласно общепринятой теории международной торговли, известной как «теория сравнительного преимущества», такая страна, как Корея, где много рабочей силы и очень мало капитала, не должна была затевать производство такой капиталоемкой продукции, как сталь{29}.
Хуже того, Корея даже не производила необходимое сырье. Вполне естественно, что Швеция стала развивать черную металлургию, поскольку страна располагает большими запасами железной руды. Корея практически не производила ни железной руды, ни коксующегося угля, двух основных составляющих современного производства стали. Сегодня их можно было бы импортировать из Китая, но во время «холодной войны» между Китаем и Южной Кореей не существовало торговых отношений. Поэтому сырье пришлось завозить из Австралии, Канады и США — которые находятся на расстоянии пяти-шести тысяч миль, — а следовательно, существенно увеличивать себестоимость производства.
Неудивительно, что корейскому правительству оказалось нелегко убедить потенциальных иностранных инвесторов и кредиторов в успешности своего плана, хотя оно предлагало субсидировать завод по всем направлениям, каким только можно: были обещаны бесплатная инфраструктура (порты, автомобильные и железные дороги), налоговые льготы, ускоренная амортизация производственного оборудования (чтобы минимизировать налоговые отчисления в первые годы), снижение тарифов на коммунальные услуги и прочее, и прочее.
Пока шли переговоры с потенциальными инвесторами — Всемирным банком и правительствами США, Великобритании, Западной Германии, Франции и Италии, — корейское правительство совершало различные шаги, делавшие проект еще менее привлекательным. Когда в 1968 году для управления заводом была учреждена Сталелитейная компания Пхоха-на («ПОСКО»), она была государственным предприятием, вопреки широко распространенному скептицизму в отношении эффективности государственных предприятий в развивающихся странах. В довершение ко всему, возглавить компанию должен был Пак Тхэ Чжун, бывший армейский генерал, имевший минимальный опыт в бизнесе — он несколько лет был главой государственной компании по добыче вольфрамовой руды. Даже для военной диктатуры это было уже чересчур. Страна собиралась открыть крупнейшее в своей истории бизнес-предприятие, а человек, поставленный за него отвечать, даже не был профессиональным бизнесменом!
Итак, перед потенциальными спонсорами предстало, можно сказать, худшее коммерческое предложение в истории: государственная компания, возглавляемая военным, назначенным по политическим соображениям, производящая продукт, который, как утверждают все общеизвестные экономические теории, не подходит для данной страны. Естественно, Всемирный банк посоветовал остальным инвесторам не поддерживать проект, и в апреле 1969 года все они официально вышли из переговоров.
Не впадая в отчаяние, корейское правительство сумело убедить японское правительство направить существенную долю репарационных платежей, которые Япония выплачивала за свое колониальное владычество в 1910–1945 годах, на проект сталелитейного завода и предоставить необходимые машины и технические консультации.
Компания начала производство в 1973 году и удивительно быстро утвердила свое присутствие на рынке. К середине 1980-х годов она уже считалась одним из самых рентабельных производителей низкосортной стали в мире. К 1990-м годам она была одной из лидирующих мировых сталелитейных компаний. В 2001 году компания была приватизирована, но не из-за плохих показателей, а по политическим причинам, и сегодня по объему выпускаемой продукции является четвертым в мире производителем стали.
Итак, перед нами великая загадка. Как могло одно из худших коммерческих предложений в истории породить одно из самых успешных в истории предприятий? На самом деле загадка еще труднее, поскольку ПОСКО — не единственная успешная корейская компания, основанная по инициативе государства.
На протяжении 1960–1970-х годов корейское правительство побуждало фирмы частного сектора уходить в отрасли, куда по собственной инициативе эти фирмы свои усилия прилагать бы не стали. Часто это осуществлялось при помощи пряников: через субсидии или протекционистские тарифы, защищавшие от импорта (хотя эти пряники, в каком-то смысле, были и кнутом, поскольку плохо работающим компаниям их не давали). Но даже когда подобных пряников было недостаточно, чтобы убедить бизнесменов, в ход шли кнуты — длинные кнуты, такие как угроза банков, находившихся на тот момент полностью в собственности государства, урезать кредиты, а то и «задушевная беседа» в тайной полиции.
Что интересно, многие проекты, которые государство продвигало подобным образом, ждал огромный успех. В 1960-х годах «LG груп», гиганту электроники, правительство запретило выходить на интересовавший компанию текстильный рынок и заставило заняться электрическими кабелями. По иронии судьбы, компания по производству кабелей стала основой ее производства электроники, которой LG сейчас славится на весь мир (вы наверняка об этом знаете, если искали последнюю модель мобильного телефона «Chocolate»). В 1970-х годах корейское правительство оказало невероятное давление на Чон Чжу-ена, легендарного основателя «Хендэ груп», чтобы заставить его открыть судостроительную компанию. Даже сам Чон, как говорят, поначалу упирался, но сдался, когда генерал Пак Чжон Хи, тогдашний диктатор страны и архитектор корейского экономического чуда, пригрозил его бизнес-группе банкротством. Сегодня кораблестроительная компания «Хендэ» — один из крупнейших судостроителей в мире.
КАК НЕ ПОСТАВИТЬ НА НЕУДАЧНИКА?
Согласно господствующей экономической теории свободного рынка, таких примеров, как описанные выше успехи ПОСКО, LG и «Хендэ», попросту не должно было случиться. Теория говорит нам, что капитализм лучше всего работает в тех случаях, когда людям позволяют самим решать, как вести собственный бизнес, без какого бы то ни было вмешательства государства. Утверждается, что постановления правительства должны обладать меньшей силой, чем решения, принятые теми, кто напрямую заинтересован в вопросе. Правительство не обладает такой информацией о конкретном бизнесе, как фирма, непосредственно этим бизнесом занимающаяся. Так, например, если компания предпочитает заняться отраслью А, а не отраслью Б, то, вероятно, потому, что знает: А окажется прибыльнее, чем Б, если учитывать компетентность самой компании и условия рынка. Со стороны правительственного чиновника, сколь угодно умного по общечеловеческим стандартам, будет чересчур самонадеянно диктовать руководителям компании, что они должны инвестировать в индустрию Б, не обладая при этом деловой хваткой и опытом этих самых руководителей. Иными словами, по утверждению теории, правильной ставки правительство сделать не сумеет.
На самом деле все еще критичнее, говорят экономисты-рыночники. Те, кто принимает решение от имени государства, не только не в состоянии поставить на победителей, они, скорее всего, поставят на аутсайдеров. Те, от кого зависит решение государства, — политики и чиновники, — движимы желанием как можно больше укрепить свою власть, а не увеличить доходы. Поэтому они наверняка увлекутся проектами-«белыми слонами», которые у всех на виду и имеют большую политическую значимость, независимо от их экономической оправданности. Кроме того, поскольку государственные чиновники распоряжаются «чужими деньгами», им, в общем, незачем беспокоиться о рентабельности проекта, который они продвигают (о вопросе «чужих денег» см. Тайну 2). Если чиновники начнут вмешиваться в дела бизнеса, то, руководствуясь неверными целями (приоритет престижности над прибыльностью) и неверными стимулами, — поскольку не несут личную ответственность за последствия своих решений, — они, скорее всего, сделают ставку на неудачников. Можно сформулировать так: коммерческое предприятие — не дело правительства.
Самый известный пример, когда правительство сделало ставку на проигравшего, поскольку руководствовалось неверными целями и стимулами, был проект «Конкорд», совместно финансировавшийся в 1960-х годах британским и французским правительствами. «Конкорд», без сомнения, остается одним из самых восхитительных достижений инженерной мысли в истории человечества. Я до сих пор не забыл один из самых запоминающихся рекламных лозунгов, которые когда-либо встречал, — слоган «Бритиш эйруэйз» на плакате в Нью-Йорке: он призывал людей путешествовать «Конкордом», чтобы «прибывать на место раньше, чем вы отправились в путь» (чтобы пересечь Атлантику, «Конкорду» требовалось около трех часов, а разница во времени между Нью-Йорком и Лондоном составляет пять часов). Однако если учесть все затраченные на развитие средства и все субсидии, которые должны были предоставить «Бритиш эйруэйз» оба правительства, чтобы для начала хотя бы закупить самолеты, «Конкорд» оказался оглушительным коммерческим провалом.
Еще более вопиющий пример, когда государство поставило на проигравшего, оторвавшись от логики рынка, — это история с индонезийским авиастроением. Отрасль была учреждена в 1970-х, когда страна являлась одной из беднейших в мире. Решение приняли только потому, что по воле случая Бухаруддин Хабиби, на протяжении многих лет бывший правой рукой президента Мухаммеда Сухарто (а после его падения — чуть больше года президент страны), оказался инженером по аэрокосмической технике, отучившимся и поработавшим в Германии.
Но если все общепринятые экономические теории и опыт других стран подсказывают, что государство, скорее всего, выберет не будущего победителя, а будущего аутсайдера, как же Корее удалось сделать такое количество удачных ставок?
Одно из возможных объяснений состоит в том, что Корея — исключение. Скажем, по каким-то непонятным причинам, корейские государственные чиновники оказались настолько компетентны, что сумели выбрать нужные кандидатуры, а никто другой — не сумел. Но это должно означать, что мы, корейцы, — самый умный народ в истории. Как добропорядочный кореец, я бы не возражал против такого объяснения, которое выставляет нас в столь лестном свете, но сомневаюсь, что некорейцы сочтут такой аргумент убедительным (и они будут правы — см. Тайну 23).
Как я несколько раз подробно рассказываю в этой книге — особенно в Тайнах 7 и 19, — Корея на самом деле не единственная страна, где правительство успешно ставило на победителей{30}. То же самое происходило в экономике других стран «восточноазиатского чуда». Корейская стратегия угадывания победителя, хотя и с использованием более агрессивных средств, была скопирована со стратегии японского правительства. Тайваньское и сингапурское правительства справились с этой задачей не хуже корейских коллег, хотя применяли они несколько иную политику.
Важно другое. Не только восточноазиатские правительства делали удачный выбор. Во второй половине XX века правительства Франции, Финляндии, Норвегии и Австрии с большим успехом формировали и направляли индустриальное развитие, используя протекционизм, субсидии и инвестирование в госпредприятия. Американское правительство, хотя и делает вид, будто ничем подобным не занималось, со времен Второй мировой войны определяет свой «выбор победителей» через массированную поддержку научных исследований. Компьютер, полупроводники, летательные аппараты, Интернет и отрасли биотехнологии — яркие примеры направлений, которые были развиты благодаря субсидированию исследований американским правительством. Еще в XIX и начале XX века, когда промышленная политика государства была намного менее упорядоченной и эффективной, чем в конце XX века, практически все нынешние богатые страны, с разной степенью успешности, применяли пошлины, субсидии, лицензии, законы и прочие меры, с целью выказать предпочтение одним отраслям над другими.
Если государство может угадывать и угадывает победителей с такой регулярностью, получая иногда блестящие результаты, вы можете высказать недоумение: нет ли какой-то ошибки в главенствующей экономической теории, которая твердит, будто это невозможно? Да, я бы сказал, что с теорией не все ладно.
Прежде всего, теория неявно подразумевает, что те, кто глубже погружен в ситуацию, будут располагать самой точной информацией и поэтому примут лучшие решения- Это могло бы оказаться правдоподобным, но если бы «близость к линии фронта» гарантировала более удачные решения, в бизнесе никогда бы не принимали неверных решений. Иногда слишком большая близость к ситуации затрудняет, а не облегчает объективное ее рассмотрение. Поэтому можно привести множество бизнес-решений, к которым сами авторы относятся как к шедеврам, а другие воспринимают со скепсисом, если не с откровенным пренебрежением. Например, в 2000 году интернет-компания AOL приобрела медиагруппу «Тайм-Уорнер». Несмотря на сомнения многих наблюдателей, Стив Кейс, тогдашний директор AOL, назвал сделку «историческим слиянием», которому суждено изменить «все представление о средствах массовой информации и Интернете». Впоследствии приобретение обернулось оглушительным провалом, что заставило Джерри Левайна, на момент слияния — директора «Тайм-Уорнер», признать в январе 2010 года, что это была «худшая сделка века».
Разумеется, говоря о том, что решение государства в отношении некой фирмы не обязательно должно оказаться хуже, чем решение самой фирмы, я не отрицаю того, как важно располагать надежной информацией. Однако в тех объемах, в каких эта информация требуется государству для определения своей промышленной политики, оно способно ее получить. И действительно, государства, которые удачнее других угадывали удачную ставку, как правило, имели более эффективные каналы обмена информацией с бизнес-сектором.
Один из самых очевидных способов, как государство может обеспечить себя надежной информацией о состоянии рынка, — открыть госпредприятие и самому вести бизнес. Этим методом широко пользуются такие страны, как Сингапур, Франция, Австрия, Норвегия и Финляндия. Во-вторых, государство может через законы потребовать, чтобы компании в отраслях, получающих государственную поддержку, регулярно отчитывались по некоторым ключевым аспектам своего бизнеса. Корейское правительство решительно проводило такую политику в 1970-х годах, когда оказывало значительную финансовую поддержку в ряде новых отраслей, таких как судостроение, сталелитейная промышленность и электроника. Еще один способ — положиться на неформальные связи между правительственными чиновниками и бизнес-элитой, с тем чтобы чиновники были в курсе ситуации на рынке, хотя при излишней увлеченности этим каналом информации существует опасность возникновения «закрытого клуба» или откровенной коррупции. Самый известный пример подобного подхода, демонстрирующий как его позитивные, так и негативные стороны, — это сеть политических связей во Франции, сложившаяся между выпускниками ЭНА (Национальной школы администрации). Промежуточное место между крайностями законодательных требований и сетью личных контактов занимают созданные японцами «дискуссионные советы», на регулярных заседаниях которых государственные чиновники и ведущие предприниматели обмениваются информацией в официальной обстановке и в присутствии наблюдателей со стороны научного сообщества и средств массовой информации.
Главенствующая экономическая теория не признает и того, что интересы бизнеса и национальные интересы могут вступить в конфликт. Даже если бизнесмены в целом разбираются в своих делах лучше правительственных чиновников (но не всегда, как я уже отмечал выше) и, тем самым, способны принимать решения, наиболее благоприятствующие интересам своих компаний, нет гарантии, что их решения пойдут на пользу национальной экономике. Так, например, когда в 1960-х годах LG хотел выйти на рынок текстиля, директора LG делали правильный выбор с точки зрения своей компании, но, побуждая их заняться производством электрических кабелей, что в дальнейшем позволило LG стать производителем электроники, корейское правительство больше поддерживало национальные интересы Кореи — и, в конечном итоге, интересы LG. Иными словами, когда государство делает ставку на успешную компанию, это может ущемить интересы некоторых фирм, но может привести к более полезным с социальной точки зрения результатам (см. Тайну 18).
«ПОБЕДИТЕЛИ» БУДУТ УГАДАНЫ
Я привел немало примеров удачного выбора государством будущей успешной компании и объяснял, почему теория рыночной экономики, которая отрицает саму возможность правильного решения со стороны государства в этом вопросе, полна дыр.
Я не стану пытаться утаивать от вас случаи неудач государства. Я уже говорил о целом ряде «замков в пустыне», «выстроенных» во многих развивающихся странах в 1960–1970-х годах, включая историю развития авиационной промышленности Индонезии. Но речь идет не только о развивающихся странах. Попытки государства выбрать «правильную» компанию проваливались даже в странах, которые славятся умением делать правильный выбор, таких как Япония, Франция или Корея. Я уже рассказывал о злополучной попытке французского правительства продвигать «Конкорд». В 1960-х годах японское правительство тщетно пыталось провести поглощение «Хонды», которую считало слишком маленькой и слабой, «Ниссаном», но позже оказалось, что «Хонда» — намного более успешная фирма, чем «Ниссан». Корейское правительство в конце 1970-х годов стремилось развивать выплавку алюминия, но отрасль была разрушена крупным повышением цен на электроэнергию, которая составляет огромную часть себестоимости производства алюминия. И это только наиболее показательные примеры.
Но так же, как истории успеха не дают нам права при любых обстоятельствах поддерживать выбор правительства, делающего ставку на ту или иную компанию, неудачи, сколь бы многочисленны они ни были, не обесценивают всех попыток правительства угадать, какая компания достигнет успеха.
Если задуматься, то это вполне естественно, когда правительство ставит не на ту компанию. Неудачи — в природе вещей при принятии рискованных предпринимательских решений в этом изменчивом мире. Ведь фирмы частного сектора постоянно пытаются «угадать победителя», делая ставки на неопробованные еще технологии или начиная проекты, которые другие считают безнадежными, и часто терпят неудачу. И так же, как правительства, известные своими удачными решениями, не каждый раз выбирают «правильную» компанию, так и самые успешные фирмы не всегда делают правильный выбор — вспомните хотя бы провальную операционную систему «Майкрософт» Windows Vista (с помощью которой я, к несчастью, пишу эту книгу) и постыдную неудачу, которую потерпела «Нокиа» с телефоном-игровой консолью N-Gage.
Вопрос не в том, способно ли государство поставить на будущего победителя — на что оно, безусловно, способно, — а в том, как улучшить его «средний результат». Вопреки распространенному убеждению, общий уровень успешности для государства возможно улучшить в разы, будь на то достаточная политическая воля. Это подтверждают страны, которые часто приводят как пример в связи с успешным выбором правильной кандидатуры. Создателем тайваньского чуда было правительство национальной партии (гоминьдана), синоним коррупции и некомпетентности, которое в 1949 году вынуждено было перебраться на Тайвань, уступив континентальный Китай коммунистам. Корейское правительство в 1950-х годах настолько славилось своим непрофессионализмом в области управления экономикой, что Агентство США по международному развитию (ЮСЭЙД) называло страну «бездонной ямой». В конце XIX — начале XX века французское правительство было известно своим нежеланием и неумением ставить на нужную компанию, но после Второй мировой войны стало в Европе чемпионом по отбору будущих победителей.
Суть в том, что ставки на победителя постоянно делаются и государством, и частным сектором, но самые успешные ставки осуществляются их совместными усилиями. При всех видах успешного выбора кандидатур — частного, государственного, совместного — бывают как успехи, так и неудачи, иногда весьма громкие. Если нас продолжит вводить в заблуждение идеология свободного рынка, которая говорит нам, что успешным может быть только выбор, осуществляемый частным сектором, мы упустим целый ряд возможностей экономического развития, которые открывают государственное управление или совместные усилия государственного и частного сектора.
ТАЙНА ТРИНАДЦАТАЯ. ЕСЛИ БОГАТЫЕ СТАНОВЯТСЯ БОГАЧЕ, ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ЭТО НЕ ДЕЛАЕТ БОГАЧЕ
ЧТО ВАМ РАССКАЗЫВАЮТ
Прежде чем распределять богатство, мы должны это богатство создать. Нравится вам это или нет, вкладывать деньги и создавать рабочие места будут богатые. Богатые люди нужны как для выявления возможностей рынка, так и для их эксплуатирования. Во многих странах политика, питаемая завистью, и популистские методы прошлого накладывали ограничения на накопление богатства, облагая богатых высокими налогами. Это нужно прекратить. Может, звучит слишком резко, но в конечном счете бедные могут разбогатеть, только делая богатых еще богаче. Если вы дадите богатым кусок пирога покрупнее, у других кусочки на время могут стать поменьше, но в итоге бедные, в абсолютном выражении, тоже получат более крупные куски, поскольку пирог станет больше. Так или иначе, когда в экономике создается богатство, благодаря предпринимательским идеям и инвестициям богатых, то после этого мы всегда можем решить перераспределить доход, если нам по-прежнему будет казаться, будто что-то несправедливо.
ЧТО ОТ ВАС СКРЫВАЮТ
Вышеизложенная идея, экономика «просачивающегося богатства», спотыкается на первом же препятствии. Вопреки обычному разделению на «стимулирующую рост политику, ориентированную на богатых» и «сокращающую рост политику, ориентированную на бедных», политика в поддержку состоятельных слоев за последние три десятилетия так и не сумела ускорить экономический рост. Поэтому первый аргумент в пользу подобного курса — что пирог станет больше, если давать богатым больший кусок пирога, — совершенно не убедителен. Второй довод — что большее богатство, созданное на вершине пирамиды, рано или поздно просочится вниз, до бедных, — тоже оказывается несостоятелен. Просачивание происходит, но эффект его, как правило, оказывается скудным, если его регулирование отдано на откуп рынку.
ТЕНЬ СТАЛИНА — ИЛИ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО?
В 1919 году, после разрушительной Первой мировой войны, советская экономика находилась в плачевном состоянии. Понимая, что новый режим не имеет шансов на выживание без возрождения производства продуктов питания, Ленин ввел новую экономическую политику (НЭП), разрешив рыночные отношения в сельском хозяйстве и позволив крестьянам оставлять себе доход от этих операций.
Большевистская партия раскололась. В левом крыле, утверждавшем, что НЭП — не более чем возврат к капитализму, находился Лев Троцкий. Его поддерживал блестящий экономист-самоучка Евгений Преображенский. Последний заявлял, что советской экономике, если она хочет развиваться, необходимо увеличивать инвестиции в промышленность. Однако, замечал при этом Преображенский, эти инвестиции очень трудно увеличить, поскольку фактически все излишки, созданные в экономике (то есть, все, что превышает необходимый для физического выживания населения минимум), контролируются крестьянами, поскольку экономика была, по большому счету, аграрной. Следовательно, делал он вывод, частная собственность и рынок в деревне должны быть запрещены, с тем чтобы государство, сдерживая цены на сельскохозяйственную продукцию, могло выжать из деревни весь имеющийся для инвестирования излишек. Далее этот излишек предлагалось передать на нужды промышленного сектора и полностью направить на инвестиции, за чем обязаны будут проследить плановые органы. На первое время эти меры снизили бы уровень жизни, особенно для крестьянства, но впоследствии все стали бы жить лучше, поскольку инвестиции достигли бы максимума, а следовательно, максимально возрос бы и экономический потенциал.
Те, кто находился на правом фланге партии, такие как Иосиф Сталин и Николай Бухарин, давний друг и интеллектуальный соперник Преображенского, призывали быть реалистами. Они утверждали, что пусть это и не вполне «по-коммунистически» — разрешить в деревне частную собственность на землю и домашний скот, но нельзя отталкивать от себя крестьянство, учитывая его преобладание в стране. По Бухарину, не было иного выбора, кроме как «въехать в социализм на крестьянской лошадке». На протяжении большей части 1920-х годов перевес имели правые. Преображенского постепенно вытеснили на обочину политики, а в 1927 году он был отправлен в ссылку.
Но в 1928 году все переменилось. Став единоличным диктатором, Сталин украл идеи своих соперников и воплотил в жизнь стратегию, которую выдвинул Преображенский. Он конфисковал землю у кулаков — богатых крестьян-фермеров — и поставил всю деревню под государственный контроль путем коллективизации сельского хозяйства. Земли, конфискованные у кулаков, были превращены в государственные фермы (совхозы), а мелких землевладельцев вынуждали вступать в кооперативы или коллективные фермы (колхозы), оставляя за ними лишь номинальное право долевой собственности.
В точности рекомендациям Преображенского Сталин не следовал. В сущности, он довольно мягко обошелся с деревней и не выжал крестьян до максимума. Вместо этого он установил рабочим в промышленности зарплаты ниже прожиточного минимума, что, в свою очередь, вынудило городских женщин влиться в ряды рабочего класса, чтобы их семьи имели возможность выжить.
Стратегия Сталина обошлась дорого. Миллионы людей, сопротивлявшихся коллективизации сельского хозяйства — или обвиненных в оказании сопротивления, — оказались в трудовых лагерях. Произошел спад производства сельскохозяйственной продукции, последовавший вслед за резким падением поголовья рабочего скота, частично забитого владельцами из-за грозящей конфискации, частично из-за недостатка зерна для прокорма, что было вызвано принудительными поставками зерна в города. Крах сельского хозяйства обернулся жестоким голодом 1932–1933 годов, из-за которого погибли миллионы людей.
Парадокс же в том, что не прибегни Сталин к стратегии Преображенского, Советский Союз оказался бы не в состоянии построить промышленную базу такими темпами, что сумел во Вторую мировую войну отразить вторжение нацистов на Восточном фронте. А без поражения нацистов на востоке Западная Европа не смогла бы одержать победу над нацизмом. Так, по иронии судьбы, западноевропейцы обязаны своей сегодняшней свободой ультралевому советскому экономисту по фамилии Преображенский.
Почему я так долго разглагольствую о каком-то забытом русском экономисте-марксисте, жившем сто лет назад? Потому, что между стратегией Сталина (или, вернее, Преображенского) и сегодняшней политикой в поддержку богачей, которую защищают экономисты-рыночники, прослеживается удивительная параллель.
КАПИТАЛИСТЫ И РАБОЧИЕ
Начиная с XVIII века, феодальный порядок, при котором люди рождались в определенном «сословии» и оставались в нем до конца жизни, подвергался жестокой критике со стороны либералов всей Европы. Либералы заявляли, что люди должны вознаграждаться по заслугам, а не по рождению (см. Тайну 20). Конечно, это были либералы образца XIX века, поэтому их взгляды либералы сегодняшние (меньше всех американские, которых в Европе назвали бы не либералами, а скорее, «левыми центристами») сочли бы неприемлемыми. Прежде всего, они выступали против демократии. Они считали, что дать право голоса беднякам (о женщинах и речи не было, поскольку им было отказано в полноценных мыслительных способностях) — это уничтожить капитализм. Откуда же такая точка зрения?
Либералы XIX века полагали, что «воздержание» — ключ к накоплению богатства и, тем самым, к экономическому развитию. Если люди хотят накопить богатство, то, пожав плоды своего труда, они должны воздерживаться от немедленного наслаждения ими, вместо этого вкладывая полученное в капитал. Согласно этому мировоззрению, бедные бедны потому, что им недостает силы воли для подобного воздержания. Следовательно, если дать бедным право голоса, они захотят максимально увеличить свое текущее потребление, а не инвестиции, обложив налогами богатых и растрачивая полученные средства. На время это может сделать бедных состоятельнее, но в будущем они станут беднее, поскольку будут сокращены инвестиции, а значит, снизится и экономический рост.
В своей политике, направленной против поддержки бедных, либералы идейно опирались на труды классических экономистов, самым талантливым среди которых был английский экономист XIX века Давид Рикардо. В отличие от сегодняшних либеральных экономистов, классические экономисты не рассматривали капиталистическую экономику как состоящую из индивидуумов. Они считали, что люди принадлежат к различным классам: капиталисты, рабочие и землевладельцы, и ведут себя по-разному, в зависимости от классовой принадлежности. Наиболее важным межклассовым различием в поведении считалось то, что капиталисты инвестируют все (практически) свои доходы, тогда как остальные классы — класс рабочих и класс землевладельцев — свои доходы потребляют. В отношении класса землевладельцев мнения разделились. Некоторые, как Рикардо, считали его потребительским классом, который мешает накоплению капитала, а другие, такие как Томас Мальтус, утверждали, что его потребление помогает классу капиталистов тем, что порождает дополнительный спрос на производимую им продукцию. Но в отношении рабочих царило согласие. Рабочие тратят все свои доходы, так что если они станут получать более высокую долю национального дохода, то инвестиции, а значит, и экономический рост, сократятся.
В этом пункте взгляды ревностных экономистов-рыночников, таких как Рикардо, смыкались со взглядами ультралевых коммунистов, подобных Преображенскому. Несмотря на очевидные внешние различия, и тот, и другой считали: чтобы в будущем привести к максимальному экономическому росту, тот излишек, который возможно направить в инвестиции, должен быть сконцентрирован в руках инвестора; причем для первого этим инвестором был класс капиталистов, а для второго — планирующий орган. В конечном счете, это и имеют в виду люди, когда говорят, что «сперва надо создать богатство, и только потом его можно перераспределять».
ПОЛИТИКА В ИНТЕРЕСАХ БОГАТЫХ. ПАДЕНИЕ И ВЗЛЕТ
Между концом XIX и началом XX веков оправдались худшие страхи либералов, и большинство стран Европы и так называемые «отростки Запада» (США, Канада, Австралия и Новая Зеландия) предоставили право голоса беднякам (естественно, только мужского пола). Однако столь пугавшего их чрезмерно высокого налогообложения богатых и последующего разрушения капитализма не случилось. В течение нескольких десятилетий, которые последовали за введением права голоса для всего мужского населения, налогообложение богатых и расходы на социальные нужды увеличились ненамного. Так что бедняки, как оказалось, вовсе не настолько нетерпеливы.
Более того, когда всерьез начали вводить страшившие всех высокие налоги на богатых, капитализм это не уничтожило. Он даже укрепился. По окончании Второй мировой войны в большинстве богатых капиталистических стран наблюдался стремительный рост прогрессивного налогообложения и расходов на социальное обеспечение. Несмотря на это обстоятельство (или даже отчасти по этой причине — см. Тайну 21), между 1950 и 1973 годами были достигнуты самые высокие за всю историю этих стран темпы роста — а сам этот период стал известен как «золотой век капитализма». До этого времени доход на душу населения в богатых капиталистических странах вырастал на 1–1,5% в год. В период же «золотого века» он вырос до 2–3% в США и Великобритании, 4–5% — в Западной Европе и 8% — в Японии. С тех пор этим странам так и не удалось развиваться быстрее.
Когда с середины 1970-х годов рост в экономике богатых капиталистических стран замедлился, экономисты-рыночники стряхнули пыль с риторики XIX века и сумели убедить всех остальных, что причиной спада стало сокращение той доли дохода, что шла инвестирующему классу.
С 1980-х годов почти все это время во главе многих, хотя и не всех из этих стран стояли правительства, поддерживающие вертикальное перераспределение доходов снизу вверх. Даже некоторые так называемые «партии левого крыла», такие как лейбористская в Великобритании при Тони Блэре и демократическая в США при Билле Клинтоне, в открытую пропагандировали эту стратегию — кульминация пришлась на 1996 год, когда Билл Клинтон представил свою реформу системы социального обеспечения, объявив, что желает «положить конец социальному обеспечению в том виде, каким мы его знаем».
На деле урезание «государства всеобщего благосостояния» оказалось делом потруднее, чем изначально предполагалось (см. Тайну 21). Тем не менее, повышение расходов на социальные пособия и выплаты сдерживалось, несмотря на то, что структурные изменения, связанные со старением населения, вызвали рост потребности в пенсиях, в пособиях по инвалидности, в дополнительном финансировании услуг здравоохранения и других статей расходов для престарелых граждан.
Немаловажно, что в большинстве стран также было предпринято немало шагов, которые в итоге свелись к перераспределению национального дохода от бедных к богатым. Произошло сокращение налогов для богатых — были снижены верхние значения ставки подоходного налога. Финансовая дерегуляция открыла огромные возможности для спекулятивных доходов, а также для астрономических выплат топ-менеджерам и финансистам (см. Тайны 14 и 22). Дерегуляция в других сферах экономики также позволила компаниям получать большие прибыли, не в последнюю очередь благодаря расширению возможностей для использования своего монопольного положения, для загрязнения окружающей среды и упрощения увольнения сотрудников. Еще большая либерализация торговли и возросший объем иностранных инвестиций — или по крайней мере, угроза их роста — также стали оказывать давление на зарплаты в сторону их снижения.
В результате в самых богатых странах возросло неравенство доходов. Например, согласно докладу МОТ (Международной организации труда) «Рынок труда — 2008», из двадцати стран с развитой экономикой, для которых имелись данные, неравномерность распределения доходов в 1990–2000 годах выросла в 16 странах, а среди оставшихся четырех только в Швейцарии наблюдалось существенное снижение этого показателя[7]. За указанный период неравенство доходов в США, и без того намного более высокое, чем во всех остальных богатых странах мира, достигло уровня, сравнимого с показателем ряда латиноамериканских стран, таких как Уругвай и Венесуэла. Относительный рост неравенства доходов также был высок в Финляндии, Швеции и Бельгии, но это страны, где ранее степень неравенства была очень невелика — в случае Финляндии, пожалуй, даже слишком низка: распределение доходов там было еще более равномерным, чем во многих бывших социалистических странах.
По мнению Института экономической политики (НЭП), левоцентристского аналитического центра в Вашингтоне, с 1979 по 2006 годы (последний год, по которому имеются данные), из тех, кто получает в США зарплату, верхний 1% более чем вдвое увеличил свою долю в национальном доходе — с 10% до 22,9%. Верхняя 0,1% показала еще лучший результат, увеличив свою долю более чем в три раза, с 3,5% в 1979 году до 11,6% в 2006-м{31}. Произошедшее объясняется, главным образом, астрономическим повышением по всей стране зарплат управленцев, неоправданность которого становится все более очевидной после финансового кризиса 2008 года (см. Тайну 14).
За тот же период из 65 развивающихся и бывших социалистических стран, рассмотренных в упомянутом докладе МОТ, неравенство распределения доходов возросло в 41 стране. Хотя количественное соотношение стран, где отмечалось увеличение неравенства в доходах, по сравнению с богатыми странами среди них было ниже, во многих из них уже существовало очень высокое неравенство доходов, поэтому его увеличение сказалось на них еще тяжелее, чем в богатых странах.
ВОДА НЕ ПРОСАЧИВАЕТСЯ ВНИЗ
Перераспределение доходов снизу вверх было бы оправдано, если бы привело к ускорению экономического роста. Но суть в том, что на самом деле с началом в 1980-х годах неолиберальной реформы, ориентированной на поддержку богатых, экономический рост замедлился. По данным Всемирного банка, в 1960–1970-х годах мировая экономика в расчете на душу населения развивалась с темпами свыше 3%, а с 1980-х годов ее рост составлял 1,4% в год (1980–2009).
Словом, начиная с 1980-х годов, мы отдавали богатым больший кусок нашего пирога, в надежде, что они создадут больше богатства и в дальнейшем сделают пирог больше, чем тот мог бы стать при иных обстоятельствах. Богатые благополучно получали свой кусок побольше, но в действительности даже сократили скорость, с которой растет пирог.
Проблема в том, что концентрация доходов в руках инвестора, будь то класс капиталистов или сталинский плановый орган, не приводит к увеличению темпов роста, если инвестор не увеличивает инвестиции. Когда Сталин передал все доходы в распоряжение управления по планированию под названием Госплан, по крайней мере была гарантия, что сосредоточенный доход будет обращен в инвестиции (пусть даже на продуктивность капиталовложений неблагоприятно влияют такие факторы, как трудность планирования и проблема стимулирования труда — см. Тайну 19). Капиталистическая экономика такого механизма не имеет. Убедитесь сами: несмотря на увеличивающееся с 1980-х годов неравенство, инвестиции как доля совокупного продукта упали в экономике всех стран «большой семерки» (США, Японии, Германии, Великобритании, Италии, Франции и Канады) и в большинстве развивающихся стран.
Даже когда распределение дохода снизу вверх создает большее богатство, чем возможно было бы достичь иначе (чего, повторяю, не происходило), нет никакой гарантии, что бедняки смогут воспользоваться этими дополнительными доходами. Повышение благосостояния на вершине пирамиды могло бы рано или поздно «просочиться вниз» и принести пользу бедным, но с уверенностью утверждать это нельзя.
Спору нет, «просачивание» — неглупая идея. У нас нет возможности оценивать влияние перераспределения доходов лишь по его сиюминутному эффекту, каким бы положительным или отрицательным он ни выглядел. Когда у богатых больше денежных средств, они могут направить их на увеличение инвестиций и повысить экономический рост, и в этом случае долгосрочным результатом перераспределения доходов снизу вверх может оказаться рост в абсолютных показателях (хотя и не обязательно в относительной доле) дохода, получаемого каждым.
Проблема, однако, в том, что если процесс предоставить рынку, большого просачивания, как правило, не происходит. Например, если снова обратиться к данным ИЭП, верхние 10% населения США с 1989 по 2006 годы распоряжались 91% прироста дохода, а верхний 1% забирал 59%. Напротив, в странах, где развиты структуры «государства всеобщего благосостояния» через налоги и отчисления распределять блага экономического прироста, который приходит (если приходит) вслед за перераспределением дохода снизу вверх, намного легче. И действительно, до вычета налогов и отчислений распределение доходов в Бельгии и Германии более неравное, чем в Соединенных Штатах, тогда как в Швеции и Нидерландах — примерно такое же, как в США[8]. Иными словами, чтобы вода с вершины начала просачиваться вниз в заметных объемах, требуется электронасос в виде «государства всеобщего благосостояния».
И наконец, что не менее важно: существует множество причин полагать, что перераспределение доходов сверху вниз может способствовать росту, если осуществлять его правильным образом и в правильное время. Например, при таком экономическом спаде, как сегодняшний, лучший способ поднять экономику — это перераспределить богатство сверху вниз, так как бедные обычно тратят большую часть своих доходов. Благотворный для экономики эффект лишнего миллиарда долларов, выданного семьям с низким доходом через увеличение социальных выплат, будет выше, чем от той же суммы, выданной богатым посредством сокращения налогов. Более того, если зарплаты не заморожены на уровне или ниже прожиточного минимума, дополнительные доходы могут стимулировать вложения работников в свое образование и здоровье, что увеличит их производительность труда и тем самым экономический рост. Кроме того, большее равенство доходов будет способствовать социальному миру, снижая число забастовок и правонарушений, что, в свою очередь, может стимулировать инвестирование, поскольку уменьшает опасность сбоев производственного процесса, а значит, и процесса создания богатства. Многие исследователи полагают, что подобный механизм работал в «золотой век капитализма», когда низкое неравенство доходов соседствовало с быстрым экономическим ростом.
При таком подходе нет причин предполагать, что перераспределение доходов снизу вверх ускорит инвестирование и экономический рост. В общем, такого еще и не бывало. Даже когда наблюдается рост, «просачивание» через рыночный механизм крайне ограничено, как можно убедиться в вышеприведенном сравнении США с другими богатыми странами, имеющими развитую систему социального обеспечения.
Если мы просто сделаем богатых еще богаче, остальных, то есть нас, это не сделает богаче. Если мы хотим, чтобы перераспределение более высоких доходов в пользу богатых приносило пользу остальной части общества, необходимо при помощи мер государственной политики (например, сокращая налоги для состоятельных людей и богатых корпораций в зависимости от объема их инвестиций) вынуждать богатых осуществлять более крупные инвестиции ради увеличения экономического роста — с тем чтобы впоследствии и богатые, наравне со всеми остальными, пользовались плодами этого роста через социальные механизмы «государства всеобщего благоденствия».
ТАЙНА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. АМЕРИКАНСКИЕ МЕНЕДЖЕРЫ СИЛЬНО ПЕРЕОЦЕНЕНЫ
ЧТО ВАМ РАССКАЗЫВАЮТ
Некоторым людям платят намного больше, чем другим. Особенно в США, где компании выплачивают своим топ-менеджерам суммы, которые некоторые считают непристойными. Но таково веление рыночных законов. Поскольку число талантов в мире ограничено, то если вы хотите привлечь лучшие таланты, приходится платить большие деньги. С точки зрения гигантской корпорации с миллиардными оборотами, безусловно стоит заплатить дополнительно несколько миллионов, даже десятков миллионов долларов, чтобы заполучить к себе лучший талант, поскольку его способности принимать более удачные решения, чем у его коллег в конкурирующих компаниях, могут принести дополнительно сотни миллионов долларов прибыли. Каким бы несправедливым ни казался этот уровень зарплаты, мы не должны завидовать или питать ненависть и пытаться искусственно его занизить. Подобные попытки окажутся контрпродуктивными.
ЧТО ОТ ВАС СКРЫВАЮТ
Американские менеджеры сильно переоценены во многих отношениях. Во-первых, они переоценены по сравнению с их предшественниками. Относительно средней заработной платы работника американский директор сегодня получает примерно в десять раз больше, чем его предшественники в 1960-х годах, хотя последние управляли компаниям, которые были сравнительно намного успешнее, чем американские компании в настоящее время. Американские менеджеры также слишком переоценены по сравнению со своими коллегами из других богатых стран. В абсолютном выражении им платят, в зависимости от взятой в рассмотрение страны и от используемого нами инструмента измерения, до двадцати раз больше, чем их конкурентам, руководящим аналогичными по размерам и успешности компаниями. Американские управленцы не только переоценены, но и слишком сильно защищены — в том смысле, что не получают наказания за плохую работу. И вопреки многим утверждениям, все это продиктовано не одними лишь силами рынка. Класс профессиональных управленцев в США захватил такую экономическую, политическую и идеологическую власть, что оказался в состоянии манипулировать силами, определяющими их заработную плату.
ЗАРПЛАТА РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И ПОЛИТИКА КЛАССОВОЙ ЗАВИСТИ
Компенсационный пакет среднего генерального директора (оклады, бонусы и фондовые опционы) в США в 300–400 раз выше, чем компенсационные выплаты обычному работнику (зарплаты и пособия). кое-кого это обстоятельство страшно расстраивает. Например, часто цитируют высказывания американского президента Барака Обамы, который критикует чрезмерно высокую, как ему кажется, заработную плату руководителей высшего звена.
Экономисты-рыночники в этой разнице зарплат не видят никакой трагедии. Если директорам и президентам фирм платят в 300 раз больше, чем среднему работнику, утверждают они, то, вероятно, потому, что руководство компании повышает ее эффективность в 300 раз. Если кто-то не демонстрирует соответствующую производительность труда, чтобы оправдать свою высокую зарплату, то силы рынка очень быстро приведут к тому, что он будет уволен. Те, кто, подобно Бараку Обаме, поднимает вопрос об оплате руководителей, — популисты, взывающие к классовой зависти. Капитализм не сможет функционировать должным образом, утверждают они, если менее продуктивные работники не будут согласны с тем, что людям необходимо платить в зависимости от их производительности.
Можно поверить всем этим аргументам, но для этого необходимо пойти на одно маленькое допущение: проигнорировать факты.
Не спорю, одни люди работают лучше других и им надо платить больше — порой намного больше (хотя слишком задаваться им не стоит — см. Тайну 3). На самом же деле вопрос заключается в том, оправдана ли ныне существующая разница в оплате.
Точно подсчитать зарплату руководителя очень трудно. Начать с того, что во многих странах не слишком охотно раскрывают размер окладов высших должностных лиц компаний. Если взглянуть на их заработки в целом, а не только на оклады, то в них необходимо включить фондовые опционы. Опционы дают получателю право купить в будущем некоторое количество акций компании, на данный момент не имеющие еще точной цены, которая будет установлена впоследствии. В зависимости от метода, используемого для оценки, оценка может варьироваться довольно существенно.
Как уже было сказано, со всеми этими оговорками соотношение компенсационного пакета генерального директора (оклад, бонусы и фондовые опционы) к компенсационным выплатам среднего работника (зарплата и пособия) в США в 1960–1970-х годах составляло примерно 30–40 к 1. Это соотношение начало стремительно расти с начала 1980-х годов, достигнув к началу 1990-х показателя примерно 100 к 1 и поднявшись к 2000-м годам до 300–400 к 1.
Сопоставьте эти цифры с изменениями зарплат, которые получают в Америке. Согласно Институту экономической политики (ИЭП), базирующейся в Вашингтоне левоцентристской «фабрике мыслей», средняя почасовая оплата американских рабочих в долларах 2007 года (то есть с поправкой на инфляцию) поднялась с 18,9 долларов в 1973 году до 21,34 доллара в 2006. Это — увеличение на 13% за 33 года, что составляет примерно 0,4% роста в год{32}. Картина становится еще более унылой, если мы посмотрим на все выплаты (зарплаты плюс пособия), а не только на одну заработную плату. Если взять только периоды подъема экономики (поскольку во время спадов выплаты работникам падают), то за 1983–1989 гг. медианные значения заработной платы рабочим росли со скоростью 0,2% в год, с 1992 по 2000 гг. — со скоростью 0,1% в год, а за 2002–2007 гг. не росли вообще{33}.
Иначе говоря, с середины 1970-х годов зарплата рабочего в США практически стояла на месте. Конечно, нельзя говорить, что с 1970-х годов у американцев не росло материальное благосостояние. Семейный доход, в отличие от оплаты труда отдельного рабочего, увеличился, но лишь потому, что в большем и большем количестве семей работают оба супруга.
Итак, если верить логике свободного рынка, гласящей, что людям платят в соответствии с их трудовым вкладом, то увеличение относительных выплат директорам с 30–40 средних зарплат рабочего (которые не слишком изменились) до 300–400 должно означать, что американские директора стали работать в 10 раз лучше (в относительном выражении), чем в 1960-х и в 1970-х годах. Так ли это?
Средний качественный уровень американских управленцев, вероятно, и вырос благодаря более качественному образованию и профессиональной подготовке, но возможно ли, чтобы они стали в десять раз лучше своих коллег одно поколение тому назад? Если оглянуться лишь на последние 20 лет — на те годы, когда я преподавал в Кембридже, — то я искренне сомневаюсь, что американские студенты, которых мы сегодня получаем (потенциальный материал для будущих директоров), в 3–4 раза лучше, чем в начале 1990-х, когда я только начинал преподавать. А так должно было бы быть, если бы зарплата американских директоров поднималась в относительном выражении исключительно из-за возросших профессиональных и деловых качеств руководящих кадров компаний — за этот период в США средний компенсационный пакет директора увеличился со 100 до 300–400 средних зарплат рабочего.
Общепринятое объяснение этого недавнего резкого роста относительной оплаты состоит в том, что компании стали больше, и следовательно, роль директора возросла. Согласно популярному примеру, приведенному профессором Корнеллского университета Робертом Франком в своей часто цитируемой колонке в «Нью-Йорк тайме», если доход компании составляет 10 миллиардов долларов, несколько более удачных решений, принятых более компетентным директором, могут запросто увеличить доход компании на 30 миллионов долларов{34}. То есть, подразумевается в примере, что значат выплаченные директору 5 миллионов долларов, когда он принес своей компании лишние 30 миллионов?
В этих доводах есть своя логика, но если главное объяснение раздувания зарплаты директора — рост компании, почему внезапный взлет зарплат пришелся на 1980-х годы, тогда как компании в США растут и укрупняются постоянно?
Вообще-то, тот же аргумент должен относиться и к простым работникам, по крайней мере, до некоторой степени. Современные корпорации работают на основе сложного разделения труда и сотрудничества различных подразделений, поэтому точка зрения, что на результат работы компании влияют только действия и решения ее руководства, в корне неверна (см. Тайну 3 и 15). По мере роста компании возрастают и возможности работников принести компании пользу или вред, и следовательно, все более и более важным становится наем хороших работников. Если это не так, то почему тогда компании создают у себя отделы «человеческих ресурсов»?
Кроме того, если возросшая важность управленческих решений на верхних уровнях компании — главная причина резкого увеличения вознаграждения директоров, тогда почему директора в Японии и в Европе, управляя не меньшими по размеру компаниями, довольствуются лишь частью от той оплаты, которую получают директора американские? Согласно ИЭП, в 2005 году главам швейцарских и германских компаний выплачивали, соответственно, 64% и 55% от вознаграждения их американских коллег. Шведы и голландцы получали всего лишь около 44% и 40% по сравнению с американскими директорами. Руководителям японских корпораций выплачивали ничтожные 25% от американских вознаграждений. Средняя зарплата директора в 13 других богатых странах составляла всего 44% от американского уровня{35}.[9]
Вышеприведенные цифры существенно скрадывают различия в вознаграждении труда директоров в разных странах, поскольку в них не включены фондовые опционы, которые в США, как правило, намного выше. Другие данные ИЭП позволяют сделать вывод, что в США вознаграждение директоров, включающее опционы, с легкостью может в 3–5, а то и в 5–6 раз превышать оплату их труда без учета опционов, хотя весьма затруднительно указать точные значения. Таким образом, если включить в расчет опционы, то выплаты японскому директору (с очень небольшой составляющей в виде опционов, а то и вообще без оной) могут оказаться не 25%, а всего лишь 5% от вознаграждения американского президента аналогичной компании.
Если американские управленцы лучше своих зарубежных коллег от двух (по сравнению со швейцарскими директорами, если исключить из их вознаграждения опционы) до двадцати раз (по сравнению с японскими директорами, если включить в их вознаграждение опционы), то как получается, что компании, во главе которых они стоят, во многих отраслях промышленности проигрывают японским и европейским конкурентам?
Можно предположить, что японские и европейские директора трудятся за существенно более низкую зарплату, чем американские, потому, что у них в странах уровень заработной платы ниже в целом. Но зарплаты в Японии и в европейских странах, по большому счету, находятся на том же уровне, что и американские. Средняя зарплата на 2005 год в 13 странах, которые были предметом исследования ИЭП, составляла 85% от зарплаты американского работника. Японцы получают 91% от американских зарплат, но японские директора имеют лишь 25% от того, что выплачивают американским (исключая опционы): Швейцарцы и немцы получают зарплаты даже более высокие, чем американцы (130% и 106% от американских зарплат соответственно), в то время как швейцарские и немецкие директора получают всего 55 и 64% от американских зарплат (опять-таки, исключая опционы, которые в США намного выше){36}.
Выходит, что стоимость американских директоров сильно завышена. Американские работники получают примерно всего на 15% больше, чем их коллеги в странах-конкурентах, тогда как американским директорам платят, как минимум, вдвое больше (по сравнению со швейцарскими, за вычетом опционов), а иногда и до двадцати раз больше (по сравнению с японскими, с учетом опционов), чем платят их коллегам в других странах. Несмотря на это, компании, которыми управляют американские директора, работают не лучше, а зачастую и хуже, чем их японские или европейские конкуренты.
ОРЕЛ — Я ВЫИГРЫВАЮ, РЕШКА — ТЫ ПРОИГРЫВАЕШЬ
В США (и Великобритании, занимающей второе, после США, место по соотношению оплаты директоров и обычных работников) компенсационный пакет для топ-менеджеров формируется с явным перекосом. Не говоря уже о том, что платят этим менеджерам непомерно много, за плохое руководство им не грозит никакое наказание. Худшее, что с ними случится, — их выгонят с нынешней работы, но почти всегда увольнение сопровождается солидным выходным пособием. Иногда выгнанный директор получает даже больше, чем обусловлено контрактом. По словам двух экономистов, Бебчака и Фрида, «когда под огнем критики [в 2000 году] увольнялась генеральный директор “Маттель” Джил Барад, совет директоров простил ей заем в 4,2 миллиона долларов, выдал сверх того еще 3,3 миллиона долларов наличными для уплаты налогов за невостребование другого займа и постановил автоматически исполнить имеющиеся еще у нее опционы. Эти неуместные премии были дополнением к существенным выплатам, которые она получала по контракту и которые включали в себя выходное пособие в размере 26,4 миллиона долларов и выплату постоянного пенсионного пособия, превышавшего 700 000 долларов в год»{37}.
Должно ли нас это волновать? Не особо, ответили бы экономисты-рыночники. Если какие-то компании настолько неразумны, что выплачивают непонятно почему пособия и пенсии несправившимся с работой директорам, сказали бы они, то и ладно. Такие компании будут оттеснены более практичными конкурентами, которые не позволяют себе подобных глупостей. Так что, сколько бы ни существовало плохо продуманных схем вознаграждения, все они рано или поздно будут уничтожены конкурентным давлением рынка.
Звучит вполне убедительно. Конкуренция призвана уничтожить неэффективные модели, будь то технологии производства текстиля или произвольные схемы оплаты труда руководителей высшего звена. И то, что американские и британские компании проигрывают иностранным компаниям, которые в целом используют более продуманные административные стимулы, является тому подтверждением.
Но пока давление конкуренции вытеснит порочную практику оплаты труда руководящих кадров, пройдет немало времени (как-никак, подобная практика продолжается несколько десятилетий). До произошедшего недавно банкротства «Дженерал моторс» люди лет тридцать знали, что компания находится на спаде, но никто ничего не предпринял для того, чтобы лишить топ-менеджеров компенсационных пакетов, больше приличествовавших их предшественникам в середине XX века, когда компания сохраняла абсолютное лидерство в мире (см. Тайну 18).
Несмотря на это, почти не предпринимаются шаги для того, чтобы отказаться от практики выплачивать тем, кто занимает в компаниях руководящие посты, излишне завышенные и никак не связанные с результатами работы (в том смысле, что провалы практически не наказываются) оклады и премии. Класс управленцев в этих странах приобрел слишком большое влияние, не в последнюю очередь из-за огромных зарплат, к которым они привыкли за последние несколько десятилетий. Профессиональные менеджеры захватили власть в залах заседаний советов директоров, сочетая диктаторские методы и ловкое использование в личных интересах информации, которую они передают независимым директорам, и в результате редко какой совет директоров задается вопросами о размерах и структуре выплат менеджменту, которые устанавливает генеральный директор. Эти вопросы почти не возникают и у акционеров, которых радуют постоянно растущие выплаты дивидендов (см. Тайну 2). Демонстрируя свою экономическую силу, класс администраторов приобрел огромное влияние в политической сфере, в том числе и в считающихся левоцентристскими британской лейбористской партии и американской демократической партии. Для США вообще характерно, что многие главы частных предприятий рано или поздно начинают руководить правительственными департаментами. А главное, что свое экономическое и политическое влияние они используют для распространения идеологии свободного рынка, которая гласит: все, что существует, имеет место быть потому, что наиболее эффективно.
Мощь этого класса управленцев наиболее ярко была продемонстрирована после финансового кризиса 2008 года. Когда осенью 2008 года американское и британское правительства вливали астрономические суммы из денег налогоплательщиков в проблемные финансовые организации, почти никто из руководителей, ответственных за катастрофические результаты в этих компаниях, так и не был наказан. Да, небольшое число генеральных директоров потеряло работу, но никому из тех, кто сохранил свои посты, зарплаты существенно не урезали, а попытки конгресса США ограничить денежные вознаграждения руководителям компаний, получающих деньги налогоплательщиков, встретили колоссальное — и действенное — сопротивление. Британское правительство отказалось что-либо предпринимать, когда дискредитированному бывшему главе Королевского банка Шотландии сэру Фреду Гудвину выплатили около 15–20 миллионов фунтов пенсии (соответствующих примерно 700 000 фунтов ежегодного дохода). Правда, мощная кампания в СМИ, развернутая против него, впоследствии вынудила сэра Фреда вернуть 4 миллиона фунтов. То, что британские и американские налогоплательщики, ставшие акционерами спасенных своими правительствами финансовых организаций, не могут даже наказать своих теперешних наемных работников за плохую работу и заставить их перейти на более эффективные схемы оплаты труда, показывает масштабы власти, которой в настоящее время пользуется в этих странах класс управленцев.
Рынок избавляется от неэффективных процессов, но только в том случае, когда никто не обладает достаточной властью, чтобы им манипулировать. Пусть даже практике выплат неоправданных компенсационных пакетов руководителям высшего звена, в конце концов, будет все-таки положен конец, но пока она продолжается, она непомерно дорого обходится остальной части экономики. Рабочим приходится терпеть постоянные урезания зарплат, ухудшение условий трудовых соглашений, сокращение штатов и разукрупнения, чтобы руководство могло получать прибыль, достаточную для выплат акционерам, дабы последние не возмущались высокими зарплатами руководящей верхушке компаний (подробнее об этом см. в Тайне 2). Когда руководство максимально увеличивает дивиденды, чтобы акционеры не поднимали шума, инвестиции сводятся к минимуму, ослабляя производственную мощь компании в будущем. В сочетании с завышенными выплатами менеджменту такая практика ставит американские и британские компании в невыгодное положение в международной конкурентной борьбе, выливающееся в потерю сотрудниками этих компаний рабочих мест. Наконец, когда проблемы становятся масштабными, как это произошло во время финансового кризиса 2008 года, налогоплательщики вынуждены оказывать финансовую помощь обанкротившимся компаниям, тогда как руководители, которые привели компанию к банкротству, уходят практически безнаказанными.
Когда класс управленцев в США и, в меньшей степени, в Великобритании, обладает такой экономической, политической и идеологической властью, что способен управлять рынком и перекладывать негативные последствия своих действий на других, заблуждением будет считать, что заработная плата руководителей высшего звена — тот параметр, оптимальную величину и структуру которого будет определять и должен определять рынок.
ТАЙНА ПЯТНАДЦАТАЯ. В БЕДНЫХ СТРАНАХ ЛЮДИ БОЛЕЕ ПРЕДПРИИМЧИВЫ ЧЕМ В БОГАТЫХ СТРАНАХ
ЧТО ВАМ РАССКАЗЫВАЮТ
Предприимчивость лежит в основе активной экономической деятельности. Если не будет предпринимателей, ищущих новые возможности зарабатывать деньги, создавая новые продукты и удовлетворяя неудовлетворенный спрос, экономика не сможет развиваться. Одна из причин низкой экономической активности в ряде стран, от Франции до многочисленных государств развивающегося мира, — недостаточная предприимчивость. Если в бедных странах все те люди, которые попусту слоняются без дела, не поменяют свое отношение к жизни и не начтут активно искать возможностей для получения прибыли, их страны развиваться так и не будут.
ЧТО ОТ ВАС СКРЫВАЮТ
Людям, живущим в бедных странах, приходится быть предприимчивыми просто ради выживания. На каждого бездельника в развивающейся стране приходится два-три ребенка-чистильщика обуви и четыре-пять уличных торговцев. Бедные страны делает бедными не отсутствие предпринимательской энергии на личном уровне, но отсутствие эффективных технологий и развитых социальных организаций, особенно современных компаний. Все более и более явные проблемы с микрокредитованием — очень небольшими ссудами, которые выдаются малоимущим в развивающихся странах с целью помочь им открыть собственный бизнес, — отчетливо указывают на ограниченность индивидуального предпринимательства. В прошлом веке, более чем когда-либо, предпринимательство превратилось в коллективный вид деятельности, так что слабость коллективной организации стала еще большим препятствием экономического развития, чем недостаток предпринимательского духа у отдельных людей.
ПРОБЛЕМА С ФРАНЦУЗАМИ…
Рассказывают, что Джордж Буш-младший, бывший президент США, жаловался, что проблема с французами в том, что у них в языке нет слова для обозначения предпринимательства. Возможно, французский у мистера Буша не на высоте, но в его заявлении выражен довольно широко распространенный англо-американский стереотип относительно Франции как страны нединамичной и оглядывающейся на прошлое, страны, где полным-полно ленивых работников, фермеров, которые сжигают овец, протестуя против низких британских цен, напыщенных интеллектуалов левого толка, повсюду сующих свой нос бюрократов, а также гордых собой официантов.
Истинно ли представление Буша о Франции или ложно (подробнее об этом — позже и в Тайне 10), однако стоящий за этим утверждением подход разделяют многие: если хотите иметь успешную экономику, нужны предприимчивые люди. Поэтому они и нищету развивающихся стран тоже приписывают недостатку предприимчивости. Посмотрите на всех этих людей, что рассиживают за одиннадцатой за день чашкой мятного чая, говорят наблюдатели из богатых стран, — чтобы вылезти из нищеты, этим странам непременно нужны энергичные дельцы и разворотливые организаторы.
Однако всякий, кто родился или какое-то время прожил в развивающейся стране, знает, что развивающиеся страны наводнены предприимчивыми людьми. На улицах бедных стран можно встретить мужчин, женщин и детей всех возрастов, продающих все, что только можно придумать, и то, что вам бы никогда не пришло в голову продавать. Во многих бедных странах можно купить место в очереди в визовый отдел американского посольства (которое продадут вам те, кто превратил стояние в очередях в профессиональное занятие), услугу «последить за вашей машиной» (читай, «воздержаться от нанесения ущерба вашей машине») на уличной парковке, право поставить продуктовый ларек на углу (вероятно, оно будет продано вам коррумпированным местным полицейским боссом) или даже участок земли для попрошайничества (продаваемый местными бандитами). Все это — продукты человеческой находчивости и предприимчивости.
В богатых странах, напротив, большинство граждан даже не пытаются становиться предпринимателями. В большинстве своем они работают в компании, где кроме них, бывает, трудится по нескольку десятков тысяч человек, которые выполняют высокоспециализированную и узкопрофессиональную работу. И хотя некоторые мечтают или даже праздно толкуют о том, чтобы открыть собственное дело и «стать самому себе хозяином», мало кто из них реализует это на практике, поскольку предпринимательство — дело трудное и рискованное. В результате большинство людей в богатых странах всю свою трудовую жизнь реализуют не свои собственные предпринимательские замыслы, а чужие.
Вывод же в том, что в развивающихся странах люди намного предприимчивее, чем в развитых странах. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в большинстве развивающихся стран 30–50% не занятых в сельском хозяйстве трудовых ресурсов работают на собственный бизнес (в сельском хозяйстве их доля, как правило, еще выше). В некоторых беднейших странах доля людей, работающих как индивидуальные предприниматели, может оказаться намного выше: 66,9% в Гане, 75,4% в Бангладеш и поразительные 88,7% в Бенине{38}. Для сравнения: в развитых странах работают в собственном бизнесе лишь 12,8% несельскохозяйственных работников. В некоторых странах их доля не достигает даже одного из десяти: 6,7% — в Норвегии, 7,5% — в США и 8,6% — во Франции (выходит, что сетования Буша в отношении французов — классический пример того, как человек не замечает бревна в собственном глазу). Итак, даже без учета фермеров (которые сделали бы эту долю еще выше), вероятность того, что средний житель развивающейся страны окажется предпринимателем, более чем в два раза выше, чем вероятность, что им окажется человек из развитой страны (30% против 12,8%). Если мы сравним Бангладеш и США, то разница окажется в 10 раз (7,5% против 75,4%). И, в предельном случае, вероятность того, что житель Бенина окажется предпринимателем, в целых 13 раз выше, чем та же вероятность для норвежца (88,7% против 6,7%).
И даже тем людям, которые имеют свой бизнес в богатых странах, нет необходимости быть столь же изобретательными, как их коллегам в бедных странах. У предпринимателей в развивающихся странах постоянно происходит что-то непредвиденное. Производственный график ломается из-за отключения электричества. Таможня не пропускает запчасти, необходимые для станка, ремонт которого и так уже откладывался из-за трудностей с получением разрешения на покупку долларов. Сырье доставляется не вовремя, так как сломался — в который раз! — грузовик развозки, угодив в яму на дороге. А местные мелкие чиновники все время толкуют правила по-своему и даже изобретают новые, чтобы выудить из вас взятку. Чтобы справиться со всеми этими препятствиями, необходим проворный ум и умение импровизировать. Если бы среднему американскому бизнесмену пришлось бы руководить маленькой компанией в Мапуту или Пномпене, он бы и недели не протянул, столкнувшись с подобными проблемами.
Перед нами явная загадка. По сравнению с богатыми странами в развивающихся странах гораздо больше людей (в процентном отношении) занято предпринимательской деятельностью. К тому же их предпринимательские умения намного чаще и жестче проверяются жизнью, чем у их коллег в богатых странах. Так почему же тогда эти более предприимчивые страны — беднее?
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ: НА ПЕРЕДНИЙ ПЛАН ВЫХОДИТ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ
Безграничная с виду предпринимательская энергия бедных людей в бедных странах, конечно же, не осталась незамеченной. Все большее влияние начинает приобретать точка зрения, что двигателем развития для бедных стран должен стать так называемый «неформальный сектор», состоящий из малых предприятий, не зарегистрированных официально.
Предприниматели неформального сектора, гласит эта точка зрения, с трудом выживают не потому, что им не хватает понимания происходящего и необходимых навыков, а потому, что им не достать денег для реализации своего понимания. Обычные банки относятся к ним с пристрастием, а местные ростовщики взимают непомерные проценты. Если выдать такому предпринимателю под разумные проценты небольшой кредит (называемый «микрокредитом») на открытие продуктового магазинчика, покупку мобильного телефона для сдачи его напрокат или на покупку куриц, чтобы продавать от них яйца, он сможет вызволить себя из нищеты. Поскольку эти маленькие предприятия составляют основную часть экономики развивающейся страны, их успех будет означать успех общего экономического развития.
Изобретение концепции микрокредитования обычно приписывается Мухаммеду Юнусу, профессору экономики, который был олицетворением сферы микрокредитования, с тех пор как в 1983 году основал у себя на родине, в Бангладеш, уникальный банк «Грамин», хотя аналогичные попытки предпринимались и до него. Несмотря на то, что банк «Грамин» давал ссуды беднякам, особенно женщинам из бедных слоев, которые традиционно считаются клиентами высокого риска, он мог похвастаться очень высоким уровнем возврата (95% и больше), показывая тем самым, что бедные тоже могут быть надежными клиентами. К началу 1990-х годов успех банка «Грамин» и некоторых аналогичных банков в таких странах, как Боливия, был замечен, и идея микрокредита — или, более широко, микрофинансирования, включающего систему сбережений и страхования, а не одно лишь кредитование, — распространилась достаточно быстро.
Рецепт великолепен. Микрокредитование позволяет беднякам выбраться из нищеты собственными усилиями, предоставляя им финансовые средства для реализации собственного предпринимательского потенциала. При этом предприниматели приобретают независимость и самоуважение, поскольку для обеспечения собственного выживания они больше не полагаются на подачки правительства и зарубежных гуманитарных организаций. Малообеспеченным женщинам микрокредит оказывает особенно ценную поддержку, поскольку дает им возможность и получать доход, и, тем самым, улучшать свои рыночные позиции по сравнению с мужчинами. Избавившись от необходимости субсидировать бедных, правительство испытывает меньшее давление на бюджет. Накапливающееся богатство делает богаче всю экономику, а не только предпринимателей неформального сектора. После всего вышесказанного неудивительно, что профессор Юнус убежден: с помощью микрофинансирования мы в состоянии создать «лишенный нищеты мир, в котором единственным местом, где мы сможем увидеть нищету, останется музей».
К середине 2000-х годов популярность микрофинансирования достигла максимума. 2005 год был назван ООН Международным годом микрокредитования. Инициативу поддержали и члены королевских фамилий, такие как королева Иордании Рания, и знаменитости, например, актрисы Натали Портман и Айшвария Рай. Влияние микрофинансирования достигло пика в 2006 году, когда Нобелевская премия мира была присуждена совместно профессору Юнусу и его банку «Грамин».
ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ
К сожалению, шумиха вокруг микрофинансирования — это… не более чем шумиха. Критика в адрес микрофинансирования слышна все чаще, даже от ряда прежних его «проповедников».
Например, давний защитник микрофинансирования Джонатан Мордук в недавней работе, написанной совместно с Дэвидом Рудманом, признается: «Как ни удивительно, прошло уже тридцать лет существования микрофинансирования, но у нас по-прежнему малодостоверной информации, насколько ощутимо оно улучшает жизнь клиентов»{39}. Проблем слишком много, чтобы хотя бы перечислить их здесь — интересующиеся могут обратиться к недавно опубликованной увлекательной книге Милфорда Бэйтмана «Почему не работает микрофинансирование?»{40} Однако я назову проблемы, которые имеют отношение к обсуждаемой нами теме.
Сфера микрофинансирования всегда ставила себе в заслугу, что их операции остаются доходными без государственных субсидий или пожертвований иностранных спонсоров, за исключением, возможно, начального этапа. Некоторые аналитики приводят этот факт как доказательство, что бедняки ничуть не хуже остальных игроков рынка, нужно только дать им шанс. Но, как выяснилось, без субсидий государства или иностранных спонсоров, занимающиеся микрофинансированием организации вынуждены взимать и взимают грабительские проценты. Сообщалось, что банк «Грамин» на первых порах мог устанавливать умеренные проценты лишь благодаря субсидиям, которые он (негласно) получал от бангладешского правительства и спонсоров из-за рубежа. Если организации микрокредитования не получают субсидий, то обычно им приходится устанавливать по выдаваемым кредитам ставку в 40–50%, а в некоторых странах, например, в Мексике, ставки доходят до 80–100%. Когда в конце 1990-х годов банку «Грамин» пришлось отказаться от субсидий, в 2001 году он был вынужден репозиционироваться и начал взимать ставку в 40–50%.
Немногие компании получают достаточную прибыль, чтобы расплатиться по кредитам, если ставки по ним доходят до 100%, поэтому большая часть кредитов, выплаченных организациями микрофинансирования (иногда до 90%), была использована для «сглаживания потребления»: люди брали ссуду, чтобы оплатить свадьбу дочери или возместить временный провал в доходах по причине болезни кормильца. Иными словами, основная масса микрокредитов идет отнюдь не на активизирование предпринимательской деятельности малообеспеченных слоев населения — заявленную цель всего процесса, — но на финансирование потребления.
Еще важнее, что даже та небольшая доля микрокредитов, которые направляются на цели деловой активности, не вытаскивает людей из нищеты. Поначалу это кажется необъяснимым. Малообеспеченные люди, которые берут микрокредиты, понимают, что они делают. В отличие от заемщиков в богатых странах, большинство из них уже занималось тем или иным бизнесом. Их деловая сметка предельно отточена отчаянным стремлением выжить и простым желанием выбиться из нищеты. Им приходится добиваться очень высокой прибыли, потому что надо выплачивать «рыночную» ставку по кредитам. Так где же происходит сбой? Почему все эти люди — высокомотивированные, обладающие нужными навыками и испытывающие сильное давление рынка, — предпринимая огромные усилия по ведению своего бизнеса, получают столь скромные результаты?
Когда микрофинансирующая организация только начинает работать в некоем населенном пункте, то первая волна ее клиентов может увеличить свои доходы — иногда очень существенно. Например, когда в 1997 году банк «Грамин», объединив усилия с норвежской телефонной компанией «Теленор», начал выдавать женщинам микрокредиты на покупку мобильного телефона для последующей сдачи его в аренду односельчанам, эти «телефонные барышни» получили неплохой доход — 750–1200 долларов, в стране, где среднегодовой доход на душу населения составлял около 300 долларов. Но со временем число предпринимателей фирм, финансируемых через микрокредитование, умножилось, и доходы их упали. Возвращаясь к истории с «Грамином» и телефонами, укажем, что к 2005 году появилось уже так много «телефонных барышень», что их доход оценивался всего в 70 долларов в год, а средний по стране доход вырос до 450 долларов. Данная проблема представляет собой ошибочное перенесение свойств частного на целое: из того факта, что некоторые люди могут преуспеть в каком-то виде бизнеса, вовсе не следует, что в нем смогут преуспеть все.
Никакой проблемы, конечно, не существовало бы, если бы постоянно развивались новые направления бизнеса: если из-за перенасыщенности рынка какое-то направление деятельности становится нерентабельным, вы просто переключаетесь на другое. Например, если сдача телефона напрокат становится менее выгодной, можно сохранить свой уровень доходов, изготавливая мобильные телефоны или создавая игровые программы для мобильных телефонов. Вы, безусловно, заметите абсурдность подобных предложений — «телефонным барышням» в Бангладеш явно не хватит средств для перехода на производство телефонов или разработку программного обеспечения. К сожалению, существует весьма ограниченное число видов деятельности, достаточно несложных, которыми могут заняться в развивающихся странах малообеспеченные люди, с учетом их скромных умений, узкого ассортимента доступных технологий и ограниченных финансовых средств, которые они в состоянии привлечь через микрофинансирование. Поэтому вы, хорватский фермер, купивший с помощью микрокредита еще одну дойную корову, так и продолжите продавать молоко, даже если станете свидетелем предельного спада на своем местном молочном рынке — спасибо трем сотням таких же фермеров, как вы, которые тоже продают молоко, — но с той техникой, организационными навыками и капиталом, которыми вы располагаете, переквалифицироваться в экспортера, поставляющего масло в Германию или сыр в Великобританию, просто невозможно.
ГЕРОЕВ БОЛЬШЕ НЕТ
До сих пор мы показывали, что бедные страны делает бедными не недостаток простой индивидуальной предпринимательской энергии, которой они обладают в избытке. Проблема в том, что богатые страны делает богатыми имеющаяся у них возможность направлять индивидуальную предпринимательскую энергию в коллективное предпринимательство.
Во многом под влиянием капиталистического фольклора, с такими персонажами, как Томас Эдисон и Билл Гейтс, а также новаторской работы Йозефа Шумпетера, гарвардского профессора экономики родом из Австрии, наши представления о предпринимательстве слишком сильно пронизаны духом индивидуализма: предпринимательство — это то, чем занимаются герои-одиночки, обладающие уникальной проницательностью и целеустремленностью. Развивая эту мысль, мы считаем, что любой отдельно взятый человек, если будет очень стараться, способен добиться успеха в бизнесе. Но даже если некогда так оно и было, представление о предпринимательстве как о занятии для индивидуалиста все сильнее устаревает. По мере развития капитализма предпринимательство все в большей степени становится коллективным делом.
Начнем с того, что даже выдающиеся одиночки, вроде Эдисона и Гейтса, стали теми, кем они стали, только потому, что их поддерживала целая армия коллективных институтов: научная инфраструктура, которая позволила получить знания и применить их; закон о компаниях и прочие торговые законы, давшие одиночкам возможность впоследствии создать компании с разветвленной и сложной организацией; образовательная система, поставлявшая высококвалифицированных ученых, инженеров, администраторов и рабочих, которые стали работать в этих компаниях; финансовая система, благодаря которой они смогли привлечь огромный капитал, когда потребовалось расширяться; патентные законы и законы об авторских правах, которые защищали их изобретения; доступный рынок для их продукции и так далее.
Кроме того, в богатых странах предприятия сотрудничают друг с другом намного больше, чем в бедных странах, даже если они работают в сходных областях. Например, сектор молочной промышленности в таких странах, как Дания, Нидерланды и Германия, вышел на свой сегодняшний уровень лишь потому, что фермеры, при поддержке государства, организовались в кооперативы и совместными усилиями инвестировали средства в перерабатывающее оборудование (например, машины для взбивания сливок) и исследование зарубежного рынка. Напротив, в балканских странах сектор молочной промышленности развиться не смог, несмотря на немалые объемы направленных туда микрокредитов, поскольку все тамошние фермеры, выпускающие молочную продукцию, попытались производить ее в одиночку. Вот еще один пример. Многие мелкие фирмы в Италии и Германии совместно инвестируют в научные разработки и исследования экспортного рынка, что по отдельности им было бы не под силу, но ими созданы отраслевые ассоциации (поддержанные государственными субсидиями), тогда как фирмы типичной развивающейся страны в эти области не инвестируют, поскольку не располагают подобным коллективным механизмом.
В богатых странах предпринимательство, даже на уровне фирм, стало делом не отдельных личностей, а целых коллективов. Немногими компаниями сегодня управляют харизматичные провидцы, подобные Эдисону или Гейтсу. Большей частью их возглавляют профессиональные менеджеры. В своих работах уже в середине XX века Шумпетер указывал на эту тенденцию, хотя его она и не радовала. Он отмечал, что все более широкое применение современных технологий еще больше затрудняет создание крупной компании под руководством дальновидного предпринимателя-одиночки. Шумпетер предсказывал, что замещение героев-предпринимателей «типовыми управленцами», как он их назвал, исподволь лишит капитализм динамичности и рано или поздно приведет к его кончине (см. Тайну 2).
В этом отношении Шумпетер оказался неправ. За последнее столетие герой-предприниматель постепенно стал редкостью, а новаторство в производстве продукции, в использовании технологических процессов и в маркетинге — ключевых элементах предпринимательства по Шумпетеру — становилось все более «коллективистским» по духу. Но, несмотря на это, после Второй мировой войны мировая экономика развивалась намного быстрее, чем в довоенный период. Так, в Японии фирмы специально разработали механизмы использования творческого потенциала работников даже самого нижнего звена: рабочих конвейера. Многие приписывают успех японских компаний отчасти этой идее (см. Тайну 5).
Если эффективное предпринимательство некогда и было чисто индивидуальным явлением, то по меньшей мере в последний век оно таковым быть перестало. Коллективная способность создавать эффективные организации и институты и управлять ими намного больше влияют сегодня на процветание нации, чем напор и даже таланты отдельных ее представителей (см. Тайну 17). Если мы не откажемся от мифа о героических предпринимателях-одиночках и не начнем помогать им создавать институты и организации для коллективного предпринимательства, то бедные страны никогда не смогут вырваться из нищеты.
ТАЙНА ШЕСТНАДЦАТАЯ. МЫ НЕ НАСТОЛЬКО УМНЫ ЧТОБЫ ОСТАВЛЯТЬ РЕШЕНИЕ ЗА РЫНКОМ
ЧТО ВАМ РАССКАЗЫВАЮТ
Мы должны оставить рынки в покое, поскольку участники рынка, по большому счету, понимают, что делают — иными словами, они мыслят рационально. Поскольку отдельные игроки (и фирмы как объединения индивидуумов, разделяющих одни и те же интересы) преследуют собственные цели и лучше других знают ситуацию в своем бизнесе, то попытки внешних сил, особенно государства, ограничить свободу их деятельности могут привести лишь к печальным результатам. Со стороны государства, не располагающего достаточной информацией, будет излишне самонадеянным мешать участникам рынка делать то, что они считают прибыльным, или заставлять их делать то, чего они не хотят.
ЧТО ОТ ВАС СКРЫВАЮТ
Люди не всегда понимают, что делают, поскольку их способность осознавать даже то, что непосредственно их касается, ограничена — или, на профессиональном жаргоне, они обладают «избирательной рациональностью». Мир очень сложен, и наша способность разобраться в нем существенно ограничена. Поэтому, чтобы уменьшить сложность проблем, с которыми мы сталкиваемся, нам необходимо сознательно ограничивать свою свободу выбора (что мы и делаем). Государственное регулирование, особенно в таких сложных областях, как современный финансовый рынок, зачастую действует не потому, что государству больше известно, а потому, что оно ограничивает варианты для выбора и, тем самым, сложность возникающих проблем, а значит, уменьшает возможность того, что все пойдет не так.
РЫНКИ МОГУТ ОШИБИТЬСЯ НО…
Экономисты-рыночники утверждают: красота свободного рынка в том, что решения отдельных индивидуумов (и фирм) примиряются без чьего-либо сознательного вмешательства — идея, которую Адам Смит выразил в метафоре «невидимой руки». Возможным это становится потому, что игроки на рынке рациональны, в том смысле, что они лучше кого-либо знают ситуацию в собственном бизнесе и способны ее улучшить. Впрочем, допускается, что отдельные личности иррациональны, или даже личность, рациональная в целом, порой может вести себя нерационально. Но, рано или поздно, рынок отвергает нерациональные поступки, наказывая за них — например, инвесторы, «нерационально» инвестирующие в переоцененные активы, в результате получат низкую доходность, а это либо заставит их откорректировать свое поведение, либо их вытеснят с рынка. Поэтому, утверждают экономисты-рыночники, право решать, что делать, надо отдать на откуп отдельным игрокам, и это — лучший способ управления рыночной экономикой.
Разумеется, мало кто станет утверждать, будто рынки совершенны. Даже Милтон Фридман признавал, что есть случаи, когда рынок не в состоянии разрешить проблему. Классический пример — загрязнение окружающей среды. Люди «перепроизводят» загрязнение, поскольку не оплачивают стоимость борьбы с ним. Поэтому оптимальные уровни загрязнения для отдельного человека (или для отдельной фирмы) складываются, с точки зрения общества, в уровень ниже оптимального. Но, спешат добавить экономисты-рыночники, неудачные решения рынка хотя и возможны теоретически, в реальности же случаются достаточно редко. Более того, заявляют они, зачастую лучший способ справиться с ошибками рынка — ввести дополнительные рыночные механизмы. Например, лучший способ уменьшить загрязнение окружающей среды — это создать для него рынок: введя «торговлю квотами на выбросы», что позволит людям продавать и покупать права на загрязнение окружающей среды соответственно своим потребностям в пределах оптимального для общества максимума. К тому же, добавляют сторонники рынка, государства тоже совершают ошибки (см. Тайну 12). Государство может не владеть информацией, необходимой для исправления ошибок рынка. Или рынком станут управлять политики и чиновники, больше заботящиеся не о национальных интересах, а о собственных (см. Тайну 5). Все это означает, что цена ошибки государства, как правило, выше цены ошибки рынка, которую оно (будем надеяться) пытается исправить. Следовательно, указывают экономисты, ошибки рынка не могут служить оправданием для вмешательства государства.
Полемика о сравнительной величине ошибок рынка и ошибок правительства не утихает, и я не смогу здесь подвести под нею черту. Однако я могу отметить, что проблема свободного рынка не сводится к тому, что рациональность поступков индивидуумов может привести к коллективному нерациональному результату (то есть к ошибке рынка). Проблема в том, что мы вообще-то не очень рациональные существа. И когда предположение о рациональности оказывается несостоятельным, нам приходится думать о ролях рынка и государства совсем по-иному, нежели предлагает концепция «сбоя рыночного механизма», которая, в сущности, тоже исходит из того, что мы все-таки разумны. Поясню подробнее.
ЕСЛИ ТЫ ТАКОЙ УМНЫЙ…
В 1997 году Роберт Мертон и Майрон Скоулз были удостоены Нобелевской премии по экономике «за новый метод определения стоимости вторичных ценных бумаг». К слову, полученная ими премия не является настоящей «Нобелевской» — эту премию учредил Шведский государственный банк в память Альфреда Нобеля. Кстати сказать, несколько лет назад семья Нобель даже грозилась запретить использование в названии премии имя их предка, так как ее лауреатами становятся, в основном, экономисты, выступающие за свободный рынок, а их Альфред Нобель не одобрял, но это другая история.
В 1998 году огромный хеджевый фонд под названием «Лонг терм кэпитэл менеджмент» (LTCM) после финансового кризиса в России оказался на грани банкротства. Фонд был столь велик, что его банкротство грозило увлечь за собой в небытие остальные. Краха финансовая система США избежала лишь потому, что Федеральный резервный банк, центральный банк США, выкрутил руки десятку банков-кредиторов, заставив влить в фонд деньги и стать его невольными акционерами, приобретя контроль более чем над 90% акций. В 2000 году LTCM окончательно свернул операции.
В совет директоров компании LTCM, основанной в 1994 году знаменитым (ныне печально знаменитым) финансистом Джоном Мерривезером, входили — кто бы вы думали? — Мертон и Скоулз. Они не только позволили компании использовать свои имена в обмен на кругленькую сумму. Они были реальными партнерами, и компания активно применяла их модель ценообразования на фондовом рынке.
Не обескураженный неудачей LTCM, в 1999 году Скоулз основал новый хеджевый фонд «Платинум гроув ассет менеджмент» (PGAM). Новые его инвесторы, надо полагать, считали, что модель Мертона-Скоулза не сработала в 1998 году лишь из-за такого абсолютно непредсказуемого, уникального в своем роде события, как российский кризис. Но в целом, разве это по-прежнему не лучшая модель ценообразования на рынке ценных бумаг в истории человечества, даже получившая одобрение Нобелевского комитета?
К несчастью, инвесторы PGAM ошибались. В ноябре 2008 года фонд фактически лопнул, временно заморозив для инвесторов отзыв средств. Единственным для них утешением оставалось то, что не их одних подвел нобелевский лауреат. «Трин-сам груп», где директором по научным вопросам работал бывший партнер Скоулза Мертон, в январе 2009 года тоже обанкротилась.
В Корее есть пословица: даже обезьяна падает с дерева. Да, все мы совершаем ошибки, и одну неудачу — даже если она гигантских масштабов, как в случае с LTCM, — можно счесть ошибкой. Но повторение одной и той же ошибки дважды? Тогда становится понятно, что первая ошибка на самом деле ошибкой не была. Мертон и Скоулз не ведали, что творили.
Когда лауреаты Нобелевской премии по экономике, тем более получившие премию за работу по ценообразованию на рынке ценных бумаг, не в состоянии «считать» информацию с финансового рынка, как же мы можем управлять миром, исходя из экономического принципа, что якобы люди всегда знают, что делают, и следовательно, им не нужно мешать? Как вынужден был признать на слушаниях в конгрессе Алан Гринспен, бывший председатель совета управляющих Федеральной резервной системы США, «ошибкой» было «предполагать, что своекорыстие организаций, особенно банков, настолько велико, что они лучше всех способны защитить акционеров и капитал компаний». Своекорыстие защитит людей только тогда, когда они понимают, что происходит и как быть.
Финансовый кризис 2008 года породил множество историй, показывающих, что казалось бы умнейшие люди не в полной мере осознавали, что они делают. Мы не говорим о знаменитых деятелях Голливуда, таких как Стивен Спилберг и Джон Малкович, или о легендарном бейсболисте, питчере Сэнди Коуфаксе, которые отнесли свои деньги мошеннику Берни Мэдоффу. В своем деле они — одни из лучших в мире, им необязательно разбираться в финансах. Мы говорим об опытных директорах фондов, руководителях банков (включая и крупнейшие банки в мире, такие как британский HSBC и испанский «Сантандер») и лучших учебных заведений мира (Нью-Йоркский университет и Бард-колледж), которые попались на удочку того же Мэдоффа.
И дело не только в том, что их одурачили мошенники вроде Мэдоффа или Алана Стэнфорда. Банкиры и прочие предполагаемые эксперты в финансовой сфере так и не смогли разобраться в происходящем, даже имея дело с законными финансовыми операциями. Один из них откровенно шокировал Алистера Дарлинга, канцлера казначейства (министра финансов Великобритании), заявив ему летом 2008 года, что «впредь мы будем одалживать деньги только тогда, когда будем понимать сопряженные с этим риски»{41}. Еще более поразительный пример: как сообщалось, всего за шесть месяцев до краха американской страховой компании AIG, получившей в кризис 2008 года финансовую поддержку от американского правительства, ее главный финансовый директор Джо Кассано сказал: «Нам трудно, если только не впасть в беспечность, даже представить себе хоть какой-то мало-мальски правдоподобный сценарий, по которому мы потеряем хотя бы доллар в операции [со свопами на дефолт по кредиту, или CDS]». Большинство из вас — особенно если вы американский налогоплательщик, расчищающий тот бардак, что оставил мистер Кассано, — вряд ли, наверное, сочтет это обещание остроумным, при том что AIG разорилась не из-за неудач в своем основном бизнесе, страховании, а из-за того, что обесценился ее портфель CDS в 441 миллиард долларов.
Когда лауреаты Нобелевской премии в области финансовой экономики, директора банков, высокопоставленные главы фондов, престижные колледжи и самые умные знаменитости продемонстрировали свое непонимание того, чем они занимаются, как можно соглашаться с экономическими теориями, основанными на предположении о рациональности человеческих поступков? Вывод в том, что мы просто не достаточно умны, чтобы позволить рынку действовать самостоятельно.
Что же из этого следует? Можно ли рассуждать о регулировании рынка, если нам не хватает сообразительности даже на то, чтобы оставить его в покое? Ответ — да. И даже более того. Очень часто регулирование требуется именно потому, что нам не хватает сообразительности. Сейчас я продемонстрирую, почему.
ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Герберт Саймон, обладатель Нобелевской премии по экономике 1978 года, возможно, был последним на земле человеком эпохи Возрождения. Он начинал как политолог, потом занялся изучением государственного управления, написав по этой теме классическую книгу: «Административное поведение». Набросав попутно пару работ по физике, он взялся изучать организационное поведение, деловое администрирование, экономику, когнитивную психологию и проблемы искусственного интеллекта. Если кто и понимал, как люди мыслят и как они организуются, то это был Саймон.
Саймон утверждал, что наша рациональность «избирательна». Он не верил, что мы полностью иррациональны, хотя сам он и многие другие экономисты бихевиористской школы (а также многие когнитивные психологи) убедительно показали, насколько наше поведение иррационально{42}. По Саймону, мы пытаемся быть рациональными, но наши возможности для этого недостаточны. Мир слишком сложен, убеждал Саймон, чтобы наш ограниченный интеллект мог в полной мере его понять. Это означает, что очень часто главная проблема, с который мы сталкиваемся, стремясь принять правильное решение, заключена не в недостатке информации, но в недостаточных возможностях для обработки этой информации — мысль, которую удачно иллюстрирует тот факт, что наступление всеми восхваляемой компьютерной эры не улучшило качества принимаемых нами решений, если судить по хаосу, в котором мы сегодня находимся.
Мир полон неопределенностей. Неопределенность не только в том, что мы не знаем точно, что произойдет в будущем. Для некоторых явлений мы способны более или менее верно просчитать вероятность всех возможных последствий, даже если не сумеем предсказать точный результат, — экономисты называют это риском. Наша способность просчитать риск, присутствующий во многих аспектах человеческой жизни — вероятность смерти, болезни, пожара, травмы, неурожая и так далее, — лежит в основании индустрии страхования. Но в отношении многих других аспектов мы не знаем даже обо всех возможных исходах, не говоря уже об их сравнительной вероятности, как отмечали в начале XX века, наряду с некоторыми другими, проницательный американский экономист Фрэнк Найт и великий английский экономист Джон Мейнард Кейнс. Найт и Кейнс утверждали, что при подобной неопределенности рациональное поведение, лежащее в основе большинства современных экономик, невозможно.
Лучшее объяснение понятия неопределенности — или, иными словами, сложного устройства мира, — дано, как ни удивительно, Дональдом Рамсфельдом, министром обороны в первое правление Джорджа Буша-младшего. В 2002 году на встрече с журналистами, посвященной ситуации в Афганистане, Рамсфельд высказал следующее: «Существуют известные неизвестные. Это — вещи, о которых мы знаем, что мы их не знаем. Но еще существуют неизвестные неизвестные. Это — вещи, о которых мы не знаем, что мы их не знаем». Не думаю, что организация «Кампания за простой английский», которая в 2003 году присудила этому высказыванию премию за косноязычие «Нога во рту», вполне осознавала его значимость для нашего понимания человеческой рациональности.
Что же мы делаем, если мир так сложен, а наша способность понять его — так ограничена? Ответ Саймона заключается в том, что мы намеренно ограничиваем нашу свободу выбора, чтобы сократить диапазон и сложность проблем, с которыми нам приходится иметь дело.
Фраза отдает эзотерикой, но если вдуматься, то именно так мы все время и поступаем. Большинство из нас создает жизненные шаблоны, чтобы не требовалось слишком часто принимать слишком много решений. Оптимальное количество сна и оптимальное меню завтрака меняются каждый день, в зависимости от нашего физического состояния и ожидающих нас задач. Но все равно большинство из нас ложится спать и просыпается в одно и то же время и ест на завтрак одно и то же, по крайней мере в рабочие дни.
Любимый пример Саймона, иллюстрирующий, насколько нам нужны правила, чтобы преодолеть нашу избирательную рациональность, — шахматы. У нас всего 32 фигуры и 64 клетки. Шахматы могут показаться достаточно простой штукой, но на самом деле они требуют огромного объема вычислений. Будь вы одним из тех «гиперрациональных» существ (как их называет Саймон), которыми населены стандартные учебники по экономике, то, конечно, прежде чем сделать ход, вы бы вычислили все возможные ходы и их вероятные последствия. Но, указывает Саймон, поскольку в обычной шахматной партии имеется около 10120 возможных ходов (да-да, 120 нулей), этот «рациональный» подход потребует таких умственных способностей, которыми не обладает ни одно человеческое существо. Изучая игру шахматных мастеров, Саймон понял, что они используют эмпирические правила (эвристику) для ограничения числа возможных ходов, с тем чтобы сократить количество сценариев, которые надо проанализировать, пусть даже исключенные из рассмотрения ходы могли принести более удачные результаты.
Если настолько сложны шахматы, то можете представить, насколько сложно устройство экономики, которая включает в себя миллионы людей и миллионы продуктов. Поэтому, точно так же, как отдельные люди создают шаблоны для повседневного поведения или для шахматной партии, компании оперируют производственными «шаблонами», которые упрощают для них варианты выбора и пути поиска решения. Компании выстраивают определенные структуры для принятия решений, вырабатывают формальные правила и договоренности, которые автоматически ограничивают диапазон возможных вариантов, пусть даже исключенные таким образом направления поиска могли оказаться более выгодными. Но компании продолжают так действовать, потому что в противном случае они утонут в море информации и решения так никогда и не примут. Точно так же общества вырабатывают неписаные правила, которые заранее ограничивают людям свободу выбора, чтобы тем не приходилось всякий раз делать выбор заново. Так, в обществе сложился уговор о соблюдении очереди, чтобы людям, к примеру, на автобусной остановке не приходилось постоянно определять и перепроверять свое положение, чтобы сесть в следующий автобус.
ГОСУДАРСТВУ НИЧУТЬ НЕ ВИДНЕЕ
Все это прекрасно, скажете вы, но что теория Саймона об избирательной рациональности говорит о регулировании?
Экономисты-рыночники возражают против государственного регулирования на тех (вполне резонных) основаниях, что государству отнюдь не «виднее», по сравнению с теми, чьи действия оно регулирует. По определению, государство не знает о ситуации отдельного человека или фирмы так же хорошо, как это известно им самим. Поэтому, говорят экономисты, государственные чиновники не имеют возможности улучшить решения, принимаемые участниками рынка.
Однако теория Саймона показывает, что многие установления работают вовсе не потому, что государство непременно понимает больше, чем те, чьи действия оно регламентирует (хотя бывает и так — см. Тайну 12), но потому, что установления ограничивают сложность действий, позволяя принимать более удачные решения. Мировой финансовый кризис 2008 года иллюстрирует это положение весьма показательно.
В преддверии кризиса 2008 года наша способность принимать хорошие решения оказалась «перегруженной», потому что ситуации позволили чересчур усложниться, из-за использования различных финансовых нововведений. Было создано так много сложных финансовых инструментов, что даже сами финансовые эксперты не вполне в них разбирались, если только не занимались ими специально (а иногда даже и в этом случае) (см. Тайну 22). Принимающие решения руководители финансовых компаний не осознавали многого из того, что делает возглавляемая ими организация. Регулирующие органы тоже не вполне понимали картину происходящего. И сегодня, как уже было сказано выше, мы слышим поток признаний — иногда добровольных, иногда вынужденных — от ключевых фигур бизнеса.
Если в будущем мы желаем избежать подобных финансовых кризисов, нужно строго ограничить свободу действий на финансовом рынке. Необходимо отказаться от финансовых инструментов, механизм действия которых и их влияние на остальную часть финансового сектора, а также на всю экономику в целом мы не до конца понимаем. Это будет означать запрет многих сложных производных финансовых инструментов, действие и результаты которых оказались вне пределов понимания даже тех, кто считался экспертом в этом вопросе.
Вам может показаться, что я слишком радикален. Но точно так же мы поступаем с другими продуктами — лекарствами, автомобилями, электроприборами и многим другим. Если, например, компания разработала новое лекарство, его нельзя немедленно пускать в продажу, ведь воздействие лекарства и реакция на него человеческого организма — очень непростой вопрос. Поэтому лекарство проходит тщательные испытания, пока мы не убедимся, что оно оказывает достаточно полезное воздействие, которое однозначно перекрывает побочные эффекты, и поэтому лекарство можно продавать. Нет ничего сверхъестественного в желании удостовериться в безопасности финансовых продуктов, прежде чем они будут допущены к продаже.
Если мы не будем целенаправленно ограничивать возможности нашего выбора, создавая ограничения и упрощая тем самым среду, с которой нам приходится общаться, наша избирательная рациональность не справится со сложным устройством мира. Ограничения необходимы не потому, что государство лучше понимает, что нам нужно. Они необходимы как робкое признание наших ограниченных интеллектуальных возможностей.
ТАЙНА СЕМНАДЦАТАЯ. ОДНИМ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ СТРАНА НЕ СТАНЕТ БОГАЧЕ
ЧТО ВАМ РАССКАЗЫВАЮТ
Для экономического развития, безусловно, необходимы высококвалифицированные кадры. Лучшее доказательство тому — резкое отличие между экономическими успехами восточноазиатских стран, заслуженно славящихся высокими образовательными достижениями, и экономический застой африканских стран южнее Сахары, где уровень образования — один из самых низких в мире. Более того, с развитием так называемой экономики знаний, в которой знание стало главным источником богатства, образование, особенно высшее, безоговорочно превратилось в основной ключ к успеху.
ЧТО ОТ ВАС СКРЫВАЮТ
Имеется поразительно мало свидетельств тому, что более развитое образование приводит к большему процветанию страны. Существенная часть знаний, полученных в процессе образования, не применима для увеличения производительности труда, хотя и дает людям возможность вести более насыщенную и независимую жизнь. Ошибочно и мнение, что подъем экономики знаний существенно увеличил роль образования. Прежде всего, сама идея экономики знаний вызывает вопросы, поскольку знание всегда было главным источником благосостояния. Более того, с увеличением степени деиндустриализации и механизации для большинства профессий в богатых странах требования к знаниям, возможно, даже снизились. Даже если говорить о высшем образовании, которое в экономике знаний должно иметь более важное значение, прямой зависимости между ним и экономическим ростом нет. В действительности национальное благосостояние определяет не образовательный уровень отдельных людей, но способность страны организовать отдельных людей в предприятия с высокой производительностью труда.
ОБРАЗОВАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ
«Образование, образование и образование». Так бывший британский премьер-министр Тони Блэр резюмировал три главных приоритета политики своего будущего правительства в ходе избирательной кампании 1997 года, которая привела его «новую» лейбористскую партию к власти после почти двадцатилетнего пребывания не у дел.
Последующие успехи или провалы политики лейбористской партии в области образования можно обсуждать, но неоспоримо то, что эта фраза прекрасно отражает исключительную способность Блэра сказать нужную вещь в нужное время (вернее, так было до того, как ситуация в Ираке повредила его здравомыслию). Многие политики и до Блэра говорили о том же и призывали развивать образование, но он выступил в тот момент, когда весь мир, с 1980-х годов наблюдавший подъем пресловутой экономики знаний, был убежден, что образование — ключ к экономическому процветанию. Если образование было важно для экономического успеха во времена паровых машин, оно должно стать альфой и омегой в информационную эру, когда главный источник богатства теперь не мускулы, а мозги — эта идея приобретала все большую популярность.
Аргумент кажется простым и ясным. Более образованные люди работают производительнее — о чем свидетельствуют более высокие зарплаты. Так что простая математическая логика подсказывает: чем больше образованных людей, тем производительнее экономика. То, что бедные страны обладают меньшим ресурсом образованных людей — или, прибегая к жаргону некоторых экономистов, «человеческим капиталом», — тоже подтверждает этот тезис. Средняя продолжительность школьного обучения в странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — около девяти лет, тогда как в странах Африки южнее Сахары она не достигает даже трех лет. Известны также исключительно высокие образовательные достижения стран «экономического чуда» в Восточной Азии — таких как Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур. Их успехи в образовании выражаются не только в количественных показателях, таких как высокий процент грамотности и численность учащихся на разных ступенях образования. Качество образования в этих странах также очень высоко. Они занимают первые места в международных стандартизованных тестах, таких как Международное сравнительное мониторинговое исследование качества математического и естественнонаучного образования (TIMSS) для учащихся четвертых и восьмых классов и Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), которая определяет способность пятнадцатилетних школьников применять математические знания в реальной жизни. Нужно ли еще что-то добавить?
«ШКОЛА ДЕТЯМ НЕ НУЖНА…» (PINK FLOYD)
Сколь бы очевидной ни казалась важность образования в повышении эффективности экономики, найдется немало свидетельств, ставящих под сомнение эту расхожую истину.
Возьмем, для начала, экономику стран «восточноазиатско-го чуда», в развитии которых, по всеобщему мнению, образование сыграло важную роль. В 1960 году уровень грамотности на Тайване был всего лишь 54%, тогда как на Филиппинах он составлял 72%. Несмотря на более низкий уровень образования, Тайвань с тех пор продемонстрировал один из самых стремительных в истории примеров экономического роста, а экономика Филиппин росла довольно скромно. В 1960 году доход на душу населения на Филиппинах был почти вдвое больше, чем на Тайване (200 долларов против 122 долларов), но сегодня среднедушевой доход Тайваня примерно в десять раз выше, чем на Филиппинах (18 000 долларов против 1800 долларов). В том же году уровень грамотности в Корее равнялся 71% — что сравнимо с Филиппинами, но все же намного ниже, чем 91% в Аргентине. Несмотря на значительно более низкий уровень грамотности, Корея с тех пор развивалась намного быстрее Аргентины. В 1960 году среднедушевой доход в Корее составлял чуть более одной пятой в Аргентине (82 доллара против 378 долларов). Сегодня он втрое выше (около 21 000 долларов против примерно 7000 долларов).
Очевидно, помимо образования, существует множество других факторов, определяющих показатели экономического роста страны. Но приведенные примеры развенчивают распространенный миф о том, что образование — ключ к пониманию «восточноазиатского чуда». Когда этот процесс начался, то экономика стран Восточной Азии отнюдь не могла похвастаться исключительными успехами в образовании, а такие страны, как Филиппины и Аргентина, продемонстрировали достаточно слабые экономические результаты, несмотря на существенно более высокий уровень образования.
На другом конце спектра — опыт стран Африки к югу от Сахары, который показывает, что увеличение инвестиций в образование не является гарантией улучшения экономических показателей. С 1980 по 2004 годы уровень грамотности в странах субсахарской Африки существенно вырос: с 40% до 61%{43}. Несмотря на этот рост, среднедушевой доход в регионе за этот период даже упал на 0,3%. Если образование настолько важно для экономического развития, как полагает большинство из нас, подобного происходить не должно.
Явное отсутствие положительного влияния образования на экономический рост прослеживается не только в таких крайностях, которые я выбрал: Восточная Азия, с одной стороны, и Африка к югу от Сахары — с другой. Это явление более общего порядка. В часто цитируемой статье 2004 года «Где образование, дай мне ответ?» экономист из Гарварда Лант Притчетт, долгое время проработавший во Всемирном банке, проанализировал данные нескольких десятков богатых и развивающихся стран за период 1960–1987 годов и составил обширный обзор аналогичных исследований, чтобы установить, оказывает ли образование положительное воздействие на экономический рост{44}. Он пришел к выводу, что имеется мало оснований полагать, будто рост уровня образования приводит к увеличению темпов экономического роста.
ПЛОХО РАЗБИРАЮСЬ В ИСТОРИИ. ПЛОХО ЗНАЮ БИОЛОГИЮ
Почему так мало данных подтверждает кажущееся столь очевидным утверждение, будто более развитое образование делает страну богаче? Попросту говоря, потому, что образование не настолько важно для увеличения эффективности экономики, как нам кажется.
Начнем с того, что не всякое образование изначально предназначено для поднятия производительности труда. Есть много школьных предметов, которые не влияют, даже косвенно, на производительность большинства работников — например, литература, история, философия и музыка (см. Тайну 3). Со строго экономической точки зрения, преподавание этих предметов — напрасная трата времени. Конечно, мы учим детей этим предметам, потому что верим, что рано или поздно эти знания сделают их жизнь насыщеннее, а их самих превратят в сознательных граждан. Пусть в эпоху, когда всему полагается оправдывать свое существование с точки зрения пользы для производственной эффективности, такое обоснование расходов на образование все чаще попадает под огонь критики, оно остается очень важной — на мой взгляд, самой важной, — причиной для инвестирования в образование.
Даже такие предметы, как математика и естествознание, которые, казалось бы, важны для увеличения производительности труда, не нужны для большинства профессий — чтобы хорошо справляться со своей работой, инвестиционным банкирам не требуется биология, а модельерам — математика. Даже в профессиях, которые имеют отношение к этим предметам, большая часть из того, что преподается в школе или даже в университете, зачастую не находит применения в практической деятельности. Например, связь между тем, что выучил на школьных уроках физики рабочий автомосборочного конвейера, и его производительностью труда довольно слаба. Важная роль профессионального обучения и производственной практики во многих профессиях свидетельствует о том, что школьные предметы лишь в некоторой степени играют роль в повышении эффективности труда. Так что даже ориентированные на практическую деятельность элементы образования окажутся не так важны на производстве, как нам кажется.
Статистический анализ по ряду стран не выявил никаких закономерностей между оценками по математике и экономическими показателями страны{45}. Позвольте привести более конкретные примеры. В математической части TIMSS 2007 года американские четвероклассники проиграли не только известным своими математическими талантами детям из восточно-азиатских стран, но и своим сверстникам из Казахстана, Латвии, России и Литвы[10]. Дети из всех других европейских стран с богатой экономикой, за исключением Англии и Нидерландов, показали более низкий результат, чем американские дети[11]. Восьмиклассники из Норвегии, богатейшей страны мира (по доходу на душу населения из расчета рыночного обменного курса — см. Тайну 10), отстали от ровесников не только из всех других богатых стран, но и намного более бедных, включая Литву, Чехию, Словению, Армению и Сербию (интересно отметить, что все эти страны — бывшие социалистические)[12]. Восьмиклассники из Израиля — страны, известной своим рвением к образованию и исключительными результатами в высокотехнологичных исследованиях, — заняли место ниже Норвегии, уступив также и Болгарии. Похожие расклады отмечены и в тестах по естественнонаучным предметам.
А КАК БЫТЬ С ЭКОНОМИКОЙ ЗНАНИЙ?
Хотя влияние образования на экономический рост до сих пор было скромным, вы можете спросить: не изменило ли ситуацию развитие в последнее время экономики знаний? Можно было бы утверждать, что с подъемом экономики знаний, когда основным источником богатства становятся идеи, образование начинает играть все более важную роль в развитии благосостояния страны.
Прежде всего я должен возразить, что экономика знаний — вещь не новая. Мы всегда жили в условиях экономики знаний — в том смысле, что богатой или бедной страну всегда делало то, насколько она обладает или не обладает знаниями. В течение первого тысячелетия Китай был богатейшей страной в мире, так как обладал техническими знаниями, которых не имели остальные: бумага, наборное книгопечатание, порох и компас — самые известные, но ни в коем случае не единственные образчики достижений Китая. В XIX веке мировым экономическим гегемоном стала Великобритания: теперь уже она лидировала в мире по техническим новинкам. Когда после Второй мировой войны Германия стала не богаче Перу и Мексики, никто не предлагал считать ее отныне развивающейся страной, поскольку было известно, что она по-прежнему располагает техническими знаниями и организационно-административными ресурсами, которые перед войной сделали ее одной из самых грозных промышленных держав. В этом смысле значимость (или бесполезность) образования за последнее время не изменилась.
Конечно, запас знаний, которым коллективно распоряжается человечество, сегодня намного больше, чем в прошлом, но это не означает, что каждый человек или хотя бы большинство людей непременно образованнее, чем когда-то. Даже наоборот, для многих профессий количество знаний, которыми должен обладать для производственной деятельности обычный работник, упало, особенно в богатых странах. Это может звучать абсурдно, но я сейчас поясню.
Прежде всего, в условиях непрерывного увеличения производительности труда все большая часть работоспособных людей в богатых странах занята теперь на малоквалифицированной работе в сфере обслуживания: расставляют товары на полках супермаркетов, жарят гамбургеры в ресторанах быстрого обслуживания, убирают в офисах (см. Тайны 3 и 9). Так как доля людей, занятых в таких профессиях, возрастает, нам на самом деле образованных работников требуется не больше, а все меньше и меньше — если смотреть на проблему с точки зрения пользы образования для производственных нужд.
В процессе экономического развития все больше знаний находят свою реализацию в машинах. Это значит, что в экономике в целом производительность возрастает, хотя отдельные рабочие меньше своих предшественников разбираются в том, что они делают. Самый яркий пример: большинству продавцов в богатых странах даже не надо уметь складывать цифры — умение, которое было категорически необходимо их предшественникам. Сегодня все это проделывают сканеры штрих-кода. Еще один пример: кузнецы в бедных странах, наверное, больше знают о свойствах металла применительно к изготовлению инструментов, чем сотрудники компании *Бош» или «Блэк энд Декер». Еще пример: тем, кто работает в мелких магазинчиках по продаже электроники, заполонивших улицы бедных стран, под силу починить такое, с чем не справятся некоторые работники «Самсунг» или «Сони».
Во многом это происходит по той простой причине, что механизация — главный путь увеличения производительности труда. Но авторитетная марксистская школа утверждает, что капиталисты сознательно «деквалифицируют труд» своих рабочих, используя пусть даже экономически не слишком оправданные, но как можно более механизированные технологии производства, — для того чтобы одних рабочих можно было легко заменить другими и тем самым ими было бы легче управлять{46}. Чем бы ни была вызвана механизация, вывод состоит в том, что технически более развитая экономика требует меньше образованных людей.
ШВЕЙЦАРСКИЙ ПАРАДОКС
Хотя экономическое развитие и не требует, чтобы среднестатистический рабочий был более образован, для сложных задач нужны образованные люди. Ведь, как я уже отмечал выше, именно способность создавать более продуктивное знание делает страну богаче других. При таком подходе процветание нации определяется качественным уровнем университетов, а не начальных школ.
Но и в нашу вроде бы ориентированную на знание эпоху взаимосвязь между высшим образованием и уровнем благосостояния не столь однозначна. Возьмем уникальный пример — Швейцария. Страна входит в число самых богатых и самых индустриализованных в мире (Тайны 9 и 10), но, как ни странно, в богатом мире она характеризуется самым низкой — причем с большим отставанием — численностью студентов. До начала 1990-х годов процент студентов в Швейцарии составлял примерно одну треть от среднего показателя по другим богатым странам. До 1996 года показатель зачисленных в швейцарские университеты составлял меньше половины от среднего по странам ОЭСР (16% против 34%){47}. С тех пор Швейцария существенно улучшила свои позиции, к 2007 году подняв этот показатель, по данным ЮНЕСКО, до 47%. Но все равно он остается самым низким среди развитых стран, намного ниже, чем в странах с наибольшим количеством университетов на душу населения, таких как Финляндия (совокупная доля студентов — 94%), США (82%) и Дания (80%). Интересно, что здесь Швейцария серьезно отстает и от многих стран с существенно более бедной экономикой, таких как Корея (96%), Греция (91%), Литва (76%) и Аргентина (68%).
Как так оказалось, что Швейцария остается на вершине международного рейтинга эффективности производства, хотя дает высшее образование гораздо меньшей доле населения не только по сравнению с основными своими конкурентами, но и со многими гораздо более бедными странами?
Одно из возможных объяснений состоит в том, что университеты в разных странах отличаются различным качеством обучения. Так, если корейские или литовские университеты не так хороши, как швейцарские, Швейцария может оказаться богаче Кореи или Литвы, даже если среди швейцарцев окажется гораздо более низкий процент людей с высшим образованием, чем среди корейцев и литовцев. Однако это слабый аргумент, если сравнивать Швейцарию с Финляндией или США. Нельзя же со всей серьезностью предположить, будто швейцарские университеты настолько лучше финских или американских, что Швейцарии достаточно и вдвое меньшего показателя совокупной доли студентов, чем у двух этих стран.
Главное объяснение «швейцарского парадокса» нужно опять-таки искать в низкой ориентации содержания образования на производственные нужды. Правда, в случае высшего образования «непроизводительный» компонент — это не предметы, которые развивают у человека самореализацию, гражданскую позицию и национальное самосознание, как в начальной и средней школе. Это, как называют ее экономисты, «сортирующая» функция.
Спору нет, что высшее образование наделяет тех, кто его получает, определенными прикладными знаниями, но другая важная его задача — определить место каждого человека на шкале его пригодности к трудоустройству{48}. Для многих видов работ важна общая образованность, дисциплина, самоорганизация, а не узкоспециальные знания, большую часть которых можно получить и которые нередко и получают в процессе работы. Поэтому если вы изучаете в университете историю или химию, вам это может и не потребоваться в будущей работе менеджером страховой компании или чиновником в транспортном департаменте. Тот факт, что вы окончили университет, говорит вашим будущим работодателям, что вы, скорее всего, умнее, дисциплинированнее и организованнее, чем те, кто в университете не учился. Нанимая вас как выпускника университета, ваш работодатель выбирает вас за эти общие качества, а не за специальные знания, которые зачастую не имеют отношения к работе, которую вам предстоит выполнять.
В условиях возросшего в последнее время интереса к высшему образованию во многих странах, которые имеют уровни дохода высокие и существенно выше среднего и которые могут позволить себе увеличивать число университетов, установилась нездоровая практика. (Швейцария, как показывают вышеприведенные цифры, до сих пор была к ней невосприимчива.) Как только доля людей, поступающих в университеты, превышает некий критический порог, то те, кто стремится получить достойную работу, для этого обязаны иметь высшее образование. Если, скажем, 70% населения учились в университете, то не посещать в университет равносильно молчаливому заявлению, что вы находитесь в нижней трети списка по распределению способностей, а это не самое лучшее начало для поиска работы. Поэтому люди поступают в университет, прекрасно понимая, что они «зря потратят время», изучая то, что для будущей работы им никогда не потребуется. Когда окончить университет хочет каждый, спрос на высшее образование возрастает, что приводит к появлению большего количества учебных мест в университетах, и численность студентов растет еще больше, усиливая и без того немалое социальное давление, побуждающее человека непременно получить университетский диплом. Со временем эта тенденция приводит к девальвации диплома. Теперь, когда университетское образование есть «у всех», вам, чтобы выделяться среди них, придется получать степень магистра или даже доктора философии, даже если практическое применение этого образования в вашей будущей работе окажется минимальным.
Видя, что до середины 1990-х годов Швейцария сохраняла один из самых высоких в мире уровней эффективности национальной экономики, имея совокупную долю студентов в 10–15%, мы можем сказать, что существенно более высокая доля студентов и не требуется. Даже если согласиться с тем, что с развитием экономики знаний требования к квалификации возросли настолько, что доля студентов в сорок с лишним процентов, которую в настоящее время имеет Швейцария, — это минимум (в чем я серьезно сомневаюсь), то и это все равно означает, что по меньшей мере половина университетских дипломов в США, Корее и Финляндии «пропадает зря» в этой игре, сортирующей людей по пригодности к трудовой деятельности. Система высшего образования в этих странах стала походить на театр, в котором некоторые зрители решили встать, чтобы им было лучше видно, из-за чего пришлось подниматься со своих мест и тем, кто сидел позади них. Как только встанет достаточно много людей, стоять придется всем, а значит, никому лучше видно не будет, а неудобнее будет всем.
ОБРАЗОВАННОСТЬ ИЛИ РАБОТА
Если не только начальное, но и высшее образование не так много значат для благосостояния нации, мы должны серьезно пересмотреть роль образования в нашей экономике.
В богатых странах нужно ограничить чрезмерное увлечение высшим образованием. Эта мания привела к нездоровой девальвации дипломов и, как следствие, колоссальному перенакоплению в сфере высшего образования во многих странах. Я не стал бы возражать, если бы страны по каким-то иным причинам имели очень высокий — пусть даже стопроцентный — показатель совокупной доли студентов, но им не стоит обманывать себя, считая, что это окажет существенное влияние на производительность экономики.
Для развивающихся стран необходима еще более резкая смена взглядов. Развивая образование и подготавливая молодых людей к более насыщенной жизни, при решении вопроса увеличения производительности необходимо заботиться не об образованности отдельных людей, а об учреждении институтов и организаций, необходимых для роста эффективности экономики.
Богатые страны отличает от бедных не столько то, насколько хорошо образованы их граждане, а то, насколько хорошо они организованы в коллективные объединения с высокой производительностью труда — будь то такие гиганты, как «Боинг» или «Фольксваген», или небольшие компании мирового класса, как в Швейцарии и Италии (см. Тайну 15). Развитие подобных компаний необходимо поддерживать целым рядом институтов, поощряющих инвестиции и принятие рисков: система торговли, которая защищает и взращивает фирмы в «юных» отраслях (см. Тайны 7 и 12); финансовая система, которая обеспечивает «терпеливый капитал» для перспективных капиталовложений, направленных на повышение эффективности (см. Тайну 2); институты, дающие «право на вторую попытку» как капиталистам (хороший закон о банкротстве), так и рабочим (хорошая система социального обеспечения) (см. Тайну 21); государственные субсидии и положения, касающиеся научных разработок и повышения квалификации (см. Тайны 18 и 19) и так далее.
Образование ценно, но главная его ценность — не в повышении эффективности экономики. Ценность образования — в его способности помочь нам развить свой потенциал и жить более плодотворной и независимой жизнью. Если мы будем расширять сферу образования в расчете, что оно сделает нашу экономику богаче, то нас ждет жестокое разочарование, потому что связь между образованием и эффективностью национальной экономики — тонкая и неоднозначная. Следует отказаться от нашего чрезмерного увлечения образованием, и намного большее внимание, особенно в развивающихся странах, необходимо уделять открытию и модернизации эффективных предприятий и созданию институтов для их поддержки.
ТАЙНА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. ЧТО ХОРОШО ДЛЯ «ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС», НЕ ВСЕГДА ХОРОШО ДЛЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
ЧТО ВАМ РАССКАЗЫВАЮТ
В центре капиталистической системы находится частный корпоративный сектор. Именно там производятся товары, создаются рабочие места и изобретаются новые технологии. Без динамичного корпоративного сектора нет движения экономики. Следовательно, что хорошо для бизнеса, то хорошо и для экономики государства в целом. Учитывая нарастающую международную конкурентную борьбу, страны, которые мешают открывать новые компании, ставят препоны для ведения бизнеса и заставляют фирмы совершать то, чего те не желают, потеряют инвестиции и рабочие места и, в конце концов, отстанут в экономическом соревновании. Государство должно предоставить бизнесу максимальную свободу.
ЧТО ОТ ВАС СКРЫВАЮТ
При всей важности корпоративного сектора, если предоставить компаниям максимальную степень свободы, то это может обернуться ущербом даже для самих компаний, не говоря уже об экономике страны в целом. На самом деле не все ограничения вредны для бизнеса. Иногда ограничение свободы отдельных компаний служит интересам самого бизнес-сектора в целом — например, для того, чтобы отдельные компании не уничтожили общий источник ресурсов, необходимых им всем, таких как природные ресурсы или рабочая сила. Ограничительные законы также помогают бизнесу тем, что заставляют компании предпринимать шаги, которые дорого обходятся каждой в текущий момент, но которые повышают их общую эффективность в долгосрочной перспективе — как, например, предоставление работникам возможностей для повышения квалификации. В конечном итоге имеет значение не общее количество законов, регулирующих бизнес, а содержание этих законов.
КАК ДЕТРОЙТ ВЫИГРАЛ ВОЙНУ
Говорят, что Вторую мировую войну выиграл Детройт. Да, Советский Союз понес огромные потери, больше всех остальных, — по оценкам, число жертв в Великую Отечественную войну (как она тогда называлась) составило более 25 миллионов человек, это почти половина всех погибших за войну в мире. Но СССР — и, разумеется, Великобритания, — не сдержали бы нападения нацистов, если бы у них не было оружия, присланного из Соединенных Штатов Америки — этого «арсенала демократии», как назвал их Франклин Рузвельт. И большая часть этого оружия была изготовлена на переориентированных на военное производство заводах детройтских автомобилестроителей — «Дженерал моторс», «Форд» и «Крайслер». Без промышленной мощи США, представленной Детройтом, нацисты захватили бы Европу и, как минимум, западную часть Советского Союза.
В истории, конечно, не все столь ясно и просто. Быстрые успехи нацистской Германии в начале войны стали возможны благодаря способности ее войск быстро передвигаться — в этом суть знаменитого блицкрига, или «молниеносной войны». А своей высокой мобильностью германская армия обязана высокой моторизации, техническое обеспечение которой осуществлял не кто иной, как «Дженерал моторс» (через свою дочернюю компанию «Опель», приобретенную в 1929 году). Более того, появляются свидетельства, что, преступая закон, на протяжении всей войны «Дженерал моторс» тайно поддерживала связи с «Опель», который выпускал не только автомобили для военных, но и самолеты, мины и торпеды. Похоже, что «Дженерал моторс» вооружала обе воюющие стороны, получая прибыль и с тех, и с других.
Даже среди детройтских автомобилестроителей — которые были известны под названием «Большая тройка», — «Дженерал моторс» уже тогда стояла особняком. Под руководством Альфреда Слоуна-младшего, тридцать пять лет, с 1923 по 1958 год, возглавлявшего «Дженерал моторс», компания к концу 1920-х годов поглотила крупнейшего американского автомобилестроителя «Форд» и впоследствии стала главной американской автомобильной компанией, производящей, по словам Слоуна, «автомобили для любого кошелька и любого назначения», которые можно выстроить своеобразной «карьерной лестницей»: от «Шевроле» к «Понтиаку», далее «Олдсмобил» и «Бьюик» и на вершине наконец — «Кадиллак».
К концу Второй мировой войны «Дженерал моторс» не только была крупнейшим производителем автомобилей в США; по доходам она стала самой большой в стране. Компания пользовалась таким влиянием, что когда в 1953 году Чарли Уилсона, тогдашнего президента «Дженерал моторс», на слушаниях в конгрессе, посвященных его назначению министром обороны США, спросили, не усматривает ли он потенциального конфликта интересов между своей корпоративной принадлежностью и своими обязанностями на государственном посту, тот, как известно, ответил: что хорошо для Соединенных Штатов, то хорошо и для «Дженерал моторс», и наоборот.
С логикой этого утверждения трудно поспорить. В капиталистической экономике компании частного сектора играют ключевую роль в создании богатства, в увеличении количества рабочих мест и в налоговых поступлениях. Когда дела у частных компаний идут хорошо, успешно работает и вся экономика. Когда речь идет об одном из крупнейших и технически наиболее активно развивающемся предприятии, как «Дженерал моторс» в 1950-е годы, успех или неудача компании оказывает особенно заметное влияние на остальную экономику: фирмы-поставщики, сотрудники этих фирм, производители товаров, которые могут купить (или не купить) работники компании-гиганта, чья численность доходила до сотен тысяч человек, и так далее. Поэтому экономические показатели компании-гиганта исключительно важны для благосостояния всей национальной экономики.
К сожалению, говорят сторонники этой логики, столь очевидное утверждение не было общепринятым на протяжении большей части XX века. Можно понять, почему против частного сектора были настроены коммунистические режимы: они, как-никак, верили в то, что частная собственность — источник всех зол капитализма. Но почему-то от Великой депрессии до 1970-х годов на частный бизнес с подозрением косились даже в большинстве капиталистических стран.
Частные компании рассматривались как антиобщественные силы, чье стремление к наживе необходимо сдерживать ради других, предположительно более высоких целей, таких как справедливость, общественное согласие, защита слабых и даже национальная гордость. В результате, исходя из убеждения, что государство призвано регламентировать, что и какие фирмы делают в интересах общества в целом, были введены сложные и громоздкие системы лицензирования. В некоторых странах государство даже заставляло фирмы, во имя развития страны, поневоле открывать новые направления своего бизнеса (см. Тайны 7 и 12). Крупные компании не допускались в те сегменты рынка, где обосновались мелкие фирмы, фабрики и розничные магазины, чтобы сохранить традиционный уклад жизни и защитить «маленького человека» от большого бизнеса. Во имя защиты прав рабочих вводились обременительные трудовые законодательства. Во многих странах права потребителя были расширены до такой степени, что ущемляли интересы бизнеса.
Как утверждают аналитики, стоящие на стороне бизнеса, эти меры не только наносили вред крупным компаниям, но и вредили всем остальным, сокращая общий размер раздаваемого «пирога». Урезая фирмам возможности экспериментировать с новыми способами ведения бизнеса и затрудняя их выход в новые области, ограничительные законы замедляли рост производительности в целом. В конце концов, все безрассудство этой направленной против бизнеса логики стало очевидным. И, начиная с 1970-х годов, во всем мире начали соглашаться, что если что-то хорошо для бизнеса, то это хорошо и для национальной экономики, и разные страны стали проводить политику в поддержку интересов деловых компаний. Даже коммунистические страны с 1990-х годов отказались от попыток зажимать частный сектор. Стоит ли далее распространяться по этому вопросу?
«КАК ПАЛИ СИЛЬНЫЕ НА БРАНИ!» (БИБЛИЯ)
Пять десятилетий спустя после замечания Чарли Уилсона, летом 2009 года, «Дженерал моторс» обанкротилась. Невзирая на свою общеизвестную неприязнь к государственному управлению бизнесом, правительство США купило компанию и, после масштабной реструктуризации, открыла ее как совершенно новую. На это была потрачена умопомрачительная сумма в 57,6 миллиардов долларов из средств налогоплательщиков.
Можно заявить, что спасение компании было в интересах Америки. Если позволить компании такого размера и с такими производственными связями, как «Дженерал моторс», разом рухнуть, то огромный негативный волновой эффект затронул бы и занятость, и спрос (падение потребительского спроса оставшихся без работы сотрудников «Дженерал моторс», исчезновение спроса «Дженерал моторс» на продукцию поставщиков и др.) и усилил бы начинавшийся в стране финансовый кризис. Американское правительство выбрало, от имени налогоплательщиков, меньшее из двух зол. То, что было хорошо для «Дженерал моторс», по-прежнему было хорошо для Соединенных Штатов, хотя и было не очень хорошо само по себе.
Но это не означает, что мы не должны задавать себе вопрос, как вообще получилось, что «Дженерал моторс» оказалась в такой ситуации. Столкнувшись с жесткой конкуренцией со стороны импортеров из Германии, Японии, а затем, с 1960-х годов, и Кореи, «Дженерал моторс» не отреагировала самым естественным, хотя и трудным способом, как ей и следовало поступить: начать производить автомобили, которые будут лучше, чем у конкурентов. Вместо этого компания-гигант попыталась найти легкий выход.
Во-первых, она обвинила своих конкурентов в демпинге и прочих нечестных методах ведения торговли и заставила американское правительство ввести импортные квоты на иностранные, особенно японские, автомобили и открыть внутренние рынки конкурентов. В 1990-х годах, когда эти меры оказались недостаточными, чтобы остановить спад, компания попыталась возместить провал в автомобилестроении, развивая свое финансовое подразделение «Акцептная корпорация «Дженерал моторс» (GMAC). GMAC вышла за пределы своей обычной задачи финансировать покупку автомобилей и стала самостоятельно вести финансовые операции. Как таковая GMAC проявила себя довольно успешно — в 2004 году, например, 80% дохода «Дженерал моторс» были получены от GMAC (см. Тайну 22){49}. Но ее успех не мог скрыть фундаментальную проблему: компания не в состоянии производить хорошие автомобили по конкурентоспособным ценам. Примерно в то же время «Дженерал моторс» попыталась упростить себе задачу инвестирования в развитие более совершенных технологий, скупая небольших иностранных конкурентов (таких, как шведский «Сааб» и корейская «Дэу»), но этого никоим образом не было достаточно, чтобы возродить ее былое технологическое превосходство. Иными словами, за последние четыре десятилетия «Дженерал моторс» испробовала все, чтобы остановить свое падение, только не производство более качественных автомобилей, потому что производство качественных автомобилей как таковое — это… слишком хлопотно.
Конечно, все эти решения в момент их принятия, возможно, были, с точки зрения «Дженерал моторс», самыми лучшими — ведь они, так или иначе, позволили компании с минимальными усилиями протянуть несколько лишних десятков лет — но для Соединенных Штатов в целом они оказались вовсе не так хороши. Огромный счет, который выставили американским налогоплательщикам в виде пакета антикризисных мер, — лучшее тому доказательство, но вообще-то США в целом могли бы и выиграть, если бы «Дженерал мотос» заставили вкладывать средства в технологии и станки, необходимые для производства более качественных автомобилей, а не позволяли ей заниматься лоббированием, добиваясь протекционистких законов, скупать конкурентов и превращаться в финансовую компанию.
Но все эти мероприятия, позволившие «Дженерал моторс» с минимальными усилиями преодолеть трудности, в конечном счете не пошли на пользу даже самой «Дженерал моторс» — если, конечно, не приравнивать компанию к ее директорам и постоянно меняющейся группе акционеров. Директора получали неслыханно высокие зарплаты, публикуя отчеты о растущих доходах, которые компания, однако, получала не в результате инвестиций в увеличение эффективности, а выжимая все, что можно, из более слабых участников рынка — собственных рабочих, фирм-поставщиков и сотрудников этих фирм. Руководители «Дженерал моторс» покупали молчаливое согласие акционеров, предлагая им такие дивиденды и условия выкупа акций, что под угрозой оказалось будущее самой компании. Акционеры не возражали. Многие из них приветствовали подобную практику, так как большинство из них были теми самыми миноритариями, которых не слишком-то волновали отдаленные перспективы компании, так как в любую минуту они могли ее покинуть (см. Тайну 2).
История «Дженерал моторс» дала нам несколько полезных уроков о потенциальных конфликтах между корпоративными и национальными интересами: что хорошо для компании, как бы важно это ни было, оно может оказаться нехорошо для страны. Случившееся также заставляет задуматься о конфликтах между различными участниками бизнеса компании: что хорошо для одних, например, для директоров и миноритарных акционеров, купивших акции на короткий срок, то может быть плохо для других — для рабочих компании и для ее поставщиков. Наконец, эта история говорит нам: то, что хорошо для компании на текущий момент, может плохо отозваться для нее самой в отдаленной перспективе — что хорошо для «Дженерал моторс» сегодняшней, может оказаться плохо для «Дженерал моторс» завтрашней.
Некоторые читатели, даже те, кто уже согласился с этим утверждением, возможно, все равно теряются в догадках, не являются ли США лишь исключением, подтверждающим правило? Может, недостаток государственного регулирования — проблема США, но в большинстве других стран проблема разве не в излишнем регулировании?
299 РАЗРЕШЕНИЙ
В начале 1990-х годов гонконгский англоязычный деловой журнал «Фар ист экономик ревью» выпустил специальный номер, посвященный Южной Корее. В одной из статей журнала высказывалось удивление, что, несмотря на необходимость получить до двухсот девяноста девяти разрешений от ста девяноста девяти учреждений, чтобы открыть фабрику, Южная Корея за последние тридцать лет увеличивала доход на душу населения на 6% в год. Как это возможно? Как может страна с таким жестким режимом регулирования развиваться так быстро?
Прежде чем разбираться с этой загадкой, я должен отметить, что не только в Корее до 1990-х годов невыполнимые, на первый взгляд, законы сочетались с активным развитием экономики. Аналогичная ситуация наблюдалась в Японии и на Тайване на протяжении всех лет «экономического чуда», с 1950-х по 1980-е годы. Точно так же строго регулировалась в последние три десятилетия своего стремительного роста китайская экономика. Напротив, многие развивающиеся страны в Латинской Америке и субсахарской Африке за последние тридцать лет дерегулировали свою экономику, в надежде, что принятые меры начнут стимулировать деловую активность и ускорят их экономический рост. Как ни странно, начиная с 1980-х годов, они развивались намного медленнее, чем в 1960—1970-х годах, когда им, казалось бы, должны были мешать слишком сильные ограничительные законы (см. Тайны 7 и 11).
Первое объяснение загадки в том, что, как это ни удивительно для большинства людей, не имеющих опыта в бизнесе, бизнесмены получат двести девяносто девять разрешений (если повезет, обойдя некоторые барьеры при помощи взяток), если в результате этого процесса они смогут сделать неплохие деньги. Поэтому в стране, которая быстро растет и в которой постоянно возникают хорошие возможности для бизнеса, даже суета с получением двухсот девяноста девяти справок не отпугнет бизнесменов от открытия новой линии бизнеса. Напротив, если в конце пути ждет лишь маленькая прибыль, то и сбор двадцати девяти справок покажется обременительным занятием.
Причина, по которой некоторые страны, серьезно регулировавшие бизнес, успешно развивались экономически, в том, что большое количество законов на самом деле полезно для бизнеса.
Некоторые законы помогают бизнесу, не позволяя фирмам заниматься деятельностью, которая на сегодня принесет им больше прибылей, но потом уничтожит общие ресурсы, которые необходимы всем экономически активным компаниям. Например, регулирование в рыбоводстве может уменьшить доход отдельных рыбных хозяйств, но поможет рыбной индустрии в целом, сохранив качество воды, которую приходится использовать всем рыбоводческим фермам. Или, другой пример: возможно, в интересах отдельных компаний нанимать детей на работу и занижать им зарплату. Но широкое использование детского труда понизит качество рабочей силы в будущем, поскольку тормозит физическое и умственное развитие детей. В таком случае запрет на детский труд пойдет, в долгосрочной перспективе, на пользу всему бизнес-сектору. Еще пример: отдельные банки могут получить выгоду от более агрессивного кредитования. Но когда по этому пути пойдут все банки, рано или поздно все и пострадают, поскольку подобная ссудная деятельность повысит шансы на крах всей системы, что мы и наблюдали в ходе глобального финансового кризиса 2008 года. Ограничение на деятельность банков может оказать им услугу в будущем, даже если на данный момент пользы им не приносит (см. Тайну 22).
Запреты помогают компаниям, не только не позволяя им разрушить базу для своего долговременного устойчивого развития. Иногда запреты оказывают содействие бизнесу тем, что вынуждают компании делать то, что и не отвечает, возможно, их частным интересам, но в перспективе увеличивает общую эффективность. Например, фирмы часто недостаточно вкладывают в обучение сотрудников. Происходит это потому, что руководство компаний беспокоится, не переманят ли их работников другие фирмы, желающие «поживиться за чужой счет», воспользовавшись их усилиями по повышению квалификации персонала. В подобной ситуации, когда государство требует от всех фирм организации обучения сотрудников, оно увеличивает качество всех трудовых ресурсов, что в итоге пойдет на пользу всем компаниям. Или другой пример: в развивающейся стране, которой необходимо импортировать технологии из-за рубежа, правительство может помочь бизнесу ради большей его эффективности в будущем, запретив импорт устаревших зарубежных технологий, которые сегодня принесут импортерам более высокие прибыли, но оставят их с бесперспективной техникой и оборудованием.
Государственное ограничение свободы бизнеса ради коллективного интереса капиталистического класса описывал еще Карл Маркс, назвав государство «исполнительным комитетом класса капиталистов». Но не надо быть марксистом, чтобы понять: запреты, ограничивающие свободу отдельных компаний, могут способствовать коллективным интересам всего делового сектора и даже нации в целом. Иначе говоря, есть множество ограничений, которые работают на бизнес, а не против него. Многие запреты помогают сохранить общие ресурсы, которыми пользуются все компании, а другие запреты помогают бизнесу, заставляя компании совершать действия, которые в будущем увеличат их коллективную эффективность. Только согласившись с этим, мы сможем понять, что важно не абсолютное количество запретов, но их цели и содержание.
ТАЙНА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. КОММУНИЗМ ПАЛ, НО МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЖИТЬ В УСЛОВИЯХ ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКИ
ЧТО ВАМ РАССКАЗЫВАЮТ
Недостатки экономического планирования убедительно продемонстрированы падением коммунизма. В сложной современной экономике планирование невозможно и нежелательно. Только децентрализованные решения, проведенные через рыночный механизм и основанные на том, что отдельные люди и компании всегда ищут выгодные возможности, способны поддерживать сложную современную экономику. Необходимо избавиться от заблуждения, что в нашем сложном и постоянно меняющемся мире можно что-либо спланировать. Чем меньше планирования, тем лучше.
ЧТО ОТ ВАС СКРЫВАЮТ
Капиталистическая экономика в большой степени планируется. Правительства капиталистических стран так же практикует планирование, хотя и более ограниченное, чем централизованное планирование при коммунизме. Все они финансируют существенную часть капиталовложений в научные исследования и инфраструктуру. Большинство из них контролируют значительную долю экономики через планирование деятельности государственных предприятий. Многие капиталистические правительства планируют будущую модель отдельных секторов промышленности посредством промышленной политики для каждой отрасли или даже определяют модель всей национальной экономики — через индикативное планирование. Немаловажно и то, что экономику современных капиталистических стран составляют крупные корпорации со сложной иерархией, которые тщательно планируют свою деятельность, и это планирование даже выходит за рамки одной страны. Следовательно, вопрос не в том, планировать или нет. А в том, чтобы планировать нужные вещи на нужном уровне.
ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА С РАКЕТАМИ
В 1970-х годах многие западные дипломаты называли Советский Союз «Верхней Вольтой с ракетами». Серьезное оскорбление — я имею в виду, для Верхней Вольты (переименованной в 1984 году в Буркина-Фасо), на которую навесили ярлык типичный нищей страны, в то время как она находилась даже не в самом конце мирового рейтинга бедности. Тем не менее, прозвище емко отражало проблемы советской экономики.
Страна была в состоянии отправить человека в космос, но ее жители стояли в очередях за основными продуктами питания, такими как хлеб и сахар. Страна с легкостью штамповала межконтинентальные баллистические ракеты и ядерные подводные лодки, но не могла произвести нормальный телевизор. Сообщалось, что в 1980-х годах на втором месте среди причин, вызвавших наибольшее число пожаров в Москве, стояли — хотите верьте, хотите нет — взорвавшиеся телевизоры. Лучшие российские ученые были не менее талантливы, чем их коллеги в капиталистических странах, но жизнь остальной части страны не соответствовала тому же капиталистическому стандарту. В чем же было дело?
В погоне за коммунистическими идеалами бесклассового общества, основанного на коллективной собственности на «средства производства» (например, машины, фабричные здания, дороги), СССР и его коммунистические союзники стремились к всеобщей занятости и полному равенству. Поскольку никому не разрешалось владеть средствами производства, практически всеми предприятиями управляли профессиональные управленцы (за небольшим исключением, вроде мелких ресторанчиков и парикмахерских), что препятствовало появлению дальновидных предпринимателей, таких как Генри Форд или Билл Гейтс. При господствующих политических убеждениях о всеобщем равенстве существовало строгое ограничение уровня заработной платы, которую может получать руководитель предприятия, сколь угодно успешного. То есть, хотя система очевидно была способна разработать передовые технологии, руководителям предприятий недоставало стимулов, чтобы направлять их на производство товаров, действительно нужных потребителю. Политика всеобщей занятости любой ценой приводила к тому, что для дисциплинарного воздействия на работников директора не могли использовать самую страшную угрозу — увольнение. Отсюда и небрежность в работе, и прогулы — когда Горбачев пытался реформировать советскую экономику, он часто говорил о проблемах трудовой дисциплины.
Конечно, это не означает, что в коммунистических странах никто не был заинтересован работать хорошо или ответственно управлять компанией. Даже в капиталистических странах мы не все делаем только ради денег (см. Тайну 5), но коммунистические страны больше полагались на альтруистические стороны человеческой натуры, и не без некоторого успеха. С особенной романтикой относились к строительству нового общества на заре коммунистической эры. Патриотизм в Советском Союзе во время Второй мировой войны и сразу после нее тоже имел огромный размах. Во всех коммунистических странах было немало добросовестных директоров и рабочих, которые из профессионализма и самоуважения все делали как следует. Кстати, к 1960-м годам идеалистическая уравниловка раннего коммунизма уступила место реализму, и прогрессивная оплата труда стала нормой, смягчая (но ни в коей мере не снимая) проблемы стимулирования.
Несмотря на это, система по-прежнему функционировала плохо из-за неэффективности коммунистической централизованной системы планирования, которая считалась более эффективной альтернативой рыночной системе.
Коммунистическое обоснование централизованного планирования основывалось на довольно здравой логике. Карл Маркс и его последователи утверждали, что фундаментальная проблема капитализма — противоречие между общественным характером процесса производства и частным характером собственности на средства производства. В процессе экономического развития — или, на марксистском языке, развития производственных сил, — продолжает развиваться разделение труда между компаниями, и в результате компании начинают все больше зависеть друг от друга — то есть, усиливается общественный характер процесса производства. Но, несмотря на растущее взаимодействие между компаниями, утверждали марксисты, сами компании по-прежнему остаются в частных руках, отчего координировать действия этих фирм становится невозможно. Конечно, изменения цен обеспечивают некоторую фактическую координацию между решениями фирм, но достаточно ограниченную, а дисбаланс между спросом и предложением, созданный подобными, если использовать немарксистские термины, «дефектами координирования», возрастает, выливаясь в повторяющиеся экономические кризисы. Во время экономического кризиса, продолжает марксизм, тратится большое количество ценных ресурсов. Многие нераспроданные продукты выбрасываются, машины, производившие не нужные более вещи, идут в утиль, а рабочих, умеющих и желающих работать, сокращают из-за недостатка спроса. С развитием капитализма, предсказывали марксисты, это системное противоречие будет нарастать, и, как следствие, экономические кризисы будут становиться все более и более тяжелыми и глубокими, пока наконец, они не обрушат всю систему.
Напротив, при централизованном планировании, утверждали марксисты, все средства производства находятся в собственности всего общества, и в результате деятельность взаимозависимых производственных единиц может быть скоординирована заранее, в виде единого плана. Когда любая потенциальная ошибка координирования исправляется до того, как она совершена, экономике не приходится переживать периодические кризисы, чтобы сбалансировать предложение и спрос. При централизованном планировании экономика будет производить только то, что необходимо. Никакие ресурсы ни в какой момент времени не будут простаивать, поскольку экономические кризисы прекратятся. Поэтому централизованная система планирования будет управлять экономикой намного более эффективно, чем рыночная система.
Так, по крайней мере, гласила теория. К сожалению, на практике централизованное планирование показало себя не слишком хорошо. Главной проблемой стала организационная сложность. Возможно, марксисты и были правы, считая, что развитие производственных сил, повышая взаимозависимость различных сегментов капитала, приводит ко все большей необходимости централизованного планирования. Но они не осознали, что оно же усложняет устройство экономики, делая задачу централизованного планирования более трудной.
Централизованное планирование оправдывало себя, когда цели были сравнительно небольшими и понятными, что видно по успехам начального этапа советской коллективизации, где главным было произвести сравнительно небольшое число основных продуктов в больших объемах (сталь, трактора, зерно, картофель и т. д.). Но по мере того, как экономика развивалась и появлялись все более разнообразные продукты, реальные и потенциальные, планировать ее централизованно становилось все труднее. Конечно, с развитием экономики возможности планирования также увеличились, благодаря развитию административных навыков, математических методов планирования и компьютеров. Но развития возможностей планирования оказалось недостаточно, чтобы справиться с растущей сложностью экономического устройства.
Очевидным решением было ограничение ассортимента продукции, но этот шаг создал огромный неудовлетворенный спрос. Да и при уменьшенном ассортименте экономика все равно оставалась слишком сложной для планирования. Производилось много не находящих спроса товаров, которые оставались нераспроданными, и при этом наблюдалась нехватка многих других продуктов, порождавшая повсеместные очереди. Когда к 1980-м годам коммунизм начал разрушаться, к системе, которая оказывалась все более неспособной выполнять свои обещания, относились с таким цинизмом, что в коммунистических странах ходила шутка: «мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что нам платят».
Неудивительно, что как только вслед за падением Берлинской стены правящие партии во всем социалистическом блоке получили отставку, от централизованного планирования повсеместно отказались. Даже такие страны, как Вьетнам и Китай, внешне сохранившие коммунистическую идеологию, от централизованного планирования постепенно отказывались, хотя их государства по-прежнему сохраняли над экономикой существенный контроль. Итак, все мы теперь живем в условиях рыночной экономики (если вы, конечно, не житель Северной Кореи или Кубы). Планирование осталось в прошлом. Или нет?
ЕСТЬ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ
То, что коммунизм исчез, с практической точки зрения не означает, что прекратило свое существование и планирование. Правительства капиталистических стран тоже занимаются планированием, хотя и не таким всеобъемлющим, как централизованное планирование, осуществлявшееся руководством коммунистических стран.
Даже в капиталистической экономике бывают ситуации, когда централизованное планирование более эффективно — например, тотальная война. Так, в годы Второй мировой войны экономика ведущих капиталистических стран, участвовавших в войне — США, Великобритании и Германии, — была во всем, кроме названия, полностью плановой.
Но главное не это. Многие капиталистические страны успешно используют, что называется, «индикативное», или «рекомендательное» планирование. При этом планировании правительство капиталистической страны устанавливает широкие цели по ключевым экономическим показателям (например, инвестиции в стратегические отрасли, развитие инфраструктуры, экспорт) и работает для их достижения не против частного сектора, а совместно с ним. В отличие от централизованного планирования, эти цели не являются юридически обязательными. Отсюда и название «рекомендательное». Тем не менее, правительство всячески старается добиться выполнения поставленных целей, используя имеющиеся в его распоряжении «пряники» (субсидии, предоставление монопольных прав) и «кнуты» (законы, воздействие через государственные банки).
В 1950–1960-х годах Франция через индикативное планирование достигла большого успеха в стимулировании инвестиций и технических инноваций, догнав британскую экономику и став второй в Европе промышленной державой. Другие европейские страны, такие как Финляндия, Норвегия и Австрия, в 1950–1970-х годах тоже успешно применяли индикативное планирование для модернизации экономики. Страны восточноазиатского экономического чуда — Япония, Корея и Тайвань — также пользовались индикативным планированием в 1950–1980-х годах. Нельзя сказать, что все эти опыты рекомендательного планирования были успешны. Например, в Индии — нет. Тем не менее, примеры европейских и восточноазиатских страны доказывают, что в некоторых формах планирование вполне совместимо с капитализмом и даже способствует капиталистическому развитию.
Но, даже не занимаясь в явном виде планированием всей экономики, пусть и рекомендательным, правительства большинства капиталистических стран составляют и реализуют планы ряда ключевых видов деятельности, которые имеют важное для всей экономики значение (см. Тайну 12).
Большинство капиталистических стран планируют и формируют будущее ряда наиболее важных отраслей посредством так называемой отраслевой промышленной политики. Все европейские и восточноазиатские страны, практиковавшие рекомендательное планирование, активно практиковали и отраслевую промышленную политику. Отраслевую политику применяли даже страны, не прибегавшие к рекомендательному планированию, такие как Швеция и Германия.
В большинстве капиталистических стран государство владеет, а часто и управляет существенной долей национальной экономики через государственные предприятия (ГП). ГП часто встречаются в важных секторах инфраструктуры (таких как железные и автомобильные дороги, воздушные и морские порты) или в основных обслуживающих отраслях (водоснабжение, электричество, почтовая служба), но попадаются и в промышленности или финансах (подробнее с ГП можно познакомиться в главе «Эксплуатация человека человеком» моей книги «Недобрые самаритяне»). Доля ГП в национальном продукте может доходить до двадцати с лишним процентов, как в случае Сингапура, или не подниматься выше одного процента, как в случае США, но в среднем по миру она составляет 10%. Если государство планирует деятельность ГП, это означает, что существенная часть экономики среднестатистической капиталистической страны планируется напрямую. Если мы вспомним что ГП обычно создаются в отраслях, оказывающих огромное влияние на остальную экономику, косвенный эффект планирования, осуществляемого через ГП, окажется еще больше, чем можно предположить, исходя из доли ГП в производстве валового национального продукта.
Во всех капиталистических странах государство планирует картину будущего национальной промышленности, финансируя важную долю (20–50%) научных разработок. Интересно, что США, в этом отношении, — одна их самых плановых капиталистических экономик. С 1950-х по 1980-е годы доля государственного финансирования научно-исследовательской деятельности на «свободном» рынке США составляла, в зависимости от года, от 47 до 65%, против примерно 20% в Японии и Корее и менее 40% в некоторых европейских странах (например, Бельгии, Финляндии, Германии, Швеции)[13]. С 1990-х годов эта доля уменьшилась, поскольку с окончанием «холодной войны» сократилось финансирование многих военных разработок. Но все равно, в США роль государства в финансировании исследований по-прежнему выше, чем во многих других капиталистических странах. Примечательно, что большинство отраслей, где США сохраняют мировое лидерство, — это отрасли, где разработки получают щедрые правительственные ассигнования через военные программы (компьютеры, полупроводники, авиастроение и др.) и через проекты в области здравоохранения (например, фармакология и биотехнология). Конечно, с 1980-х годов объем государственного планирования в большинстве капиталистических стран уменьшился, не в последнюю очередь из-за расцвета в этот период рыночной идеологии. Индикативное планирование в большинстве стран было свернуто, включая те страны, где оно шло успешно. Во многих странах, хотя и не во всех, приватизация привела к падению доли ГП в производстве национального продукта и инвестициях. Объем доли государственного финансирования в общем финансировании разработок также снизился практически во всех капиталистических странах, хотя в большинстве случаев не намного. Однако я бы сказал, что, несмотря на сравнительное уменьшение масштабов государственного планирования за последний период, в капиталистической экономике продолжает действовать мощное и все более активное планирование. Почему, спросите вы?
ПЛАНИРОВАТЬ ИЛИ НЕ ПЛАНИРОВАТЬ — НЕ В ТОМ ВОПРОС
Предположим, в компании появился новый генеральный директор и сказал: «Я свято верю в рыночные силы. В нашем быстро меняющемся мире нельзя следовать жесткой стратегии, надо сохранять максимально возможную гибкость. Поэтому отныне каждый в этой компании будет руководствоваться меняющимися рыночными ценами, а не каким-то твердым планом». Как вы думаете, что произойдет? Обрадуются ли работники приходу нового лидера со взглядами, соответствующими велениям XXI века? Будут ли акционеры приветствовать его рыночный подход и вознаградят ли его повышением зарплаты?
Он не протянет и недели. Люди скажут, что он не обладает качествами руководителя. Его обвинят в недостатке «всякой такой философии» (как однажды выразился Джордж Буш-старший). Главное лицо, ответственное за принятие решений, заявят ему, должен быть готов формировать будущее компании, а не пускать все на самотек. Слепо следовать рыночной конъюнктуре — так бизнес не ведется, скажут они.
От нового генерального ожидали бы нечто вроде таких слов: «Вот где наша компания находится сегодня. Вот куда я хочу привести ее через десять лет. Чтобы добраться туда, мы будем разрабатывать новые направления А, Б и В, а направления Г и Д будем сворачивать. Наше дочернее предприятие в отрасли Г будет продано. Мы закроем на родине филиал в отрасли Д, но часть производства, возможно, будет переведена в Китай. Чтобы развивать наше предприятие в отрасли А, нам придется вкладывать в него часть доходов имеющихся направлений. Чтобы утвердить свое присутствие в отрасли Б, нам надо вступить в стратегический альянс с японской “Кайша корпорейшн”, в связи с чем, возможно, придется поставлять им кое-какую нашу продукцию по цене ниже рыночной. Чтобы включить в нашу сферу деятельности направление В, в ближайшие пять лет придется увеличить вложения в научные разработки. Все это может в ближайшем будущем привести компанию в целом к финансовым потерям. Если это случится, то так тому и быть. Потому что это цена, которую мы должны заплатить ради нашего лучшего будущего». Другими словами, в генеральном директоре ожидают увидеть «человека с готовым планом».
Бизнес-предприятия планируют свою деятельность — иногда до последней детали. Собственно, отсюда Маркс и почерпнул идею централизованного планирования всей экономики в целом. Когда он говорил о планировании, в реальности ни одно государство планированием не занималось. В те времена планировали свою деятельность только фирмы. Маркс же предсказал, что «рациональный» плановый подход капиталистических компаний впоследствии окажется совершеннее расточительной анархии рынка и поэтому, рано или поздно, распространится на всю экономику в целом. Конечно, он критиковал планирование внутри компании как деспотизм капиталистов, но был уверен, что как только частная собственность будет отменена и капиталисты уничтожены как класс, то рациональные зерна этого деспотизма будут выделены и поставлены на службу общественному благу.
С развитием капитализма в различных областях экономики все больше и больше начинают господствовать крупные корпорации. Это значит, что доля капиталистической экономики, охваченная планированием, растет. Приведу конкретный пример: сегодня, в зависимости от оценок, от одной трети до половины международной торговли составляют операции между различными подразделениями транснациональных корпораций.
Герберт Саймон, лауреат Нобелевской премии по экономике 1978 года, пионер исследований экономических организаций (см. Тайну 16), кратко изложил эту мысль в одной из последних своих статей «Организации и рынки», опубликованной в 1991 году. Если бы марсианин, не скованный предубеждениями, прилетел бы на Землю и взглянул на нашу экономику, рассуждал Саймон, заключил бы он, что земляне живут в условиях рыночной экономики? Нет, отвечал ученый, он бы наверняка пришел к выводу, что земляне живут в «организационной экономике» — в том смысле, что львиная доля экономической деятельности на Земле координируется в пределах фирм (организаций), а не через рыночные операции между этими фирмами. Если обозначить фирмы зеленым цветом, а рынки — красным, говорил Саймон, наш марсианин увидел бы «большие зеленые участки, соединенные между собой красными линиями», а не «сеть красных линий, соединяющих зеленые пятнышки»{50}. И мы еще считаем, что планирование умерло.
Саймон говорил не о государственном планировании, но если добавить к рассмотрению и государственное планирование, то экономика современных капиталистических стран окажется еще более плановой, чем в его примере с марсианином. С одной стороны, планирование ведется внутри корпораций, с другой стороны, работают различные виды государственного планирования, и в целом получается, что современная капиталистическая экономика спланирована весьма детально. Из всех этих наблюдений следует один интересный вывод: экономика богатых стран планируется больше, чем экономика бедных, по той причине, что первые более широко охвачены деятельностью крупных корпораций, а влияние государства там часто проникает глубже (хотя зачастую оно и менее заметно, из-за того что осуществляется более аккуратно).
Выходит, вопрос не в том, планировать или не планировать. Вопрос в правильном уровне и формах планирования различных видов деятельности. Предубеждение против планирования, хотя и понятное, после неудач коммунистического централизованного планирования заставляет нас неверно интерпретировать истинную природу современной экономики, в которой и политика государства, и корпоративное планирование, и рыночные отношения в равной степени важны и находятся в сложном взаимодействии. Конечно, в отсутствие рынков мы придем к недостаткам советской системы. Но полагать, что можно жить одним лишь рынком, — все равно что считать, будто можно есть одну соль, потому что соль необходима для жизни.
ТАЙНА ДВАДЦАТАЯ. РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОГУТ БЫТЬ НЕСПРАВЕДЛИВЫ
ЧТО ВАМ РАССКАЗЫВАЮТ
Многих людей удручает неравенство. Но есть равенство и равенство. Когда вы вознаграждаете людей одинаково, независимо от затраченных ими усилий и от их достижений, более талантливые и трудолюбивые теряют стимул работать. В результате получается равенство результатов. Это порочная идея, что доказало падение коммунизма. Мы же стремимся к равенству возможностей. Например, не только несправедливо, но и неэффективно, если черный студент в условиях апартеида Южной Африки не имеет возможности посещать лучшие, «белые», университеты, даже если он хорошо учится. Людям нужно предоставлять равные возможности. Однако и несправедливо, и неэффективно вводить политику равноправия и начинать принимать менее талантливых студентов только потому, что они черные или из неблагополучных семей. В попытке уравнять результаты мы не только упускаем таланты, но и наказываем тех, кто обладает большими способностями и проявляет больше старания.
ЧТО ОТ ВАС СКРЫВАЮТ
Равенство возможностей — отправная точка для справедливого общества. Но его недостаточно. Конечно, отдельных людей стоит награждать за хорошую работу, но вопрос в том, соревнуются ли они в тех же условиях, что и их конкуренты. Если ребенок плохо учится в школе, потому что голоден и на уроке не может сосредоточиться, нельзя сказать, что этот ребенок показывает плохие результаты в учебе потому, что у него меньшие способности, чем у других. Справедливую конкуренцию возможно обеспечить, только если ребенок нормально питается — дома, где его обеспечивает семья, и в школе, где его кормят по бесплатной программе школьного питания. Если не будет создано равенства исходных условий (например, все родители получают доход выше определенного порогового минимума, что позволяет их детям не голодать), равные возможности, например всеобщее бесплатное обучение, мало что значат.
БОЛЬШИЙ КАТОЛИК ЧЕМ САМ ПАПА?
В Латинской Америке люди часто пользуются выражением, что кто-то «больший католик, чем папа римский» («mas Papista que el Papa»). Этой фразой можно описать тенденцию, которая наблюдается в обществах на интеллектуальной периферии, применять доктрины — религиозные, экономические, социальные — более жестко, чем в странах, где эти доктрины были созданы.
Корейцы, народ, к которому я принадлежу, — наверное, чемпионы в том, чтобы «быть большими католиками, чем папа римский» (не в буквальном смысле — католиков среди них лишь около 10%). Корея — страна не маленькая. Совокупное население Северной и Южной Кореи, которые до 1945 года на протяжении почти тысячелетия были одной страной, сегодня составляет около 70 миллионов человек. Но страна оказалась в самом центре зоны, где схлестнулись интересы гигантов: Китая, Японии, России и США. Поэтому мы привыкли перенимать идеологию кого-то из «больших», становясь более ортодоксальными, чем он сам. Когда мы исповедуем коммунизм (там, «у северян»), то мы большие коммунисты, чем русские.
Когда мы с 1960-х по 1980-е годы практиковали государственный капитализм японского стиля (у «южан»), то были в большей степени сторонниками государственного капитализма, чем сами японцы. Сегодня, переключившись на капитализм американского толка, мы читаем американцам лекции о достоинствах свободной торговли и всячески стыдим их за дерегуляцию финансовых рынков и рынков труда.
Поэтому вполне естественно, что до начала XIX века, когда мы находились в сфере китайского влияния, мы были большими конфуцианцами, чем китайцы. Конфуцианство, если кто не знаком с ним, — культурно-нравственная система, основанная на учении Конфуция. Таково латинизированное имя китайского политического философа Кун-цзы, жившего в V веке до н.э. Сегодня, видя экономические успехи некоторых конфуцианских стран, многие полагают, будто эта культура лучше других способствует экономическому развитию, однако это была типичная феодальная идеология, и только во второй половине XX века ее стали адаптировать к требованиям современного капитализма{51}.
Как и большинство других феодальных идеологий, конфуцианство поддерживало строгую социальную иерархию, которая ограничивала для людей выбор рода занятий, определяемого их рождением. Такая система не давала талантливым людям из низших каст подняться выше своего статуса. В конфуцианстве существовало принципиальное разделение между земледельцами, которые считались основой общества, и остальными трудящимися классами. Сыновья земледельцев могли сдать экзамен для поступления на государственную гражданскую службу (чрезвычайно трудный) и войти в правящий класс, хотя на практике такое случалось редко. Сыновей ремесленников и купцов вообще не допускали до экзамена, какими бы умными они ни были.
Китай, как место рождения Конфуция, позволил себе смелость выбрать более прагматичный подход к интерпретации классических доктрин и дал возможность людям из торгово-ремесленного класса сдавать экзамен на государственную должность. Корея — будучи более конфуцианской, чем сам Конфуций, — непреклонно придерживалась теории и отказывалась брать на службу талантливых людей на том единственном основании, что они родились «не у тех» родителей. Только после нашего освобождения от японского колониального владычества (1910–1945) традиционная кастовая система была полностью отменена и Корея стала страной, где происхождение не устанавливает потолок для личных успехов. Впрочем, предубеждение против ремесленников (в современных понятиях, инженеров) и торговцев (в современных понятиях, бизнес-менеджеров) продолжало существовать еще несколько десятилетий, пока развитие экономики не сделало эти профессии привлекательными.
Разумеется, не только феодальная Корея отказывала людям в равенстве возможностей. Европейские феодальные общества существовали в рамках аналогичных систем, а в Индии кастовая система действует до сих пор, хотя и неофициально. Равных возможностей не предоставляли людям не только на уровне каст. До Второй мировой войны большинство обществ отказывало женщинам в праве быть избранными на государственный пост; по сути дела, им вообще отказывали в политическом гражданстве и даже не разрешали голосовать. До недавнего времени целый ряд стран ограничивал доступ к образованию и работе по расовым мотивам. В конце XIX — начале XX века США запрещали иммиграцию «нежелательных» рас, особенно азиатов. Южная Африка в годы режима апартеида имела отдельные университеты для белых и отдельные, с очень скудным финансированием, — для остальных («цветных» и черных).
Как видим, большинство людей в мире совсем не так давно были в том положении, когда им не давали двигаться вперед из-за их принадлежности к определенной расе, полу или касте. Равные возможности — достижение, которым надо дорожить.
РЫНКИ ОСВОБОЖДАЮТ?
Многие формальные правила, ограничивающие равенство возможностей, были уничтожены при жизни нескольких последних поколений. Во многом это произошло в результате политической борьбы дискриминируемых — такой как чартистские требования всеобщего избирательного права (для мужчин) в Великобритании в середине XIX века, движение за гражданские права черных в США в 1960-х годах, борьба против апартеида в Южной Африке во второй половине XX века и сегодняшняя борьба низших каст в Индии. Без этих и бессчетных других выступлений женщин, угнетенных рас и низших каст мы бы до сих пор жили в мире, где ограничение прав людей по принципу «лотереи рождения» считалось бы естественным.
В этой борьбе против неравных возможностей большим подспорьем оказался рынок. Когда выживание обеспечивается только эффективностью, указывают экономисты, в рыночные операции не могут вмешаться расовые или политические предрассудки. Милтон Фридман коротко сформулировал это в своей книге «Капитализм и свобода»: «Тот, кто покупает хлеб, не знает, кем была выращена пшеница, из которой этот хлеб выпечен: коммунистом или республиканцем… негром или белым». Следовательно, утверждает Фридман, рано или поздно расизм будет уничтожен рынком или по крайней мере существенно им ограничен, поскольку работодатели-расисты, желающие нанимать только белых, будут потеснены работодателями более широких взглядов, которые нанимают на работу лучшие имеющиеся таланты, независимо от их расы.
Этот тезис показательно иллюстрирует тот факт, что даже печально знаменитому режиму апартеида в Южной Африке пришлось назначить японцев «почетными белыми». Японских топ-менеджеров, руководителей местных заводов компаний «Тойота» и «Ниссан», никак нельзя было отправить жить в Соуэто и тому подобные поселения, где, по законам апартеида, должны были жить не-белые. Поэтому южноафриканцам-сторонникам превосходства белых пришлось наступить на горло собственной гордости и, если им хотелось разъезжать на японских автомобилях, сделать вид, что японцы — белые. Такова сила рынка.
Сила рынка как «уравнителя» проявляется куда чаще, чем нам кажется. Как язвительно показывает в своей экранизированной пьесе «Любители истории» английский писатель Алан Беннетт, студенты из ущемленных в правах групп населения, как правило, имеют меньше интеллектуальной и социальной уверенности в себе и поэтому находятся в невыгодном положении при поступлении в элитные университеты — и, как следствие, при получении более высоко оплачиваемых работ. Очевидно, что университеты не обязаны отвечать на требования рынка так же быстро, как фирмы. Однако если бы какой-то университет постоянно проводил политику дискриминации в отношении этнических меньшинств или детей из пролетарских семей и принимал только людей «правильного» происхождения, несмотря на их более низкие способности, то потенциальные работодатели рано или поздно начали бы предпочитать выпускников нерасистских университетов. Если университет, придерживающийся узких взглядов, желает набирать самых лучших студентов, то рано или поздно он должен будет отказаться от своих предрассудков.
При всем вышесказанном заманчиво будет заявить, что если вы обеспечите равенство возможностей, лишенное любой формальной дискриминации, кроме дискриминации по заслугам, то рынок, посредством механизма конкуренции, избавится от последних остатков предубеждений. Но это только начало. Чтобы построить по-настоящему справедливое общество, нужно сделать гораздо больше.
КОНЕЦ АПАРТЕИДА И «ОБЩЕСТВО-КАППУЧЧИНО»
Хотя еще слишком многие испытывают предубежденность в отношении той или иной расы, малообеспеченных, низших каст и женщин, сегодня мало кто станет в открытую возражать против принципа равных возможностей. Но далее мнения резко разделяются. Некоторые утверждают, что равенство должно заканчиваться равенством возможностей. Другие, и я в том числе, считают, что простого равенства возможностей недостаточно.
Экономисты-сторонники свободного рынка предостерегают, что если мы попытаемся уравнять вознаграждение за те или иные действия, а не только возможности такие действия совершать, то мы разовьем у людей резкое нежелание добросовестно трудиться и предлагать новаторские решения. Станете ли вы работать на совесть, если будете знать, что, как бы вы ни старались, заплатят вам столько же, сколько тому, кто работает спустя рукава? Не поэтому ли китайские сельскохозяйственные коммуны при Мао Цзэдуне постигло такое поражение? Если вы обложили богатых несоразмерным налогом и пустили вырученную сумму на финансирование социального обеспечения, разве богатые не утратят стимул создавать богатство, а бедные — стимул работать, ибо им гарантирован минимальный уровень жизни, независимо от того, как они работают — и работают ли вообще (см. Тайну 21)? Таким образом, заявляют экономисты, при попытке уменьшить неравенство результатов теряет каждый (см. Тайну 13).
Безусловно, чрезмерные попытки уравнять результаты труда — скажем, маоистская коммуна, где практически нет никакой связи между затраченными человеком усилиями и получаемым за них вознаграждением, — окажут отрицательное влияние на отношение к работе. Это тоже несправедливо. Но я убежден, что некоторая степень уравнительного отношения к вознаграждению за труд тоже нужна, если мы хотим построить подлинно справедливое общество.
Чтобы люди получили пользу от предоставленных равных возможностей, необходимо иметь возможности ими воспользоваться. Совсем неважно, что у чернокожих южноафриканцев теперь есть такая же возможность получить высокооплачиваемую работу, что и у белых, если для этой работы чернокожим не хватает образования. Не имеет значения, что черные теперь могут поступать в лучшие университеты (ранее предназначавшиеся «только для белых»), если им все равно приходится посещать школы со скудным финансированием и низкоквалифицированными учителями, часть из которых сама с трудом умеет читать и писать.
Для большинства черных детей в Южной Африке недавно приобретенные равные права для поступления в хорошие университеты не означают, что они могут пойти туда учиться. Тамошние школы по-прежнему бедны и дают плохое образование. Нельзя сказать, что их очень квалифицированные учителя в этих школах вдруг резко поумнели после избавления от апартеида. Родители этих детей по-прежнему сидят без работы (даже официальный рейтинг безработицы, который существенно недооценивает истинный уровень безработицы в этой развивающейся стране, составляет 26–28% и является одним из самых высоких в мире). Для них право поступить в лучшие университеты — это несбыточная мечта. Поэтому Южная Африка после апартеида превратилась в так называемое «общество-каппуччино»: коричневая масса на дне и тонкий слой белой пены над ней, слегка присыпанный сверху какао.
Экономисты-рыночники скажут вам, что те, у кого нет образования, решительности и предпринимательской энергии, должны винить только себя. Почему люди, которые работали изо всех сил и получили университетское образование, невзирая на все трудности, должны вознаграждаться точно так же, как и те выходцы из низов, что ведут жизнь мелких преступников?
Аргумент справедлив. Мы не можем и не должны объяснять поступки человека одним только влиянием среды, в которой он вырос. Люди ответственны за то, чего они достигли в жизни.
Тем не менее, хотя аргумент и справедлив, он — лишь часть общей картины. Люди рождаются не в вакууме. Социально-экономическое окружение, в котором они существуют, налагает серьезные поправки на то, что они имеют возможность делать. И даже на то, что они хотят делать. Среда может заставить вас махнуть рукой на некоторые вещи, даже не пытаясь что-то предпринять для их достижения. Например, многие хорошо успевающие в школе одаренные дети представителей рабочего класса даже не пытаются поступать в университеты, потому что университет — «это не для них». Подобное отношение понемногу меняется, но я еще помню снятый в конце 1980-х годов документальный фильм Би-би-си, в котором старый шахтер и его жена критикуют одного из своих сыновей, отучившегося в университете и ставшего учителем, как «предателя рабочего класса».
Глупо возлагать всю вину на социально-экономическую среду, но так же неверно считать, что люди способны достичь всего, если будут лишь «верить в себя» и приложат достаточно усилий, как обожают нам рассказывать голливудские фильмы. Равенство возможностей не имеет смысла для тех, у кого не хватает шансов ими воспользоваться.
ЛЮБОПЫТНЫЙ СЛУЧАЙ. АЛЕХАНДРО ТОЛЕДО
Сегодня ни одна страна не препятствует детям из бедных семей посещать школу, но многие дети в бедных странах не могут пойти учиться, потому что не имеют средств оплатить обучение. Даже в странах с бесплатным общим образованием дети из бедных семей обречены плохо учиться, независимо от своих способностей. Некоторые из них не едят дома и не ходят на обед в школе. Поэтому им трудно сосредоточиться, и результат успеваемости вполне предсказуем. В некоторых случаях их интеллектуальное развитие уже бывает задержано из-за недостатка полноценного питания в ранние годы жизни. Эти дети чаще болеют и поэтому чаще пропускают занятия. Если их родители неграмотны и /или вынуждены помногу работать, некому помочь ребенку с уроками, тогда как детям из среднего класса помогают родители, а у богатых детей будут частные преподаватели. Помогают в учебе детям из бедных семей родители или нет, у них может не хватать времени делать уроки, если им приходится приглядывать за младшими братьями и сестрами или пасти коз.
Поэтому если мы соглашаемся, что нельзя наказывать детей за то, что у них бедные родители, то мы должны обеспечить всем детям некий минимум еды, медицинского обслуживания и помощи в учебе. Многое можно реализовать через государственную политику, как это происходит в некоторых странах: бесплатные школьные завтраки, прививки, базовые профилактические осмотры и небольшая помощь в выполнении домашних заданий после уроков, которую оказывают учителя или репетиторы, нанимаемые школой со стороны. Но многое должно быть реализовано в семье, так как школы могут обеспечить только такую поддержку.
Поэтому, если мы хотим предоставить детям минимально равные шансы, доходы родителей должны быть хотя бы приблизительно равны. Без этого даже бесплатное обучение в школе, бесплатные школьные завтраки, бесплатные прививки и т. д. не обеспечат детям реального равенства возможностей.
И во взрослой жизни также должно быть обеспечено определенное равенство промежуточных возможностей. Хорошо известно, что если человек долгое время оставался без работы, ему все труднее и труднее вернуться на рынок труда. Но потеряет кто-то работу или нет, определяется не только «ценностью» этого человека. Многие теряют работу потому, что решают перейти в отрасль, которая поначалу казалась перспективной, но с тех пор получила серьезный удар от внезапно возросшей конкуренции на международном рынке. Мало кто из американских рабочих сталелитейных заводов или английских кораблестроителей, которые пришли в свои отрасли в 1960-х годах, — да, в общем-то, и все остальные тоже — сумел бы предсказать, что к началу 1990-х годов их отрасли будут практически растоптаны конкуренцией японцев и корейцев. Справедливо ли, что этим людям приходится несоразмерно страдать, будучи выброшенными на обочину истории?
Конечно, на идеальном свободном рынке такое не должно стать проблемой, поскольку американские сталелитейщики и английские корабелы могут получить работу в развивающихся отраслях. Но много ли вы знаете бывших американских сталелитейщиков, которые стали компьютерными инженерами, или бывших англичан-корабелов, которые переквалифицировались в инвестиционных банкиров? Если такое происходит, то крайне редко.
Более справедливым было бы помогать уволенным рабочим начать новую карьеру, выплачивая им достойные пособия по безработице, предоставляя страховку, даже когда они остались без места, предлагая программы переподготовки и помощь в поисках работы, что особенно хорошо удается скандинавским странам. Как я пишу далее в этой книге (Тайна 21), данный подход может оказаться более продуктивным для экономики в целом.
Да, теоретически чистильщик обуви из бедного провинциального городка в Перу может поступить в Стэнфорд и получить научную степень, что сумел сделать бывший президент Перу Алехандро Толедо, но на одного Толедо приходятся миллионы перуанских детишек, которые не посещали даже среднюю школу. Да, конечно, можно сказать, что все эти миллионы бедных перуанских детишек — ленивые бездарности, так как Толедо показал, что и они могли бы попасть в Стэнфорд, если бы приложили достаточно усилий. Но думаю, гораздо справедливее сказать, что Толедо — исключение. Без равенства промежуточных возможностей (например, дохода родителей), бедные не смогут в полной мере воспользоваться равенством исходных возможностей.
Сравнение социальной мобильности в разных странах подтверждает эти доводы. Согласно подробному анализу, проведенному группой исследователей в Скандинавии и США, скандинавские страны отличаются более высокой социальной мобильностью, чем Великобритания, которая, в свою очередь, обладает большей мобильностью, чем США{52}. Неслучайно, что чем лучше развито социальное обеспечение, тем выше мобильность. В частности, общая низкая мобильность в США во многом объясняется низкой мобильностью на низших слоях общества, из чего можно сделать вывод, что именно недостаточный гарантированный базовый доход не позволяет детям из бедных семей воспользоваться равными возможностями.
Излишнее уравнивание промежуточных возможностей вредно, хотя что именно считать излишним — вопрос открытый. Тем не менее равенства начальных возможностей недостаточно. Если мы не создадим среду, где каждому обеспечены определенные минимальные шансы, через гарантию минимального дохода, образования и здравоохранения, то нельзя говорить, что мы создали справедливую конкуренцию. В условиях, когда некоторым приходится бежать стометровку с мешками песка на ногах, и при этом никому не предоставляется гандикап, результаты забега нельзя считать справедливыми. Равные возможности на старте абсолютно необходимы, но недостаточны для построения по-настоящему справедливого и эффективно работающего общества.
ТАЙНА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ. ПРИ «БОЛЬШОМ ГОСУДАРСТВЕ» ЛЮДИ БОЛЕЕ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ПЕРЕМЕН
ЧТО ВАМ РАССКАЗЫВАЮТ
Широкий государственный контроль вреден для экономики. Социальное обеспечение появилось потому, что бедные желали облегчить себе жизнь, заставив богатых оплачивать стоимость приспособления к рынку, которого тот постоянно требует. Когда богатых облагают налогом ради того, чтобы бедные могли пользоваться пособиями по безработице, страхованием, медицинским обслуживанием и прочими социальными благами, это не только делает бедных ленивыми, а богатых лишает стимула накапливать богатство, — менее динамичной становится экономика в целом. Под защитой системы социального обеспечения люди не чувствуют необходимости приспосабливаться к новым реалиям рынка и препятствуют тем самым изменениям в своей профессии и организации работы, необходимым для динамичного регулирования экономики. Не нужно даже вспоминать неудачи коммунистических стран. Взгляните, как недостает динамизма Европе, с ее раздутой системой соцобеспечения, по сравнению с бурной жизненной активностью в США.
ЧТО ОТ ВАС СКРЫВАЮТ
Хорошо проработанная система социального обеспечения может побуждать людей опробовать новые идеи в работе и быть не менее, а более открытой изменениям. Это одна из причин, почему в Европе торговый протекционизм пользуется меньшей популярностью, чем в США. Европейцы не сомневаются, что даже если под влиянием международной конкуренции их отрасли будут свернуты, сами они сохранят прежний уровень жизни (благодаря пособию по безработице) и получат возможность переподготовки (на государственные субсидии). Американцы знают, что потеря работы может означать для них серьезное падение уровня жизни и даже конец карьеры. Вот почему европейские страны с самыми развитыми системами соцобеспечения, такие как Швеция, Норвегия и Финляндия, смогли развиваться быстрее или, по крайней мере, столь же быстро, как США, даже в период «американского возрождения» после 1990-х годов.
ДРЕВНЕЙШАЯ ПРОФЕССИЯ В МИРЕ?
Представители различных профессий в одной христианской стране обсуждали, какая профессия самая старая.
Врач сказал: «Что первым делом сделал Бог с людьми? Провел хирургическую операцию — вырезал Еву из ребра Адама. Древнейшая профессия — медицинская».
«Неправда, — сказал архитектор. — Первое, что он сделал, — построил мир из хаоса. Тем же занимаются и архитекторы — создают из хаоса порядок. Мы — древнейшая профессия».
Внимательно слушавший их политик ухмыльнулся и спросил: «А кто создал тот хаос?»
Возможно, медицина — не древнейшая профессия на земле, но одна из самых популярных в мире. Но ни в одной стране она не пользуется большей популярностью, чем у меня на родине, в Южной Корее.
Исследование, проведенное в 2003 году, показало, что четверо из пяти «университетских абитуриентов с высшими результатами» (верхние 2% выборки), подававших документы на естественнонаучные специальности, хотели изучать медицину. По неофициальным данным, за последние несколько лет даже на наименее конкурентоспособные из двадцати семи медицинских факультетов в стране стало труднее поступить, чем на лучшие инженерные факультеты. Популярнее некуда.
Примечательно, что для медицины, всегда пользовавшейся в Корее популярностью, такой невероятный интерес в новинку. Он появился только в XXI веке. Что же изменилось?
Один из очевидных возможных ответов — по какой-то причине (например, старение населения) сравнительные доходы врачей увеличились, и молодые люди просто реагируют на смену стимулов: рынку требуется больше способных врачей, поэтому в профессию приходит все больше способных людей. Однако сравнительный доход врачей в Корее падал из-за постоянного увеличения их численности. И нельзя сказать, чтобы появился некий новый государственный закон, после введения которого стало труднее получить работу инженера или ученого (очевидные альтернативы для потенциальных докторов). Что же на самом деле происходит?
Это явление вызвано происходившим за последние лет десять резким снижением гарантии занятости. После финансового кризиса 1997 года, который подвел черту под годами «экономического чуда», Корея отказалась от патерналистской политики вмешательства в экономику и перешла к рыночному либерализму, делающему ставку на максимальную конкурентную борьбу. Обеспеченность работой была резко сокращена во имя большей гибкости рынка труда. Миллионы работников были вынуждены перейти на временный режим труда. Как ни странно, уже и до кризиса в стране был один из самых гибких рынков труда в богатом мире, с самой высокой долей работников, не имеющих постоянного контракта: около 50%. Недавняя либерализация подняла их долю еще выше — до 60%. Да и те, кто трудится на постоянной основе, сейчас страдают от ненадежности рабочих мест. До кризиса 1997 года большинство работников с постоянным контрактом могли рассчитывать если не де-юре, то де-факто на пожизненную занятость (как это до сих пор действительно для многих их японских коллег). Больше такого нет. Теперь работникам постарше, лет сорока-пятидесяти, даже имеющим постоянный контракт, при первом же случае настоятельно рекомендуют уступить дорогу молодому поколению. Компания не может уволить их, когда ей того заблагорассудится, но все мы знаем, что всегда найдутся способы дать человеку понять, что его присутствие нежелательно и тем самым заставить его уйти «по собственному желанию».
Глядя на происходящее, корейская молодежь, вполне понятно, перестраховывается. Если стать ученым или инженером, рассуждают они, велики шансы, что к сорока годам я останусь без работы, даже если пойду работать в одну из крупных компаний, таких как «Самсунг» или «Хендэ». Пугающая перспектива, поскольку система социального обеспечения в Корее очень слаба — наименее развитая из всех богатых стран (из расчета бюджетных расходов на социальные нужды как доли ВВП)[14]. Ранее слабая система социального обеспечения не была такой серьезной проблемой, потому что у многих существовала гарантия пожизненной занятости. Когда пожизненная занятость ушла в прошлое, ситуация стала угрожающей. Как только вы теряете работу, ваш уровень жизни значительно падает, и главное — второго шанса у вас, можно считать, уже не будет. Поэтому, размышляла сообразительная корейская молодежь — и то же ей советовали родители, — с лицензией на право занятия медициной они смогут работать, пока не захотят уйти на пенсию. В худшем случае, если не получится заработать много денег (конечно, условно «много»… много для врача), можно открыть собственную клинику. Неудивительно, что каждый корейский ребенок, у которого есть что-то в голове, стремится изучать медицину (или, если он гуманитарий, юриспруденцию — еще одна профессия, в которой выдают лицензию).
Поймите меня правильно. Я преклоняюсь перед врачами. Я обязан им жизнью — мне сделали пару операций, спасших мне жизнь, и защитили от бессчетных инфекций благодаря антибиотикам. Но и я понимаю, что невозможно стать врачами 80% самых талантливых корейских ребят со склонностью к естественнонаучным занятиям.
Поэтому один из самых свободных рынков труда в мире, корейский рынок труда, терпит сокрушительное поражение, пытаясь как можно эффективнее найти место талантам. Причина? Возросшая негарантированность занятости.
СИСТЕМА СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ — ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ ДЛЯ РАБОЧИХ
Гарантированность рабочего места — щекотливый вопрос. Экономисты, изучающие свободный рынок, полагают, что любые законы, затрудняющие увольнение работника, делают экономику менее эффективной и динамичной. Прежде всего, наемные работники лишаются стимула добросовестно работать. Кроме того, эти законы мешают накоплению богатства, поскольку работодатели неохотно нанимают дополнительных сотрудников (опасаясь, что не сумеют уволить их, когда в том возникнет необходимость).
Законы, регламентирующие рынок труда, — уже сами по себе зло, но сфера социального обеспечения все только усугубляет. Предоставляя пособие по безработице, медицинскую страховку, бесплатное образование и даже выплачивая прожиточный минимум, социальное обеспечение фактически дает каждому человеку гарантию найма государством — в качестве «безработного сотрудника», если хотите, — с выплатой минимальной заработной платы. Таким образом, работники не видят особой необходимости в ударном труде. Хуже того, службы соцобеспечения финансируются из налогов, взимаемых с богатых, уменьшая их желание трудиться, создавать рабочие места и накапливать богатство.
Поэтому, следуя этой логике, страна с более развитым социальным обеспечением будет менее динамична — ее работников меньше заставляют работать, а предприниматели теряют заинтересованность в накоплении богатства.
Эта точка зрения была очень влиятельной. В 1970-х годах популярное объяснение тогдашних весьма скромных экономических результатов Великобритании состояло в том, что ее служба соцобеспечения расширилась, профсоюзы приобрели огромную власть (что, отчасти, тоже произошло благодаря соцобеспечению, поскольку последнее смягчает угрозу безработицы). На этом этапе британской истории Маргарет Тэтчер спасла страну, поставив профсоюзы на место и урезав объемы соцобеспечения, хотя на самом деле все было сложнее. Начиная с 1990-х годов, эта точка зрения на социальное обеспечение приобрела популярность, на фоне якобы более успешного роста экономики США по сравнению с другими богатыми странами с более развитым социальным обеспечением[15]. Когда правительства стран пытаются урезать расходы на соцобеспечение, они часто приводят в пример то, как Маргарет Тэтчер вылечила так называемую «английскую болезнь», или вспоминают динамичность американской экономики.
Но верно ли, что более высокая гарантированность занятости и более развитая система соцобеспечения делают экономику менее эффективной и динамичной?
Как показывает наш корейский пример, недостаточная защищенность рабочего места может заставить молодых людей при выстраивании карьеры принимать консервативные решения, делая выбор в пользу более надежных профессий, таких как врач и юрист. Возможно, для каждого из них это выбор правильный, но он ведет к нерациональному использованию талантов и тем самым снижает экономическую эффективность и динамичность.
Слабая система соцобеспечения в США является одной из важных причин, почему торговый протекционизм в Америке намного сильнее, чем в Европе, несмотря на то, что в последней вмешательство правительства воспринимается обществом с большим одобрением. В Европе (я не буду принимать во внимание тонкие национальные различия), если ваша отрасль приходит в упадок и вы теряете работу, это будет для вас большим ударом, но не концом света. У вас по-прежнему остается медицинская страховка и муниципальное жилье (или дотации на жилищное строительство), и при этом вы будете получать пособие (доходящее до 80% от вашей последней зарплаты), у вас есть возможность пойти на оплачиваемые государством курсы переподготовки, и вы можете рассчитывать на помощь государства при поиске работы. Напротив, если вы работаете в США, то хорошо бы занимать прочное положение на своей нынешней работе, если понадобится, то не грех и опереться на чью-то протекцию, потому что потеря работы означает потерю почти всего. Страховое покрытие при страховке на случай отсутствия занятости — неравномерное и выплачивается в течение меньшего срока, чем в Европе. Помощь в переподготовке и поиске новой работы государством почти не осуществляется. Еще неприятнее, что потеря работы означает потерю медицинской страховки, а возможно, и крыши над головой, поскольку муниципального жилья мало, как и государственных дотаций на аренду жилья. В результате сопротивление работников любому реструктурированию в отрасли, влекущему за собой сокращение рабочих мест, в США гораздо выше, чем в Европе. Большинство американских рабочих не способны на организованное сопротивление, но остальные — члены профсоюза — пойдут на все, чтобы сохранить существующее положение с рабочими местами и их распределением, что неудивительно.
Как показывают приведенные выше примеры, большая неуверенность в своем положении может заставить людей работать лучше, но заставляет она их работать не на тех рабочих местах. Все эти талантливые молодые корейцы, которые могли бы стать великолепными учеными и инженерами, корпят над анатомией человека. Многие американские рабочие, которые — конечно, после прохождения соответствующей переподготовки, — могли бы трудиться в «прогрессивных» направлениях, с мрачной решимостью продолжают цепляться за свои рабочие места в устаревших отраслях (например, в автомобилестроении), лишь оттягивая неизбежное.
Смысл всех приведенных примеров состоит в следующем: когда люди знают, что им предоставят второй шанс (а то и третий, и четвертый), они гораздо больше готовы пойти на риск, когда нужно выбирать первое место работы (как в примере с корейцами) или отказаться от нынешней работы (как в сравнении США и Европы).
Вы находите эту логику странной? Не стоит. Потому что именно эта логика лежит в основе закона о банкротстве, который многие считают «не вызывающим сомнений».
До середины XIX века ни в одной стране не было закона о банкротстве в современном понимании. То, что ранее называлось законом о банкротстве, плохо защищало обанкротившегося бизнесмена от кредиторов, пока он реструктурировал свой бизнес — сегодня в США «Статья 11» предоставляет такую защиту на шесть месяцев. Кроме того, закон не давал банкротам второго шанса, поскольку от них требовалось уплатить все долги, сколько бы времени это ни заняло, если только от этой обязанности их не избавляли кредиторы. Это значит, что даже если обанкротившемуся бизнесмену каким-то образом удавалось начать новое дело, ему приходилось пускать все свои новые доходы на выплату старых долгов, что затрудняло развитие нового бизнеса. Поэтому открытие коммерческого предприятия было делом очень рискованным.
Со временем был сделан вывод, что отсутствие второго шанса серьезно удерживает бизнесменов от принятия рискованных решений. Начиная с 1849 года, когда в Великобритании был принят соответствующий акт, в мире стали принимать современные законы о банкротстве, дающие судебную защиту от кредиторов в период начальной реструктуризации, а главное — возможность для суда уменьшать сумму задолженности, даже против воли кредиторов. В сочетании с такими институтами, как ограниченная ответственность, которая была введена примерно в то же время (см. Тайну 2), новое законодательство о банкротстве уменьшало опасность любого делового начинания и тем самым стимулировало риски, что сделало возможным современный капитализм.
Пока система социального обеспечения дает работникам второй шанс, мы можем говорить, что она выступает для них как закон о банкротстве. Так же, как законы о банкротстве стимулируют принятие рисков предпринимателями, система соцобеспечения стимулирует рабочих быть более открытыми к переменам (и к рискам, которые неизбежно им сопутствуют). Зная, что им будет предоставлен еще один шанс, люди будут смелее, делая изначальный карьерный выбор, и охотнее пойдут на смену работы во время своей в ходе трудовой деятельности.
СТРАНЫ С БОЛЕЕ СИЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ ГОСУДАРСТВА РАЗВИВАЮТСЯ БЫСТРЕЕ
Что говорят нам данные? Каковы сравнительные экономические показатели стран, отличающихся развитостью системы социального обеспечения? Как уже было сказано, широко распространено убеждение, что страны с более скромной системой соцобеспечения более динамичны. Статистика, однако, эту точку зрения не поддерживает.
До 1980-х годов экономика США развивалась намного медленнее, чем европейская, хотя в США была гораздо менее развитая система социального обеспечения. Например, в 1980 году затраты государства на социальные нужды в пересчете на долю ВВП составляли в США всего 13,3% — по сравнению с 19,9% для пятнадцати стран-членов ЕС. В Швеции эта доля составляла даже 28,6%, 24,1% — в Нидерландах и 23% — в Германии (Западной). Несмотря на это, с 1950 по 1987 годы США развивались медленнее, чем любая европейская страна. В Германии в тот период доход на душу населения увеличивался на 3,8%, в Швеции — на 2,7%, в Нидерландах — на 2,5%, а в США — на 1,9%. Очевидно, что объем социального обеспечения — лишь один фактор, влияющий на экономические успехи страны, но приведенные цифры показывают, что мощная система соцобеспечения вполне совместима с высоким экономическим ростом.
Начиная с 1990 года, когда относительные показатели экономического роста США стали улучшаться, экономика ряда стран с развитой системой соцобеспечения росла достаточно быстро. Например, с 1990 по 2008 годы доход на душу населения в США увеличивался на 1,8%. Это приблизительно столько же, что и за предыдущий период, но с учетом снижения темпов роста экономики европейских стран, США превращаются в одну из самых быстро растущих экономик в «ядре» ОЭСР (точнее, исключая «еще не вполне богатые» страны, такие как Корея и Турция).
Но интересно, что две самые быстрорастущие экономики в «ядре» ОЭСР за период после 1990-х годов — это Финляндия (2,6%) и Норвегия (2,5%), и обе страны обладают хорошо развитой системой соцобеспечения. В 2003 году доля государственных расходов на социальные нужды в исчислении на долю ВВП составила в Финляндии 22,5%, а в Норвегии — 25,1%, по сравнению со средним по ОЭСР 20,7% и с 16,2% в США. Швеция, где система соцобеспечения наиболее развитая в мире (31,3%, то есть в два раза больше, чем у США), демонстрировала темпы роста в 1,8%, что лишь чуть-чуть хуже, чем у США. Если учитывать только 2000-е годы (2000–2008), показатели роста Швеции (2,4%) и Финляндии (2,8%) окажутся намного выше показателя США (1,8%). Правы или не правы были экономисты, говоря о пагубном влиянии системы соцобеспечения на трудовую этику и стимулы к накоплению богатства, подобного происходить не должно.
Конечно, я не утверждаю, будто соцобеспечение — это всегда полезно. Как у всех прочих институтов, у него есть свои достоинства и свои недостатки. Если социальное обеспечение основывается не на универсальных программах, а на целевых (как в США), то оно может сослужить получателям пособий плохую службу. Социальное обеспечение поднимает минимальную зарплату и дает людям возможность не соглашаться на низкооплачиваемую работу с плохими условиями труда, хотя хорошо это или плохо — вопрос точки зрения (лично я считаю, что существование большого числа «работающих бедняков», как в США, — такая же проблема, что традиционно высокий процент безработицы в Европе). Тем не менее, если модель социального обеспечения хорошо проработана и нацелена на то, чтобы предоставить работникам второй шанс, как в скандинавских странах, то она может способствовать экономическому росту, побуждая людей быть готовыми к переменам и тем самым облегчая перестройку промышленной структуры.
Быстро ездить на своих автомобилях мы можем только потому, что у них есть тормоза. Если бы у машин не было тормозов, даже самые умелые водители не осмеливались бы разгоняться свыше 20–30 миль в час, опасаясь аварий и человеческих жертв. Точно так же люди могут идти на риск потерять работу и с большей охотой соглашаться время от времени осваивать новые навыки, если они будут знать, что эти эксперименты не сломают им жизнь. Поэтому «большое государство» может сделать людей более открытыми к переменам, а значит, превратить экономику в более динамичную.
ТАЙНА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ НЕ БОЛЕЕ, А МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ
ЧТО ВАМ РАССКАЗЫВАЮТ
Быстрое развитие финансовых рынков позволило нам быстрее распределять и перераспределять ресурсы. Поэтому США, Великобритания, Ирландия и некоторые другие капиталистические страны, которые либерализовали и открыли свои финансовые рынки, демонстрируют в последние пару десятилетий столь высокие показатели. Либеральные финансовые рынки дают экономике возможность оперативно реагировать на меняющиеся возможности, позволяя ей, тем самым, развиваться быстрее. Да, некоторые перекосы недавнего периода принесли финансовой сфере дурную славу, не в последнюю очередь, в вышеперечисленных странах. И тем не менее, не следует бросаться сдерживать финансовые рынки только из-за одного финансового кризиса — кризисы бывают раз в сто лет, и никто не в состоянии их предсказать, сколь бы масштабны они ни были. Ведь финансовый рынок — ключ к процветанию страны.
ЧТО ОТ ВАС СКРЫВАЮТ
Сегодняшняя проблема финансовых рынков — то, что они слишком эффективны. После недавних финансовых «инноваций», которые породили такое множество новых финансовых инструментов, наша финансовая система начала активно создавать кратковременные прибыли для финансового сектора. Но как показал глобальный финансовый кризис 2008 года, эти новые финансовые инструменты сделали всю экономику, как и саму финансовую систему, намного нестабильнее. При такой ликвидности финансовых активов их держатели слишком быстро реагируют на изменения, отчего производственным компаниям трудно обеспечить себе «терпеливый капитал», необходимый им для стратегического развития. Разрыв в темпах роста между финансовым и производственным секторами должен быть сокращен, а значит, финансовый рынок нужно сознательно ограничить в его эффективности.
ТРИ БЕСПОЛЕЗНЫХ ФРАЗЫ
Гости, приезжавшие в Исландию в 1990-х годах, сообщали, что в официальном туристическом путеводителе, который раздают в аэропорту Рейкьявика, имеется, как и во всех подобных путеводителях, раздел «Полезные фразы». В отличие от остальных путеводителей, как мне рассказывали, исландский содержал раздел «Бесполезные фразы». В нем были помещены три фразы, в переводе на английский звучащие так: «Где находится железнодорожный вокзал?», «Сегодня хорошая погода» и «Есть ли что-нибудь подешевле?»
Относительно железнодорожного вокзала, как ни удивительно, все верно: в Исландии нет железных дорог. Что касается погоды, то, пожалуй, путеводитель был слишком суров. Я не был в Исландии, но, судя по рассказам, там все-таки бывает хотя бы несколько солнечных дней в году. Что же касается всеобщей дороговизны, то эта фраза тоже достаточно справедлива и отражает экономические успехи страны. Трудоемкие услуги в странах с высоким доходом дороги (если только в этих странах нет постоянного притока низкооплачиваемых иммигрантов, как в США или Австралии), и поэтому все становится дороже, чем можно представить себе, исходя из официального обменного курса (см. Тайну 10). Бывшая некогда одной из беднейших стран Европы, Исландия к 1995 году вышла на одиннадцатое место в мире (после Люксембурга, Швейцарии, Японии, Норвегии, Дании, Германии, Соединенных Штатов Америки, Австрии, Сингапура и Франции).
Уже будучи богатой, в конце 1990-х годов исландская экономика получила турбореактивный разгон, благодаря решению тогдашнего правительства приватизировать и либерализовать финансовый сектор. С 1998 по 2003 год страна провела приватизацию государственных банков и инвестиционных фондов, отменив даже основные ограничения на их деятельность, такие как требование обязательных резервов для банков. Вслед за этим исландские банки стали расширяться с поразительной скоростью, находя клиентов не только на родине, но и за рубежом. Возможности интернет-обслуживания позволили им уверенно вторгнуться в Великобританию, Нидерланды и Германию. Исландские инвесторы активно использовали агрессивное кредитование своих банков и пускались в безудержные корпоративные приобретения, особенно в Великобритании, своем бывшем противнике в знаменитых «тресковых войнах» 1950–1970-х годов. Этих инвесторов, которых окрестили «викингами-налетчиками», наиболее показательно представлял «Баугур» — инвестиционная компания, принадлежавшая молодому финансовому магнату Иону Йоханнесону. Ворвавшись на сцену лишь в начале 2000-х годов, «Баугур» к 2007 году стал важным действующим лицом в английской розничной торговле, владельцем контрольных пакетов акций в компаниях с общим количеством работников 65 000 человек, с оборотом более 10 миллиардов фунтов стерлингов в 3800 магазинах, включая «Хэмли», «Дебнемз», «Оазис» и «Исландия» (какое притягательное название оказалось у этой британской сети магазинов замороженных продуктов).
Некоторое время создавалось впечатление, что финансовая экспансия Исландии проходит с невероятным успехом. Некогда тихое финансовое болото, печально известное своим избыточным регулированием (фондовый рынок был открыт в стране только в 1985 году), Исландия преобразилась в один из энергичных центров зарождающейся глобальной финансовой системы. С конца 1990-х годов Исландия развивалась необычайными темпами и к 2007 году стала пятой богатейшей страной мира (после Норвегии, Люксембурга, Швейцарии и Дании). Казалось бы, выше только небо.
К несчастью, после мирового финансового кризиса 2008 года исландская экономика потерпела крах. В то лето все три ее крупнейших банка обанкротились и были взяты под государственное управление. Дела пошли так плохо, что в октябре 2009 года «Макдональдс» решил уйти из Исландии, низведя ее для себя на обочину глобализации. К моменту написания этой книги (начало 2010 года), экономика страны в 2009 году, по оценке МВФ, падала с темпами в 8,5% — самым высоким уровнем снижения производства среди богатых стран.
Рискованность безудержной финансовой активности Исландии с конца 1990-х годов становится все более очевидной. В 2007 году банковские активы достигли эквивалента 1000% ВВП, что в два раза выше, чем в Великобритании, стране с одним из самых развитых банковских секторов в мире. Финансовая экспансия Исландии подпитывалась и иностранными займами. К 2007 году чистая сумма внешнего долга (внешняя задолженность минус иностранные займы) достигла почти 250% ВВП, взлетев с 50% ВВП в 1997 году. Страны рушились и при гораздо меньшей задолженности — на пороге азиатского финансового кризиса 1997 года в Корее иностранный долг составлял сумму, равную 25% ВВП, а в Индонезии — 35% ВВП. Кроме того, вскрылся сомнительный характер финансовых сделок, стоящих за исландским экономическим чудом: очень часто основные заемщики в банках были акционерами тех же самых банков.
НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ РОСТА?
Почему я столько времени трачу на рассказ о маленьком островке с населением чуть более 300 000 человек, где даже нет железнодорожного вокзала и закусочных «Макдональдс»? Так ли важны его подъем и падение? А потому, что Исландия воплощает в себе все недостатки главенствующей сегодня точки зрения на финансы.
Какой бы необыкновенной ни показалась история с Исландией, в последние десять-двадцать лет не она одна подстегивала экономический рост приватизацией, либерализацей и открытием финансового сектора. Еще одним финансовым «узлом», применяя ту же стратегию, попыталась стать Ирландия. В 2007 году ее финансовые активы достигли 900% ВВП. Подобно Исландии, Ирландия также испытала серьезный спад во время мирового финансового кризиса 2008 года. На момент написания книги ирландская экономика, по оценке ВМФ, сократилась в 2009 году на 7,5%. Латвии, еще одной стране, также пожелавшей стать финансовым «узлом», досталось еще сильнее. Финансовый бум в стране оборвался резким падением, и после коллапса ее экономика, по оценке МВФ, упала в 2009 году на 16%. Дубай, самопровозглашенный финансовый «узел» Ближнего Востока, продержался чуть дольше европейских соперников, но тоже выбросил белый флаг, объявив в ноябре 2009 года мораторий на погашение задолженности для своих главных государственных промышленных групп.
Только недавно, до того, как эти страны «отпали от благодати», их экономики приводили в пример как новую финансово-ориентированную бизнес-модель для стран, желающих достичь успеха в эру глобализации. Еще в ноябре 2007 года, когда над международными финансовыми рынками стремительно сгущались тучи, видный британский политический экономист Ричард Порте и исландский профессор Фридрик Балдурссон торжественно провозгласили в докладе торгово-промышленной палате Исландии: «В целом, интернационализация исландского финансового сектора — примечательная история успеха, которую хорошо бы перенять всем рынкам»{53}. Для кого-то даже недавнего краха Исландии, Ирландии и Латвии оказалось недостаточно, чтобы отказаться от модели финансово-ориентированной экономики. В сентябре 2009 года Турция объявила, что приступает к реализации ряда мер, которые превратят ее в еще один «финансовый узел» Ближнего Востока. Даже правительство Кореи, страны, традиционно имеющей сильные позиции в производственном секторе, проводит политику, направленную на превращение страны в «финансовый узел» Северо-восточной Азии. Правда, после краха Ирландии и Дубая, которые Корея надеялась взять за модель, энтузиазма у нее поубавилось.
То, чем занимались Исландия и Ирландия, к сожалению, оказалось лишь крайними проявлениями экономической стратегии, осуществляемой многими странами: это стратегия роста, основанная на финансовой дерегуляции. Впервые данная стратегия была применена Соединенными Штатами и Великобританией в начале 1980-х годов. Великобритания в конце 1980-х годов вывела свою программу финансовой дерегуляции на новые обороты, при помощи так называемой дерегуляции «большого взрыва», и с тех пор гордится своей моделью «облегченного» регулирования. США не отставали, и в 1999 году отменили закон Гласса — Стиголла от 1933 года, разрушив, тем самым, стену между инвестиционной банковской деятельностью и банковским обслуживанием коммерческих организаций. Этот законодательный акт формировал американскую индустрию финансовых услуг со времен Великой депрессии. Примеру США последовали многие другие страны.
Что побуждало все новые и новые страны брать на вооружение стратегию роста, основанную на дерегулировании финансов? Дело в том, что при подобной системе легче получить прибыль от финансовых операций, чем от других видов экономической деятельности — по крайней мере, так казалось до кризиса 2008 года. Исследование двух французских экономистов, Жерара Дюмениля и Доминика Леви — одно из немногих, где отдельно рассматриваются нормы прибыли финансового и нефинансового секторов, — показывает, что в США и во Франции за последние два-три десятилетия нормы прибыли в финансах оказались гораздо выше, чем в реальном секторе{54}. Согласно этой работе, в США, с середины 1960-х по конец 1970-х годов, норма прибыли для финансовых компаний была ниже, чем для нефинансовых. Но после финансовой дерегуляции в начале 1980-х годов норма прибыли финансовых фирм показывала постоянную тенденцию к повышению, колеблясь от 4 до 12%. С 1980-х годов она все время была существенно выше, чем в нефинансовых фирмах, в которых норма прибыли составляла 2–5%. Во Франции норма прибыли финансовых корпораций с начала 1970-х по середину 1980-х годов оказалась даже отрицательной (для 1960-х годов данные не приводятся). Однако после финансовой дерегуляции в конце 1980-х годов она начала расти и к началу 1990-х догнала норму прибыли нефинансового сектора, когда оба показателя были около 5%, а к 2001 году поднялась до уровня свыше 10%. Напротив, норма прибыли французских нефинансовых компаний с начала 1990-х годов падала, опустившись к 2001 году примерно до 3%. В США финансовый сектор стал столь привлекательным, что даже многие промышленные компании, по сути, превратились в финансовые. Видный американский экономист Джим Кротти подсчитал, что отношение финансовых активов к нефинансовым, принадлежащим нефинансовым корпорациям в США, поднялось примерно с 0,4 в 1970-х годах до почти 1 в начале 2000-х годов{55}. Даже такие компании, как «Дженерал электрик», «Дженерал моторс» и «Форд» — некогда символы американской промышленной славы — были «финансиализированы» постоянным расширением их финансовых рычагов. При этом падали объемы их основного вида деятельности, промышленного производства. К началу XXI века эти промышленные компании получали большую часть своих прибылей благодаря финансовым операциям, а не основному роду деятельности — промышленному производству (см. Тайну 18). Например, в 2003 году 45% прибыли компания «Дженерал электрик» получила от «Дженерал электрик кэпитал». В 2004 году 80% прибыли «Дженерал моторс» были получены через финансовое подразделение корпорации — GMAC, а «Форд» с 2001 по 2003 год всю свою прибыль получал от «Форд финанс»{56}.
ОРУЖИЕ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ?
Результатом всего этого стал необычайный рост финансового сектора во всем мире, особенно в богатых странах. Этот рост выражался не только в абсолютных показателях. Наиболее важный момент состоит в том, что финансовый сектор вырос намного быстрее — нет, во много-много раз быстрее, — чем экономика, лежащая в его основе.
Мой коллега из Кембриджа и ведущий авторитет по финансовым кризисам, Габриэль Палма, провел расчеты, основанные на данных ВМФ, и выявил, что соотношение запаса финансовых активов к объему мирового производства с 1980 по 2007 год выросло с 1,2 до 4,4.{57} Относительный объем финансового сектора во многих богатых странах был еще выше. По его подсчетам, в Великобритании соотношение финансовых активов и ВВП в 2007 году достигло 700%. Франция, которая часто позиционирует себя как противовес англо-американскому финансовому капитализму, здесь недалеко отстала: отношение финансовых активов и ВВП лишь немногим ниже, чем в Великобритании. В упомянутом выше исследовании Кротти, опираясь на данные американского правительства, подсчитал, что отношение финансовых активов к ВВП в США в 1950–1970-х годах колебалось между 400 и 500%, а с начала 1980-х годов, когда стала проводиться финансовая дерегуляция, резко подскакивает, преодолевая к началу 2000-х отметку в 900%.
Это означает, что к каждому основному активу и основному виду деятельности предъявлялись все новые и новые финансовые требования. Создание производных финансовых инструментов («деривативов») на рынке жилья, послуживших одной из основных причин кризиса 2008 года, очень хорошо это иллюстрирует.
В прежние времена, когда человек брал деньги в долг у банка и покупал дом, банк-кредитор владел конечным финансовым продуктом (ипотечной закладной), и все. Но финансовые инновации ввели в оборот ипотечные ценные бумаги (ИЦБ), которые объединяли до нескольких тысяч закладных. В свою очередь, ИЦБ, иногда до 150 единиц, объединяли в облигацию, обеспеченную долговыми обязательствами (ОДО). Затем были созданы ОДО в квадрате, использовавшие другие ОДО в качестве залогового обеспечения. А потом соединением ОДО и ОДО в квадрате были созданы ОДО в кубе. Появились даже ОДО и более высоких степеней. Свопы на дефолт по кредиту (СДК) были созданы для того, чтобы защитить вас от дефолта по ОДО. И есть еще множество производных инструментов, составляющих весь этот алфавит современных финансов.
На этом этапе и я сам уже начинаю путаться (и получается, также путались и люди, занимавшиеся всем этим), но суть в том, что один и тот же основной актив — то есть дома, находившиеся в первоначальной ипотеке, — и виды экономической деятельности — зарабатывание дохода держателями первоначальных ипотек — использовались снова и снова, «производя» новые активы. Но какой бы финансовой алхимией вы ни занимались, приносят ли эти активы ожидаемые результаты, зависит, в конечном итоге, от того, будут ли вовремя справляться с выплатами эти сотни тысяч работников и хозяев малого бизнеса, которые являются держателями первоначальной ипотеки.
В результате возникла сложная и все увеличивающаяся иерархическая структура финансовых активов, балансирующая на общем фундаменте основных активов (разумеется, сам фундамент разрастался, отчасти подпитываемый самой активностью на финансовом рынке, но отвлечемся пока от этого, поскольку здесь важны сравнительные размеры гигантской структуры и основания, на котором она вырастала). Если вы станете надстраивать существующее здание, не расширяя фундамент, вы увеличиваете вероятность того, что здание опрокинется. Здесь на самом деле все гораздо хуже. По мере нарастания степени «ветвления» — или расстояния от основных активов, — становится все труднее и труднее точно оценить стоимость активов. Так что вы не только добавляете к имеющемуся зданию этажи, не расширяя фундамент, но вдобавок используете для возведения верхних этажей материалы все более сомнительного качества. Неудивительно, что Уоррен Баффет, американский инвестор, известный своим трезвым подходом к инвестированию, назвал производные финансовые инструменты «оружием массового финансового поражения» — задолго то того, как их разрушительность доказал кризис 2008 года.
ОСТОРОЖНО, ПРОПАСТЬ
Вся моя критика слишком бурного развития финансового сектора последних двадцати-тридцати лет отнюдь не говорит о том, что финансы в целом — это зло. Напротив, если бы мы послушались Адама Смита, который выступал против обществ с ограниченной ответственностью (см. Тайну 2), или Томаса Джефферсона, который считал банковскую сферу «более опасной, чем регулярные армии», наша экономика до сих пор состояла бы если не из булавочных фабрик Адама Смита, то из «сатанинских мельниц» викторианской эпохи.
Но тот факт, что финансовое развитие играет важную роль в развитии капитализма, не означает, что все формы финансового развития хороши.
Необходимым для экономического развития, но потенциально нецелесообразным и даже разрушительным делает финансовый капитал его большая ликвидность по сравнению с промышленным капиталом. Предположим, вы владелец фабрики, которому внезапно потребовались деньги на закупку сырья или станков, необходимых для выполнения неожиданно появившихся дополнительных заказов. Предположим также, что вы уже вложили все, что у вас есть, в строительство фабрики и закупку необходимых машин и исходных ресурсов. Вы будете рады, что есть банки, готовые одолжить вам деньги, в расчете на то, что с этих новых вложений вы получите дополнительную прибыль (используя свою фабрику в качестве обеспечения займа). Или, предположим, вы хотите продать половину своей фабрики (скажем, чтобы заняться новым направлением бизнеса), но никто не купит половину здания и половину производственной линии. В этом случае вы с облегчением узнаете, что можно выпустить акции и продать половину ваших акций. Иными словами, финансовый сектор помогает компаниям расширяться и диверсифицировать производство, благодаря способности финансовой системы превращать неликвидные активы, такие как здания и станки, в ликвидные, такие как займы и акции.
Однако сама ликвидность финансовых активов таит в себе потенциальную опасность для экономики в целом. Строительство фабрики занимает не меньше нескольких месяцев, а то и лет, а накопление технологических и административных знаний, необходимых для создания компании международного класса, требует десятилетий. Финансовые активы, напротив, могут перемещаться и перегруппировываться за считанные минуты, если не секунды. Эта огромная временная пропасть создает серьезные трудности, так как финансовый капитал «нетерпелив» и ищет быстрой наживы (см. Тайну 2). Отсюда возникает экономическая нестабильность, так как ликвидный капитал мечется по миру непредсказуемо и «иррационально», как мы только что убедились. Но еще важнее, что в перспективе ослабляется рост производительности, так как сокращаются долгосрочные инвестиции ради удовлетворения «нетерпеливого капитала». В результате, несмотря на грандиозный успех в «углублении финансового рынка» (то есть, в увеличении соотношения между финансовыми активами и ВВП), экономический рост за последние годы лишь замедлился (см. Тайны 12 и 13).
Таким образом, именно потому, что финансы чутко реагируют на изменение возможностей получения прибыли, они могут стать опасны для экономики в целом. Поэтому Джеймс Тобин, лауреат Нобелевской премии 1981 года по экономике, говорил о необходимости «подсыпать песку в колеса наших чересчур деятельных международных финансовых рынков». С этой целью Тобин предложил ввести налог на финансовые операции, предназначенный специально для того, чтобы замедлить денежные потоки. Недавно так называемый «налог Тобина», до последнего времени считавшийся табу в «приличном обществе», был поддержан британским премьер-министром Гордоном Брауном. Но налог Тобина — не единственный способ уменьшить пропасть в скорости движения финансов и реального сектора экономики. Другие средства включают в себя создание барьеров для враждебного поглощения (тем самым мы уменьшим прибыли от спекулятивных инвестиций в акционерный капитал), запрет на продажу ценных бумаг без покрытия (практика продажи акций, которыми в данный момент вы не владеете), увеличение размера предписываемой маржи (той части денег, которая должна быть уплачена вперед при покупке акций) и установление ограничений на движение капитала между странами, особенно в случае развивающихся стран.
Это не значит, что данный разрыв между финансами и реальным сектором должен быть сокращен до нуля. Финансовая система, полностью синхронизированная с реальной экономикой, будет бесполезна. Весь смысл финансов в том, что они могут двигаться быстрее, чем реальная экономика. Но если финансовый сектор движется слишком быстро, он может вызвать крах реальной экономики. В нынешних обстоятельствах нам необходимо переориентировать финансовую систему так, чтобы она позволяла компаниям проводить долгосрочные капиталовложения в физический капитал, в профессиональные навыки персонала и в организации, которые в конечном счете и являются источником экономического развития, и при этом обеспечивать этим капиталовложениям необходимую ликвидность.
ТАЙНА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. ДЛЯ ХОРОШЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ХОРОШИЕ ЭКОНОМИСТЫ НЕ ТРЕБУЮТСЯ
ЧТО ВАМ РАССКАЗЫВАЮТ
При любых теоретических оправданиях государственного вмешательства успех или неудача политики государства во многом зависит от компетентности тех, кто разрабатывает эту политику и претворяет ее в жизнь. Особенно это относится к развивающимся странам, где государственные чиновники не слишком разбираются в экономике, хотя экономические знания им крайне необходимы, если они хотят проводить взвешенную экономическую политику. Эти чиновники должны признать недостаток своей квалификации и воздержаться от проведения «трудных» программ, таких как избирательная промышленная политика, и придерживаться менее сложной политики свободного предпринимательства, при которой роль государства сведена до минимума. При таком подходе рыночная политика вдвойне хороша, поскольку она не только является самой успешной политикой, но и самой легкой в плане требований к бюрократическому управлению.
ЧТО ОТ ВАС СКРЫВАЮТ
Для проведения успешной экономической политики хорошие экономисты вовсе не требуются. Лучше чиновники, отвечающие за экономику, как правило, не экономисты. В Японии и, в меньшей степени, в Корее экономическую политику проводили юристы. На Тайване и в Китае экономической политикой руководят инженеры. Это доказывает, что для экономического успеха не требуются люди, хорошо подготовленные экономически, — особенно если это экономика свободного предпринимательства. Судите сами, за последние три десятка лет, как я показывал на протяжении этой книги, возрастающее влияние рыночной экономики вылилось в ухудшение экономических показателей во всем мире: снижение экономического роста, увеличение экономической нестабильности, возросшее неравенство доходов и, наконец, катастрофическая кульминация, называющаяся глобальным финансовым кризисом 2008 года. Пока нам требуется экономика, нам нужны различные ее виды, а не только захватившая весь мир экономика свободного рынка.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО БЕЗ ЭКОНОМИСТОВ
Экономика восточноазиатских стран: Японии, Тайваня, Южной Кореи, Сингапура, Гонконга и Китая часто называется «чудесной» экономикой. Это, конечно, преувеличение, но для преувеличения оно не слишком натянутое.
В ходе промышленной «революции» XIX века темпы роста среднедушевого дохода в экономике стран Западной Европы и их «отпрысков» (Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии) составляли от 1 до 1,5% в год (точная цифра зависит от рассматриваемого периода и конкретных стран). Во время так называемого «золотого века капитализма», с начала 1950-х по середину 1970-х годов, в Западной Европе и «порожденных ею» странах доход на душу населения рос примерно на 3,5–4% в год.
В вышеупомянутых же странах Восточной Азии за их «чудесные» годы — примерно между 1950-ми и серединой 1990-х годов (в случае Китая — между 1980-ми и сегодняшним днем) — доход на душу населения увеличивался приблизительно на 6–7% в год. Если показатели роста в 1–1,5% описываются как «революция», а 3,5–4% — как «золотой век», то 6–7% заслуживают называться «чудом»[16].
При таких экономических рекордах, естественно будет предположить, что в этих странах, по всей видимости, много хороших экономистов. Точно так же, как Германия добилась больших успехов в машиностроении благодаря высокой квалификации своих инженеров, а Франция лидирует в мире по производству дизайнерских товаров благодаря талантам своих модельеров, представляется очевидным, что страны Юго-восточной Азии должны были совершить экономические чудеса усилиями своих экономистов. В Японии, на Тайване, в Южной Корее и Китае — странах, где государство на протяжении «чудесных» лет играло очень активную роль, — на правительство, скорее всего, работает особенно много первоклассных экономистов — такой вывод мог бы сделать наблюдатель.
Увы! На самом деле в глаза бросается, наоборот, отсутствие экономистов в правительствах стран восточноазиатского экономического чуда. Японские чиновники, отвечавшие за экономику, были главным образом юристами по образованию. На Тайване большинство государственных лиц в экономике были инженерами и учеными, а не экономистами, как и в сегодняшнем Китае. В Корее также был высок процент юристов в экономической бюрократии, особенно до 1980-х годов. О Вон-Чул, «мозг» программы индустриализации в тяжелой и химической промышленности в 1970-х годах — которая превратила экономику страны из активного экспортера низкокачественных промышленных товаров в игрока мирового класса на рынке электроники, стали и кораблестроения, — по образованию был инженером.
Если для получения хороших экономических показателей не требуются экономисты, как в случае восточноазиатских стран, то зачем тогда вообще нужна наука экономика? Может быть, ВМФ, Всемирный банк и прочие международные организации зря тратят деньги, организуя курсы повышения квалификации по экономике для правительственных чиновников развивающихся стран и выдавая талантливой молодежи этих стран гранты на обучение в американских и английских университетах, славящихся своими успехами в экономической науке?
Одно из возможных объяснений восточноазиатского опыта таково: тем, кто управляет экономической политикой, нужны не столько специальные знания по экономике, сколько общая образованность. Возможно, та экономика, которую преподают в университетских аудиториях, слишком оторвана от реальности, чтобы ее можно было применять на практике. Если дело именно в этом, то государство получит больше способных творцов экономической политики, набирая на работу тех, кто изучал самый престижный в стране предмет (это может быть юриспруденция, техника, пусть даже и экономика, это зависит от страны), а не предмет, который теоретически больше всего подходит для формирования экономической политики (то есть, экономическую науку) (см. Тайну 17). В качестве подтверждения: хотя во многих латиноамериканских странах экономической политикой управляют экономисты, и весьма образованные (самый известный пример — «чикагские мальчики» генерала Пиночета), экономические результаты этих стран существенно ниже, чем в восточноазиатских странах. В Индии и Пакистане тоже немало экономистов мирового уровня, но экономические успехи этих стран ни в коей мере нельзя сравнить с восточноазиатскими.
Джон Кеннет Гэлбрейт, самый остроумный из экономистов в истории, явно преувеличивал, когда говорил, что «экономика крайне полезна как способ трудоустройства экономистов», но возможно, что он был недалек от истины. Похоже, в реальном мире экономисты не имеют никакого отношения к управлению экономикой.
На самом деле все еще хуже. Есть основания полагать, что экономика как наука может быть откровенно вредна для экономики страны.
КАК ВЫШЛО ЧТО НИКТО НЕ СУМЕЛ ЭТОГО ПРЕДВИДЕТЬ?
В ноябре 2008 года королева Елизавета II нанесла визит в Лондонскую школу экономики, в состав которой входит один из самых уважаемых экономических факультетов в мире. После выступления одного из профессоров, Луиса Гарикано, говорившего об охватившем весь мир финансовом кризисе, королева спросила: «Как вышло, что никто не сумел этого предвидеть?»
Королева задавала вопрос, который засел в умах большинства людей с самого начала кризиса — с осени 2008 года.
Последние пару десятилетий все эти высокообразованные эксперты — от экономистов-нобелевских лауреатов и всемирно известных финансовых аналитиков до пугающе умных молодых инвестиционных банкиров с экономическими дипломами лучших университетов мира, — твердили нам, что с мировой экономикой все в порядке. Нам говорили, что экономисты наконец нашли волшебную формулу, позволяющую экономике наших стран быстро расти и удерживать низкую инфляцию. Говорили об экономике по принципу «Трех медведей», когда все в самый раз — не слишком горячо, не слишком холодно. Алан Гринспен, бывший председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (американского Центробанка), два десятилетия руководивший крупнейшей и — финансово и идеологически — самой влиятельной экономикой, удостоился титула «маэстро». Так озаглавил свою книгу о нем журналист Боб Вудворд, прославившийся расследованием Уотергейтского скандала. Преемник Гринспена, Бен Бернанке, говорил об эпохе «великого успокоения», которая наступила с обузданием инфляции и исчезновении бурных экономических циклов (см. Тайну 6).
Поэтому для большинства людей, включая королеву, оказалось большой загадкой, что в мире, где умные экономисты должны были разобраться со всеми основными проблемами, что-то может так грандиозно рухнуть. Как могли настолько ошибаться все эти толковые мальчики с дипломами лучших университетов, со всеми гиперматематическими уравнениями, которые лезли у них из ушей?
Узнав о выраженной королевой озабоченности, Британская академия созвала! 7 июня 2009 года заседание с участием ряда ведущих экономистов из академических кругов, представителей финансового сектора и правительства. Результаты этого заседания были переданы королеве в виде письма, датированного 22 июля 2009 года. Составили письмо профессор Тим Бесли, видный профессор экономики в ЛШЭ, и профессор Питер Хеннесси, известный историк, работающий в колледже Королевы Марии Лондонского университета{58}.
В этом письме профессора Бесли и Хеннесси говорили, что отдельные экономисты компетентны и «сами по себе выполняют свою работу как следует», но в преддверии кризиса они «не смогли за деревьями увидеть лес». По утверждениям Бесли и Хеннесси, произошла «ошибка коллективного воображения многих талантливых людей, как в этой стране, так и в международном масштабе, когда оно не смогло осознать угрозу, нависшую над системой в целом».
Ошибка «коллективного воображения»?! Но разве большинство экономистов, включая большинство (но не всех) тех, кто присутствовал на заседании Британской академии, не говорили нам, остальным, что свободные рынки работают лучше всего, поскольку они «рациональны» и «индивидуалистичны», а значит знают, чего мы хотим для себя (и только для себя — возможно, за исключением наших ближайших родственников) и как получить то, что мы хотим, наиболее эффективным образом? (см. Тайны 5 и 16). Не припоминаю в экономике большой дискуссии о воображении, особенно коллективном, а я профессионально занимаюсь этой наукой последние двадцать лет. Я даже не уверен, найдется ли место такой концепции, как воображение, коллективное оно или еще какое-нибудь, в доминирующем в экономике рационалистическом дискурсе. Великие люди экономического мира Британии фактически признавались, что не знают, где именно произошел сбой.
Но это заведомое принижение их роли. Экономисты — не невинные исполнители, которые выполнили на совесть работу в узких рамках своих профессиональных знаний, а потом их коллективно подвел кризис, который выпадает «раз в сто лет» и никто не может его предсказать.
За последние тридцать лет экономисты сыграли важную роль в подготовке условий для возникновения кризиса 2008 года (и десятка менее крупных финансовых потрясений, которые ему предшествовали, начиная с 1980-х годов, таких как долговой кризис стран «третьего мира» в 1982 году, мексиканский кризис песо в 1995 году, азиатский кризис 1997 года и российский кризис 1998 года), предоставляя теоретические обоснования для финансовой дерегуляции и безудержной гонки за сиюминутными прибылями. Если смотреть более широко, они выдвигали теории, оправдывающие политику, которая привела к замедлению роста, увеличению неравенства, повышению негарантированности рабочих мест и к участившимся финансовым кризисам, неотступно преследовавшим мир в последние три десятилетия (Тайны 6, 12, 13 и 21). Помимо этого, они проталкивали меры, которые ухудшали перспективы долгосрочного развития в развивающихся странах (см. Тайны 7 и 11). В богатых странах эти же экономисты убеждали людей в огромной значимости излишне переоцененных новых технологий (Тайна 4), делали жизнь людей все более и более нестабильной (Тайна 6), требовали не обращать внимания на утрату страной контроля над национальной экономикой (Тайна 8) и благодушно принимать деиндустриализацию (Тайна 9). Кроме того, они выдвинули целый ряд аргументов, пытаясь убедить нас, что все эти экономические результаты, которые у многих людей в мире вызывают нарекания, — такие как все увеличивающееся неравенство (Тайна 13), запредельные вознаграждения руководству корпораций (Тайна 14) или крайняя нищета в бедных странах (Тайна 15) — вещи неизбежные, которые объясняются человеческой природой, эгоистичной и рациональной, и необходимостью вознаграждать людей сообразно их вкладу в производство.
Иными словами, экономическая теория оказалась не просто неадекватной. Экономика, в том виде, в котором она практикуется последние три десятка лет, для большинства людей оказалась попросту вредоносной.
ЕСТЬ ЛИ «ДРУГИЕ» ЭКОНОМИСТЫ?
Если с экономической наукой все так плохо, как я описываю, тогда что делаю в экономистах я? Если несоответствие действительности — самый безвредный исход моей профессиональной деятельности, а наиболее вероятный результат — вред, не стоит ли мне сменить профессию на что-то более общественно полезное, вроде сантехника или инженера-электрика?
Экономикой я продолжаю заниматься потому, что уверен: она не должна быть полезной или вредной. На протяжении этой книги я и сам пользовался экономической наукой, пытаясь объяснить, как на самом деле устроен капитализм. Опасен определенный тип экономики, а именно — рыночная экономика в том виде, в котором ее выстраивали в последние несколько десятков лет. В истории насчитывается множество экономических школ, которые помогали нам эффективнее развивать нашу экономику и управлять ею.
Если начать с ситуации, в которой мы оказались сегодня, то мировую экономику от полного краха осенью 2008 года спасли идеи Джона Мейнарда Кейнса, Чарльза Киндлбергера (автора классической книги по финансовым кризисам «Мании, паники и крахи») и Хаймана Мински (сильно недооцененного американского исследователя финансовых кризисов). Мировая экономика не докатилась до ситуации, которая предшествовала Великой депрессии 1929 года, потому, что мы восприняли их идеи и оказали поддержку ключевым финансовым институтам (правда, еще не наказали должным образом банкиров, устроивших весь хаос, и не реформировали отрасль), увеличили бюджетные расходы, организовали страхование банковских вкладов, поддержали социальное обеспечение (которое субсидирует оставшихся без работы) и в беспрецедентных масштабах наводнили финансовый рынок ликвидностью. Как рассказывалось в предыдущих Тайнах, многим из этих шагов, которые «спасли мир», сопротивлялись экономисты-рыночники предыдущих поколений и поколения нынешнего.
Хотя чиновники, отвечавшие за экономику в странах Восточной Азии, не имели экономического образования, кое-что в экономике они понимали. Однако — особенно до начала 1970-х годов — та экономика, которую они знали, большей частью была не рыночного типа. Та экономика, которую они, по стечению обстоятельств, знали, была экономикой Карла Маркса, Фридриха Листа, Йозефа Шумпетера, Николаса Калдора и Альберта Хиршмана. Конечно, эти экономисты жили в разное время, обсуждали вопросы различной проблематики и отличались радикально противоположными политическими взглядами (от крайне правых Листа до крайне левых Маркса). Тем не менее, между их экономическими теориями прослеживается нечто общее. Это признание того факта, что капитализм развивается через долгосрочные инвестиции и технические инновации, которые преобразуют структуру производства, а не просто через расширение существующих структур, подобное надуванию воздушного шарика. Многое из того, что осуществили в «чудесные» годы восточноазиатские правительственные чиновники — защита неокрепших отраслей, принудительное перенаправление ресурсов от технологически застойного сельского хозяйства к динамичному промышленному сектору и использование, как назвал их Хиршман, «связей» между различными секторами, — идет от подобных экономических взглядов, а не от рыночного подхода (см. Тайну 7). Если бы восточноазиатские страны, а до них — большинство богатых стран в Европе и Северной Америке, управляли своей экономикой по принципам свободного рынка, они бы не смогли развиться так, как им это удалось.
Экономическое учение Герберта Саймона и его последователей существенно изменило наши взгляды на современные компании и, более широко, на современную экономику. Оно помогает избавиться от мифа, что наша экономика населена исключительно рациональными эгоистами, взаимодействующими через рыночные механизмы. Когда мы осознаем, что современная экономика населена людьми с ограниченной рациональностью и сложными мотивами, которые организованы сложным способом, сочетающим в себе рынки, бюрократический аппарат, государственный и частный, и сети контактов, то мы начнем понимать, что нашей экономикой нельзя управлять по рыночному мифу. Если же более пристально взглянуть на успешные фирмы, правительства и страны, то окажется, что они исповедуют именно этот, более тонкий взгляд на капитализм, а не упрощенное видение рынка.
Даже в рамках господствующей экономической школы, то есть школы неоклассической, на которой большей частью базируется рыночная экономика, существуют теории, которые объясняют, почему свободные рынки будут давать не самые удовлетворительные результаты. Это теории «фиаско рынка» или «экономики благосостояния», впервые разработанные в начале XX века кембриджским профессором Артуром Пигу и позднее развитые такими современными экономистами, как Амартия Сен, Уильям Бомол и Джозеф Стиглиц, и это только некоторые из самых важных имен.
Экономисты-рыночники, конечно, либо игнорировали этих «других», либо, что хуже, отвергали их как лжепророков. Сегодня о многих из упомянутых выше экономистов, за исключением тех, кто принадлежит к школе «фиаско рынка», даже не говорится в ведущих учебниках по экономике, и, разумеется, их работы не изучаются должным образом.
Но события, разворачивавшиеся в течение последних тридцати лет, показали, что у этих «других» экономистов мы можем узнать гораздо больше полезного, чем у экономистов свободного рынка. Сравнение успехов и неудач различных фирм, экономик и политических курсов в этот период показывает, что взгляды этих экономистов, ныне остающихся без внимания или даже забытых, могут многому нас научить. Экономическая наука не всегда бесполезна или вредна. Просто надо изучать правильную экономику.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. КАК ВОССТАНОВИТЬ МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ
Перед нами стоит сложная задача полного восстановления мировой экономики. Да, все не так плохо, как было во времена Великой депрессии, но только потому, что правительства «накачивали» спрос за счет огромных расходов бюджета и беспрецедентного увеличения денежной массы (Банк Англии, к примеру, никогда не устанавливал более низкой процентной ставки с
самого своего основания в 1644 году). При этом предотвращение краха банков обеспечивается расширением системы страхования вкладов и отказом от услуг многих финансовых компаний. Без этих мер, а также без существенного автоматического увеличения социальных расходов (к примеру, пособий по безработице), мы бы сегодня переживали гораздо худший экономический кризис, чем в 1930-х годах.
Некоторые считают, что доминирующая ныне система свободного рынка принципиально правильна. Они убеждены, что косметического ремонта будет достаточно для решения наших проблем — чуть больше прозрачности здесь, чуть строже регулирование там, чуть больше ограничений на выплаты менеджменту сям. Однако, как я старался показать, фундаментальные теоретические и эмпирические предпосылки, лежащие в основе свободной рыночной экономики, весьма сомнительны. Необходим тотальный пересмотр принципов, на которых строятся наши экономика и общество.
Так что же делать?
Данная книга не трибуна экономического форума, чтобы излагать детальные планы реконструкции мировой экономики (многие из которых, впрочем, были рассмотрены в тексте). Я лишь вкратце обрисую основные принципы — их всего восемь, — которые, по моему мнению, следует иметь в виду, приступая к перестройке нашей экономической системы.
Первое: перефразируя Уинстона Черчилля, рассуждавшего о демократии, позвольте мне повторить мои собственные слова: капитализм является наихудшей экономической системой, но остальные еще хуже. Я критикую капитализм свободного рынка, а не капитализм как таковой.
Стимул получения прибыли по-прежнему является наиболее мощным и эффективным топливом для нашей экономики, и мы должны использовать его в полной мере. Но нужно помнить, что отпускать этот стимул на волю без каких-либо ограничений — далеко не лучший способ вести дела, что мы усвоили на личном опыте и с большими потерями в последние три десятилетия.
Кроме того, рынок представляет собой исключительно эффективный способ координации сложных экономических мероприятий бесчисленных экономических агентов, но не более того, — это механизм, машина. И, как все машины, он требует тщательного регулирования и управления. Ведь автомобиль может убивать людей, когда за рулем оказывается пьяный водитель, или спасать жизни, когда мы вовремя доставляем на нем пациента в больницу; так и рынок — он способен творить чудеса и устраивать катаклизмы. Тот же автомобиль можно сделать лучше, оснастив его более надежными тормозами, более мощным двигателем и залив более экономичное топливо; и в рамках свободного рынка можно добиться значительных перемен к лучшему, изменив умонастроения его участников, их мотивы и правила регулирования.
Существуют различные способы «организации» капитализма. Свободный рынок — лишь один из них, и отнюдь не наилучший. Последние три десятилетия показали, что, вопреки уверениям его сторонников, он замедляет экономику, увеличивает социальное неравенство и нестабильность и приводит к более частым (порой глобальным) финансовым катастрофам.
Нет и не может быть общей идеальной модели. Американский капитализм разительно отличается от скандинавского, который, в свою очередь, совсем не похож на немецкий или французский, не говоря уже о японском. Например, в странах, для которых американский стиль экономического неравенства неприемлем (а для других кажется вполне логичным), возможна борьба с ним через создание и развитие социального государства, финансируемого высоким прогрессивным налогом на прибыль (в Швеции) или наложением ограничений на возможности извлечения прибыли, скажем, затрудняя открытие крупных магазинов (в Японии). Непросто выбрать между двумя этими моделями, хотя лично я полагаю, что шведская модель лучше японской, по крайней мере, в данном отношении.
Таким образом, капитализму мы говорим «да», но мы обязаны завершить наш роман с безудержный свободным рынком, который сослужил человечеству столь дурную службу, и принять более качественный регулируемый вариант. Какой именно — это зависит от наших целей, ценностей и убеждений.
Второе: мы должны создавать нашу новую экономическую систему с осознанием ограничений человеческого рацио.
Кризис 2008 года показал, что сложность мира, построенного нами, особенно в сфере финансов, значительно опережает нашу способность понимать этот мир и им управлять. Наша экономическая система рухнула именно потому, что строилась по советам экономистов, которые убеждены, будто способности человека преодолевать сложности практически безграничны.
Новый мир нужно создавать с четким пониманием следующего факта: мы обладаем весьма ограниченными способностями объективного суждения. Нам предлагают впредь избегать крупных финансовых кризисов, обеспечив прозрачность экономики. Это неправильно. Основная проблема кроется не в отсутствии информации, а в наших ограниченных возможностях по ее обработке. Если бы истинной проблемой была непрозрачность, скандинавские страны — известные прозрачностью своих экономик — не пережили бы финансовый кризис начала 1990-х годов. Пока мы по-прежнему разрешаем сумасбродные «финансовые инновации», наша способность регулировать рынок всегда будет отставать от стремления к инновациям.
Если мы всерьез намерены не допускать новых кризисов, подобных кризису 2008 года, следует категорически запретить сложные финансовые инструменты, если не будет убедительно доказано, что они способны принести пользу обществу в долгосрочной перспективе. Эта идея явно будет отвергнута частью аудитории как возмутительная. Но давайте подумаем. Мы поступаем так постоянно с другими товарами — вспомните стандарты безопасности на пищевые продукты, лекарства, автомобили и самолеты. В результате предложенных ограничений мы получим процедуру одобрения, благодаря которой внедрение любого нового финансового инструмента, изобретенного «ракетчиками» из финансовых компаний, будет оцениваться с точки зрения рисков и выгод для системы в целом в долгосрочной перспективе, а не только с позиций краткосрочной прибыли для этих фирм.
В-третьих, отнюдь не изображая из себя бескорыстных ангелов, мы должны создать систему, которая несет людям лучшее, а не худшее.
Идеология свободного рынка строится на убеждении, что люди не будут делать ничего «хорошего», если им не заплатят и не накажут за то, что они этого не сделали. На практике эта идеология применяется асимметрично и переосмыслена так, что богатых нужно мотивировать становиться еще богаче, а бедные должны страшиться бедности, и страх является для них главным мотиватором.
Материальные интересы в самом деле выступают мощным стимулом. Коммунистическая система оказалась нежизнеспособной, поскольку игнорировала, вернее, желала отказаться от данного человеческого побуждения. Отсюда, впрочем, не вытекает, что личные материальные интересы являются нашим единственным мотивом. Люди не настолько движимы материальными интересами, как это утверждают учебники свободного рынка. Будь реальный мир полон рациональных эгоистичных агентов, обычно рисуемых в этих учебниках, он бы рухнул под бременем непрерывного обмана, контроля, наказаний и сделок.
Кроме того, прославляя удовлетворение личных материальных интересов индивидов и корпораций, мы создали мир, в котором материальное обогащение освобождает физических и юридических лиц от обязанностей перед обществом. Сами того не заметив, мы позволили нашим банкирам и менеджерам фондов, прямо или косвенно, уничтожать рабочие места, закрывать заводы, разрушать окружающую среду и подрывать финансовую систему в погоне за личным обогащением.
Если мы хотим предотвратить повторение подобного, опять-таки, нужно создать систему, при которой материальное благополучие ценится по-прежнему, но не может быть единственной целью. Организации — будь то корпорации или государственные ведомства — должны перестроиться и вознаградить доверие, солидарность, честность и сотрудничество. Финансовую систему необходимо реформировать, чтобы уменьшить степень влияния миноритариев, чтобы компании могли позволить себе стремление к иным целям, нежели краткосрочная максимизация прибыли. Нужно лучше вознаграждать обеспечение общественных благ (например, сокращение потребления энергии, инвестиции в обучение и т. д.), не только через государственные субсидии, но и через обретение более высокого социального статуса.
Дело не просто в моральном аспекте. Таким образом мы апеллируем к «просвещенному» личному интересу. Позволяя править бал краткосрочной корысти, мы рискуем уничтожить систему, которая в долгосрочной перспективе не служит ничьим интересам.
В-четвертых, мы должны перестать верить, что людям платят «по заслугам».
Жители бедных стран, каждый по отдельности, зачастую более продуктивны и предприимчивы, чем их коллеги из развитых стран. Если предоставить им равные возможности посредством свободной иммиграции, эти люди могут и заменят большую часть рабочей силы в развитых странах, пусть это политически неприемлемо и нежелательно. Следовательно, именно национальные экономические системы и иммиграционный контроль в богатых странах, а вовсе не отсутствие требуемых личных качеств, держат бедных людей в бедных странах в нищете.
Мы подчеркиваем факт, что многие люди остаются бедными, поскольку не обладают истинным равенством возможностей, дабы показать, что они не «заслуживают» оставаться бедными при указанных равных возможностях. Пока не будет хотя бы частичного равенства стартовых условий, особенно (но не исключительно) в отношении качества детского питания и родительского внимания, равенство возможностей, предоставляемое нынешними рыночными механизмами, не гарантирует по-настоящему честной конкуренции. Это словно забег, в котором никто не имеет форы, но некоторые участники бегут с гирями на ногах.
С другой стороны, выплаты топ-менеджерам в США воспарили в заоблачные выси в последние несколько десятилетий. Относительный уровень оплаты труда американских менеджеров вырос, по крайней мере в десять раз с 1950 года (в среднем генеральный директор ранее получал тридцать пять зарплат среднего рабочего, а сегодня получает больше в 300–400 раз). Причем отнюдь не потому, что их производительность растет в десять раз быстрее, чем эффективность труда обычных работников. Даже если не учитывать опционы на акции, американские менеджеры получают в два с половиной раза больше, чем их голландские коллеги, и в четыре раза больше, чем японские, несмотря на отсутствие явного превосходства в производительности.
Только получив свободу оспаривать приоритеты рынка, мы сможем найти верную дорогу к созданию более справедливого общества. Мы можем и должны изменить правила фондового рынка и системы корпоративного управления, чтобы обуздать размеры выплат в компаниях с ограниченной ответственностью. Мы должны не только обеспечить равные возможности, но и «сравнять счет», создав по-настоящему равные стартовые условия для всех детей истинно меритократического общества. Люди должны получать реальный, а не мнимый второй шанс через пособия по безработице и субсидируемую государством переподготовку. Бедных жителей бедных стран не следует обвинять в бедности, ведь истинной причиной является скудость их национальной экономической системы и жесткий иммиграционный контроль в богатых странах. Рыночные результаты — не «естественное» явление. Их вполне возможно изменить.
В-пятых, мы должны «заниматься делом» более серьезно. Постиндустриальная экономика знаний — это миф. Производственный сектор по-прежнему имеет жизненно важное значение.
Особенно в США и Великобритании, а также во многих других странах, спад промышленного производства в последние несколько десятилетий трактовался как неизбежное следствие постиндустриальной эпохи, а нередко и как очевидный признак перехода общества к постиндустриальной стадии развития.
Но мы — материальные существа и не можем питаться идеями, как бы шикарно ни звучало словосочетание «экономика знаний». Кроме того, мы всегда жили в экономике знаний, в том отношении, что именно управление более высоким уровнем знаний, а не физический труд, в конечном счете определяло, какая страна богаче, а какая беднее. Действительно, большинство обществ по-прежнему изготавливает все больше и больше товаров. В основном потому, что изготовители товаров научились работать гораздо более продуктивно, вследствие чего товары стали дешевле в относительном выражении, нежели услуги, пусть мы думаем, что потребляем товаров меньше, чем услуг.
Если вы не являетесь крошечными налоговым раем (статус, поддерживать который все труднее после кризиса 2008 года), наподобие Люксембурга или Монако, и не относитесь к числу крохотных стран, купающихся в нефти, вроде Брунея или Кувейта, нужно совершенствовать изготовление товаров, чтобы поднять уровень жизни. Швейцария и Сингапур, которые часто представляют образцами постиндустриального успеха, на самом деле два наиболее промышленно развитых государства в мире. Кроме того, наиболее дорогие услуги зависят (иногда выступают даже «паразитами») от производственного сектора (например, финансовые и технические консультации). Вдобавок услуги не слишком «оборотные, следовательно, раздутый сектор услуг подвергает риску ваш платежный баланс, а также затрудняет дальнейшее экономическое развитие.
Миф о постиндустриальной экономике знаний также способствует неправильному инвестированию. Он побуждает чрезмерно сосредотачиваться, к примеру, на формальном образовании, чье влияние на экономический рост весьма неочевидно и спорно, и на продвижении в Интернете, чья эффективность тоже на самом деле довольно сомнительна.
Инвестиции в «скучные штуки» наподобие техники, инфраструктуры и обучения работников должен поощряться через соответствующие изменения налоговых правил (например, ускоренная амортизация оборудования), через субсидии (например, на обучение работников) и через государственные инвестиции (к примеру, на развитие инфраструктуры). Промышленную политику следует переосмыслить в целях содействия развитию основных отраслей промышленности с высокой возможностью для роста производительности.
Шестое: мы должны обеспечить наилучший баланс между финансовой и реальной деятельностью.
Эффективная современная экономика не может существовать без здорового финансового сектора. Финансы играют, помимо прочего, важную роль в разрешении конфликтов между инвестированием и «пожинанием плодов». «Ликвидируя» материальные активы, характеристики которых невозможно изменить оперативно, финансовый сектор также помогает быстро перераспределять ресурсы.
Тем не менее в последние три десятилетия финансовый сектор стал тем пресловутым хвостом, который виляет собакой. Финансовая либерализация обеспечила легкость перемещения средств даже через национальные границы, что привело к стремлению инвесторов получать мгновенную отдачу. Как следствие, корпорации и правительства вынуждены проводить политику, которая сулит быструю прибыль, независимо от долгосрочных последствий. Инвесторы использовали возрастание мобильности денег в качестве разменной монеты для извлечения большей доли национального дохода. Облегчение движения финансов также привело к росту финансовой нестабильности и сокращению гарантий занятости (что необходимо для извлечения быстрой прибыли).
Финансы нужно принудительно замедлить. Конечно, речь не идет о возвращении в эпоху долговых тюрем и небольших мастерских, финансируемых из личных сбережений. Но, если мы значительно сократим разрыв между финансовым и реальным секторами экономики, у нас не получится обеспечить долгосрочные инвестиции и подлинное развитие, так как производственные инвестиции часто требуют долгого времени на возвращение. Японии понадобилось 40 лет протекционизма и государственных субсидий, прежде чем ее автомобильная промышленность добилась международного успеха, в том числе и в нижнем сегменте рынка. Компании «Нокиа» потребовалось 17 лет, прежде чем она стала получать прибыль от производства электроники, а сегодня она один из мировых лидеров в этом бизнесе. Однако, увлекшись финансовым дерегулированием, мир стал оперировать все более короткими временными интервалами.
Финансовые транзакции, налоги, ограничения на транснациональные перемещения капитала (в частности, в и из развивающихся стран), более жесткие ограничения на слияния и поглощения — вот комплекс мер, которые позволят замедлить финансовый сектор до скорости, на какой он будет поддерживать, а не ослаблять или даже разрушать реальную экономику.
Седьмое: правительство должно становиться все больше и активнее.
В последние три десятилетия идеологи свободного рынка постоянно твердили нам, что правительство представляет собой проблему и никак не способствует избавлению общества от бед. Да, известны случаи недееспособности правительства — иногда весьма громкие, — однако рынки и корпорации тоже подвержены провалам, а самое главное, существует множество примеров государственных успехов. Так или иначе, роль государства следует полностью пересмотреть.
Дело не просто в кризисном управлении, распространившемся с 2008 года, даже в образцово свободных рыночных экономиках, наподобие экономики США. Речь о том, чтобы создать процветающее, справедливое и стабильное общество. Несмотря на присущие ему ограничения и на многочисленные попытки его ослабить, демократическое правительство, по крайней мере пока, остается наилучшим инструментом для согласования противоречивых требований общества и, что важнее всего, для улучшения нашего коллективного благосостояния. Задавшись вопросом о том, как добиться наибольшей пользы от правительства, мы должны отказаться от стандартных «компромиссов», о которых так любят поговорить экономисты свободного рынка.
Нас уверяли, что большое правительство, которое собирает высокие налоги на доход богатых и перераспределяет их в пользу бедных, сдерживает экономический рост, поскольку препятствует созданию новых материальных благ богатыми и стимулирует леность бедных. Однако, если малого правительства достаточно для экономического роста, многие развивающиеся страны, где есть такие правительства, давно должны были зажить вполне благополучно. Очевидно, что это не так. В то же время, пример Скандинавии, где крупные государства всеобщего благосостояния сосуществуют с отличными показателями экономического роста (или стимулируют последний), также опровергает тезис о том, что только малое правительство способно обеспечить рост.
Еще идеологи свободного рынка убеждали нас, что активное (или навязчивое, как они говорят) правительство дурно сказывается на экономическом росте. Но, вопреки распространенному мнению, практически все нынешние богатые страны использовали государственное вмешательство для обогащения (если вы сомневаетесь в этом, прочтите мою предыдущую книгу, «Злые самаритяне»). Осмысленное и адекватно осуществленное государственное вмешательство может увеличить экономический динамизм, обеспечив поставки материалов там, где не справляется рынок (например, научные исследования, обучение работников и т. д.), позволит разделить риски в проектах с высокой социальной отдачей (и — зачастую — низкой доходностью), а в развивающихся странах создаст пространство, в котором новые компании в «младенческих отраслях» смогут развивать свои производственные мощности.
Мы должны мыслить более творчески и всячески приветствовать ситуации, в которых правительство становится важным элементом экономической системы, характеризующейся большим динамизмом, большей стабильностью и более приемлемым обращением капитала. Это означает, что мы должны стремиться к построению государства всеобщего благосостояния с лучшей системы регулирования (в частности, для финансового сектора) и лучшей промышленной политикой.
Восьмое: мировая экономическая система должна «несправедливо» подпитывать развивающиеся страны.
Из-за ограничений, связанных с демократическими условиями, сторонники свободного рынка в большинстве богатых стран на самом деле с громадным трудом реализовали свои полномасштабные рыночные реформы. Даже Маргарет Тэтчер сочла невозможным демонтировать Национальную службу здравоохранения. В результате полем для рыночных экспериментов оказались именно развивающиеся страны.
Многим бедным странам, особенно в Африке и Латинской Америке, пришлось принять идеологию свободного рынка, чтобы получить возможность занимать деньги у приверженных свободному рынку международных финансовых организаций (МВФ и Всемирного банка) и правительств богатых стран (каковые, в конечном счете, управляют МВФ и Всемирным банком). Слабость их демократий означала, что политику свободного рынка можно реализовывать, невзирая на последствия, даже если реформы больно ударят по большинству населения. Величайшая на свете ирония — люди, больше прочих нуждающиеся в помощи, страдают сильнее всего. Эта тенденция подкреплялась ужесточением глобальных «правил игры» на протяжении последних двух десятилетий — что правительство может делать для защиты и развития собственной экономики (насущная необходимость для бедных стран), вступая в такие организации, как ВТО, БМР и т. д., и заключая различные двусторонние и региональные соглашения о свободной торговле и инвестициях. Все это привело к более активной реализации политики свободного рынка и к ухудшению показателей экономического роста, усугублению нестабильности и социального неравенства.
Мировая экономическая система должна быть полностью пересмотрена в целях предоставления большего «политического пространства» развивающимся странам, чтобы те имели возможность проводить политику, им подходящую (богатые страны и так могут менять или даже игнорировать международные правила). Развивающиеся страны, в частности, нуждаются в более либеральном режиме использования протекционистских мер, регулирования иностранных инвестиций и прав интеллектуальной собственности. Именно такой политики придерживались богатые страны, когда сами находились в положении развивающихся. Для достижения целей требуется реформировать ВТО, отменить и/или пересмотреть существующие двусторонние торговые и инвестиционные соглашения между богатыми и бедными странами, а также изменить условия предоставления кредитов международных финансовых организаций и финансовой помощи богатых стран.
Конечно, эти меры кажутся «несправедливо благоприятными» с точки зрения богатых стран, и некоторые из них наверняка будут возражать. Тем не менее развивающиеся страны и без того страдают от многих недостатков системы международных отношений, а посему мы должны всемерно им содействовать.
Перечисленные восемь принципов откровенно противоречат экономической мудрости трех последних десятилетий. Полагаю, некоторые читатели со мной не согласятся. Но если мы не откажемся от принципов, которые нас подвели и продолжают тормозить развитие, в будущем нам грозят очередные катастрофы. А вдобавок мы никак не облегчим условия жизни миллиардов людей, страдающих от нищеты и отсутствия безопасности, в том числе, но не исключительно, в развивающихся странах. Пора смириться с неудобствами.
Примечания
1
Исследование Роберта Барро, ведущего экономиста-рыночника, приходит к выводу, что умеренная инфляция (10–20%) оказывает лишь небольшое негативное воздействие на экономический рост, а инфляция ниже 10% не оказывает на него вообще никакого влияния. См.: R. Barro, “Inflation and Growth”, Review of Federal Reserve Bank of St. Louis, 1996, vol. 78, no. 3. Исследование Майкла Сарела, экономиста ВМФ, установило, что инфляция ниже 8% оказывает незначительное воздействие на экономический рост — скорее даже, как отмечает Сарел, ниже этого уровня влияние будет положительным — то есть инфляция не препятствует росту, а даже помогает ему. См.: М. Sarel, “Non-linear Effects of Inflation on Economic Growth”, IMF Staff Papers, 1996, vol., 43, March.
(обратно)2
В 1960-х годах уровень инфляции в Корее был намного выше, чем в пяти латиноамериканских странах (Венесуэле, Боливии, Мексике, Перу и Колумбии) и не намного ниже, чем в Аргентине. В 1970-х годах уровень инфляции в Корее был выше, чем в Венесуэле, Эквадоре и Мексике, и не намного ниже, чем в Колумбии и Боливии. Информация взята из книги: A. Singh, How did East Asia grow so fast? — Slow Progress towards an Analytical Consensus, 1995, UNCTAD Discussion Paper, no. 97, table 8.
(обратно)3
Есть много различных способов вычисления нормы прибыли, но в данном случае имеется в виду рентабельность активов. Согласно данным из: S. Claessens, S. DjankovA L. Lang, “Corporate Growth, Financing, and Risks in the Decades before East Asia's Financial Crisis”, 1998, Policy Research Working Paper, no. 2017, World Bank, Washington, D.C., figure 1, в 1988–1996 годах доходность активов в 46 развитых и развивающихся странах колебалась от 3,3% (Австрия) до 9,8% (Таиланд). В 40 из 46 стран этот показатель составлял от 4% до 7%. В трех странах он был ниже 4% и еще в трех других — выше 7%. Другое исследование Всемирного банка отмечает для средних норм прибыли нефинансовых компаний в странах «развивающихся рынков» (страны со средним уровнем дохода) в 1990-х годах (1992–2001) еще более низкий уровень в 3,1% (отношение чистой прибыли к активам). См.: S. Mohapatra, D. Ratha & P. Suttle, “Corporate Financing Patterns and Performance in Emerging Markets”, mimeo., March, 2003,World Bank, Washington, D.C.
(обратно)4
Термин взят из доклада министерства Великобритании по делам бизнеса, предпринимательства и реформы управления за 2008 год: Globalisation and the Changing UK Economy.
(обратно)5
Камерунский инженер и писатель Даниэль Этунга-Мангуэлле пишет: «Африканец, крепко держась корнями за культуру предков, свято убежден в том, что есть лишь повторение прошлого, и поэтому о будущем он беспокоится лишь поверхностно. Но без динамичного восприятия будущего нет планирования, прогнозирования, выстраивания программы действий. Иными словами, нет политики, которая повлияла бы на ход событий» (с. 69). И далее: «Африканские общества напоминают футбольную команду, в которой из-за личного соперничества и отсутствия командного духа один игрок отказывается пасовать мяч другому, опасаясь, как бы тот не забил гол» (с. 75). См.: D. Etounga-Manguelle, “Does Africa Need a Cultural Adjustment Program?” — в: L. Harrison & S. Huntington (eds.), Culture Matters — How Values Shape Human Progress (Basic Books, New York, 2000).
(обратно)6
По Веберу, в 1863 году примерно четверть населения Франции не говорила по-французски. В том же году 11% школьников в возрасте от семи до тринадцати лет вообще не говорили по-французски, а еще 37% говорили на французском и понимали его, но не умели на нем писать. Е. Weber, Peasants into Frenchmen — The Modernisation of Rural France, 1870–1914 (Stanford University Press, Stanford, 1976), p. 67.
(обратно)7
Шестнадцать стран, где неравенство возросло (в порядке уменьшения неравенства доходов на 2000 г.): США, Южная Корея, Великобритания, Израиль, Испания, Италия, Нидерланды, Япония, Австралия, Канада, Швеция, Норвегия, Бельгия, Финляндия, Люксембург и Австрия. Четыре страны, где неравенство доходов уменьшилось: Германия, Швейцария, Франция и Дания.
(обратно)8
По данным ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), клуба богатых стран, в США середины 2000-х годов коэффициент Джини (показатель неравенства доходов, равный нулю при абсолютном равенстве и единице при абсолютном неравенстве) до вычета доходов равнялся 0,46. Для Германии этот показатель составлял 0,51, для Бельгии — 0,49, для Японии — 0,44, для Швеции — 0, 43 и для Нидерландов — 0,42.
(обратно)9
Эти тринадцать стран — Австралия, Бельгии, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.
(обратно)10
По восьмому классу США обогнали Литву, но отставали от России и Венгрии. Результаты четвероклассников в Венгрии и восьмиклассников в Латвии и Казахстане не представлены.
(обратно)11
Остальные европейские страны, в порядке рейтинга по результатам теста: Германия, Дания, Италия, Австрия, Швеция, Шотландия и Норвегия. См. сайт Национального центра образовательной статистики Института образовательных наук министерства образования США, .
(обратно)12
Остальными богатыми странами были, в порядке рейтинга по результатам теста: Япония, Англия, США, Австралия, Швеция, Шотландия и Италия. См. вышеуказанный сайт.
(обратно)13
Доля федерального правительства в общих расходах на науку в США в 1953 году составляла 53,6%, в 1955 — 56,8%, в 1960 — 64,6%, в 1965 — 64,9%, в 1970 — 57,1%, в 1975 — 51,7%, в 1980 — 47,2%, в 1985 — 47,9% и в 1989 — 47,3% (оценка). См.: D. Mowery & N. Rosenberg, “The U.S. National Innovation System” в: R. Nelson (ed.), National Innovation Systems (Oxford University Press, New York and Oxford, 1993), p. 41, table 2.3.
(обратно)14
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — клуб богатых стран, причисление нескольких членов которого к «богатым» может представляться спорным: Португалия, Корея, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Мексика и Турция (в порядке убывания среднего дохода на душу населения). Из них Португалия и Корея — самые богатые, со среднедушевым доходом около $18 000 (на 2006 год), а Турция — самая бедная: ее среднедушевой доход равняется $5 400 (на 2006 год). Следующий беднейший член ОЭСР после Португалии и Кореи — Греция, у которой средний доход на душу населения составляет более $24 000. В 2003 году (последний год, по которому ОЭСР располагает данными) бюджетные расходы на социальные нужды в Корее составляли 5,7% ВВП. Самый высокий показатель был у Швеции — 31,3%. Средняя цифра по ОЭСР — 20,7%. См.: OECD Factbook 2008: Economic, Environmental and Social Statistics.
(обратно)15
В 2003 году (последний год, по которому ОЭСР располагает данными) бюджетные расходы на социальные нужды в США составляли 16,2% ВВП, по сравнению со средним в ОЭСР показателем 20,7% и средним показателем по 15 странам-членам ЕС — 23,9%. Среди стран-членов ОЭСР лишь Корея (5,7%) и Мексика (6,8%) — две страны, которые обычно не считают в полной смысле развитыми — имели более низкий показатель, чем США. См.: OECD Factbook 2008: Economic, Environmental and Social Statistics (OECD, Paris, 2008).
(обратно)16
Среднедушевой доход у вас за десять лет удвоится, если вы — «чудесная» экономика, развивающаяся с темпами 7% из расчета на душу населения. Если у вас экономика «золотого века», показывающая рост в 3,5% в год на душу населения, то для удвоения среднедушевого дохода потребуется около двадцати лет. За эти двадцать лет среднедушевой доход «чудесной» экономики возрастет в 4 раза. А экономике «промышленной революции», чтобы этот среднедушевой доход удвоить, потребуется около 70 лет роста в 1% из расчета на душу населения.
(обратно)Ссылки
1
О том, как тарифы (затруднявшие свободную торговлю товарами) оказались еще одной важной причиной гражданской войны в Америке, см. в моей книге Kicking Away the Ladder — Development Strategy in Historical Perspective (Anthem Press, London, 2002), pp. 24–28 и ссылки там же.
(обратно)2
A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Clarendon Press, Oxford, 1976), p. 741.
(обратно)3
N. Rosenberg & L. Birdzell, How the West Grew Rich (London, IB Tauris & Co., 1986), p. 200.
(обратно)4
A. Glyn, Capitalism Unleashed — Finance, Globalisation, and Welfare (Oxford University Press, Oxford, 2004), p. 7, fig. 1.3.
(обратно)5
J. G. Palma, “The revenge of the market on the rentiers — Why neo-liberal reports on the end of history turned out to be premature”, Cambridge Journal of Economics, 2009, vol. 33, no. 4, p. 851, fig. 12.
(обратно)6
См.: W. Lazonick & M. O'Sullivan, “Maximising shareholder value: a new ideology for corporate governance”, Economy and Society, 2000, vol. 29, no. 1; и W. Lazonick, “The buyback boondoggle”, Business Week, 24 August, 2009.
(обратно)7
W. Lazonick, “The buyback boondoggle”, Business Week, 24 August, 2009.
(обратно)8
R. Sarti, “Domestic Service: Past and Present in Southern and Northern Europe”, Gender and History, 2006, vol. 18, no. 2, p. 223, table 1.
(обратно)9
Цит. по: J. Greenwood, A. Seshadri & М. Yorukoglu, “Engines of Liberation”, Review of Economic Studies, 2005, vol. 72, p. 112.
(обратно)10
С Goldin, “The Quiet Revolution that Transformed Women's Employment, Education, and Family”, American Economic Review, 2006, vol. 96, no. 2, p. 4, figure 1.
(обратно)11
Rubinow, “The Problem of Domestic Service”, Journal of Political Economy, 1906, vol. 14, not. 8, p. 505.
(обратно)12
Эта книга: H-J. Chang & I. Grabel, Reclaiming Development — An Alternative Economic Policy Manual (Zed Press, London, 2004).
(обратно)13
Доступно изложенный обзор академической литературы о многообразии движущих человеком факторов можно найти в: В. Frey, Not Just for the Money — Economic Theory of Personal Motivation (Edward Elgar, Cheltenham, 1997).
(обратно)14
Пример основан на ситуации, использованной в: К. Basu, “On why we do not try to walk off without paying after a taxi-ride”, Economic and Political Weekly, 1983, no. 48.
(обратно)15
S. Fischer, “Maintaining Price Stability”, Finance and Development, December, 1996.
(обратно)16
См.: М. Bruno, “Does Inflation Really Lower Growth?”, Finance and Development, 1995, vol. 32, pp. 35–38; M. Bruno, and W. Easterly “Inflation and Growth: In Search of a Stable Relationship” Review of Federal Reserve Bank of St. Louis, 1996, vol. 78, no. 3.
(обратно)17
С Reinhart & K. Rogoff, This Time is Different (Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2008), p. 252, fig. 16.1.
(обратно)18
О протекционистских взглядах Линкольна см. в моей книге Kicking Away the Ladder (Anthem Press, London, 2002), pp. 27–28 и ссылки там же.
(обратно)19
Подробнее эта история изложена в других моих книгах. H-J. Chang, Kicking Away the Ladder, академическая монография с большим количеством ссылок и комментариев (но читать ее, тем не менее, достаточно легко), посвящена торговой политике. H-J. Chang, Bad Samaritans (Random House, London, 2007, and Bloomsbury USA, New York, 2008) охватывает более широкий спектр вопросов политики и написана более доступно.
(обратно)20
Подробнее на эту тему см. в недавно вышедшей моей книге: H-J. Chang, Bad Samaritans (Random House, London, 2007, and Bloomsbury USA, New York, 2008), ch. 4, “The Finn and the Elephant”, а также в: R. Kozul-Wright and P. Rayment, The Resistible Rise of Market Fundamentalism (Zed Books, London, 2007), ch. 4.
(обратно)21
К. Coutts, A. Glyn & B. Rowthorn, “Structural change under New Labour”, Cambridge Journal of Economics, 2007, vol. 31, no. 5.
(обратно)22
B. Alford, “De-industrialisation”, ReFRESH, Autumn, 1997, p. 6, table 1.
(обратно)23
B. Rowthorn & K. Coutts, “De-industrialisation and the balance of payments in advanced economies”, Cambridge Journal of Economics, 2004, vol. 28, no. 5.
(обратно)24
Т. Gylfason, “Why Europe works less and grows taller”, Challenge, 2007, January/February.
(обратно)25
P. Collier & J. Gunning, “Why has Africa grown slowly?”, Journal of Economic Perspectives, 1999, vol. 13, no. 3, p. 4.
(обратно)26
См. H-J. Chang, “Under-explored Treasure Troves of Development Lessons — Lessons from the Histories of Small Rich European Countries (SRECs) |” — в: М. Kremer, P. van Lieshoust & R. Went (eds.), Doing Good or Doing Better — Development Policies in a Globalising World (Amsterdam University Press, Amsterdam, 2009) и H-J. Chang, “Economic History of the Developed World: Lessons for Africa” (лекция в рамках программы «Выдающиеся лекторы» Африканского банка развития 26 февраля 2009 года; доступна по ссылке: Blecturetext.pdf).
(обратно)27
См. H-J. Chang, “How Important were the 'Initial Conditions' for Economic Development — East Asia vs. Sub-Saharan Africa” (chapter 4); в: H-J. Chang, The East Asian Development Experience: The Miracle, the Crisis, and the Future (Zed Press, London, 2006).
(обратно)28
Сравнение качества политических институтов в сегодняшних развивающихся странах и в богатых странах в период, когда они находились на тех же уровнях развития, см.: H-J. Chang, Kicking Away the Ladder (Anthem Press, London, 2002), ch. 3.
(обратно)29
Доступное объяснение и критику теории сравнительного преимущества см. в главе 3: “My six-year-old son should get a job” — в моей книге: Bad Samaritans (Random House, London, 2007, and Bloomsbury USA, New York, 2008).
(обратно)30
Подробности можно найти в моих книгах: Kicking Away the Ladder (Anthem Press, London, 2002) и Bad Samaritans (Random House, London, 2007, and Bloomsbury USA, New York, 2008).
(обратно)31
L. Mishel, J. Bernstein & Н. Shierholz, The State of Working America, 2008/9 (Economic Policy Institute, Washington, D.C., 2008), p. 26, Table 3.
(обратно)32
L. Mishel, J. Bernstein, & Н. Shierholz, The State of Working America, 2008/9 (Economic Policy Institute, Washington, D.C., 2009), Table 3.2.
(обратно)33
Mishel et al. (2009), Table 3.1.
(обратно)34
“Should Congress Put a Cap on Executive Pay?”, The New York Times, 3 January 2009.
(обратно)35
Mishel et al. (2009), Table 3. A2.
(обратно)36
Mishel et al. (2009), Table 3. A2.
(обратно)37
L. A. Bebchuk and J. M. Fried “Executive Compensation as an Agency Problem”, Journal of Economic Perspectives, 2003, vol. 17, no. 3, p. 81.
(обратно)38
OECD, “Is informal normal? — Towards more and better jobs in developing countries”, 2009.
(обратно)39
D. Roodman & J. Morduch, “The impact of microcredit on the poor in Bangladesh: Revisitingthe Evidence”, 2009, working paper, no. 174, Center for Global Development, Washington, D.C..
(обратно)40
M. Bateman, Why doesn't microfinance work? (Zed Books, London, 2010).
(обратно)41
Речь в резиденции лорда-мэра в Лондоне 19 июня 2009 года.
(обратно)42
Очень увлекательное и доступное изложение исследований иррациональной стороны человеческой природы см. в: P. Ubel, Free Market Madness: Why human nature is at odds with economics — and why it matters (Harvard Business School Press, Boston, 2009).
(обратно)43
J. Samoff, “Education for All in Africa: Still a Distant Dream” в: R. Amove & C. Torres (eds.), Comparative Education — The Dialectic of the Global and the Local (Rowman & Littlefield Publishers Inc., Lanham, Maryland, 2007), p. 361, Table 16.3.
(обратно)44
L. Pritchett, “Where has all the education gone?”, The World Bank Economic Review, 2001, vol. 13, no. 3.
(обратно)45
A. Wolf, Does Education Matter? (Penguin Books, London, 2002), p. 42.
(обратно)46
Самыми влиятельными работами этой школы были книги Гарри Бравермана (Harry Braverman, Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century; Monthly Review Press, New York, 1974) и Стивена Марглина (Stephen Marglin “What do Bosses Do?”, опубликованная двумя частями в The Review of Radical Political Economy в 1974 и 1975 гг.)
(обратно)47
Wolf, op. cit., p. 264.
(обратно)48
Рассуждения относительно «отсортировывания» и многие другие глубокие замечания о роли образования в экономическом развитии см.: Wolf, op. cit..
(обратно)49
R. Blackburn, “Finance and the Fourth Dimension”, May/June 2006, New Left Review, p. 44.
(обратно)50
H. Simon, “Organisations and Markets”, Journal of Economic Perspectives, 1991, vol. 5, no. 2, p. 27.
(обратно)51
О том, почему конфуцианская культура не была причиной экономического роста в Восточной Азии, см. в главе 9 “Lazy Japanese and Thieving Germans” в моей книге: Bad Samaritans (Random House, London, 2007, and Bloomsbury USA, New York, 2008).
(обратно)52
M. Jantti et al., “American exceptionalism in a new light: a comparison of intergenerational earnings mobility in the Nordic countries, the United Kingdom and the United States”, The Warwick Economic Research Paper Series, Department of Economics, University of Warwick, October, 2005.
(обратно)53
R. Portes & F. Baldursson, The internationalisation of the Iceland's financial sector, (Iceland Chamber of Commerce, Reykjavik, 2007), p. 6.
(обратно)54
G. Dumenil & D. Levy, “Costs and Benefits of Neoliberalism: A Class Analysis” — в: G. Epstein (ed.), Financialisation and the World Economy (Edward Elgar, Cheltenham, 2005).
(обратно)55
J. Crotty, “If financial market competition is so intense, why are financial firm profits so high? — Reflections on the current 'golden age' of finance”, Working paper, no. 134, PERI (Political Economy Research Institute), University of Massachusetts, Amherst, April, 2007.
(обратно)56
Информация по «Дженерал электрик» взята из: R. Blackburn, “Finance and the Fourth Dimension”, May/June 2006, New Left Review, p. 44. В книге J. Froud et al., Financialisation and Strategy: Narrative and Numbers (Routledge, London, 2006) делается вывод, что эта доля могла бы составлять 50%. Цифры по «Форду» взяты из работы Фрауда (Froud et al.), а цифры по «Дженерал моторе» — из работы Блэкберна (Blackburn).
(обратно)57
J. G. Palma, “The revenge of the market on the rentiers — Why neo-liberal reports of the end of history turned out to be premature”, Cambridge Journal of Economics, 2009, vol. 33, no. 4.
(обратно)58
Письмо доступно на сайте: 6са8–7а08–1.
(обратно)

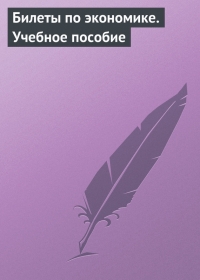
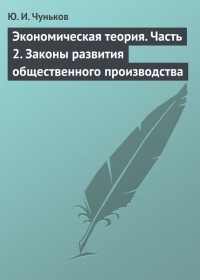






Комментарии к книге «23 тайны: то, что вам не расскажут про капитализм», Ха-Джун Чанг
Всего 0 комментариев