Егор Апполонов Пиши рьяно, редактируй резво: Полное руководство по работе над великим романом. Опыт писателей: от Аристотеля до Водолазкина
Литературный редактор Ольга Черномыс
Главный редактор С. Турко
Руководитель проекта Л. Разживайкина
Корректоры М. Угальская, Е. Чудинова
Компьютерная верстка К. Свищёв
Арт-директор Ю. Буга
Дизайн обложки А. Башкиров
© Апполонов Е., 2019
© ООО «Альпина Паблишер», 2019
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
* * *
Всем, кто поддержал, и в особенности моей музе Ане, без которой эта книга никогда не была бы написана
Всякого только что родившегося младенца следует старательно омыть и, давши ему отдохнуть от первых впечатлений, сильно высечь со словами: «Не пиши! Не пиши! Не будь писателем!» Если же, несмотря на такую экзекуцию, оный младенец станет проявлять писательские наклонности, то следует попробовать ласку. Если же и ласка не поможет, то махните на младенца рукой и пишите «пропало». Писательский зуд неизлечим.
А. П. Чехов. Правила для начинающих авторов[1]Писатель – это человек, который может, но не хочет заниматься ничем другим[2].
Е. ВодолазкинЕсли вы нашли эту книгу на пиратском ресурсе, отправьте, пожалуйста, любую сумму на благотворительность.
Е. Апполонов, авторРазвенчивая миф
Выражение «Пиши пьяным, редактируй трезвым» приписывают Эрнесту Хемингуэю. Якобы писатель дал именно такой совет, когда его спросили, как работать над текстом. На самом деле Хемингуэй – безусловно, алкоголик – никогда этой фразы не произносил. На этом настаивает Мариэль, внучка легендарного «папы Хэма»: «Хемингуэй никогда не писал пьяным и не говорил ничего подобного». По словам Мариэль, фразу приписали Хемингуэю, чтобы «романтизировать пристрастие писателей к алкоголю». «Писатели наперебой восхваляют образ жизни деда, пытаясь найти оправдание собственному алкоголизму. В действительности жизнь на краю пропасти – это не так уж и круто», – сказала Мариэль[3].
На самом деле эти слова, скорее всего, принадлежат американскому писателю Питеру Де Врису. В романе «Рубен, Рубен», опубликованном в 1964 году, в уста Гоэуну Макглэнду – герою, чье эксцентричное поведение Де Врис «позаимствовал» у валлийского поэта и драматурга Дилана Томаса, – он вложил такой пассаж: «Иногда я пишу пьяным и перечитываю написанное трезвым… а иногда я пишу трезвым и пересматриваю написанное пьяным. Впрочем, в творце должны присутствовать оба начала – аполлоническое и дионисийское, непосредственность и сдержанность, эмоции и дисциплина»[4].
Чтобы окончательно убедиться, что нобелевский лауреат Эрнест Хемингуэй никогда не произносил этой фразы, я спросил об этом у внука писателя – Джона Патрика Хемингуэя. Вот его ответ: «Мой дед неукоснительно следовал режиму. Он писал каждый день с пяти до десяти утра. Эрнест Хемингуэй никогда не пил, не закончив свои ежедневные дела. Поэтому я уверен, что он никогда не произносил этой идиотской фразы»[5].
Подробнее о пристрастии писателей к алкоголю и негативных последствиях этой порочной склонности читайте в главе «Писатели и алкоголь».
Вместо предисловия
«Секрет писательского успеха таков: 99 % таланта, 99 % дисциплины, 99 % работы. Настоящий автор всегда недоволен тем, что он делает. Его работа всегда недостаточно хороша. Мечтайте, цельтесь выше, чем можете. Не пытайтесь быть лучше современников и предшественников. Будьте лучше себя. Автор – существо, ведомое демонами. Он не знает, почему демоны его выбрали, и слишком занят, чтобы об этом задумываться. Ему плевать, что ему придется вымогать, одалживать, попрошайничать или воровать у всех и каждого, чтобы закончить свою работу.
Если писателя интересует чисто техническая сторона дела, лучше пусть оперирует или кладет кирпичи. В писательской работе нет механических приемов, нельзя срезать путь. Если начинающий писатель следует теории, он, должно быть, дурак. Учитесь на собственных ошибках: только так и учатся. Хороший писатель не считает никого достойным давать ему советы. Он обладает обостренным тщеславием. Неважно, как сильно он восторгается своим предшественником, – он хочет его превзойти. Писателю нужны три вещи: опыт, наблюдательность и воображение. Две из них, а иногда и всего лишь одна, могут компенсировать отсутствие остальных».
Уильям Фолкнер,интервью The Paris Review[6]Часть I Путь писателя
Первый акт
Плохая новость: прочитав эту книгу, вы не станете писателем.
Хорошая новость: прочитав эту книгу и проанализировав опыт великих писателей, вы, возможно, поймете, как им стать.
Плохая новость: нет коротких путей.
Хорошая новость: кто не сойдет с пути, имеет шанс стать писателем.
Плохая новость: научить писать невозможно.
Хорошая новость: через несколько лет упорного труда (придется много читать и много писать) ваши тексты станут значительно лучше.
Плохая новость: вы будете подражать любимым писателям.
Хорошая новость: пройдя этап подражательства, вы сами напишете неподражаемую книгу.
Плохая новость: нет магической формулы, вооружившись которой вы напишете великий роман.
Хорошая новость: формула вам не нужна.
Марафон
Дело в том, что, как правило, лучшие писатели – не те, кто с ходу добивается большого успеха[7].
Максвелл ПеркинсВсе писатели – воры. Воруют истории у друзей, у других писателей (если верить театроведу Жоржу Польти, драматических ситуаций всего тридцать шесть). Подслушивают разговоры прохожих и подсматривают за случайными встречными. Даже у собственной жизни крадут тайны, выставляя их на всеобщее обозрение. Но главное, что они воруют у самих себя, – время. Пока другие общаются, развлекаются, путешествуют, писатель сидит за рабочим столом и слушает голоса в голове. Да, звучит как медицинский диагноз, но вы либо принимаете правила игры, либо нет.
«Во французском языке есть два понятия: écrivain (писатель) – человек, который создает “художественные” тексты, например романист или поэт, и écrivant (записывающий) – некто, занимающийся записыванием фактов, например банковский служащий или полицейский, создающий протокол или рапорт», – пишет Умберто Эко в «Откровениях молодого романиста»[8]. Людмила Улицкая говорит: «Писатель тот, кто получает позывные из иных миров. – И добавляет: – Есть некоторая составляющая литературной работы, которой можно научиться: редактировать, соблюдать некоторые элементарные драматургические правила, избегать убийственных банальностей. Соблюдая все эти правила, писателем стать нельзя, но изготовить литературный продукт можно. 90 % того, что лежит сегодня на полках книжных магазинов, – именно и есть этот продукт»[9]. Вот и я убежден: писатель – на самом деле écrivant, не столько «пишущий», сколько «записывающий». Он стенографирует то, что ему транслируется извне, а затем подписывает подслушанное собственным именем.
Там, в ноосфере, бездна слов. Каждый писатель – инструмент для расшифровки посланий, идущих сверху. Разобрать слова можно, лишь прислушиваясь. Качество приема сигнала зависит не только от таланта и количества прочитанных книг. Важно, сколько времени вы провели у «приемника», настраиваясь на нужную волну. Сигнал ловится лучше, если садиться к «радиоточке» каждый день. Без пауз и перерывов на вечеринки с друзьями. Чем дольше писатель сидит за столом, тем слышнее ему слова.
Если вы пока не слышите голосов, не отчаивайтесь. Они зазвучат. Рано или поздно это случится, но требуется упорство. «Необходимое качество [писателя] – это выносливость. Если вы сосредоточенно работаете по три-четыре часа в день, но уже через неделю чувствуете, что ужасно устали, значит, вы не сможете написать крупное произведение. Писателю – по крайней мере писателю, задумавшему написать повесть, – необходим запас энергии, которого бы хватило на полгода, год, а то и на два упорной работы». Так пишет Харуки Мураками в книге «О чем я говорю, когда говорю о беге»[10].
«Чтобы быть продуктивным, не обязательно очень много работать, – уверял Жан-Поль Сартр. – Три часа поутру и три вечером – таково мое правило»[11]. Джон Стейнбек добавляет: «Как только начинаешь, других намерений, кроме написания, быть не должно. Теперь, когда ты сел за стол, все покоится в мире. Вокруг тишина. Ты сидишь часы напролет. Очень важны осанка и положение рук»[12].
Шесть часов в день. Помня о положении рук.
«Слава и богатство могут прийти моментально, но почти всегда этому моменту предшествуют долгий тернистый путь, тяжелая и неблагодарная работа, самоотвержение», – предупреждает голливудский продюсер Кристофер Воглер в книге «Путешествие писателя»[13]. «Профессиональный писатель – это любитель, который не бросил», – подводит черту Ричард Бах[14]. Девять лет ушло у Джонатана Франзена на подготовку, обдумывание сюжета и героев «Безгрешности». Еще год – на написание. И два – на последующую редактуру. Франзен, чьи совокупные тиражи только в США превысили 30 миллионов, подходит к работе серьезно. Ему, как он сам признается, неинтересно писать романчики средней руки. Он обстоятельный писатель: каждый роман («последний», как всякий раз во всеуслышание объявляет Франзен, уверяя, будто исписался и исчерпал темы, на которые хочет и может говорить) – фундаментальная семейная сага. С 1988 года Франзен написал всего четыре романа: «На толстый роман у меня уходит где-то год – и в этом в определенном смысле мое несчастье: пишу семь дней в неделю по тысяче слов в день»[15]. Франзен стал единственным писателем, чье лицо украсило обложку Time за последнее десятилетие. Однако ни слава, ни баснословные гонорары никак не повлияли на график автора: работая над рукописью, Франзен по-прежнему пишет семь дней в неделю, по тысяче слов в день. Иногда больше. Меньше – никогда.
Алексей Сальников, автор романа «Петровы в гриппе и вокруг него» призывает: «Лучше писать плохонько и не шедеврально, но каждый день, чем гениально, но раз в месяц»[16]. Писательство – не спринт, а марафон: важна не скорость, а ритм. Никто не пробежит марафон за вас. Придется сидеть дни напролет и марать черновики, пока другие пьют вино по ресторанам. Так же считал и Жюль Верн: «…По-настоящему тяжелый труд и регулярный, равномерный темп производительности несовместимы с удовольствиями жизни в обществе»[17].
Если ваша цель – не разводить литературных бройлеров (Воглер называет процесс написания бульварного чтива «актами мозгового метеоризма»[18]), готовьтесь к путешествию длиною в жизнь. Вы ступаете на тернистый путь, вкладывая время в саморазвитие, в учебу, в практику. За падениями, возможно, последует взлет на вершину успеха. Но лишь в том случае, если отбросить иллюзии и день за днем с полной самоотдачей покрывать страницы словами.
Достаточно ли одной усидчивости? Отвечает Мураками: «В каждом интервью меня спрашивают, какими качествами должен обладать хороший писатель. Ответ очевиден – писатель должен обладать талантом. С каким бы усердием и рвением вы ни писали, если у вас нет таланта, вы никогда не станете хорошим писателем. Это скорее предварительное условие, чем приобретенное качество. Даже самый лучший в мире автомобиль не сдвинется с места без горючего»[19].
Американский сценарист и теоретик Роберт Макки в книге «История на миллион долларов» возражает: «Талант без мастерства похож на топливо, не залитое в бак автомобиля. Оно прекрасно горит, но толку от этого мало»[20].
В стремлении отточить перо истинный писатель (тот, что метит в большую литературу) отправляется – прямо по Воглеру – в свое «путешествие героя». Среди начинающих немало своего рода литературных «нигилистов» – тех, кто не хочет учиться. «Молодой писатель часто старается обойтись без развязки, активных характеров, хронологии и причинно-следственных связей. Но для начала нужно в совершенстве овладеть классической формой», – пишет Роберт Макки[21]. Ему вторит Лайош Эгри, драматург и преподаватель: «Даже гении часто писали плохие пьесы. Почему? Потому что они писали, руководствуясь скорее инстинктом, чем точным знанием. Инстинкт может привести к созданию шедевра – один раз или несколько, но если ничего, кроме инстинкта, нет, дело часто будет оканчиваться провалом»[22]. Подводит итог Захар Прилепин: «В нее [литературу] въезжают на двух лошадках: врожденный дар и мастерство. Одной, как правило, не хватает»[23].
В погоне за теорией главное не превратиться, как говорит Алексей Поляринов, в «эстета, ушибленного учебниками по композиции»[24]. Уильям Фолкнер придерживается того же мнения: «Если начинающий писатель следует теории, он, должно быть, дурак»[25]. Фолкнер считал: волшебство происходит только за писательским столом. А вот слова Дуайта Суэйна, автора учебника по писательскому мастерству «Приемы издающегося писателя» (The Techniques of the Selling Writer): «К сожалению, новички в области литературы часто по-детски верят в волшебные ключи или тайные формулы. Нет таких ключей. Пока ты не отказался от мечты о волшебном ключе – ты не писатель»[26].
Иллюзионисты – не волшебники. Они в совершенстве овладели техникой создания иллюзий. Вот и писателю стоит в совершенстве освоить навыки письма. И сделать это отчасти самостоятельно, отчасти при поддержке тех, кто этот путь уже прошел.
О чем эта книга? О сомнениях. О поражениях. О победах. Перелистывая страницы, вы «услышите», как Максвелл Перкинс общался с Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом. Фицджеральд – с Хемингуэем. Хемингуэй – с Перкинсом. Толстой – с Чеховым. И так далее. Бабель, Мураками, Аристотель, Горький, Пелевин – писатели с вами заговорят.
У вас в руках – не руководство к действию. Это компас: он не выведет из леса, но укажет направление. Если игнорировать теорию, путешествие растянется на годы, хотя скоростной экспресс «Желание» мог бы доставить до финальной точки маршрута гораздо быстрее. Все пути верны. Разница лишь в том, что одни короче других.
Вы ступили на опасный путь, полный разочарований, отчаяния и временами – одиночества. Писатель Тоби Литт заметил: «Писать по правилам – все равно что показывать фокусы друзьям и родственникам. Писать хорошо – все равно что сбежать с бродячим цирком»[27].
Готовы ли вы к одиночеству?
Готовы ли вы к побегу?
Советы писателям. Джон Гришэм
«Терпеть не могу прологи. Я только что закончил редактировать роман одного парня. Все его книги начинаются с драматичного пролога, типа убийца гонится за женщиной или находят мертвое тело. Затем автор заставляет заинтригованного читателя перейти к главе первой, которая, конечно, не имеет ничего общего с прологом, потом к главе второй, которая, разумеется, не имеет ничего общего ни с главой первой, ни с прологом, а страниц через тридцать возвращает к действию в прологе, о котором читатель к тому времени успел благополучно забыть».
«Характерная ошибка новичков – ввести двадцать персонажей в первой главе. Пяти вполне достаточно, чтобы не запутать и не отпугнуть читателя».
«Если есть необходимость подобрать нужное слово с помощью словаря, то выбирать следует из слов, в которых не больше, а лучше меньше, трех слогов. У меня неплохой словарный запас, и никто так не действует мне на нервы, как писатели, демонстрирующие свою ученость использованием редких слов, которых я никогда не встречал».
«Большинство писателей слишком растекаются по древу. Всегда ищите, что можно выкинуть. Например, не несущие смысловой нагрузки предложения и ненужные сцены».
Из романа «Остров Камино»[28]Как начать?
Вершина мастерства состоит в том, чтобы скрывать технику исполнения и напряжение за совершенным внешним спокойствием[29].
Питер Хёг«Если уже первая фраза не содействует достижению единого эффекта, значит, писатель с самого начала потерпел неудачу», – сказал Эдгар Аллан По[30]. Неудивительно, что и Стейнбек жалуется в воспоминаниях: «Как же я страдаю от страха первой строчки»[31]. Джонатан Франзен начинает каждый новый роман с чувством, будто берется за перо впервые: «Каждый раз, когда я сажусь за новый роман, у меня возникает чувство, что я раньше никогда не писал. С “Двадцать седьмого города”[32] это чувство меня не покидает»[33]. Габриэль Гарсия Маркес писал: «Самое сложное – это первый абзац. Я мог месяцами биться над первым абзацем, но когда у меня получалось его написать, все остальное было делом техники»[34].
Яркое начало определяет успех текста: ведь именно первые секунды знакомства с ним подталкивают нас, что делать дальше: продолжить чтение или отложить книгу. По данным Национального центра биотехнологической информации США, продолжительность концентрации внимания в 2015 году составила 8,25 секунды[35]. В 2000 году эта цифра равнялась 12 секундам. Данные 2017 года – меньше 7 секунд. За это время человек успевает прочесть в среднем от 20 до 30 слов. Ваша задача – привлечь внимание читателя (редактора в издательстве) в первые же десять секунд.
Литературный агент Джесс Деллоу в интервью Yale Writers’ Workshop раскрывает секрет удачного дебюта: «Я жду “вау-эффекта” и погружения с первой страницы. Я получаю сотни писем от авторов, которым я отказала. Они спрашивают: почему я запросила только первую главу? Ведь все интересное – дальше, после первых десяти страниц. Но так быть не должно. Если я беру книгу с магазинной полки, и мне не нравятся первые десять страниц, зачем мне терять на нее время, когда на свете полным-полно великих романов? Я жду, что повествование меня захватит, а как это автор сделает – неважно. Я жду интриги, яркого начала, чуда. Прочтите первые десять строк любимых книг (или бестселлеров), и вы поймете, о чем я. Почему эти книги привлекают внимание? Чем они цепляют?»[36]. Джон Гришэм, автор юридических триллеров, пишет, что заложить в повествование «крючок» (то есть интригу) стоит как можно раньше[37]. Чем ближе к началу вы это сделаете, тем проще станет работать над историей. С крючка читатель уже не соскочит.
– Самое главное, Маркус, это первая глава. Если она читателям не понравится, остальное они читать не будут. С чего вы думаете начать свою книгу?
– Не знаю, Гарри. Думаете, у меня когда-нибудь получится?
– Что?
– Написать книгу.
– Я в этом уверен[38].
«Начинающие писатели часто должны делать так: перегните пополам и разорвите первую половину. Я говорю серьезно. Обыкновенно начинающие стараются, как говорят, “вводить в рассказ” и половину напишут лишнего. А надо писать, чтобы читатель без пояснений автора, из хода рассказа, из разговоров действующих лиц, из их поступков понял, в чем дело. Попробуйте оторвать первую половину вашего рассказа, вам придется только немного изменить начало второй, и рассказ будет совершенно понятен», – сказал однажды Чехов священнику Сергею Щукину, показавшему писателю свой рассказ[39].
Сколько раз вы откладывали книгу из-за неудачного начала? Первая глава – витрина романа. Вы продаете – читатель, если заинтригован, покупает. Или снимает с магазинной полки другую книгу. Первая глава – стартовая площадка, с которой писатель запускает сюжет. Читатель, попавшись на крючок, переворачивает страницы. Если возникает интерес (увлеченность или даже восторг) – запуск проходит безупречно. Если нет – и эта книга отправляется обратно на полку.
Первая глава – еще и маркетинговое предложение писателя читателю. И одновременно (как считают сценаристы Джон Труби[40] и Роберт Макки[41]) – роман в миниатюре. Если история получилась достаточно продуманной, первая глава отражает идею романа и одновременно контридею. В ней заключены и вопросы, которые возникнут у читателя в путешествии по предложенному тексту, и косвенные ответы на них.
Первая глава великого романа показывает всю мощь художественного произведения, завораживает читателя, вовлекает его, дает первый ключ к разгадке тайны, предложенной автором. Помните это ощущение – с первых страниц не оторваться? А что вы скажете о первой главе своего романа: достаточно ли она хороша?
Перейдя ко второй главе, развивайте действие и конфликт, помня о наставлении Жоэля Диккера:
– Вторая глава очень важна, Маркус. Она должна быть резкой, ударной.
– Как что, Гарри?
– Как в боксе. Вы правша, но в боевой стойке левый кулак у вас всегда впереди: первым прямым ударом вы оглушаете противника, а затем мощным ударом правой укладываете его на месте. Вот такая и должна быть ваша вторая глава: прямой удар в челюсть читателю[42].
Вопрос – ответ. О дебюте
Как же начать работу над текстом?
Плохой писатель думает: «Я хочу об этом написать». Хороший писатель говорит: «Я пишу об этом». «Не начинайте с больших форм. Романы напишете позже», – говорил Рэй Брэдбери[43]. С этим согласен и Джордж Мартин: «Рассказ – лучший способ войти в мир научной фантастики. Молодые писатели часто начинают с трехтомных произведений – но я считаю, надо начинать с рассказов, это лучший способ выделиться и войти в плеяду фантастов»[44].
Но не все идут по такому пути. Писатель Алексей Иванов («Географ глобус пропил», «Ненастье», «Тобол» и так далее) рассказы писать не умеет. «Мое отношение к рассказу не изменилось. Я – человек эпического склада мышления, а рассказ – из другого кластера, поэтому рассказ как формат мне не близок и не интересен. Однако я считаю, что рассказ – самое сложное дело в прозе, поскольку его суть отличается от сути прозы. Уловить суть рассказа очень сложно. Рассказ – не сокращенный роман, не маленький случай из жизни и не развернутая метафора (иллюстрация). Он – нечто иное. Он ближе к поэзии, к музыке, к эскизу, чем к прозе с ее повестями и романами. Из настоящего рассказа невозможно сделать фильм, настоящий рассказ невозможно увеличить до повести. Возьмите, например, “Рыбку-бананку” Сэлинджера[45]. Ее можно “перевоплотить” в рисунок, в мелодию или в стихотворение-ассоциацию, но кино не снять и в роман не раздуть: получится велосипед с паровой машиной. Я не знаю, как устроено сознание тех людей, которые могут сочинить рассказ или стихотворение, поэтому и не пишу рассказов и стихов. Я воспринимаю мир иначе, более рационалистично: сюжет, герои, язык, идея. А в рассказе важно эфемерное впечатление»[46].
Если вы не уверены, какой текст просится на свет, рассказ или роман, – просто пишите, форма определится в пути. Как гласит китайская мудрость, дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Лучше сделать и сожалеть, чем сожалеть о несделанном.
Не поздно ли начинать писать в 30?
Джоан Роулинг написала «Гарри Поттер и философский камень», когда ей исполнилось 32 года. Совокупный тираж проданных книг – сотни миллионов. Харпер Ли опубликовала «Убить пересмешника» в 34. Анатолий Рыбаков, автор романа «Дети Арбата», начал писать в 35 лет. У лауреата «Букера» Евгения Водолазкина первый роман вышел в 45 лет. Когда вышел роман «Пятьдесят оттенков серого», автору – Э. Л. Джеймс – было 48 лет. Список можно продолжить – возраст не играет роли. Слово Умберто Эко, который родился в 1932 году: «Так уж вышло, что мой первый роман “Имя розы” увидел свет в 1980 году, то есть моя литературная карьера началась всего двадцать пять лет назад. А посему я, с полным на то основанием, считаю себя довольно молодым и, безусловно, многообещающим писателем, который к настоящему времени опубликовал всего пять романов и опубликует много больше в ближайшие пятьдесят лет»[47]. Подводит черту человек-драйв Чарльз Буковски: «В общем, мне уже 34. Если не добьюсь ничего к своим шестидесяти, просто отпущу себе еще десять лет»[48].
Не писать – ад. Но и писать тоже ад. Я в западне. Что делать?
Чтобы выбраться из западни, стоит ответить на вопрос: а какой ад выберу я? Ад бездействия? Или ад труда и роста над собой?
Правда ли, что нужно много читать, чтобы стать писателем?
Однозначно да. На важности чтения настаивали многие писатели. Пожалуй, лучше всех сказал Г. Ф. Лавкрафт: «Ни один честолюбивый автор не должен довольствоваться простым овладением техническими правилами… Любая попытка отполировать собственный литературный стиль должна начинаться с критического чтения, и тот, кто учится писать, никогда не должен бросать читать. Читая книги хороших писателей, нередко встречаешь более полезные советы, чем в сотнях инструкций. Страница Эддисона или Ирвинга научит стилистике лучше, чем пособие на эту тему, а рассказ По обогатит вас более точными и действенными способами описания и повествования, чем десять сухих глав толстенного учебника»[49].
Советы писателям. Генри Миллер
1. Работайте только над одной сценой, пока не закончите.
2. Не начинайте новых книг, пока пишете.
3. Не нервничайте. Работайте спокойно, радостно, азартно над тем, что у вас под рукой.
4. Работайте по графику, а не по настроению. Умейте вовремя остановиться!
5. Если не получается творить, можно просто работать.
6. Подвязывайте рассаду каждый день, а не пичкайте ее новыми удобрениями.
7. Оставайтесь человеком. Встречайтесь с людьми, выходите из дома, напейтесь, если захочется.
8. Не будьте тягловой лошадью! Работайте ради удовольствия.
9. Нарушайте график когда хотите, но возвращайтесь к нему на следующий день. Соберитесь. Сделайте выбор. Откажитесь от лишнего.
10. Забудьте о книгах, которые мечтаете написать. Думайте только о книге, которую пишете.
11. Писательство – всегда на первом месте. Живопись, музыка, друзья, кино – все это потом.
Из книги «Генри Миллер о писательстве»(Henry Miller on Writing)[50]Письма. Джон Стейнбек
«А сейчас позвольте поделиться своим опытом противостояния с 400 страницами пустого пространства – пугающая штука, которую необходимо заполнить. Я понимаю, что никому особо не нужен чужой опыт, – наверное, именно поэтому им так легко делятся. Ниже привожу правила, которым я должен был следовать, чтобы не рехнуться.
1. Выкиньте из головы мысль – “Когда-нибудь я это закончу”. Забудьте о 400 страницах и пишите по одной каждый день – это помогает. Когда закончите, сами удивитесь, сколько всего сделали.
2. Пишите свободно и как можно быстрее. Буквально выплевывайте слова на бумагу. Никогда не исправляйте и не переписывайте, пока не закончите. Переписывая, вы оправдываете собственное топтание на месте. Переписывание вредно для плавности и ритма, а этого можно добиться только при бессознательном слиянии с текстом.
3. Забудьте про само понятие “публика”. Во-первых, безымянная и безликая читательская масса напугает вас до смерти, во-вторых, в отличие от театра, у вас нет никакой публики. В писательском деле “публика” – это один-единственный ваш читатель. Иногда я замечал, что легче выбрать одного человека – реального или воображаемого – и писать для него.
4. Если сцена или блок текста отнимают слишком много усилий, но вы все же хотите их написать, то пропустите и продолжайте. Когда закончите, можете к ним вернуться, и тогда, возможно, поймете, что этим элементам здесь не место: потому-то у вас и возникли затруднения.
5. Опасайтесь сцен, которые вам слишком дороги, дороже, чем остальные. Обычно оказывается, что они неправильно написаны или вообще лишние.
6. Проговаривайте диалоги вслух. Только после этого они зазвучат как живая речь».
Из письма к Роберту Уолстену,13–14 февраля 1962 года[51]Подражание
Многословно и давно уже спорят о том, надо ли учиться у классиков. Мое мнение: учиться надобно не только у классика, но даже у врага, если он умный[52].
М. ГорькийЧто такое авторский стиль? Звучание текста на бумаге. Его узнаваемость. Руководитель литературных мастерских Creative Writing School Майя Кучерская называет стилем «отпечаток литературных пальцев»[53] писателя. Вспомните Довлатова, Набокова, Чехова – вот яркие примеры авторского стиля.
Главный вопрос – можно ли (и стоит ли) подражать любимым авторам, перенимать чужую манеру письма? Сами писатели говорят: подражание – естественный путь эволюции автора. «Будучи начинающим писателем, вы ищете свой голос, часто копируя чужие. Но со временем голос крепнет. Вы находите стиль, который проникает во все ваши тексты, потому что вы нашли, из-за чего на нем остановились», – говорит Джордж Мартин[54], автор «Песни Льда и Пламени».
Подражая, мы учимся. В жизни это так и происходит: посредством зеркальных нейронов маленький ребенок «отражает», копирует действия и эмоции взрослых. Вот почему так важно пробудить в детях привязанность с самого раннего возраста: значимый близкий человек в окружении ребенка – проводник во взрослый мир. Каждому начинающему писателю стоит найти такого «значимого взрослого». Обратитесь за помощью к любимым книгам. Смело подражайте. Перенимайте стиль письма. Через подражание вы обретете себя.
Как же найти свой стиль? «Много, много писать, сочинять, откладывать, вычеркивать, но не выбрасывать, заново придумывать. Однажды остановиться и оглядеть эту груду написанного. Вы увидите, что у вас два-три любимых мотива, повторяющихся из текста в текст. Две-три любимые темы, несколько излюбленных стилевых приема – вот эти “два-три” и есть уникальный вы», – говорит Майя Кучерская[55]. «Я написал четыре романа об американских семьях со Среднего Запада. Вот и все, что я написал. Видимо, я обречен как романист не написать ничего, кроме историй о семьях со Среднего Запада», – сетует Джонатан Франзен[56].
Чем дольше вы пишете (и, возможно, подражаете), тем лучше чувствуете текст. Переписывая раз за разом, вы обретаете свой стиль. Свой голос. Свое звучание.
«Подражание заставляет внимательно разобраться в “кухне” своего кумира, освоить его приемы, следовательно, учит овладевать техникой. Но главное в писательском становлении – все же побыстрее находить себя самого», – напоминает Алексей Иванов[57].
Великие писатели не стесняются признаваться, что копировали других. Фицджеральд писал Хемингуэю: «Возвращаясь к основной теме письма – теперь второй пункт из области литературной техники, который может быть тебе интересен. Речь идет о самой настоящей краже: одной идеи у тебя, еще одной у Конрада и нескольких строчек у Дэвида Гарнета»[58]. Интересное мнение высказал писатель-буддист Виктор Пелевин: «“Мастер и Маргарита”, как любой гипертекст, обладает таким качеством, что сложно написать что-либо приличное, что не походило бы на “Мастера и Маргариту”»[59]. Для подведения итога дадим слово Т. С. Элиоту: «Незрелый поэт копирует, зрелый поэт – крадет»[60].
Пишите просто
«Простота – необходимое условие прекрасного», – утверждал Лев Толстой[61]. А Фицджеральд в 1925 году признавался: «В конце марта выйдет мой новый роман “Великий Гэтсби”. На него потребовалось около года работы, и, мне кажется, от того, что я делал раньше, я ушел на десять лет. Я строго смотрел, чтоб на этот раз писать без обычного моего ловкого умничанья – это самая большая моя слабость, она портит мои книги и отвлекает читателя, хотя порой и может вызвать сардонический смешок»[62]. А вот слова Пушкина, произнесенные в 1827 году: «Если все уже сказано, зачем же вы пишете? Чтобы сказать красиво то, что было сказано просто? Жалкое занятие!»[63]
Кормак Маккарти, лауреат Пулитцеровской премии (за роман «Дорога»), признавался, что он предпочитает обычные повествовательные предложения и никогда не прибегает к точке с запятой[64].
Максвелл Перкинс, один из известнейших редакторов в истории литературы, считал образцом простоты Эрнеста Хемингуэя. Вот отрывок из его письма Скотту Фицджеральду: «Теперь о Хемингуэе. Я наконец раздобыл “В наше время”, эта книга оказывает просто пугающее воздействие своими краткими эпизодами, написанными лаконично, сильно и живо. Мне кажется, это удивительно полное и страшное изображение атмосферы нашего времени, как его воспринимает Хемингуэй»[65].
Вспомним, что правила письма молодой Хэм почерпнул из руководства по стилю провинциальной газеты The Kansas City Star. Работу в газете Хемингуэй называл лучшей писательской школой. Вот что, в частности, было записано в своде правил газеты: «Пиши короткими предложениями. Первые абзацы должны быть краткими. Пиши энергичным языком. Утверждай, а не отрицай». Еще одно правило запрещало лишние прилагательные – и в первую очередь такие, как «великолепный», «грандиозный» или «чудесный»[66]. Подробнее об этих правилах будет рассказано дальше.
Горький считал язык «первоэлементом литературы» и выступал категорически против «мишуры дешевеньких прикрас»[67]: «Читатель вправе требовать, чтоб писатель говорил с ним простыми словами богатейшего и гибкого языка… Мы должны добиваться от слова наибольшей активности, наибольшей силы внушения – мы добьемся этого только тогда, когда воспитаем в себе уважение к языку как материалу, когда научимся отсеивать от него пустую шелуху, перестанем искажать слова, делать их непонятными и уродливыми. Чем проще слово, тем более оно точно, чем правильнее поставлено, тем больше придает фразе силы и убедительности»[68].
Советский прозаик и поэт Юрий Домбровский ругал неумелых писателей за «крайнюю неразработанность стиля, растрепанный, путаный синтаксис», замечая: «Порой самые возвышенные споры, разговоры, сентенции (даже о Господе Боге) остаются все-таки комочком житейской слизи. Большому кораблю суждено и большое плаванье – это первая мысль, которая приходит в голову при встрече с любым талантом, но куда он может приплыть, если его заводит на такое мелководье, куда уж давно перестали заходить даже рыбачьи плоскодонки». И через несколько страниц: «Порой в прозе встречаешь спотыкающийся, задыхающийся, перебивающий самого себя бормот, через который трудно уловить мысль автора. Этот ход мысли и способ выражения напоминает кошмарный сон или тифозный бред. А между тем все это в принципе не ново. Когда-то нечто подобное называлось “потоком сознания”»[69].
А что же в наше время? Главный редактор издательства «Фантом-Пресс» Игорь Алюков находит те же проблемы в современной прозе: «Претензии к русским авторам у меня вполне конкретные: неумение (часто маскируемое под презрение) работать с сюжетом, зацикленность на стиле и литературном украшательстве (никак не перерастем) и, главное, зацикленность на себе в разной форме. Я предпочитаю, когда автор рассказывает мне историю, а не подает себя. Как мне кажется – тут важно, что это сугубо мое мнение, – современный писатель в России пишет по-прежнему “для вечности”, думаю, вполне бессознательно пытаясь вскочить в давно ушедший паровоз великой русской литературы. Это явный путь в никуда. И русскому писателю хорошо бы совершить революцию в себе»[70].
Образец лаконичности и кристальной ясности письма – Чехов. Маяковский говорил: «Язык Чехова определенен, как “здравствуйте”, прост, как “дайте стакан чаю”»[71]. Чеховские современники вспоминали: «Гладкую, закругленную, периодическую литературную речь он [Чехов] заменил простым, точным, благородным, нервно-коротким слогом, сближенным со звуками обычного свободного разговора… Его литературный язык до того сближается с разговорным языком, тем обычным языком, который мы слышим везде и повсюду… что начало его рассказа казалось продолжением того, что только что происходило в жизни, и жизнь казалась продолжением того, о чем только что говорил Чехов»[72].
«Можно привести десяток книг, – все “продукция” текущего года, – наполненных такой чепухой, таким явным, а иногда, кажется, злостным издевательством над языком и над читателем. Поражает глубочайшее невежество бойких писателей: у них “с треском лопаются сосновые почки”, они не знают, что дерево не гниет в воде, у них “чугун звенит, как стекло”, пила “выхаркивает стружки”, ораторы “загораются от пороха собственных слов” и т. д. – без конца идет какое-то старушечье плетение словесной чепухи, возбуждая читателя до бешенства, до отвращения… В области словесного творчества языковая – лексическая малограмотность всегда является признаком низкой культуры», – сетовал Горький[73]. И добавлял в «Письмах начинающим литераторам»: «Крайне трудно найти точные слова и поставить их так, чтобы немногим было сказано многое, чтобы словам было тесно, мыслям – просторно. Наша речь преимущественно афористична, отличается своей сжатостью, крепостью»[74].
Еще один важный фрагмент из работы Горького «О том, как я учился писать»: «Одно дело – “окрашивать” словами людей и вещи, другое – изобразить их так “пластично”, живо, что изображенное хочется тронуть рукой, как часто хочется потрогать героев “Войны и мира” у Толстого… Вообще слова необходимо употреблять с точностью самой строгой»[75].
Советы писателям. Курт Воннегут
1. Время вашего читателя, совершенно чужого вам человека, используйте так, чтобы он, читая вашу книгу, ни в коем случае не решил, что потратил его впустую.
2. Дайте читателю хотя бы одного персонажа, которому он может сопереживать.
3. Любой персонаж должен чего-нибудь хотеть, пусть даже просто стакан воды.
4. Каждое предложение должно выполнять одну из двух функций: или раскрывать характер персонажа, или двигать вперед сюжет.
5. Начинайте как можно ближе к концу.
6. Будьте садистом. Неважно, насколько мил и невинен ваш персонаж, – сделайте так, чтобы с ним происходило все самое ужасное. Так читатель сможет увидеть, из чего на самом деле сделаны ваши герои.
7. Пишите так, чтобы это понравилось одному человеку. Если раскроете окно нараспашку и попытаетесь понравиться всем – ваш роман подхватит воспаление легких.
8. Дайте вашему читателю как можно больше информации – и как можно раньше. Черт с ним, с «саспенсом». У читателя должно настолько полное представление о том, что, где и почему происходит, чтобы он сам смог додуматься, чем все закончится, если вдруг тараканы сожрут последние страницы романа.
Из книги «Табакерка из Багомбо»(Bagombo Snuff Box)[76]Вопрос – ответ. О графомании
Как понять, что ты не графоман?
Вы графоман. А теперь садитесь и пишите. Продолжайте писать. И тогда в один прекрасный день вы перестанете им быть. А может, и нет. Многие издающиеся авторы – графоманы. Некоторые из тех, кто пишет «в стол», – подлинные писатели.
Где грань между писательством и графоманией?
Графомания – греческое слово, означающее патологическое стремление к сочинительству. Для графомана на первом месте – реакция публики (скажем, восторг после зачитывания отрывков вслух). Графоман пишет слова ради слов – не для усиления драматургии, а во имя красоты звучания. Грань между писательством и графоманией тонка, едва различима. Лаконичность письма соседствует с драматургией сюжета. Вспомним, как Горький называл излишнее декорирование текста: «мишура дешевеньких прикрас». Настоящий писатель прекрасно без нее обходится. И не халтурит. «Где грань между писательством и графоманией?» – задается вопросом писатель Алексей Сальников, лауреат премии «Национальный бестселлер». И сам же отвечает: «Во фразе – “и так сойдет”»[77].
Слово Алексею Толстому: «Написать плохую фразу – совершенно такое же преступление, как вытащить в трамвае носовой платок у соседа. У нас часто бывает, что из-за торопливости, из-за неряшливости человек рассуждает: это сойдет. Этого нельзя. Никогда ничего не сойдет. Мне приходилось иногда по три-четыре раза переписывать романы: растешь, и это не удовлетворяет. Работа над произведением происходит всю жизнь. А были такие писатели, очень плодовитые, которые писали быстро, без помарок, никогда ничего не исправляли. От них ничего не осталось»[78].
Стоит ли продолжать мучения?
Что, если уже в тот же день (или на следующий) все написанное кажется недостойным бумаги? Пишите, если не можете не писать. Если можете не писать – не пишите. Самокритика – ценное качество для пишущего человека. Писателя ведут внутренние демоны, они же подталкивают его критически отзываться о собственном труде: ругать написанное – это естественная реакция. Излишняя самоуверенность – первый признак графомана. Любой написанный текст нуждается в доработке.
Советский литературовед А. Цейтлин в книге «Труд писателя» пишет: «Никакой духовный расцвет не может уберечь художника слова от кризисов, которые в известной мере являются неизбежными спутниками этого расцвета. Во время этих кризисов писатель мучительно переживает несовершенство того, что он делал до сих пор. С резким отрицанием относится теперь писатель к созданному им ранее»[79]. И вот тут главное не бросить и продолжать писать.
Совет молодым писателям от Николая Островского: «…Писателем может стать каждый. Но для этого нужна упорная воля, огромная учеба, бесконечное обогащение знанием, бесконечное стремление к высшему уровню культуры. Поймите и твердо запомните, что без этого можно дать книгу со сверкающими крупицами таланта, но нельзя дать вещи огромного размаха»[80]. Резюмирует Горький: «Неудача подавляет слабого духом писателя и многому учит того художника, который умеет извлечь из совершившегося необходимые уроки»[81].
Когда начинаешь понимать, что написанное стоит прочтения?
Чем больше вы пишете, тем отчетливее вам видны изъяны в тексте. Если вы написали первый рассказ и сразу решили, что он гениален, – вам показалось. Еще ни один автор не сочинил ничего гениального с первого раза. И не спешите в издательство, ища одобрения. Потребуются годы упорного труда, чтобы научиться писать. Новички все думают, как бы срезать путь и стать писателем поскорее. Никак. Только спустя какое-то время вы почувствуете, что написали стоящую прочтения вещь.
«Когда мне было 18–19 лет, я носил фантастические повести в журнал “Уральский следопыт”. Редактором отдела фантастики тогда был Виталий Иванович Бугров – главный в СССР специалист по фантастике. Разных рукописей у него лежали целые горы. Поэтому он просто не читал того, что я ему давал. А я ждал, волновался, думал над своими повестями, перечитывал их бесконечно, взвешивал художественные решения. Я тогда учился в университете и для себя разбирал труды прямо по университетским разделам литературоведения и языкознания: драматургия, лексика, фонетика, образная система и так далее. Когда сомнения в достоинствах той или иной повести заедали меня окончательно, я приходил и забирал ее у Бугрова. Так я и учился на самом себе. Из всех повестей, которые я приносил, я не забрал только две. И обе были опубликованы в “Следопыте”», – вспоминает Алексей Иванов[82].
Как не сравнивать себя с великими и не потерять веру в собственные силы?
Что делать, если ты не Гоголь, Брэдбери или Чехов, и вряд ли дотянешь, а стать писателем хочется? Но ведь и Гоголь не сразу стал Гоголем, Чехов – Чеховым, а Брэдбери – Брэдбери. Ответ на вопрос, что делать, банален: писать. Увы, нет магической формулы, которая сделает вас писателем. Вот что говорил об этом Алексей Толстой: «Очень часто бывает так, что молодые поэты, молодые прозаики, не ощущая в себе достаточных сил равняться по большим поэтам, думают: батюшки, ну что же Пушкин, Тютчев, Некрасов, такие вершины, – на них смотреть, шапка свалится. И вот они выбирают в журналах самые скверные стишки и думают: “Так я лучше напишу”. Это неправильно. Вообще нужно всегда дерзать сорвать шапку с Пушкина. Может, ты и не сорвешь, но дерзать нужно. Вообще всегда замахиваться на самое большое»[83].
Пусть вас не пугает величие великих. Скажите себе: я напишу лучше, чем Хемингуэй. Лучше, чем Чехов, лучше, чем Джоан Роулинг. Возможно, у вас и правда получится. Главное – верьте в то, что пишете, и не обращайте внимание на критику. Энн Райс, автор популярных романов о вампирах, в предисловии к сборнику сочинений Кафки так выразила свои представления о его жизненной и творческой философии: «Не прогибайтесь, не сглаживайте углы, не пытайтесь все подчинить логике, не коверкайте собственную душу в погоне за модой. Просто отдавайтесь своим самым пылким страстям, не щадя себя»[84].
Письма. Фрэнсис Скотт Фицджеральд
«Скотти,
Не вздумай вешать носа из-за того, что твой рассказик получился неважным. Но и ободрять тебя по этому поводу я не собираюсь: ведь если ты всерьез хочешь писать, научись справляться с трудностями и делать выводы из неудач. Никто еще не стал писателем просто оттого, что ему так захотелось. Если ты почувствуешь: у тебя есть что сказать и такого до тебя еще не говорили, – ты не успокоишься, пока не напишешь так, как никому прежде не удавалось. И тогда слова сольются, накрепко соединятся что и как, словно бы они пришли к тебе одновременно.
Дай я еще немножко порассуждаю на ту же тему: я вот к чему – то, что ты чувствуешь, то, что ты думаешь, само по себе, без твоих усилий, создаст новый стиль, а потом все будут с удивлением отмечать, до чего он нов. Да только напрасно думать, будто все дело в самом стиле, ведь главное – попытка выразить новую идею с такой силой, что решительно во всем сказывается оригинальность замысла. Добиваться этого ужасающе тяжело. Писательство – страшно одинокое дело. И ты знаешь, мне никогда не хотелось, чтобы ты за него бралась. Но если уж вообще тебе за него браться, я хочу, чтоб ты с самого начала знала то, что сам я постиг ценою долгих лет».
Из письма Скотти Эшвилл,20 октября 1936 года[85]Садовники или архитекторы?
Проза – это архитектура, а не декораторское искусство[86].
Э. ХемингуэйКак лучше писать – подготовившись или спонтанно, следуя за мыслью, «куда кривая выведет»? Однозначного ответа нет. Начнем с отрывка из полуавтобиографического романа Курта Воннегута «Времетрясение»: «Рассказчики историй, закрепленных чернилами на бумаге, делятся на тех, кто с лету набрасывается на текст, и тех, кто упорно корпит над каждой фразой, медленно пережевывая все варианты. Назовем их ястребами и черепахами. Ястребы пишут свои вещи быстро, сумбурно, взахлеб, второпях – как получится и как попало. А потом старательно доводят их до ума, исправляя все многочисленные косяки и переделывая все куски, которые явно не удались. Черепахи выдают по одному предложению за раз, шлифуют каждое слово, пока не останутся довольны полученным результатом, и только потом переходят к следующей фразе. Когда они завершают работу, работа действительно завершена»[87].
Садовники
Многие маститые писатели советуют: сев за первый черновик, пишите так резво, как только можете. Не задумывайтесь о написанном, не перечитывайте, не оборачивайтесь назад. Заткните «внутреннего критика». Не обращайте внимания на сомнения. Просто пишите так быстро, как только сможете. Вот почему так важна подготовительная работа: собранные факты и накопленные знания помогают не сбавлять темп. «Пиши начерно, не обдумывая места и правильности выражения мыслей; раз переписывай, исключая все лишнее и давая настоящее место каждой мысли; раз переписывай, исправляя неправильности выражений», – как-то записал Лев Толстой в дневнике[88].
Американская писательница Натали Голдберг в книге «Человек, который съел машину» говорит о двойственности: «Когда мы пишем, то зачастую совмещаем в одном лице и творца, и редактора. Представьте, что та рука, которой вы пишете, – творец, а вторая – редактор. Теперь сведите их вместе и сцепите пальцы. Вот он – внутренний конфликт. Если творческая рука все время будет в движении, редактор не сможет за ней угнаться и перекрыть ей кислород. Она получит возможность писать все, что заблагорассудится. Непрерывное движение руки – вот основа писательской практики»[89].
Хемингуэй говорит о волнении, возникающем, если писать без остановок: «Иногда вы заранее знаете сюжет. Иногда вы узнаете, чем все закончится, уже в процессе работы. Вы не представляете, куда вывернет повествование, – все стремительно меняется, пока вы пишете. Именно это движение и создает сюжет. Иногда он движется крайне медленно, и начинается казаться, что ты топчешься на месте. Но это не так. Сюжет постоянно меняется, движение никогда не прекращается»[90].
Садовники пишут, бросив зерно замысла на бумагу, и затем следят, что взойдет: небольшой рассказ или серьезный роман. «Садовник» – всегда первый читатель своего произведения, потому что он понятия не имеет, что будет происходить дальше.
Стивен Кинг делится опытом: «Я больше полагаюсь на интуицию и могу это делать, поскольку в основе моих книг лежит не событие, а ситуация. Одни книги порождены простыми идеями, другие – посложнее, но почти все они начинаются с простой магазинной витрины или восковой панорамы. Я ставлю группу персонажей (или пару их, или даже одного) в трудную ситуацию и смотрю, как они будут выпутываться. Моя работа – не помогать им выпутываться или вести их на ниточках в безопасное место – такая работа требует грохота отбойного молотка сюжета, – а смотреть и записывать, что будет происходить… Часто у меня есть представление о том, чем все должно кончиться, но я никогда не требовал от своих героев, чтобы они поступали по-моему. Наоборот, я хочу, чтобы они действовали по-своему. Иногда развязка бывает такой, как мне виделось. Но чаще получается такое, чего я и не ждал. Для романиста в жанре саспенса это просто прекрасно»[91].
Недостаток «садовничества»: садовникам приходится работать больше. «Писать книгу без четко продуманного плана гораздо интереснее – но если подходить к литературе как к бизнесу, то это мой серьезный недостаток, потому что приходится много переписывать, выбрасывать целые куски, которые потом не помещаются в общую конструкцию», – рассказывал Виктор Пелевин на семинаре в Токийском университете[92].
Примечательно, что «куски, не помещающиеся в общую конструкцию», – не пустая работа: в таких «обрезках» Джонатан Франзен нашел фрагменты романа «Безгрешность»: «После “Поправок” и “Свободы” у меня оставались обрывочные заметки о персонаже по имени Том Аберант… Среди прочего там был эпизод, буквально несколько страниц от первого лица, где речь шла о бывших супругах, у которых после развода вновь завязался роман. Дело происходит в Нью-Джерси: они идут в лес, занимаются там сексом и всячески друг друга изводят. Но тогда я не понимал, куда двигаться дальше. Вроде как работал в стол. Уже потом, когда я вернулся к нью-джерсийским страницам, они показались мне вполне сложившимися. Именно эта история о запутанном, мучительном браке и стала центром новой книги»[93].
Вернемся к Пелевину: «Если сначала придумать весь роман как схему, а потом заполнять его текстом, это будет смертельно скучно – непонятно тогда, зачем этим заниматься, деньги можно зарабатывать более эффективными методами. Когда я пишу какой-нибудь текст, я двигаюсь на ощупь, именно в этом для меня заключена прелесть этого занятия: это как прогулка в ночном лесу, когда не знаешь, что произойдет через час»[94].
А вот что писал Фицджеральд Максвеллу Перкинсу: «Чувство свободы нередко подсказывает совсем новую концепцию, которая придает материалу свежесть»[95]. Правда, в случае с «Великим Гэтсби», – без сомнения, великим романом – такой подход не сработал. В том же письме Фицджеральд жалуется, что пришлось много думать и конструировать сюжет, вводя определенных героев и выстраивая нужную последовательность событий, чтобы добиться желаемого художественного эффекта: «…Мне необходимо, чтобы все мои персонажи отправились в Нью-Йорк, поскольку на обратном пути должна была произойти катастрофа на шоссе»[96].
Архитекторы
Архитекторы не приступают к работе до тех пор, пока не готова полная карта путешествия героя. Архитекторы прописывают биографии персонажей (садовники, впрочем, тоже, но реже). Один из знаменитых «архитекторов» – Жюль Верн – писал: «Никогда не приступаю к книге, не определив предварительно, чем она начнется, что будет в середине и чем закончится. До сих пор мне удавалось удерживать в памяти не одну, а до полудюжины окончательно разработанных сюжетных линий»[97]. А вот что советовал писатель Дмитрий Григорович молодому Антону Чехову: «Выберите из запаса то, что Вам ближе к сердцу, обдумайте хорошенько план (архитектурная постройка повести важная вещь) – и летом приступайте с богом к работе»[98].
Чехов совету последовал. Вот как описывал стиль его работы беллетрист Александр Лазарев-Грузинский: «Он [Чехов] пишет очень медленно, без черновика и без помарок; перед тем как написать пять – десять строк, долго думает, иногда зажав коленями руки и наклонясь над столом, иногда откинувшись на спинку старенького кресла. Обдумав фразу, он берет перо и переносит ее на бумагу и к очень мелким, но четким строчкам прибавляет еще несколько строк… Время от времени Чехов откладывает в сторону маленький листок писчей бумаги и принимается за другой, новый»[99]. Сам Чехов комментировал свои привычки так: «Надо, чтобы каждая фраза, прежде чем лечь на бумагу, пролежала в мозгу два дня и обмаслилась. Само собой разумеется, что сам я по лености не придерживаюсь сего правила, но вам, молодым, рекомендую его тем более охотно, что испытал не раз на себе самом его целебные свойства»[100].
В архивах одной из библиотек США сохранился план романа «Уловка 22»: Джозеф Хеллер подробно выстроил сюжет книги и расписал эпизоды на четырех ватманских листах. Вот как писатель объяснил необходимость планирования: «В одном из своих эссе Т. С. Элиот воздает должное писательской дисциплине, утверждая, что если автор ставит себя в определенные рамки, воображение напрягается до предела и выдает богатейшие идеи. При совершеннейшей свободе велика вероятность, что произведение расползется по швам»[101].
Главный «архитектор» из нашего времени – Джоан Роулинг. Обманчивая простота «Гарри Поттера» при ближайшем рассмотрении оказывается детально выстроенным миром, а все внутренние связи эпопеи раскрылись только после выхода последней части – «Гарри Поттер и Дары Смерти».
Работу над поттерианой Роулинг начала летом 1990 года. Идея, как она сама признавалась, пришла ей в голову в поезде, по дороге из Манчестера в Лондон. Вернувшись домой, Роулинг не бросилась писать, а села за составление плана, подготовка заняла несколько лет: «Я часто начинаю с определения основной идеи, а затем постепенно разрабатываю остальное. Я много планирую, делаю тщательные исследования и поэтому знаю о своих героях куда больше, чем в конечном счете попадает в книгу. Я всегда так работала. Последний роман про Корморана Страйка, “На службе зла”, потребовал безумных усилий по планированию, бóльших, чем любая другая из моих книг. Я составляю таблицы, отмеченные разными цветами, чтобы следить за тем, где я сейчас нахожусь. Так же было с романами о Гарри Поттере. Вообще, я очень дисциплинированно отношусь к работе, пытаюсь обеспечить полноценный рабочий день, но никогда не ставлю перед собой задачу написать определенное количество слов. Иногда мне кажется, что день удался, если, наоборот, удается сократить число этих слов или просто хорошо подумать над сюжетом. И я никогда не выбираю название, пока книга не окончена»[102].
О пользе «архитектуры» говорит и писатель Алексей Иванов: «“Затыков” у меня никогда не бывало, иногда было просто лень. Я никогда не сажусь работать, рассчитывая все придумать перед экраном. Я всегда все придумываю заранее, и пока не придумаю – не сажусь. Придумывать – отдельная работа. Начинаю общим планом всех событий и поэтапно перехожу к более высокому “разрешению” на каждом отдельном “участке”. Когда строго и точно сформулирую для себя, что имею на старте и что хочу получить на финише, придумывать уже легче. Правильно заданный вопрос – половина ответа. Если хотите работать профессионально, создайте для себя технологию работы, которая вам органична. Не полагайтесь на вдохновение. Это как в отношениях с людьми: не полагайтесь на эмоции, это непродуктивно»[103].
По мере развития повествования архитектор задается вопросом: что сюжету требуется от героя? Какие шаги он должен предпринять, чтобы прийти к очередному сюжетному повороту («узлу», как сказал бы Джордж Мартин), чтобы история двигалась в нужном автору направлении? Поэтому иногда герои получаются как бы безвольными и действующими вопреки логике – особенно хорошо это заметно в работах начинающих авторов.
Какой же подход лучше – «архитектура» или «садоводство»?
Джоан Роулинг призывает: будьте немного «садовником», немного «архитектором». Конструируйте скелет сюжета в разумных пределах, придумайте яркий финал. Все остальное – чистое творчество: «У меня всегда есть базовый набросок сюжета, но кое-что я пишу как пишется. Так веселее»[104]. Известный советский фантаст Иван Ефремов писал: «…в науке могут быть два пути – путь смелых бросков, догадок, с отступлениями, провалами и разочарованиями и путь медленного продвижения, когда постепенно нащупывается истина. И оба полезны, и один не может обойтись без другого»[105].
Советы писателям. Натали Голдберг
1. Не давайте мысли останавливаться. Не пытайтесь перечитывать, что вы написали. Так вы препятствуете потоку сознания и пытаетесь контролировать то, что вам хочется сказать.
2. Не перечеркивайте написанное. Не пытайтесь что-то править, пока пишете. Даже если у вас получилось не совсем то, что вы имели в виду, оставьте все как есть.
3. Не переживайте о написании слов, знаках препинания и грамматике. И даже о том, чтобы не залезать на поля и писать по линейкам.
4. Не контролируйте себя.
5. Не думайте. Не старайтесь следовать логике.
6. Не бойтесь открывать уязвимые места. Если в вашем тексте возникает что-то пугающее или слишком личное, не останавливайтесь. Скорее всего, в этом будет очень много энергии.
Из книги «Человек, который съел машину»[106]Письма. Лев Толстой
«…Думаю, что писать надо, во-первых, только тогда, когда мысль, которую хочется выразить, так неотвязчива, что она до тех пор, пока, как умеешь, не выразишь ее, не отстанет от тебя. Всякие же другие побуждения для писательства, тщеславные и, главное, отвратительные денежные, хотя и присоединяющиеся к главному, потребности выражения, только могут мешать искренности и достоинству писания. Этого надобно очень бояться.
Второе, что часто встречается и чем, мне кажется, часто грешны особенно нынешние современные писатели (все декадентство на этом стоит), желание быть особенным, оригинальным, удивить, поразить читателя. Это еще вреднее тех побочных соображений, о которых я говорил в первом. Это исключает простоту. А простота – необходимое условие прекрасного. Простое и безыскусственное может быть нехорошо, но непростое и искусственное не может быть хорошо.
Третье: поспешность писания. Она и вредна и, кроме того, есть признак отсутствия истинной потребности выразить свою мысль. Потому что если есть такая истинная потребность, то пишущий не пожалеет никаких трудов, ни времени для того, чтобы довести свою мысль до полной определенности и ясности.
Четвертое: желание отвечать вкусам и требованиям большинства читающей публики в данное время. Это особенно вредно и разрушает вперед уже все значение того, что пишется. Значение ведь всякого словесного произведения только в том, что оно не в прямом смысле поучительно, как проповедь, но что оно открывает людям нечто новое, неизвестное мне и, большей частью, противоположное тому, что считается несомненным большой публикой. А тут как раз ставится необходимым условием то, чтобы этого не было.
Может быть, что-нибудь из всего этого пригодится вам. Вы пишете, что достоинство ваших произведений есть искренность. Я признаю не только это, но что и цель их добрая: желание содействовать благу людей. Думаю, что вы искренни и в своем скромном суждении о своих произведениях. Это тем более хорошо с вашей стороны, что тот успех, которым они пользуются, мог бы заставить вас, напротив, преувеличивать их значение. Я слишком мало и невнимательно читал вас, как я мало вообще читаю художественные произведения и интересуюсь ими, но по тому, что я помню и знаю из ваших писаний, я бы посоветовал вам больше работать над ними, доводя в них свою мысль до последней степени точности и ясности».
Из письма Леониду Андрееву.Ясная Поляна, 2 сентября 1908 года[107]Писательский блок
Писать о писательском блоке лучше, чем не писать вообще[108].
Ч. Буковски«Не пишется». «Не могу продолжать». «Писательский затык». «Кризис». Каждому пишущему человеку знакомы эти слова. Писательский блок (writer’s block, так в английском языке называют творческий кризис) – его верный и неизменный спутник. Не стоит воспринимать препятствия как повод бросить работу: с кризисом рано или поздно сталкивается каждый писатель. Исключений нет.
«Бывают дни, когда я встаю и говорю: “Черт возьми, куда подевался мой талант? Что за дерьмо я создаю? Ужас какой-то. Вот это я написал вчера. Ненавижу, ненавижу”. У меня есть сцена в голове, а когда я пытаюсь перенести ее на бумагу, слова получаются корявыми, а сцена – неправильной. Это так раздражает! А бывают дни, когда все идет гладко. Открываешь шлюз – и вот оно. Страница за страницей. Откуда только все берется? Даже не знаю», – говорит Джордж Мартин[109]. Другой Мартин – Стив, известный американский актер, – добавляет: «Писательский блок – странный термин, придуманный нытиками, чтобы у них был повод приложиться к бутылке»[110].
Чехов писал: «Бывают минуты, когда я положительно падаю духом. Для кого и для чего я пишу? Для публики?.. Нужен я этой публике или не нужен, понять я не могу. Буренин[111] говорит, что я не нужен и занимаюсь пустяками, Академия дала премию – сам черт ничего не поймет. Писать для денег? Но денег у меня никогда нет, и к ним я от непривычки иметь их почти равнодушен. Для денег я работаю вяло. Писать для похвал? Но они меня только раздражают»[112].
Объяснение писательскому отчаянию находится в книге «Труд писателя», о которой уже шла речь ранее: «Никакой духовный расцвет не может уберечь художника слова от кризисов, которые в известной мере являются неизбежными спутниками этого расцвета. Во время этих кризисов писатель мучительно переживает несовершенство того, что он делал до сих пор. С резким отрицанием относится теперь писатель к созданному им ранее. В процессе развития кризиса писатель может даже на время бросить свою профессию»[113].
Здесь будет уместно привести развернутое и очень образное суждение современного автора Андрея Геласимова о творческом кризисе.
«Бывает ли у меня писательский затык? Конечно. Поражение зашито в парадигму не только творчества, но, думаю, любого мероприятия, на которое отваживается человек. Не учитывать его – черта наивных и, как следствие, неудачливых. Хороший теннисист знает, что где-то в матче его ждет поражение. Один или два сета скорее всего будут проиграны. Надо понять лишь – какие это сеты, спокойно их переждать, а когда время, отпущенное на поражение, истечет (а оно истечет), выиграть оставшиеся три.
Тот, кто не знает об этом, проигрывает все пять.
Так играет Серена Уильямс, так играет Новак Джокович, так играл Пит Сампрас. Если внимательно посмотреть за ними в такие моменты, вы увидите, что они даже не очень борются за мяч. Они понимают, что в эти неизбежные минуты поражения и слабости надо сберечь максимальное количество ресурсов, которые будут эффективно пущены в дело, едва полоса поражения закончится. А она, как я уже говорил, закончится. Но она неизбежна. Она обязательно будет.
Все это применительно и к проблеме ступора. Он неизбежен, но он не навсегда. Понимание того, что он неизбежен, делает хорошего атлета спокойным и отменяет истерику. Понимание того, что он пройдет, приносит чувство победы. Я лично в такие периоды стараюсь исполнить тот минимум, который требуется только на то, чтобы переправить мяч на сторону соперника. Не больше. И жду.
В этом смысле труднее всего писались “Степные боги”. Временами связь моя с текстом исчезала совершенно. Все во мне становилось деревянным. Каждое движение – неверным. Все дороги вели в трясину. Тогда я останавливался и делал что-то еще. Любой тренер, любой спортсмен вам скажет – если мышцы слишком натружены, надо сократить нагрузки»[114].
Откуда он берется, этот писательский блок? Причины разные. Самая распространенная – слишком критическое отношение к тому, что вы пишете: «Я думаю, так называемый писательский ступор – результат дисбаланса между вашими стандартами и вашими возможностями… Нужно понижать планку до тех пор, пока не преодолеете психологический барьер перед писательством. Писать легко. Отбросьте стандарты, которые вас сдерживают», – приводит американский писатель и журналист Рой Питер Кларк слова поэта Уильяма Стаффорда в книге «50 приемов письма» (50 Essential Strategies for Every Writer)[115].
Как избавиться от писательского ступора? У писателя Нила Геймана есть несколько рекомендаций: «Проблема не в том, что вы плохо пишете, а в том, что вы ничего не доводите до конца. Допишите хоть что-то и сдайте работу. Помните: вы всегда будете недовольны тем, что пишете. В голове у нас сюжет совершенен, безупречен, искрится и дышит магией. Когда мы переносим его на бумагу – получается цепочка из неудачных слов. С каждым таким словом внутренний критик все громче твердит нам, что идея дрянь и лучше бросить эту затею. Не слушайте критика, когда пишете. Просто двигайтесь к финалу. Ошибки и недочеты исправите позже»[116].
Это и есть правило – провести границу в своей собственной голове и уметь находить баланс между творцом и критиком. Чувства не совпадают с фактами, а часто даже противоречат логике и здравому смыслу. «Если бы я ждала совершенства, я бы не написала ни слова», – уверяет канадская писательница и поэтесса, лауреат Букеровской премии Маргарет Этвуд[117]. Она призывает: продолжайте писать. Да, прямо сейчас. А вот совет из другой книги – «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона: «Если вы завязли с проблемой, не сидите сложа руки. Начните над ней работать. Даже если вы не знаете, что делаете, сам факт работы обязательно приведет к тому, что в голове появятся правильные идеи»[118]. Веком ранее Гоголь призывал Владимира Соллогуба – графа, тайного советника и писателя, – жаловавшегося на кризис: «“Пишите, поставьте себе за правило хоть два часа в день сидеть за письменным столом и принуждайте себя писать”. – “Да что же делать, – возражал я, – если не пишется!” – “Ничего… возьмите перо и пишите: сегодня мне что-то не пишется, сегодня мне что-то не пишется, сегодня мне что-то не пишется и так далее, наконец надоест и напишется”»[119].
Отпустить текст, чтобы он написал сам себя, – непростая задача. Но со временем вы начнете улавливать разницу, когда пишет мозг, а когда – подсознание. В идеале вы должны чередовать состояния: часть текста «пишет» мозг, часть – подсознание. Как этого достичь? Навык придет сам собой. Просто продолжайте писать. Действуйте – и сомнения уйдут. С каждой написанной страницей вы будете совершенствовать навыки письма. Таково правило. Чем больше вы пишете, тем лучше вы пишете. Алексей Иванов призывает: «Сомнения надо просто отметать. Вычеркиваете их из сознания и жизни. Если вы поддадитесь им, вы ничего не сделаете в жизни. Лучше сделать неправильно, чем не сделать ничего»[120].
А ошибки – путь к успеху. «Чтобы продвинуться вперед, главное – начать. Чтобы начать, главное – разбить огромную и неподъемную работу на маленькие этапы и начать с первого из них», – писал Марк Твен[121]. Вы точно ошибетесь. И не раз. Марк Мэнсон в книге «Тонкое искусство пофигизма» припечатывает: «Дорога к счастью усеяна постыдными провалами и кучами дерьма»[122]. «У меня кризис», – жалуется молодой автор и ничего не делает. Писатель пишет. В этом вся суть.
Советы писателям. Нил Гейман
Ответ писателя на вопрос подписчицы «Как избавиться от писательского блока?»[123]
1. Заставьте замолчать «внутреннего критика». Не слушайте «внутренних полицейских». Игнорируйте «тихий голосок», который нашептывает вам, что ваша затея дурацкая, и продолжайте писать.
2. Дописывайте. Даже если текст вышел скверным – это вас чему-то да научит как писателя. Даже если урок сведется к «больше никогда такого не пиши».
3. Помните: если вы дебютант, никто не ждет от вас безупречного стиля. Просто пишите. Каждый законченный текст приближает вас к тому, чтобы стать писателем, развивает вас как писателя.
4. Обвинять во всем писательский блок очень удобно. Это снимает с вас ответственность и перекладывает ее на писательский блок, да и звучит кокетливо. Гораздо честнее назвать это сочетанием лени и перфекционизма.
5. Если дело в лени, прекратите лениться. Если в перфекционизме – хватит ждать совершенства. Если вы застряли, найдите момент, где вы, возможно, ошиблись, где сюжет сошел с рельсов или где надо копнуть глубже. Подумайте: что можно сделать, чтобы текст ожил? И снова пишите.
Отговорки писателя
Кто хочет – ищет способ, кто не хочет – ищет причину.
Приписывается СократуВ этой главе собраны отговорки, которые придумывают себе прокрастинирующие авторы, лишь бы не писать.
1. Мне не хватает вдохновения
Вдохновение – инструмент любителя. Профессионал полагается на график и умение работать. Неудачники сидят сложа руки, профессионалы издают книги. Вот что о вдохновении говорит писатель Алексей Иванов: «На вдохновение я полагаться не могу. Представьте хирурга, который полагается на вдохновение. Хирург работает всегда. Хирург не может отказаться от операции, если у него нет вдохновения. Я профессиональный писатель – я работаю всегда. Чтобы работалось проще, когда нет вдохновения, нужно правильно сформулировать вопрос, на который ты должен дать ответ. Как сказано ранее, правильно сформулированный вопрос – это уже половина ответа»[124].
2. Мне не хватает времени, чтобы писать
Этот абзац я пишу на смартфоне – в час пик, в битком набитом вагоне метро. Писать можно когда угодно, главное – захотеть. Как правило, отговорка о нехватке времени – психологическая уловка. Даже когда время есть, вы ищете оправдания своему бездействию.
А что же говорят об этом писатели? Слово Джону Стейнбеку: «Я не раз слышал: “Эх, если бы не жена и дети, тогда я бы стал писателем”. Я слышал и другое: “Если бы не эта противная работа, тогда бы я был писателем”. Я во все это не верю. Я считаю так: если вы хотите писать – вы будете писать, и ничто вас не остановит»[125].
Вы скажете – нельзя же весь день работать и при этом ухитряться писать! Ничего подобного: изучите биографию Франца Кафки. Он был конторским служащим, а писал по ночам. Чехов рассказывал: «Письму я отдаю досуг, часа 2–3 в день и кусочек ночи, то есть время, годное только для мелкой работы. Летом, когда у меня досуга больше и проживать приходится меньше, я возьмусь за серьезное дело»[126].
Ищите окна в графике, которому подчинена ваша жизнь. Или – в собственной прокрастинации. Вставайте на час раньше или ложитесь на час позже. Пишите в обед. Пишите в метро, в трамвае. Время найдется, было бы желание. Кстати, если пересесть на общественный транспорт, вам как писателю это будет только на пользу: вы станете больше читать (в машине не почитаешь – можно слушать аудиокниги, но так информация усваивается куда медленнее). Вы станете больше писать (смартфон вам в помощь). Оказавшись среди людей, вы станете наблюдательнее. Писательство и общественный транспорт прекрасно совместимы – даже если вы работаете с утра до вечера.
Все еще нет времени? Попробуйте японский кайдзен – принцип одной минуты. Само слово составлено из двух: «кай» (перемена) и «дзен» (мудрость). Автор этой концепции непрерывного совершенствования – Масааки Имаи, японский гуру менеджмента. Он уверен, что, уделяя одну минуту каждый день в один и тот же час важному делу, мы совершенствуемся и приучаем себя к дисциплине. Кайдзен – настоящая философия, которая может быть одинаково успешно применима и в бизнесе, и в литературе. Одна минута в день. Попробуйте.
3. Мне не хватает условий для работы
Дэвид Митчелл писал «Облачный атлас» урывками, слушая лекции по личностному росту. Джоан Роулинг писала первые две части «Гарри Поттера» в кафе – на прогулках дочь лучше засыпала. Идеальная обстановка необязательно располагает к творчеству. Условие тут одно – ваше желание творить. «Я могу писать где угодно. Однажды я записала имена персонажей на пакете для тех, кого тошнит в самолете», – вспоминает Роулинг[127].
А вот что рассказывает Агата Кристи о том, как ей приходилось работать: «У меня никогда не было собственной комнаты, предназначенной для творчества… Мне нужен был лишь устойчивый стол и пишущая машинка. Очень удобно было писать на мраморном умывальном столике в спальне или на обеденном столе в перерывах между едой… Многие друзья удивлялись: “Когда ты пишешь свои книги? Я никогда не видел тебя за письменным столом и даже не видел, чтобы ты собиралась писать”. Должно быть, я вела себя как раздобывшая кость собака, которая исчезает куда-то на полчаса, а потом возвращается с перепачканным землей носом. Я делала приблизительно то же самое. Мне бывало немного неловко “идти писать”. Но если удавалось уединиться, закрыть дверь и сделать так, чтобы никто не мешал, тогда я забывала обо всем на свете и неслась вперед на всех парусах»[128].
«Пишу при самых гнусных условиях, – как-то жаловался Чехов. – В соседней комнате кричит детеныш приехавшего погостить родича, в другой комнате отец читает матери вслух “Запечатленного ангела”… Кто-то завел [музыкальную] шкатулку, и я слышу “Елену Прекрасную”… Для пишущего человека гнусней этой обстановки и придумать трудно что-либо другое»[129].
Артист Павел Свободин, близкий друг Чехова, проницательно заметил в письме к нему: «Вот Шиллер, работая, любил класть возле себя и в стол гнилые яблоки, а Вам непременно нужно, чтобы наверху пели и шумели, а за спиной мазал бы Мишель [младший брат Чехова Михаил Павлович] изразцы печки в помпейско-кудринском стиле и чтобы не менее гнилых яблок воняло в комнате мишелевой краской»[130].
Напоследок – наблюдение Исаака Бабеля: «Я знаю людей, которые могут писать только при абсолютной тишине. А вот Илья Эренбург любит писать на вокзале. Это все равно что работать рядом с шумящим авиамотором. Все лучшее, что Эренбургом создано, написано в кафе, куда он приходит каждое утро»[131].
4. Мне не хватает уверенности в себе
Просто пишите. Боитесь, что написанное кому-нибудь не понравится? Не выстраивайте перед собой преграды из страха. Послушайте Бориса Стругацкого: «Вы должны быть оптимистами. Как бы плохо вы ни написали вашу повесть, у вас обязательно найдутся читатели – и это будут тысячи читателей, – которые сочтут вашу повесть почти шедевром. В то же время надо быть скептиком. Как бы хорошо вы ни написали, обязательно найдутся читатели, и это будут тысячи людей, которые будут искренне считать, что вы написали сущее барахло. И, наконец, надо просто трезво относиться к своей работе. Как бы хорошо, как бы плохо вы ни написали вашу повесть, останутся миллионы людей, которые будут к ней совершенно равнодушны – написали вы ее, не написали»[132].
5. Мне не хватает мастерства
Пишите. Переписывайте. Выкидывайте. Пишите. Переписывайте. Выкидывайте. Пишите. Переписывайте. Выкидывайте. И так до тех пор, пока не издадите роман. Путь сложный. Но кто говорил, что будет легко?
6. Мне не хватает поддержки
Пишите и молчите о том, что пишете, пока не поставите финальную точку. Не ждите поддержки извне. Черпайте поддержку в самом себе.
7. Мне не хватает связей
И это в наше-то время, когда все издатели, писатели и редакторы завели аккаунты в социальных сетях? Создайте себя с нуля. Создайте «новую версию себя», как сказал бы какой-нибудь американский маркетолог, зазывающий на курсы личностного роста. Послушаем писателя-фантаста Брэда Торгерсена: «Если вы лентяй, вы начинаете завидовать другим писателям. Или, что почти так же плохо, вы разочаровываетесь. Превращаетесь в человека, не вылезающего с писательских форумов или конференций, бесконечно возмущаетесь, что все подстроено, успех зависит от связей, а не таланта. Или – что дело решает случай, победителей определяет удача, а все остальные остаются не у дел. Так вот – все это дерьмо собачье. Ложь для поиска оправданий самому себе. А правда такова: у победителей во всех соревновательных областях поп-культуры есть одно общее качество – они никогда не бросают»[133].
8. Мне не хватает времени, чтобы читать
Без чтения вам не стать писателем. Время на чтение вы, если захотите, найдете. Слушайте аудиокниги в пробках, пересаживайтесь на общественный транспорт и читайте книги в метро, читайте перед сном и так далее.
9. Мне не хватает везения
Удача зависит от тех шагов, которые вы предприняли. Если сидеть на кухне, вряд ли познакомишься с нужными людьми. В наше время удача – это связи. А значит… См. п. 7.
10. Мне не хватает идей
Вам совсем не интересна жизнь? Идеи – вокруг вас. Нужно просто их увидеть. Сидеть за столом и мусолить карандаш, дожидаясь, когда же вас посетит Та Самая Тема, – пустое дело. Чтобы писать, надо жить активной жизнью, осваивать новые умения… и, конечно, писать.
11. Мне не хватает знаний
Так идите и изучите вопрос. Писать о жизни, не зная жизни, глупее всего.
12. Мне не хватает денег
Вам нужно зарабатывать, кормить семью и так далее? См. п. 2. Этот абзац я пишу на ходу – в смартфон. Вечер, начало одиннадцатого, я возвращаюсь с работы домой, к семье. Задайте себе простые вопросы: во сколько я встаю? Сколько часов я сплю? Сколько времени я потратил, листая ленту Facebook? А сколько – на работу? Вы и правда уверены, что не сможете выкроить час-другой, чтобы писать? Не занимайтесь самообманом. Вы просто ищете себе оправдание.
13. Мне не хватает технических средств
Вам легко может возразить Джоан Роулинг: «Ручка, бумага и только потом Microsoft Word»[134]. И вот еще интересная статистика: четыре из шести бестселлеров в Корее написаны при помощи смартфонов…
Почему я боюсь писать?
«Наша современная трагедия, – сетовал Фолкнер, – это повсеместный и всеобъемлющий страх, так давно укоренившийся, что мы даже научились терпеть его»[135]. Как бороться с этим страхом? Давайте послушаем специалистов[136].
Екатерина Макшанцева, психотерапевт:
Найдется тысяча причин, почему страшно писать (начинать, продолжать, заканчивать), но корень у всех один – страх отвержения, и он биологический. Как бы мы ни пестовали индивидуальность и самодостаточность, человек – стадное животное, и для наших предков принятие стаи было вопросом выживания. К тому же в нас заложен младенческий опыт – более или менее травматичный – тотальной зависимости и уязвимости. Ну а творчество – это самораскрытие, некое обнажение и, соответственно, риск.
Как с этим бороться? Мне не нравится термин «бороться». Страх уберегает нас от возможных рисков. Я предлагаю посмотреть, как жить с этими страхами, но при этом продолжать творить.
1. Сосредоточьтесь на процессе, а не на результате. Мы творим, потому что, как ни крути, нам это необходимо. Творчество помогает разрядить внутреннее напряжение, оно терапевтично, так что важно понимать: сам процесс – самоценен.
2. Разберитесь в своих страхах, конкретизируйте их: они часто иррациональны, но достаточно на них пристально посмотреть – что будет, если моя вещь не понравится, кому она может не понравится? – они теряют силу. Когда дело касается творчества, я часто слышу от клиентов, что они боятся неприятия от «всех». Тут важно прояснить для себя: кто эти «все»? В итоге выясняется, что это не какая-то единообразная масса, а разношерстная аудитория, в которой обязательно найдутся единомышленники, – и становится не так страшно.
3. Окружите себя поддержкой. Вас и ваше творчество должны принимать, это очень важно: ищите «стаю» и, соответственно, избегайте обесценивающего общения. Я не о конструктивной критике, а о высказываниях: «Фи, и зачем тебе это надо?». Научитесь отличать обесценивание от критики. Потратьте на это время.
4. И еще: я порекомендовала бы психотерапию, например мой любимый гештальт-подход. Психотерапия дает свободу творчества (и не как побочный эффект!), это круто. Проверено.
Виолетта Хис, психолог:
Страхи – это всегда индивидуально. Но я бы выделила главную причину: страх разочаровать себя. Когда человека настолько переполняют идеальные сюжеты и образы, что он решается поведать свою историю миру, он неизбежно сталкивается с несоответствием своих мечтаний реальности. Многие люди уверены или втайне надеются, что в них спит гений. Стоит только начать писать, как этот гений проснется и создаст шедевр. Но когда с первого абзаца становится очевидно, что это далеко не так, – люди бросают или натужно продолжают, выдавливая из себя текст. Выходит, как правило, только хуже.
Отсюда возникает странный вывод: в моей голове все намного лучше (красивее, талантливее) и я никогда не смогу это перенести на бумагу, поэтому пусть оно в голове и остается. Иногда эту мысль человек осознает, иногда нет. У таких людей находится миллион причин не писать, чтобы не разбить образ идеального «Я». Если автор поймал себя на этом, ему стоит ответить на один вопрос: «Зачем я пишу?». И если ответ не сводится к банальному «стать богатым, знаменитым и популярным автором», если у него более глубинная суть, значит, пора приучать себя к разочарованиям. Писать-писать-писать и быть готовым к тому, что может не получиться и с третьего, и с десятого, и с сотого раза.
Кирилл Кошкин, психотерапевт:
Если человек боится перекладывать слова на бумагу, возможно, что у него идентичность не совпадает с амбициями. Например, речь может идти о завышенных требованиях к результатам при отсутствии внятных критериев оценки. Другой вариант: человек чувствует себя самозванцем, всеми силами стремится избежать «разоблачения», но при этом не может избавиться от желания достичь чего-то значимого. Иная ситуация, если человек стремится всем понравиться и никого не разочаровать. Тому есть множество причин, начиная с конституционально-генетических особенностей и заканчивая травматическими событиями или интенсивной стрессовой нагрузкой. Это если вкратце. Разумеется, за каждой причиной – множество особенных обстоятельств, сочетание которых приводит к этой дисфункции.
Вероника Михненко, психолог:
Каждый случай индивидуален. Но я выделила бы ядро проблемы: с этим часто сталкиваются люди, у которых проблемы с самооценкой. Здесь и появляется страх начинать и заканчивать, потому что кажется – все равно ничего не выйдет, никому не понравится и так далее. Главная рекомендация – глубоко, медленно выдохнуть и вбить себе в голову, что писать нужно для себя. Да и вообще – стоит обратить внимание на дыхательные техники: они помогают успокоиться и почувствовать момент «здесь и сейчас».
Анастасия Петренко, психолог:
Я предложила бы такую расшифровку: «Я боюсь писать, потому что боюсь, когда меня судят». Это все равно что сказать: боюсь, когда на меня смотрят. И видят, какой я на самом деле. Или вообще замечают, что я существую. Второй вариант: «Я боюсь писать, потому что боюсь увидеть самого себя». Боюсь осознать: я неидеальный, злой, алчный, скучный, хитрый, завистливый и так далее. Расшифровка: «Я не пишу, потому что боюсь увидеть себя настоящего».
В основе таких страхов – отсутствие целостного образа своего «я». Решение – принять все составляющие этого образа. Признаться себе: да, я завидую другим, злюсь на маму, готов пойти на обман ради повышения по службе и так далее. Как принять себя? Способов много. Вкратце сценарий выглядит так: обнаружить страх – нарисовать страх – сказать вслух то, чего очень боялись (или тому, кого боялись, – в лицо или мысленно), – описать на бумаге и прочесть другому человеку. То есть посмотреть в глаза своему страху. Оговорюсь: это самые общие рекомендации. Все индивидуально, и с каждым случаем надо работать по-своему.
А теперь, когда высказались профессионалы, предлагаю небольшое упражнение. Ниже приведены варианты продолжения фразы «Я боюсь написать эту историю, потому что…». Найдете ли вы свой случай?
1. Я боюсь, что у меня выйдет плохо.
2. Я не уверен, что это будет достаточно интересно.
3. Я не знаю, о чем писать и как построить сюжет.
4. Я не уверен, что хочу сейчас писать именно это.
5. У меня недостаточно знаний о том, как пишутся романы.
6. Я боюсь потратить время впустую.
7. Я просто ленюсь и ищу себе оправдания, чтобы откладывать все на потом.
8. Я не боюсь писать, я просто не знаю, как написать то, что я задумал.
9. Я не знаю, что делать с той кучей материала, которая уже лежит и ждет, чтобы ее разобрали.
10. Я не знаю, как увязать сюжет в единое целое.
11. Я не хочу, чтобы меня критиковали, и боюсь переписывать уже написанное.
12. Я не знаю, каким должен быть роман, чтобы он мне понравился.
13. Мне хочется написать что-то достойное, а я не уверен, что первый роман будет именно таким.
14. Я боюсь, что мой роман не опубликуют, и это станет для меня огромным разочарованием.
15. Я не знаю, что сделать, чтобы избавиться от этого страха.
16. Я жду вдохновения и пытаюсь найти повод, чтобы не писать.
17. Я не уверен, что смогу завершить этот роман, потому что я почти ничего не довожу до конца.
Нашли свой страх? Тогда продолжайте писать, не обращая на него никакого внимания, – и тогда вы сможете называть себя писателем. Если вы не увидели в списке своего страха – сами напишите на листке бумаги, чего вы боитесь. Посмотрите на этот страх. Продолжайте писать текст, над которым работаете. Вас пугает, сколько человек прочтет и раскритикует книгу, если вы ее напишете? Тогда ответьте на такой вопрос: сколько человек прочтет книгу, если вы ее не напишете?
Письма. Эрнест Хемингуэй
«Дорогой Скотт,
Отвратительное состояние депрессии, когда терзаешься, хорошо ли, плохо ли ты написал, – это и есть то, что называется “награда художнику”. Бьюсь об заклад, все получилось дьявольски хорошо. И когда ты собираешь вокруг себя этих слезливых пьянчуг и начинаешь плакаться, что у тебя нет друзей, ради бога, внеси поправку. Если ты скажешь, что у тебя нет друзей, кроме Эрнеста – паршивого короля романов с продолжением, – то и этого будет достаточно, чтобы их разжалобить. Ты не выдохся и знаешь еще предостаточно, и если тебе кажется, что запас твоих жизненных познаний иссякает, рассчитывай на старину Хэма. Я расскажу тебе все, что знаю: кто с кем спал и кто раньше или позже женился, – все, что тебе потребуется…
Летом неохотно работается. Нет ощущения приближающейся смерти, как это бывает осенью, – вот когда мы беремся за перо. Пора расцвета проходит у всех – но мы же не персики, и это не значит, что мы гнием. Обстрелянное ружье делается только лучше, равно как и потертое седло, а уж люди тем более. Утрачивается свежесть и легкость, и кажется, что ты никогда не мог писать. Зато становишься профессионалом и знаешь больше, и когда начинают бродить прежние соки, то в результате пишется еще лучше.
Посмотри, что получается на первых порах: творческий порыв, приятное возбуждение – писателю, а читателю ничего не передается. Позже творческий порыв иссякает, и нет того приятного возбуждения, но ты овладел мастерством и написанное в зрелом возрасте лучше, чем ранние вещи…
Просто нужно не отступать, даже когда совсем скверно и не ладится. Единственное, что остается, если взялся за роман, – это во что бы то ни стало довести его, проклятый, до конца. Мне бы хотелось, чтобы ты в материальном отношении зависел от этого или других романов, а не от треклятых рассказов, потому что они опустошают тебя и в то же время служат отдушиной и оправданием, – треклятые рассказы…
Черт возьми! У тебя больше материала, чем у кого-либо, и тебе это больше по душе, и, бога ради, не бросай, закончи роман и, пожалуйста, пока не закончишь, не берись ни за что другое…
Писать рассказы – вовсе не значит продаваться, просто это неразумно. Ты мог и по-прежнему можешь достаточно зарабатывать одними романами. Чертов ты дурак. Продолжай, пиши роман…
…Если письмо получилось занудным, то только потому, что меня ужасно расстроило твое подавленное настроение, и я чертовски люблю тебя, а когда начинаешь рассуждать о работе или “жизни”, то это всегда ужасно банально…
Полин шлет поцелуй тебе, Зельде и Скотти.
Всегда твой Эрнест».
Скотту Фицджеральду,13 сентября 1929 года[137]О ремесле. Кормак Маккарти
Цитаты лауреата Пулитцеровской премии, писателя, который почти никогда не дает интервью[138].
«Ужасный факт состоит в том, что все книги сделаны из других книг. Каждый новый роман обязан другим романам, которые уже написаны. Нужно много читать, чтобы стать писателем. Я обязан Уильяму Фолкнеру. Я его должник. Я также должен Герману Мелвиллу и Федору Достоевскому. Писатель, исследующий вопросы жизни и смерти, мне интересен. А писатели, подобные Марселю Прусту и Генри Джеймсу, мне категорически неинтересны. Для меня это не литература. Многие писатели, которых считают выдающимися, мне кажутся странными».
«В моей персональной библиотеке около 7000 книг».
«Почему я не даю интервью? Когда у вас вся голова занята будущей книгой, вам стоит меньше трепать языком и больше писать».
«Есть ли у меня план? Я пишу каждый день. Решил быть писателем – относись к тому, что делаешь, как к работе. Без поблажек. Прописываю ли я сюжет досконально? Нет. Это было бы для меня убийственно. Ты не в состоянии все распланировать. Нужно просто довериться той вселенной, откуда приходят тексты».
«Я никогда не сомневался в своих способностях. Я знал, что могу писать. Мне просто нужно было понять, как одновременно есть и покрывать словами лист бумаги».
«Всегда ли я знал, что буду писателем? Когда я был ребенком, я писал. А когда я стал подростком, я ничего особо и не делал. Была ли у меня страсть к “писательству”? Мне не нравится это модное слово. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я знаю, есть писатели, которые ненавидят писать. У меня такого нет. Да, иногда это трудно, чертовски трудно, потому что внутренне ты всегда стремишься к совершенству, которое недостижимо. Но ты никогда не прекращаешь попытки стать еще лучше, чем сейчас. Крайне важно не выпускать из виду этот билборд, на котором написано слово “совершенство”, – он помогает не сбиться с пути. И если ты его не видишь, то никогда никуда не придешь».
«Каждый раз, когда я сажусь писать, у меня есть надежда, что сегодня я напишу лучше, чем когда-либо раньше».
«Знал ли я, когда писал “Дорогу”, чем все закончится? У меня не было ни малейшего представления, к чему все приведет. Откуда пришла идея? Не имею ни малейшего понятия. Потому что обычно ты не знаешь, откуда “приходят” книги. Хотя нет, была одна предпосылка. Однажды мы с моим семилетним сыном проезжали через маленький городок. Мы заночевали в мотеле. Я проснулся в два часа ночи. Сын спал. А я посмотрел в окно. Было очень тихо. Я только услышал, как где-то вдали пронесся поезд. И тогда я представил, как этот город выглядел бы через сто лет, если бы случилась большая катастрофа. Просто появилась картинка перед глазами. А потом, когда пришло время, я написал книгу».
«Заботят ли меня возросшие тиражи и то, что теперь мои книги читают миллионы людей? Честно говоря, нет. Это данность. Ничего необычного в этом нет. Ну, читают, и что? Надеюсь, людям нравится. У меня такой ответ: если вам нравится – читайте, если нет – не читайте. Все просто».
«Все, что меня окружает, интересно. За последние пятьдесят лет я не могу припомнить ни одного момента в жизни, когда мне было бы скучно».
«Если и есть какая-то опасность в профессии писателя, то это, без сомнения, алкоголь».
Кормак Маккарти – американский писатель и драматург. Автор романов, пьес и киносценариев. Получил Пулитцеровскую премию и мемориальную премию Джеймса Тейта Блэка за роман «Дорога». В 1992 году Кормак Маккарти получил Национальную книжную премию и Национальную книжную премию общества критиков за роман «Кони, кони». В 2005 году вышел его роман «Старикам тут не место», а в 2007-м по нему был снят одноименный фильм, который получил четыре премии «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм».
Второй акт
Что такое мелодрама?
Отсутствие драматической ситуации безошибочно определяет вашу профессиональную беспомощность[139].
А. МиттаМелодрама – сюжет, в котором события с протагонистом (главным героем) происходят без его участия. Не определены ни мотивация героя, ни внутрисюжетные причинно-следственные связи. В таком сюжете протагонист пассивен, чего следует, конечно же, избегать.
Писатель стремится создать противоположность мелодраматической истории – драму. Такую историю, которая состоит из череды конфликтов, ведущих героя к финальной развязке. Историю, где у главного героя есть внятная цель, основанная на сильнейшем желании ее достичь. История, в финале которой нет ничего случайного (случайности уместны в первом акте, но ближе к концу они губят повествование). История, в которой путь героя следует по цепочке перипетий – от счастья к несчастью, от несчастья к счастью и так далее. История, ведущая к катарсису, а катарсис – это, по Аристотелю, эмоциональное очищение.
Что такое драматическая ситуация? Согласно известному режиссеру Александру Митте, это такое положение, когда давление обстоятельств сильнее, чем возможности персонажа[140]. Проще говоря – безвыходное положение. А теперь – тест. Задумайтесь, нет ли одного из перечисленных пунктов (или даже нескольких) в тексте, над которым вы работаете?
1. В повествовании нет четких причинно-следственных связей: одно не вытекает из другого, а если вырезать пару сцен – сюжет не пострадает.
2. Сам герой ничего не хочет, а действует лишь потому, что вы так придумали – переместить его из точки А в точку В.
3. Ближе к финалу в ключевой сцене главный герой вдруг получает неожиданную помощь со стороны.
4. У героя несколько целей (завоевать любимую женщину, заработать много денег, отомстить главному обидчику).
5. Герой пассивен и не принимает никаких решений. В финальной (кульминационной) сцене все разрешается само собой.
Если что-то показалось вам знакомым, стоит задуматься – а нельзя ли сделать иначе?
Талант и гений: в чем разница?
«Писателями становятся – кто грамотен, тот может и писать. Но гениями слова вроде Мелвилла, Уитмена или Торо – рождаются. Давайте рассмотрим термин “гениальность”. Гений не значит “чокнутый”, “эксцентричный” или “с переизбытком таланта”. Термин происходит от латинского слова gignere (порождать), и гений – это просто человек, который создает что-то совершенно новое. Никто, кроме Мелвилла, не смог бы написать “Моби Дик”, – даже Уитмен или Шекспир. Никто, кроме Уитмена, не мог написать “Листья травы”; Уитмен родился, чтобы их написать, а Мелвилл – чтобы написать “Моби Дик”. “Вопрос не в том, что ты делаешь, – говорили Сай Оливер и Трамми Янг[141], – а в том, как ты это делаешь”. Любой из пяти тысяч студентов, изучающих писательское мастерство, может взяться за легенду о Фаустусе, но лишь один Марло родился затем, чтобы написать своего “Фауста” так, как он его написал[142].
Я всегда смеюсь, когда слышу умников с Бродвея, рассуждающих о “таланте” и “гениальности”. Иных виртуозов, которые могут сыграть Брамса на скрипке, называют “гениями”, но гениальность – как исходная сила – на самом деле принадлежит Брамсу, а скрипач-виртуоз лишь прекрасный исполнитель: иными словами, “талант”. А иногда говорят, что такой-то автор – “крупный писатель”, потому что у него “талант”. Не бывает “крупных писателей” без гения.
‹…›
Возьмите Джеймса Джойса: люди говорили, что он “растранжирил” свой талант на поток сознания, тогда как на самом деле Джойс родился как раз затем, чтобы создать этот поток. Гении могут быть светлыми, могут быть мрачными, но в них зияет неизбежная, полная печали глубина – оригинальность. ‹…› Джойса оскорбляли всю его жизнь – Ирландия и весь мир – за то, что он был гением. ‹…› Пять тысяч писателей с университетским образованием могли бы взяться за единственный июньский день в Дублине 1904 года, но им никогда не выжать из этого дня того, что сделал с ним Джойс, – он попросту был рожден затем, чтобы создать “Улисс”.
С другой стороны, если пять тысяч “обученных” писателей плюс Джойс все вместе примутся за статью вроде тех, что публикует Rider’s Digest – “Идеи для отпуска” или, скажем, “Секреты домоводства”, – то даже тогда, я думаю, Джойс выделился бы за счет своего врожденного оригинального языкового чутья. Хорошенько запомните, что сказал Синклер Льюис[143] Томасу Вулфу[144]: “Если бы Томас Харди[145] нанялся писать статьи для Saturday Evening Post, вы думаете, он писал бы их как Зейн Грей[146] или как Томас Харди? Я отвечу за вас. Томас Харди мог писать только как Томас Харди. Он всегда писал бы как Томас Харди – неважно, для Saturday Evening Post или для какого-нибудь бульварного листка”.
Поэтому, отвечая на вопрос, рождаются писателями или становятся, сначала следует переспросить: “Ты имеешь в виду талантливых писателей или оригинальных?”. Потому что писать может каждый, но не каждый изобретает новые формы письма. ‹…› Критерии оценки таланта или гениальности эфемерны, если рассуждать рационально, с цифрами в руках, но каждый и сам прекрасно чувствует, когда гениальный писатель поражает строками невиданной силы, которые вместе с тем кажутся такими знакомыми.
‹…›
Главное, о чем следует помнить, – талант имитирует гениальность, потому что ему больше нечего имитировать. Так как талант не может порождать, он должен имитировать или интерпретировать. ‹…› Гений порождает, талант воплощает. То, что видели в ночном небе Рембрандт или Ван Гог, больше никто не увидит. Ни одна лягушка больше не прыгнет в пруд так, как лягушка Басё.
‹…›
Так что в случае с гением гениальность подразумевает еще и оригинальное формирование нового стиля. Хотя язык Кида[147] – все время, что он творил, – елизаветинский, язык Шекспира может называться только шекспировским. Часто изобретателя новых языковых форм завистливые таланты называют “выпендрежником”. Но все сводится не к тому, что ты пишешь, а к тому, как ты пишешь».
Из эссе Джека Керуака «Рождаются писателями или становятся?»[148]Тема и управляющая идея
Я начинаю с идеи, а затем она становится чем-то еще[149].
П. ПикассоНачинающие авторы задаются вопросом: что такое тема романа? А потом встречают в учебнике по литературному (или сценарному) мастерству словосочетание «управляющая идея» (у которой непременно есть и противоположность – контридея), и тут начинается путаница.
Роберт Макки объясняет: «В словаре сценариста понятие “тема” имеет довольно неопределенное значение. Так, “бедность”, “война” и “любовь” не являются темами; они имеют отношение к сеттингу, или жанру. Истинная тема не может быть выражена словом, только предложением – одним ясным и понятным предложением, которое передает смысл истории. Я предпочитаю понятие “управляющая идея”, потому что наравне с темой оно отражает суть или центральную идею истории, но подразумевает и выполняемую функцию: управляющая идея формирует стратегический выбор писателя»[150].
Стоит ли формулировать идею на начальных этапах работы? Во всяком случае, не помешает. «Обычно я стараюсь описать идею книги одним предложением. Это очень полезно, когда редактор спрашивает тебя, почему читатели должны захотеть купить твою книгу», – советует американский журналист Дебора Блюм[151], автор «Обезьяньих войн» и других книг о науке.
Можно ли выбрать для художественного произведения больше одной темы? Нет. Читатель не сумеет сфокусироваться, а вам будет сложнее писать. Чем ýже русло повествования, тем легче вам как писателю управлять чувствами аудитории. Старайтесь не распыляться и сосредоточиться на одной теме – той, что сейчас волнует вас больше всего. Слово Чаку Паланику, автору «Бойцовского клуба»: «На курсах, где я начинал писать, Том Спанбауэр[152] называл темы лошадьми. Он прибегал к метафоре о груженой телеге, которую лошади тянут через всю страну. Лошади, начавшие свой путь на восточном побережье, – это те же самые лошади, что привезут телегу на западное. Не меняя “лошадей” – то есть придерживаясь темы, – вы сумеете сделать сюжет глубоким»[153].
А вот что пишет Стюарт Хорвиц в пособии «Архитектура книги» (Book Architecture: How to Plot and Outline Without Using a Formula): «Ваша книга может быть лишь о чем-то одном. Студент спросил: “А что, если я пишу сразу о двух вещах? Так можно?” Знаете, бывают такие студенты. Тогда я ответил: “Можно, если эти две вещи сводятся к одной”. Сумейте выразить тему своего произведения одним предложением. И не беспокойтесь, если оно прозвучит как штамп. Беспокойтесь скорее о том, как определить, насколько вы сами верите в эту идею»[387].
О чем писать? Курт Воннегут призывает: «Найдите тему, которая вас беспокоит и которая, как вам кажется, должна найти отклик в сердцах других людей. Именно это, а не языковые игры, должно заботить вас по-настоящему, именно это станет самым захватывающим и притягательным элементом вашего стиля»[154].
Лев Толстой однажды записал в личном дневнике: «Чтобы произведение было хорошо, надо любить в нем главную, основную мысль. Так, в “Анне Карениной” я любил мысль семейную, а в “Войне и мире” любил мысль народную, вследствие войны 12-го года»[155].
А вот что в книге «Искусство беллетристики» (The Art of Fiction: A Guide for Writers and Readers) говорит Айн Рэнд, автор романа «Атлант расправил плечи»: «Многие современные книги не имеют хоть какой-нибудь абстрактной темы: значит, авторы не в состоянии объяснить, почему их написали. Рассмотрим в качестве примера роман начинающего автора, в основе которого – детские впечатления и первые столкновения ребенка с несправедливостью жизни. На вопрос, почему он включил тот или иной эпизод в роман, автор ответит: “Все это было со мной”. Очень не советую вам так писать. Ваши переживания никому не интересны, даже вам самому (и это говорю я, провозвестник эгоизма). Самое интересное – каковы ваши ценности, на что вы способны – расскажет о вас выбор материала. А случайности – в какой семье вы родились, в какой стране, в какую школу ходили – совершенно не важны.
Если автор в состоянии добавить к этому что-то более значительное, тогда действительно имеет смысл обратиться к собственному опыту (желательно не только литературному). Но если автор не может предложить читателям ни одной причины, по которой они должны прочитать его книгу, кроме той, что все эти события произошли с ним лично, такая книга не имеет никакой ценности ни для читателей, ни для самого писателя. Ваша тема – абстрактное выражение вашей работы, и она должна быть объективно значимой, но в других отношениях выбор ничем не ограничен. Вы можете писать о дайвинге, о чем угодно, но читательский интерес к вашей работе вы обеспечите лишь в том случае, если сумеете показать объективную причину – почему ею следует интересоваться»[156].
Давайте послушаем других профессиональных писателей.
«Для меня идея сверхважна. Идея – то, что я хочу сказать в романе. Пока я не решил, что хочу сказать, я не могу говорить (писать). Идея не первична, однако она основополагающая. Она структурирует и сюжет, и систему образов. Писать роман, не сформулировав его идею, – все равно что шить костюм для человека по его фотографии в паспорте»[157].
Алексей Иванов, писатель«Предпочитаю термин “ключевое послание истории”. Под этим термином я понимаю послание, которое транслирует произведение зрителю. То, что считывается “между строк”. Суммарно, через все события истории. Скажем, если вы расскажете историю крепкой любви, но в финале оба влюбленных будут несчастны, а параллельной сюжетной линией будет сюжет о парочке, которая поженилась по расчету и в итоге счастлива, то, чем бы вы ни объясняли несчастья главных героев, управляющей идеей фильма будет: “Крепкая любовь вас разрушает. А отношения без любви – созидают. Любовь – это болезнь”. Тема фильма: “Любовь: добро или зло”. Как видите, тема – это предмет исследования истории, понятие более широкое. Управляющая идея – фокусировка проблематики в рамках заявленной темы»[158].
Олег Сироткин, сценарист, автор «Частное пионерское» и множества других сценариев, по которым сняты фильмы и сериалы«Управляющая идея – сюжетообразующая мысль, то, что становится одной из причин создания текста. А тема – это скорее то, о чем произведение. Некая характеристика мира, жанра и героя. Они не просто отличаются, это абсолютно разные понятия. У вас могут быть две идентичные идеи и абсолютно иная тема, и наоборот»[159].
Александр Прокопович, главный редактор «Астрель-СПб»«Тема может быть самой общей, и я обычно говорю, что тем всего шесть (хотя литературоведы говорят о шести сюжетах – в глобальном смысле). Как бы то ни было: жизнь – смерть, война, любовь, деньги, власть, дорога. Идея же – это тот посыл, главное, определяющая мысль, которую писатель старается донести до читателя»[160].
Ирина Щеглова, писатель, рецензент издательства «Эксмо»Но есть и те, кто не ставит идею во главу угла.
«Я не тот, кто дает ответы. Я предпочитаю задавать вопросы. Самым приятным в успехе моих книг было то, что они породили такое количество споров»[161].
Джордж Мартин, писатель«Автор художественного произведения не предлагает читателю готовый рецепт, но просит найти решение самостоятельно… Опубликовав же очередной роман, я считаю моральным долгом не оспаривать любые его интерпретации (и не предлагать собственных). Те, кого называют авторами “художественной” литературы, никогда, ни в коем случае не должны объяснять смысл ими написанного. Текст – это ленивый механизм, который требует, чтобы читатель выполнил часть работы за него. Иными словами, текст есть приспособление, созданное, чтобы спровоцировать как можно большее количество толкований»[162].
Умберто Эко, писатель и философКак же писателю найти идею и разобраться, о чем же его собственное произведение? Опытные авторы говорят, что сначала начинают писать и только к концу первого черновика понимают, о чем их роман. Работая над рукописью, просто задайтесь, как советует Стивен Кинг, вопросом – «а что, если?..»
Вопрос – ответ. О поиске идеи
Как найти идею, если ничего не приходит в голову?
«Ничего не приходит в голову?» Возникает закономерный вопрос – а так ли сильно вы хотите ее найти, эту идею? Жизнь – лучший сценарист. Вы засиделись в социальных сетях? Даже не отходя от компьютера, можно найти идею для рассказа, а то и романа. Глядя на происходящее, всякий раз спрашивайте себя, не может ли эта история стать сюжетом. Глядя на окружающих, задумывайтесь, нельзя ли срисовать с этого человека героя книги. Словом, наблюдайте. Слушайте. Размышляйте. Важнейшее качество писателя – любопытство, внимание, желание докопаться до сути. Не грех и повториться: постоянно задавайте себе вопрос: «что, если?..» Что, если я, прочтя эту книгу, стану знаменитым писателем и напишу бестселлер, и это перевернет всю мою жизнь? А теперь представьте себя на месте великих. Учитесь находить идею, сидя за пустым письменным столом. «Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?» – спросил однажды Чехов у Короленко. Вот что пишет Короленко об этом уроке:
Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь, – это оказалась пепельница, – поставил ее передо мной и сказал:
– Хотите, – завтра будет рассказ… Заглавие «Пепельница».
И глаза его засветились весельем. Казалось, над пепельницей начинают уже роиться какие-то неопределенные образы, положения, приключения, еще не нашедшие своих форм, но уже с готовым юмористическим настроением… Образы теснились к нему веселой и легкой гурьбой… Они наполняли уютную квартирку и, казалось, приходили в гости зараз ко всей семье[163].
И еще – о поисках идей Чеховым. Рассказывает писатель Николай Телешов:
Сели за стол, покрытый серой, не просохшей с вечера скатертью. Подали нам чаю с лимоном и пузатый чайник с кипятком. Но от нарезанных кусочков лимона сильно припахивало луком. «Превосходно! – ликовал Антон Павлович. – А вы вот жалуетесь, что сюжетов мало. Да разве это не сюжет? Тут на целый рассказ материала». Перед глазами у нас, я помню, была грязная пустая стена, выкрашенная когда-то масляной краской. На ней ничего не было, кроме старой копоти да еще на некотором уровне – широких, темных и сальных пятен: это извозчики во время чаепития прислонялись к ней в этих местах своими кудрявыми головами, жирно смазанными для шика деревянным маслом, по обыкновению того времени, и оставляли следы на стене на многие годы.
С этой стены и пошел разговор о писательстве. «Как так сюжетов нет? – настаивал на своем Антон Павлович. – Да все – сюжет, везде сюжет. Вот посмотрите на эту стену. Ничего интересного в ней нет, кажется. Но вы вглядитесь в нее, найдите что-нибудь свое, чего никто еще не находил, и опишите это. Уверяю вас, хороший рассказ может получиться. И о луне можно написать хорошо, а уж на что тема затрепанная. И будет интересно»[164].
Джеймс Паттерсон, самый высокооплачиваемый писатель США, говорит так: «Идея может быть любой. Меня может заинтересовать все что угодно. Я готов написать хоть о пустой комнате, в которой сижу, сделать это место загадочным и интересным»[165]. Яркие и совершенно оригинальные идеи посещают авторов редко. Чаще мы комбинируем уже существующие – так, как до нас еще никто этого не делал. Пример из музыки – стилевые метаморфозы «Битлз», соединивших рок-н-ролл и индийские мотивы. Вывод Паттерсон делает такой: «Вам нужно много знать и многому учиться. Нынешние подростки крайне ограниченны – у них в голове голливудские фильмы, видеоигры и пиво. Они больше ни в чем не разбираются. Если твоя вселенная ограничена тремя этими элементами, какой же ты творец? Чем больше вы знаете, тем выше вероятность, что вы отыщете нужное сочетание идей, которое сыграет и приведет вас к успеху»[166]. Без идеи нет текста. Если идея удачная – она найдет отклик в сердце писателя. И хотя Стивен Кинг призывает этого не делать, записывайте все идеи, которые приходят вам в голову, не полагайтесь на память. Джеймс Паттерсон подводит черту: «И последний совет: отнеситесь к своей идее с теплотой, это поможет двигаться вперед. Но не забудьте задать себе главный вопрос: “Достаточно ли идея хороша? Смогу ли я написать об этом 400 страниц?”»[167]
Почему одних писателей помнят, а других нет?
Что делает писателя выдающимся? Язык? Мастерская проработка сюжета и характеров? Нет. Все дело в темах, которые писатель затрагивает в своих произведениях. Классиков потому и называют классиками, что поднятые в их книгах темы актуальны спустя столетия и пережили создателей. «Ромео и Джульетта», «Анна Каренина», «Мертвые души»… Что объединяет эти книги? Темы. Идеи. Многое из того, что в них написано, сегодня звучит точно так же современно. Великие книги ставят «великие» – потому что вечные – вопросы: «Что такое любовь?», «Кто я?», «Есть ли жизнь после смерти?», «Что делает с человеком алчность?» и так далее.
Чехов писал: «Можно собрать в кучу все лучшее, созданное художниками во все века, и, пользуясь научным методом, уловить то общее, что делает их похожими друг на друга и что обусловливает их ценность. Это общее и будет законом. У произведений, которые зовутся бессмертными, общего очень много; если из каждого из них выкинуть это общее, то произведение утеряет свою цену и прелесть. Значит, это общее необходимо и составляет conditio sine qua non[168] всякого произведения, претендующего на бессмертие»[169].
Так что если уж и отвечать на этот вопрос – к каким темам обратиться, чтобы тебя назвали великим, – то отвечать так: нужно поднимать те же темы, что поднимали великие писатели всех времен. Ничего не изменилось. Читайте классику.
Есть ли сегодня в России сильные писатели, которых можно назвать великими?
Есть ли в России сильные писатели? Безусловно, да. Взгляните на лауреатов литературных премий последних лет («Большая книга», «Ясная Поляна», «Букер», «Национальный бестселлер») – вы встретите много узнаваемых имен. Почему эти писатели получили широкое признание? Потому что затронули современно звучащие темы, которые не утратят актуальности со временем. Станут ли сегодняшние лауреаты литературных премий великими? Скажут следующие поколения.
Правда и вымысел[170]
В вымышленном повествовании правдоподобие абсолютно необходимо[171].
Г. Ф. ЛавкрафтКак описывать реальность, не совершая фактических ошибок?
Фактических ошибок не содержит, например, утверждение «Березы не растут в Сахаре, а крокодилов не встретить на Волге». Что делать, чтобы их не совершать? Проверять информацию. Если вы пишете о Сахаре, отправляйтесь в Сахару и проведите там пять дней (месяцев, лет). Если пишете о Волге – отправляйтесь на Волгу и изучите, как живут волжане. Прежде чем приступать к книге, вы обязаны как следует разобраться в теме и собрать материал – и не прекращать изучение во время работы над рукописью. Если вы пишете историческую прозу, привлеките консультанта-историка, который все проверит и укажет на ошибки. Если вы пишете про госпиталь, попросите практикующего врача ознакомиться с текстом. Если вы пишете о быте сотрудников МЧС, сначала проведите среди них какое-то время, а потом попросите их прочесть, что вы написали. Всегда проверяйте факты. Этот принцип из журналистики важен и в писательской работе.
Достоверность – важная составляющая художественного текста. Даже если вы все придумали. Джеймс Паттерсон говорит: «Чем больше вы выдумываете при написании книги, тем хуже. Я имею в виду незнание предмета, которое люди подменяют собственными фантазиями. Эта ошибка типична для детективов и научной фантастики. Вам нужно создать ощущение правдоподобия, достоверности»[172].
Читатель либо верит тому, что вы пишете, либо нет. Вот как с достоверностью работал Умберто Эко, который настолько детально продумал место действия романа «Маятник Фуко», что читатели уверовали в написанное. Слово автору: «Задумав “Маятник Фуко”, я вечер за вечером до самого закрытия бродил по коридорам Консерватории искусств и ремесел, где разворачиваются некоторые ключевые сцены романа. Чтобы достоверно описать прогулку Казобона от Консерватории до Пляс де Вож и оттуда к Эйфелевой башне, я много раз бродил по ночному Парижу, надиктовывая на карманный диктофон все, что вижу, чтобы в точности описать маршрут героя.
Готовясь к созданию “Острова накануне”, я действительно отправился в путешествие по Южным морям, к той самой географической точке, где происходит действие романа, чтобы собственными глазами увидеть, какого цвета там вода и небо в разное время суток, как выглядят рыбы и кораллы в естественной среде обитания. Вдобавок я два или три года изучал рисунки и схемы кораблей той эпохи, чтобы наверняка знать, какого размера были рубка или кубрик и как добраться от одной до второго»[173].
Известный советский литературовед Виктор Шкловский проницательно заметил: «Если взять переписку Толстого и Фета, то можно еще точнее установить, что Толстой это – мелкий помещик, который интересуется своим маленьким хозяйством, хотя помещик на самом деле он был не настоящий, и свиньи у него все время дохли. Но это поместье заставило его изменить формы своего искусства»[174].
А вот что думал Джон Стейнбек: «Человек, пишущий рассказ, вынужден вкладывать в него все свои знания и чувства. Дисциплина словесного творчества наказывает за глупость и за нечестность. Писатель живет в страхе словесном, будь они – слова – жестоки или добры, а они могут менять свое значение прямо у нас на глазах. Они впитывают запахи и ароматы, как масло в холодильнике. Безусловно, есть нечестные писатели, которые могут держаться на плаву какое-то время, но недолго»[175]. Ставит точку Хемингуэй: «Все хорошие книги похожи тем, что они правдоподобнее действительности, и когда ты заканчиваешь читать, остается ощущение, будто все описанное произошло с тобой, а затем – что это принадлежит тебе: добро и зло, восторг, раскаяние, скорбь, люди, места и даже погода. Если ты можешь дать все это людям – значит, ты писатель»[176].
Обязательно ли самому пережить все то, о чем пишешь?
«Без видения предмета нельзя даже притрагиваться к бумаге. Иначе вы сразу попадете в шаблон. Выскочит откуда-то образ, о котором вы, может быть, в детстве читали и забыли, и вот он попал к вам. Но ведь это не ваш, вы ничего этого не видели, а он попал к вам через книжную память, то есть как отраженный свет. Он будет искусственным, а нам нужна ваша собственная память о вещах, которые вы видели, которые вы прощупывали, которые вы пережили. Тогда это свежо», – писал Алексей Толстой[177]. Литературу, не опирающуюся на писательский опыт, Гюстав Флобер называл «органическим сифилисом»[178]. Чехов резко критиковал писателей, живущих «замкнуто в своей… эгоистической скорлупе»[179]. В дневнике Льва Толстого читаем: «Никакая художническая струя не увольняет от участья в общественной жизни»[180]. Хемингуэй писал Фицджеральду: «Вымысел – замечательнейшая штука, но нельзя выдумывать то, что не может произойти на самом деле»[181]. Словом, писатели-классики солидарны: автор должен проживать и переживать то, что описывает.
Такого же мнения придерживался и Горький: «Начинающие литераторы должны особенно крепко усвоить очень простую мысль: идеи не добываются из воздуха, как, например, азот, идеи создаются на земле, почва их – трудовая жизнь, материалом для них служат наблюдение, сравнение, изучение – в конце концов: факты, факты! ‹…› Молодые литераторы явно недооценивают значения знаний. Они как будто слишком надеются на “вдохновение”, но, мне кажется, это “вдохновение” ошибочно считают возбудителем работы, вероятно, оно является уже в процессе успешной работы, как следствие ее, как чувство наслаждения ею. Не совсем уместно и слишком часто молодые литераторы употребляют громкое и тоже не очень определенное церковное словцо – “творчество”. Сочинение романов, пьес и т. д. – это очень трудная, кропотливая, мелкая работа, которой предшествуют длительное наблюдение явлений жизни, накопление фактов, изучение языка»[182].
Слово Чехову: «Предполагается, что пишущий, кроме обыкновенных умственных способностей, должен иметь за собою опыт. Самый высший гонорар получают люди, прошедшие огонь, воду и медные трубы, самый же низший – натуры нетронутые и неиспорченные. К первым относятся: женившиеся в третий раз, неудавшиеся самоубийцы, проигравшиеся в пух и прах, дравшиеся на дуэли, бежавшие от долгов и проч. Ко вторым: не имеющие долгов, женихи, непьющие, институтки и прочие»[183]. И, наконец, одно из главных высказываний Чехова о писательском опыте, почти афоризм: «Где нет знания, там нет и смелости»[184].
Бабель писал: «Вы спрашиваете меня: можно ли написать рассказ в короткий срок? Если вам, например, сейчас скажут: “Поезжайте во Францию и напишите о ней очень быстро хороший рассказ”, – вы, наверное, этого сделать не сможете. Но если бы у вас были определенно сложившийся взгляд, жизненный опыт, собственная оценка явлений, вы бы смогли написать такой рассказ»[185].
Опыт лежит и в основе творчества Чарльза Буковски, героя контркультуры, который при изображении действительности придерживался не просто документализма, а так называемого грязного реализма: «Я работал на бойнях, мыл посуду; работал на фабрике дневного света; развешивал афиши в нью-йоркских подземках, драил товарные вагоны и мыл пассажирские поезда в депо; был складским рабочим, экспедитором, почтальоном, бродягой, служителем автозаправки, отвечал за кокосы на фабрике тортиков, водил грузовики, был десятником на оптовом книжном складе, переносил бутылки крови и жал резиновые шланги в Красном Кресте; играл в кости, ставил на лошадей, был безумцем, дураком, Богом…»[186].
Но и без выдумки, конечно, никуда.
Андрей Геласимов (лауреат премии «Большая книга»): «Писателю нужны: хорошая фантазия, чувственный аппарат, способность поверить в собственную выдумку. Последнее качество немного роднит писателя с ребенком, но тут уж ничего не поделаешь. Если наврал, а сам не веришь – мама накажет»[187].
Снова Горький: «В искусстве изображения явлений жизни словом, кистью, резцом “выдумка” вполне уместна и полезна, если она совершенствует изображение в целях придать ему наибольшую убедительность, углубить его смысл – показать его социальную обоснованность и неизбежность. “Выдумка” создала “Дон Кихота” и “Фауста”, “Скупого рыцаря” и “Героя нашего времени”, “Барона Мюнхгаузена”, “Уленшпигеля”, “Кола Брюньона”, “Тартарена” и т. д. – вся большая литература пользовалась и не могла не пользоваться выдумкой»[188].
Что же в сухом остатке? А вот что: не полагайтесь только на знания или только на фантазию. Соблюдайте здоровый баланс. Проза, в которой совсем нет вымысла, скучна. Проза, замешанная на чистой фантазии, – зачастую наивна. Помните: в хорошей фантастике есть доля фантастики. «Писатель создает произведение, опираясь на действительность, и видоизменяет ее сообразно возникшему в его представлении творческому замыслу», – резюмирует А. Цейтлин[189].
А закончить стоит, пожалуй, словами Альбера Камю: «Отвратительно, когда писатель говорит, пишет о том, что он не пережил. Но постойте, ведь убийца не самый подходящий человек, чтобы рассказывать о преступлении. (Однако не самый ли он подходящий человек, чтобы рассказывать о своем преступлении? Даже в этом уверенности нет.) Следует помнить, какое расстояние отделяет творчество от поступка. Настоящий художник находится на полпути между своими вымыслами и своими поступками. Он – человек, “способный на”. Он мог бы быть тем, кого он описывает, пережить то, что он описывает. Только поступок ограничил бы его, и он стал бы тем, кто его совершил»[190].
Советы писателям. Умберто Эко
1. Избегай аллитераций, даже если они соблазняют близоруких болванов.
2. Нельзя сказать, чтобы сослагательное наклонение было бы совсем запрещено: наоборот, его необходимо использовать, когда следует.
3. Избегай устойчивых выражений: это осетрина второй свежести.
4. Не пиши во время еды.
5. Не употребляй коммерческие сокращения & аббревиатуры и проч.
6. Запомни (хорошенько), что скобки (даже если они кажутся необходимыми) прерывают нить повествования.
7. Постарайся не заработать несварение… от злоупотребления многоточиями.
8. Как можно реже пользуйся кавычками: не пиши «конец».
9. Никогда не обобщай.
10. Иностранные слова – это на самом деле моветон.
11. Будь скуп на цитаты. Недаром же Эмерсон[191] говорил: «Ненавижу цитаты. Говори лишь то, что сам знаешь».
12. Сравнения – те же общие фразы.
13. Не будь избыточен; не повторяй дважды одно и то же; повторять – это расточительство (под избыточностью понимаются бесполезные объяснения того, что читатель уже и так понял).
14. Вульгарные слова используют одни говнюки.
15. Всегда будь более-менее определен.
16. Литота[192] – самое выдающееся из выразительных средств.
17. Не пиши фразы, состоящие из одного слова. Нехорошо.
18. Следи, чтобы метафоры не оказались слишком рискованными: они как пух на змеиных чешуйках.
19. Расставляй, запятые, где следует.
20. Различай функции точки с запятой и двоеточия: порой это непросто.
21. Если не можешь подобрать нужного выражения на литературном языке – это еще не повод прибегать к просторечью: хрен редьки не слаще.
22. Не пользуйся непродуманными метафорами, даже если они кажутся тебе сильными: они подобны лебедю, сошедшему с рельсов.
23. Так ли нужны риторические вопросы?
24. Будь лаконичен, старайся уместить свои мысли в как можно меньшем количестве слов, избегая при этом длинных фраз – или членения их на обособленные обороты, которые неизбежно отвлекут невнимательного читателя, – чтобы твой рассказ не участвовал в том умножении информационного шума, который, безусловно (в частности, когда он набит бесполезными или, во всяком случае, необязательными уточнениями), представляет собой одну из трагедий нашего времени, находящегося во власти медиа.
25. Не злоупотребляй ударениями, читатель сам поймет, чтó ты хочешь сказать.
26. Прежде чем написать или вычеркнуть «это», убедись, что это не создает двусмысленности.
27. Не будь напыщенным! Экономь восклицательные знаки!
28. Не пытайся отъюзать иноязычные слова по правилам своего языка.
29. Пиши правильно иностранные имена, такие как Дюшамп, Джорджио Армани и тому подобные.
30. Прямо, без парафраз, указывай авторов и персонажей, о которых говоришь. Именно так поступал великий тосканский поэт XIV века, создатель «Божественной комедии».
31. В начале произведения поставь capitatio benevoletiae, благодарственный колофон (вы вообще врубаетесь, о чем я?).
32. Тщательно следи за граматикой.
33. Бессмысленно напоминать, как утомительны умолчания.
34. Не начинай слишком часто с красной строки. По крайней мере, когда это не нужно.
35. Не пиши «мы», когда говоришь от своего лица. По нашему мнению, эта ужимка просто нелепа.
36. Не смешивай причину со следствием: это неправильно и ты таким образом ошибешься.
37. Не строй фразы, в которых вывод логически не вытекает из предпосылок: если бы все так поступали, предпосылки следовали бы выводам.
38. Не давай спуску архаизмам, классицистической элоквенции и прочим малоупотребительным лексемам, равно как и ризоматическим deep structures, которые симультантно демонстрируют грамматологическую вычурность и провоцируют деконструктивистское размывание высказывания, а кроме того, что еще хуже, подобный дискурс может не пройти верификации у лица, осуществляющего эдиционную практику, так как превосходит когнитивные возможности его рецепции.
39. Не нужно быть многословным, но не нужно также говорить меньше того, что.
40. Законченная фраза – это
Из эссе «Как научиться хорошо писать»[193]Эмпатия и симпатия
Даже собственная боль не столь тяжела, как боль сочувствия к кому-то, боль за кого-то, ради кого-то, боль, многажды помноженная фантазией, продолженная сотней отголосков[194].
М. КундераЧтобы стать успешным – то есть читаемым – писателем, стоит помнить о двух вещах, которые помогают поддерживать эмоциональную связь читателя с текстом. Первое – у читателя не должно возникать вопросов к достоверности. Если при чтении текста возникает реакция «Да ну, не может быть!» – значит, писатель потерпел неудачу. Даже фантастика (талантливая фантастика, разумеется) написана так, что читатель «проваливается» в историю и верит написанному, цепляясь за узнаваемое в вымышленном мире. Придуманный писателем мир оживет, если он придуман лишь отчасти, построен на знакомых читателю образах.
Второе условие – должен быть своего рода «цемент», накрепко сцепляющий читателя и писателя. Это эмпатия.
Еще Сократ говорил, что путь к мудрости и счастью лежит через самопознание. Литература – без сомнения, один из путей самопознания. Книги помогают нам разобраться в себе. Как? Все дело именно в эмпатии: читатель отождествляет себя с героем, разделяет его чувства. Обратимся к словарю: «Эмпатия (от греч. empatheia – сопереживание) – проникновение во внутренний мир другого человека за счет ощущения сопричастности к его переживаниям»[195].
А что говорят психотерапевты? «Термин “эмпатия” в последнее время истерся и практически потерял свою содержательность. И все же не существует другого слова, которое означало бы “чувствовать вместе с”, а не “чувствовать вместо”, что и составляет внутреннее различие между эмпатией и симпатией (или состраданием, жалостью, интересом и подобными понятиями, подразумевающими определенную степень защитного дистанцирования от страдающего человека). Слово “эмпатия” зачастую используют неправильно, подразумевая под ним теплое, ободряющее, одобряющее отношение к пациенту независимо от его эмоционального состояния»[196].
Итак, эмпатия – способность ощутить чужое душевное состояние. В литературе это значит прочувствовать вместе с героем все его переживания – горе, страх, любовь и так далее. Эмпатия – способность представить себя на месте другого человека, сопереживание его эмоциональному состоянию – неважно, радуется он или грустит.
Еще Аристотель связывал эмпатию и художественное творчество: «Трагедия есть подражание действию важному и законченному… посредством действия, а не рассказа, совершающее путем сострадания и страха очищение подобных аффектов»[197]. Что такое сострадание? Эмоция. Что такое эмоция? Химический процесс, провоцирующий переживание (и как следствие – проживание) определенных жизненных ситуаций: так рождаются удовольствие, страх, гнев, радость… Эмоции – это всегда смена полюса: от «плюса» к «минусу» и наоборот.
У американских сценаристов считается: в жизни человека лишь две управляющие эмоции – наслаждение и боль. Ничего больше. «Только эти две эмоции вызывают отклик аудитории», – говорит Роберт Макки[198].
Представьте себе историю: бедный человек становится богатым. И пока он движется от бедности к богатству, аудитория радуется, наблюдая, как герой «выскребается» из бедности. В момент финального перехода аудитория чувствует наслаждение.
Когда переход завершен, заканчиваются и эмоции.
Все, герой богат. Точка.
Если динамика будет и дальше продолжаться с тем же знаком (еще богаче, еще богаче, еще богаче), аудитория заскучает.
Если же изменить динамику, аудитория вновь ощутит связь с героем. Из «плюса» (богатство) бросьте героя в двойной «минус». Например: разбогатев, герой задолжал мафии. Такой двойной переход даст аудитории двойную порцию отрицательных эмоций. Теперь люди гадают: как поступит герой? Он примет бой и решит устранить тех, кому должен, или же трусливо начнет выплачивать долги? Допустим, решив вопросы с мафией, герой сам становится «иль капо» – главным мафиозо. С точки зрения истории и ее поворотов это будет уже «двойной плюс». На этом переломе аудитория снова испытывает эмоции. Усиливается эмпатия. Даже если читателю – или зрителю – не нравится, как действует герой, он видит в нем живого человека.
Еще раз: эмоции – это химия. Это подтверждает и Роберт Макки: «Железы в теле вливают в кровь “счастливую” или “несчастливую” химию, и у читателя появляются эмоции. Все это работает на стыке, на смене полюсов. Эмоция – это, если хотите, побочный эффект от сюжетных поворотов. Вот почему историю надо рассказывать динамически»[199].
Говоря о таких «эмоциональных качелях», Макки призывает следовать закону убывающей отдачи: чем чаще что-то происходит, тем слабее эффект. Нельзя снова и снова переживать тот же опыт и получать одинаково яркие впечатления. Простой пример из жизни: представьте, что вы обожаете мороженое. Что вы чувствуете, когда вам его предлагают? Первое мороженое – «класс!». Второе – «ничего так». Третье – у вас начинает болеть живот, и вы уже не хотите никакого мороженого.
Работая с эмпатией, помните о смене полюсов. Допустим, вы написали три сцены подряд – одна сплошная трагедия – и ждете, что аудитория будет беспрерывно рыдать. Как бы не так! Сначала читатель заплачет, потом всхлипнет, а под конец, возможно, и посмеется (над вашей литературной беспомощностью). Потому что вы, автор, поддавая отрицательных эмоций, опустошили читателя – нельзя заставлять его плакать три раза подряд. Нельзя несколько раз подряд выдать одинаковые эмоции.
Роберт Макки оговаривается, что это правило работает где угодно… кроме секса. Секс снова и снова оказывает одинаковый эффект. Вуди Аллен как-то сказал: худший секс в моей жизни был, в общем-то, не так уж плох.
Вернемся к сюжету. Повторение – враг писателя. Представьте себе, что вы, подводя повествование к развязке, опять меняете полюса. «Плюс» на «минус», «минус» на «плюс». Выстраивая динамически-драматический рисунок сюжета, вы создаете у читателя настроение, вызываете у него чувства. А чувство и эмоция – не одно и то же. Эмоции – это краткосрочные химические реакции, непосредственные переживания: пришли и ушли. Чувство – это, если хотите, долгосрочный проект. Иногда вы, проснувшись с утра, чувствуете себя хорошо. Почему? Просто так. Иногда вы не успели встать с постели, а вам уже грустно – без причины. Так тоже бывает.
Мы открываем книги, чтобы пережить интенсивные эмоции, а не затем, чтобы «испытывать чувства». Да, часто мы, прочитав книгу, надолго остаемся в определенном настроении. Но мы читаем здесь и сейчас. Эмоция – интенсивное переживание, эмоция всегда на переднем плане. А чувство – долгосрочное настроение на глубинном уровне, совокупность чувств – фон нашей жизни. Эмоция – реакция, чувство – отношение. Как связаны эмоции и чувства? Чувства – это своего рода тональность, которая задает определенные эмоции. От чувств зависит уровень и интенсивность эмоциональных переживаний.
Многие авторы не понимают разницу между выразительностью и декоративностью. Правильная декорация – хорошо прописанный мир – создает настроение, тональность. Но если внутри нет эмоций – такие декорации мертвы. Неумелые авторы рисуют красивые картинки (природа, погода), но забывают о поворотных пунктах сюжета – и эмоциям неоткуда взяться. Неумелые авторы не учитывают, что в основе любой истории – выбор героя. Персонаж под давлением внешних обстоятельств (или внутренних побуждений) делает выбор, двигаясь к желаемой цели. Мир реагирует.
А теперь вернемся к эмпатии.
Вы, автор, стараетесь помочь читателю постичь глубинную суть вашего персонажа. Таким персонажем должен стать, без сомнения, главный герой, протагонист. Ведь именно протагонист – ключ к развязке любой истории. Читатель может симпатизировать герою или нет, но у читателя обязательно должна возникнуть эмпатия. Симпатичный персонаж – это персонаж, располагающий к себе. В «эмпатичном» персонаже читатель узнает – осознанно или неосознанно – знакомые черты, качества, оттенки настроения, особенности поведения и говорит себе: «Он на меня похож» (или – «Я на него похож»). То есть – очеловечивает героя, желая или не желая того, и думает: «Этот герой на меня похож, поэтому я хочу, чтобы он достиг своей цели, ведь и я в таких же обстоятельствах мечтал бы о том же».
Вот почему эмпатия так важна.
Мы хотим узнавать себя (или то, что мы пережили) в книгах, которые читаем.
Эмпатическая связь – ключевой фактор хорошо написанной истории. Когда между читателем и героем устанавливается эта связь, он начинает хотеть того же, чего и персонаж. В действительности читатель (часто не отдавая себе в этом отчета) болеет за себя. Ваша история – художественное отражение действительности. Персонаж, которого вы создаете, – художественное воплощение человечности. Когда читатель распознает человечность, он начинает болеть за персонажа – и болеть за себя самого. Ведь герой вашей истории – проекция любого человека, читающего книгу. Его цель – проекция желаний и стремлений читателя. Вот почему читатель болеет за протагониста и хочет, чтобы тот получил желаемое.
И вот почему для нас так важны книги. Вы читаете, даже если этого и не осознаете, о себе. Вот почему ваши друзья так обижаются, когда вы критикуете их любимые произведения: на самом деле вы ругаете не историю, рассказанную писателем, вы нападаете на друга, установившего с этой историей эмпатическую связь.
«Если я скажу, что “Титаник” – кусок дерьма, вы, возможно, меня осудите. Знаете выражение – “Дерьмо не тонет”? Я три часа ждал, когда же оно наконец потонет. Фильм закончился, я встал – и увидел, что молодые девушки обливаются слезами. Если я бы сказал, что “Титаник” дерьмо, а вам он понравился, это оскорбило бы лично вас. И уж девушек, которые, выходя из зрительного зала, рыдали, это точно обидело бы», – говорит Роберт Макки[200].
Придумайте объемного протагониста, способного испытывать самые разные эмоции. Казалось бы, это не так сложно. Протагонист – человек. Читатели тоже люди. Ваша задача как писателя – показать человечность героя, сделать так, чтобы читатели сопереживали герою. Вот и все. Даже к самым несимпатичным персонажам, вышедшим из-под пера гения, испытываешь эмпатию. Пример? «Макбет». Этот герой – чудовище. Он убивает своего короля. Убивает своего лучшего друга, пытается убить его сына. Убивает жену и сына своего врага. Объективно Макбет – просто-напросто убийца. Но не у Шекспира. У Шекспира он становится трагическим «эмпатическим» персонажем. Шекспир дал Макбету чувство вины – оно-то и сделало его таким живым. Макбета терзают муки совести, а зритель смотрит на Макбета и думает: «Прямо как я. Когда я делаю что-то плохое, я тоже ощущаю вину и раскаяние. У Макбета есть совесть – прямо как у меня».
Сумев обнажить человечность персонажа, вы создадите образ, заставляющий испытывать эмпатию. Протагонист становится своего рода эмоциональной «дверью» в историю: читатель (или зритель) попадает внутрь истории благодаря эмпатии к протагонисту. Вот они, слагаемые успеха: герой, его цель (или хотя бы осознанное желание), его воля, его возможность совершать действия и, делая выбор, идти к своей цели. Сложив все фрагменты воедино, наделив героя волей (или безволием, или чувством вины, или чувством отчаяния), вы неизбежно вызовете у читателя эмпатию. И тогда ваша история оживет.
Объемный герой
Я считаю, что лучшие произведения всегда оказываются о людях, а не о событиях, то есть ими двигают характеры, а не ситуации[201].
С. КингКурт Воннегут во «Времетрясении» вспоминал: «В 1952 году Эрнест Хемингуэй опубликовал в журнале “Life” повесть “Старик и море”. В ней рассказывалось о кубинском рыбаке, который за восемьдесят четыре дня не поймал ни одной рыбы. А потом подцепил на крючок гигантского марлина. Старик убил рыбину и привязал ее к борту своей крошечной лодки. Но до берега не довез – акулы объели все мясо. В то время я жил в Барнстейбле на полуострове Кейп-Код. Я спросил соседа, профессионального рыболова, что он думает о повести Хемингуэя. Сосед сказал, что главный герой явно сглупил. Ему надо было сразу же разделать марлина, срезать лучшие куски мяса и сложить их в лодке, а все остальное отдать на съедение акулам»[202].
О чем говорит приведенный фрагмент? О том, что не все читатели поверили в историю, написанную Хемингуэем. Закономерный вопрос – почему старик не разделал рыбу сразу? Возможно, он и вправду сглупил: ведь у него был с собой нож. Но что, если бы не было? В такую историю вы поверили бы? Ваша задача как автора – сделать так, чтобы читатель и поверил в историю, и начал сопереживать герою. Можно придраться к деталям – но Хемингуэй, без сомнения, создал объемного героя. Старика, чью усталость в борьбе с гигантским марлином читатель воспринимает так, будто пережил все это сам.
Умберто Эко в книге «Откровения молодого романиста» детально разбирает причинно-следственные связи, возникающие в голове читателя, который начинает сопереживать персонажам, целиком и полностью выдуманным автором. Все знают, что Анны Карениной никогда не существовало, но каждый, кто читал великий роман Толстого, наверняка испытывал сильные эмоции, когда героиня бросилась под поезд. А многие девушки видят в Наташе Ростовой себя. Почему так происходит?
Вот что по этому поводу пишет другой Толстой – Алексей Николаевич: «Определить можно так: в герое произведения, я бы сказал, всякий может узнать самого себя, или всякий хотел бы быть таким. Например, возьмите в “Войне и мире” Наташу Ростову. Она была типична для того времени. Мало того, такой хотело быть целое поколение девушек… Или Андрей Болконский. Целое поколение хотело быть таким. Это собирательный типичный образ для данной эпохи. Типичный образ вне эпохи быть не может. Скажем, Гамлет. Это тоже типичный образ для эпохи – Ренессанса. Если вы возьмете образ Гамлета у Шекспира и отнимите все окружение, оставите только одни монологи Гамлета, это будет непонятно. Он умрет… Чтобы создать типичный образ, нужно много видеть, много думать, много встречать людей»[203].
О «типичном» персонаже, отвечающим эмоциональным запросам эпохи, говорит и писатель Алексей Иванов, который ищет такого героя в каждом своем романе: «Бестселлер получается, если писать о герое нашего времени, если уловить читательские ожидания»[204].
Почему читатель хочет сопереживать, почему он в этом нуждается? Ответ есть у Стейнбека: «Мы одинокие животные. Всю жизнь мы тратим, чтобы стать не такими одинокими. Один из древнейших способов – рассказать историю, как бы умоляя слушателя отозваться на нее: “Да, так и есть. Во всяком случае, я тоже это чувствую. Ты не так одинок, как думал”»[205].
А вот как считает Евгений Замятин: «Горький, Куприн, Чехов, Бунин, и позже – Арцыбашев, Чириков, Телешов и другие, печатавшиеся в “Знании” и “Земле”. У этих писателей все – телесно, все – на земле, все – из жизни. Горьковский городок Окуров – мы найдем, быть может, не только на земле, но и на географической карте. Купринский поручик Ромашов – из “Поединка” – под другой фамилией, быть может, служил в одном полку с Куприным. Чеховская девчонка Варька в великолепном рассказе “Спать хочется” укачивала целые ночи напролет господского младенца и, наконец, не стерпела и задушила его – это действительно происшедший случай, и об этом случае рассказывает еще Достоевский в “Дневнике писателя”. Писатели этого времени – великолепные зеркала. Их зеркала направлены на землю, и их искусство в том, чтобы в маленьком осколке зеркала – в книге, в повести, в рассказе – отразить наиболее правильно и наиболее яркий кусок земли»[206].
Чем больше людей находят в книге свое отражение, тем она сильнее. Рэй Брэдбери в работе «Дзен в искусстве написания книг» призывает: «Придумайте персонажа, похожего на себя, который будет всем сердцем чего-то хотеть или же не хотеть. Прикажите ему: беги. Дайте отмашку на старт. А потом мчитесь следом за ним со всех ног. Персонаж, следуя своей великой любви или ненависти, сам приведет, примчит вас к финалу рассказа. Жар его страстей – а в ненависти жара не меньше, чем в любви, – озарит ландшафт и раскалит вашу пишущую машинку. Все это адресовано прежде всего писателям, которые уже выучились своему ремеслу; то есть овладели грамматикой и накопили достаточно литературных знаний, чтобы не спотыкаться на бегу. Однако этот совет пригодится и для начинающих, хотя их шаги могут сбиваться по чисто техническим причинам. Но зачастую и тут выручает страсть»[207].
Желание героя, его цель – вот что важно. Если герой ничего не хочет, у вас нет истории. «Большинство людей живут в тихом отчаянии, не получают того, к чему стремятся, и отправляются в могилу с чувством, что ничего не получили»[208], – говорит уже знакомый нам Роберт Макки, сценарист. Пожалуй, это правда. Но так жить невозможно. Это вообще не жизнь. Вот почему люди несут в себе надежду. Это не что-то рациональное – просто надежда делает человека живым. Часто пресловутое «желание героя» выражается как раз в надежде.
Стоит обратить внимание на замечание Кристофера Воглера: «Первое выражение желания героя, каким бы легкомысленным оно ни было, играет в сюжете важную функцию ориентирования зрителя. Оно намечает генеральную линию истории, так называемую “линию желания”, которая задает вектор движения внешних и внутренних сил героя к поставленной им цели, даже если впоследствии цель будет пересмотрена и видоизменена. Такое волеизъявление определяет полюса энергии, провоцируя конфликт между теми, кто помогает герою добиться желаемого, и теми, кто ему препятствует»[209].
Дуайт Суэйн в своем учебнике отмечает, что желание героя попадает в одну из трех категорий:
1. Обладание (девушка, работа, украшение).
2. Освобождение (шантаж, доминирование, страх).
3. Реванш (обида, потеря, предательство).
А теперь ответьте на обманчиво простой вопрос: чего хочет ваш герой? Его возможные желания:
1. Купить частный остров (стать президентом, переспать с женой соседа).
2. Избавиться от преследователей-вымогателей (забыть прошлое).
3. Отомстить убийце брата.
И так далее. А если герой хочет дом, а потом жену соседа? Нет. Это две истории. Желание не меняется на протяжении всей истории. Но оно эволюционирует. Желание героя исполняется (или нет) либо в кульминации истории, либо в развязке. В хорошей истории герой под конец получает желаемое, но не в той форме, в какой он этого хотел. Или – желание исполняется буквально (Остап Бендер получает свой миллион), но либо изменились обстоятельства и желание перестает быть актуальным, либо сам герой изменился настолько, что это ему уже не нужно. Запомните формулу:
Главный герой + Цель (желание) + Противодействие = Конфликт.
Протагонисту в достижении цели мешает антагонист. Антагонист не хочет, чтобы желание героя сбылось. Антагонистом могут выступить люди, внутренние демоны героя, стихия. Так мы приходим к пониманию конфликта. Вот, например, жизнь самого писателя (кто сказал, что конфликт есть только в художественном произведении?). Конфликт может быть внешним – родственники мешают писать, считая, что вы занимаетесь ерундой вместо того, чтобы зарабатывать деньги. Конфликт может быть внутренним – вы боитесь поставить финальную точку, потому что рукопись, как вам кажется, недостаточно хороша или потому, что вы считаете себя самозванцем: «Кто мне сказал, что я писатель?». Если герой справляется с внешними обстоятельствами или внутренними противоречиями, он приходит к цели. И неизбежно меняется. Об изменениях, происходящих с героем, поговорим в следующей главе.
Вернемся к Хемингуэю. Чего хотел старик больше всего? Привезти пойманную рыбу домой, чтобы показать жителям деревни. Вот желание, которое движет историю и не дает старику сдаться. Следя за борьбой человека и водной стихии, читатель сопереживает маленькому хрупкому человеку, которому противопоставлен океан. Читатель верит в победу старика. Старик побеждает. Но не с тем результатом, которого ожидал.
Как лучше понять своего героя? Оживить его в воображении. А потом сделать серию набросков о человеке. О его повседневной жизни. О прошлом. О желаниях. Слабостях. Проработать все черты героя, даже если не все из написанного войдет в финальную рукопись.
Если образ слишком плоский – в него не поверят читатели, на это вам укажут в издательстве. Вот что писал Фицджеральду о романе «Великий Гэтсби» его редактор Максвелл Перкинс: «Замечаний у меня всего два. Первое из них сводится вот к чему: среди ваших персонажей, на удивление жизненных и сильно вылепленных, – я бы узнал такого человека, как Том Бьюкенен, встретив его на улице, и постарался бы не вступать с ним в контакт, – Гэтсби кажется несколько расплывчатым. Читателю так и не удается составить о нем четкое представление, его облик теряется. Конечно, все, что окружает Гэтсби, отмечено определенной таинственностью, т. е. и должно быть не вполне ясным, так что, вероятно, таким вы его и замыслили, но все же, мне кажется, это просчет. Нельзя ли и его самого сделать таким же ясным, как другие персонажи, и не стоит ли добавить ему две-три характерные черточки вроде пристрастия к словечку “старина”, причем это будут скорее не речевые, а физические характеристики. По каким-то причинам читатель… представляет его намного старше, чем он есть, хотя ваш рассказчик сообщает, что Гэтсби почти его ровесник. Такого впечатления не возникло бы, если бы Гэтсби с первого своего появления стоял перед нами как живой, подобно, например, Дэзи или Тому; не думаю, что вам пришлось бы многое менять, чтобы этого добиться»[210].
Перкинс пишет, что читатель начинает верить в описанные Фицджеральдом образы, но самому Гэтсби не хватает «объема». Вот что ответил автор: «…После того, как Зельда[211] нарисовала столько портретов, что у нее начали болеть пальцы, я представляю себе Гэтсби лучше, чем собственную дочь»[212].
После этого Фицджеральд доработал рукопись и внес существенные изменения, которые оживили его героя. Позже писатель признавался Перкинсу, что «даже полюбил Гэтсби». И это очень хорошо. А знаете почему? Ответ дает американский литератор Найджел Воттс в книге «Как написать повесть»: «Писатель всегда должен относиться с любовью к внутренним переживаниям повести и ее героям; он не должен пользоваться ими только как иллюстрациями, но сопереживать их опыту»[213].
Как начать сопереживать герою? Как его полюбить (или возненавидеть)? Есть прекрасный прием, подсказанный режиссером Александром Миттой: решить для себя, как выглядит рай героя и как – его ад.
1. Как герой представляет себе счастье? Что для него главное: любовь, деньги, карьера, дружба, честь?
2. Персональный ад: какая ситуация для героя была бы самой ужасной? Чего он стыдится или боится больше всего? Чего он никогда не допустит?[214]
Для начала ответьте на эти два вопроса.
Двигаемся дальше. Еще десять вопросов от Митты, которые помогут вам лучше узнать своего героя:
1. Интеллект – как герой принимает решения?
2. Физиология – здоровье, возраст, отклонения от нормы, болезни, отношение к спорту.
3. Социальная база – происхождение, класс, религия.
4. Экономическая база – насколько богат, или в долгах, или нищий, или вор.
5. Талант – что отличает от других: музыкант, грабитель, спортсмен.
6. Посторонние интересы – что-то помимо работы, степень увлеченности.
7. Сексуальная жизнь – в семье, на стороне, есть ли какие-то проблемы.
8. Образование – где, какое, с каким успехом или самоучка.
9. Семья – жена, родители, дети. Как герой с ними связан, какие отношения; как женился, какие отношения.
10. Неприязни – не выносит лягушек, толстых волосатых брюнеток, запах рыбы, работу по ночам[215].
И еще десять вопросов, на которые стоит ответить самому себе, прежде чем вы сядете за написание первого черновика. Нет, вполне можно начать и так. Но все же лучше ответить.
1. Кто ваш герой с сюжетообразующим свойством характера?
2. Какова его цель?
3. Почему он это делает (идет к цели)?
4. Что мешает герою достичь цели (антагонист или антагонисты, обстоятельства)?
5. Что угрожает герою?
6. Как герой собирается преодолеть возникающие препятствия?
7. Чем он жертвует, добиваясь цели?
8. В каком сеттинге действует герой (где и когда происходит история)?
9. Каков жанр истории?
10. К какому мифу восходит эта история?
Позволим подвести итог финалисту Пулитцеровской премии по литературе, автору романов «Сын» и «Американская ржавчина» Филиппу Майеру: «Найти свой голос, найти верный тон для своего героя всегда непросто. Пожалуй, это самое сложное для писателя. Есть много авторов, которые используют одни и те же голоса для всех своих персонажей во всех книгах. Но для меня индивидуальность имеет решающее значение. Иногда я нащупываю манеру своего персонажа уже через несколько месяцев после начала работы над книгой, иногда у меня уходит несколько лет на то, чтобы ее поймать… Ты похож на рок-группу, которая вновь изобретает свое звучание с каждым новым альбомом (новое звучание для каждого альбома изобретали, например, “Битлз”: сравните пластинки Please, Please Me и Abbey Road). Ты всегда пытаешься делать то, в чем толком не разбираешься. И всегда изучаешь в процессе работы те вещи, о которых раньше и представления не имел»[216].
Напоследок предлагаю небольшую, но эффективную игру, придуманную американскими сценаристами, – «Алмаз героя»: она поможет определить характер персонажа, понять его цель и наметить вектор развития. Для начала ответьте на шесть вопросов и запишите ответы от лица героя.
1. Какое заблуждение на ваш счет существует в кругу ваших знакомых и друзей?
2. Чего вы больше всего боялись в детстве?
3. Какое свое качество вы считаете своим конкурентным преимуществом?
4. Какое качество вы больше всего цените в людях?
5. Какое ваше качество или какие черты характера мешают вам находить общий язык и общаться с другими?
6. Что вы ненавидите в людях?
Упражнение полезно не только тем, что вы раскрываете скрытые мотивы героя. Отождествляя себя с героем, вы оживляете его в сознании. Герой становится объемным. Что интересно, игра «Алмаз героя» подходит не только для протагониста, но и вообще для всех героев вашей книги. Задавайте шесть вопросов, когда хотите лучше разобраться в нужном персонаже. Конечно же, это не полноценный метод выстраивания характера, а лишь способ понять мотивацию героя и его желания (вы же помните: если герой ничего не хочет, вам будет сложно двигать историю вперед). А теперь ответы:
1. Какое заблуждение на ваш счет существует в кругу ваших знакомых и друзей?
Расшифровка: та маска, которую герой надевает, когда выходит в мир.
2. Чего вы больше всего боялись в детстве?
Расшифровка: детские страхи. Причина, по которой герой надевает маску. То, чего он больше всего боится и хочет спрятать от окружающих. Ответ надо воспринимать как метафору, которую следует расшифровать.
3. Какое свое качество вы считаете своим конкурентным преимуществом?
Расшифровка: чтобы победить страх (из второго пункта), герою нужно избавиться от этого качества.
4. Какое качество вы больше всего цените в людях?
Расшифровка: истинное «я» героя. То, кем герой хочет и может стать.
5. Какое ваше качество и черты характера мешают вам находить общий язык и общаться с другими?
Расшифровка: та ахиллесова пята, в которую целят враги (антагонист травмирует протагониста, ударяя именно по тому качеству, которое указано в этом пункте).
6. Что вы ненавидите в людях?
Расшифровка: темная сторона личности героя, которая проявляется при травмировании (из пункта 5).
Если вы отвечали искренне и вжились в шкуру героя – считайте, что у вас уже есть «скелет» его личности. Вы сможете лучше понять, что не дает ему достигнуть цели. Помните: у каждого «объемного» героя есть травма из прошлого, какой-то недостаток характера, мешающий достижению желаемого, или некий мировоззренческий изъян – ошибка в мышлении, ошибочное представление о мироустройстве. С одной стороны, к игре «Алмаз героя» можно прибегать, когда ваша задача – понять, какой герой перед вами. С другой – этот метод подходит и для самоанализа писателя. Сформулируйте желание героя – «Хочу написать роман» – и ответьте последовательно на шесть пунктов о себе. И тогда вы, возможно, поймете, что мешает закончить роман и что сделать, чтобы его все-таки закончить.
А теперь самое интересное. После ответов на шесть вопросов у вас появится еще и первый набросок истории: считайте, что вы его вытащили из подсознания. Вот он:
● Первый акт: герой надевает маску (ответ № 1), чтобы не сталкиваться со страхом (ответ № 2).
● Второй акт: столкновение со страхом (ответ № 2) все же происходит. Чтобы справиться с травмой, герой полагается на свое лучшее качество (ответ № 3).
В этот момент возникает антагонист и воздействует на слабые места героя (ответ № 5).
В результате приоткрывается темная сторона личности героя (ответ № 6).
● Третий акт: в результате столкновения со страхом (ответ № 2), герой обретает истинное лицо (ответ № 4) или терпит сокрушительное поражение[217].
Не слишком полагайтесь на этот метод как на способ легкого конструирования сюжета. Преподаватели литературного и сценарного мастерства отмечают, что это возможность спроектировать направление, в котором будет двигаться история, но никак не готовый рецепт.
Как создать систему персонажей?
Лучше всего о взаимодействии персонажей написал Джон Труби в книге «Анатомия истории», введя термин «четырехстороннее противопоставление». Найдите книгу, прочтите. Если вкратце, то речь о том, что в стандартной схеме протагонист конфликтует лишь с одним противником: это просто и прозрачно, но не дает возможности показать весь спектр взаимодействий героя. В лучших произведениях у каждого протагониста – как минимум три антагониста (а то и больше, если это важно для сюжета) с совершенно различными ценностями: «Представьте себе, что персонажи – герой и три его противника – расходятся по углам ринга, то есть характер каждого из них кардинально отличается от характеров трех других»[218]. Причем все персонажи находятся в конфликте не только с протагонистом, но и друг с другом, и у каждого антагониста свой способ давления на протагониста. Выстраивая сложные схемы конфликтов, вы добавляете произведению глубины, объемности. Итак, золотое правило художественного произведения: все конфликтуют со всеми.
Что такое дуга персонажа?
Выходя из кинотеатра, зритель должен чувствовать, что герой, за чьими приключениями он только что следил, развивался и чего-то добился[219].
У. ИндикОтвет таков: в драматической истории герой растет от крайности до крайности. Трус становится храбрецом, любимый – врагом, святой – грешником, а грешник – святым. Возможны варианты. Герой получается живым, если есть движение: «Если в конце фильма герой не стал лучше или сильнее, чем был в начале, значит, вы не показали его в динамике»[220]. Если движения нет, у читателя остается ощущение, что его обманули. Читатель инвестирует в чтение текста время и ждет дивиденды от этих инвестиций. В нон-фикшн такими дивидендами выступают новые знания. В художественной – эмоции. Читатель сопереживает герою, отождествляет себя с ним. Если изменений нет – читатель чувствует, что ему подсунули пустышку.
Яркий пример отсутствия динамики в образе героя – бульварные фэнтези-романы, в которых герой никак не эволюционирует, не меняется. Книга начинается с того, что герой начинает путешествие из пункта А, а заканчивается его приходом в пункт В. По пути он преодолевает препятствия, но к финалу приходит тот же герой, что вышел в путешествие. Вопрос – зачем рассказана эта история?
Прежде чем продолжить, давайте разберемся с терминологией, чтобы не было путаницы. По-английски термин, обозначающий изменения, которые происходят с героем, звучит как Character Arc. В русском драматургическом и киносообществе принято определение «дуга персонажа», в критике и сетевых обсуждениях часто фигурирует устоявшийся неверный термин «арка персонажа» (arc – это не «арка», «ложные друзья переводчика» нередко нас подводят). Писатель и редактор Джефф Герке называет этот путь «внутренним путешествием» героя: «Вы – бог собственной истории, и ваша работа над этим жалким искусственным человеком, которого вы создали, сводится к тому, чтобы сделать ему больно. Выдавите его с уютного насиженного места… Ему должно быть больнее оставаться прежним, нежели задуматься о том, что изменить в себе. Люди не меняются, пока им не станет слишком больно оставаться прежними. Сделать персонажу больно, чтобы заставить его меняться, – вот что такое внутреннее путешествие»[221].
Почему «дуга»? Потому что изменения могут быть восходящими или нисходящими: «Лучшие произведения не только раскрывают истинный характер, но в процессе повествования изменяют его внутреннюю суть в лучшую или худшую сторону», – напоминает Роберт Макки[222]. Герой, вышедший из пункта А с одними качествами (достоинствами или недостатками), в своем «внутреннем путешествии» преодолевает препятствия и, постепенно меняясь, приходит в пункт В другим человеком.
Итак, дуга персонажа – необратимые изменения, происходящие во время путешествия героя. А что такое путешествие героя? Это путь, который проделывает протагонист (главный герой) для достижения цели и удовлетворения желания. Великие истории развиваются по схожим сценариям (герои идут одной и той же дорогой). Сжато об этом не расскажешь. А подробно о путешествии героя написал продюсер Кристофер Воглер в книге «Путешествие писателя». На это его вдохновила работа известнейшего антрополога Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой» – об универсальном мотиве приключения и трансформации в мировой мифологической традиции: «Всегда и повсюду приключение – это переход за завесу, отделяющую известное от неизвестного; силы, которые стоят на границе, опасны; иметь с ними дело – рискованно; однако перед всяким, кто обладает уверенностью и отвагой, эта опасность отступает»[223]. Прочтите обе книги.
Разберем путь героя и изменения, происходящие с ним в пути, на хрестоматийном примере – фильме «День сурка». Фил Коннорс (в исполнении Билла Мюррея) в начале фильма вроде бы ничего не хочет. Он высокомерный эгоист, думающий только о себе. Он подкалывает друзей и незнакомцев, упивается собственным величием… до поворотного момента. Приехав в город Панксатони провести репортаж с праздника «День сурка», Коннорс понимает, что попал во временную петлю и застрял в одном и том же дне. Это инициирующее событие, запускающее маховик повествования.
Коннорс раз за разом просыпается 2 февраля, и сначала ему нравится то, что с ним происходит. Можно получать удовольствие – грабить инкассаторов, швырять деньги направо и налево, переспать с понравившейся девушкой (наутро все «обнулится», и все обо всем забудут, но только не Коннорс, который день за днем выведывает у жертв, что они любят, а чего не любят, чтобы стать идеальным ухажером). А потом у героя, наконец, появляется желание. Ему все надоедает. Он хочет домой. Вырваться из «дня сурка». Ему надоело. Все приелось: секс, алкоголь, грабеж. Как вернуться? Коннорс пробует разные способы (даже самоубийство), но ничего не работает.
Вернуться не получается, и Коннорс начинает охоту за неприступной женщиной Ритой – коллегой, которую отправили вместе с ним, чтобы она приглядывала за своенравным героем. Рита – добыча не из легких. Пытаясь ее впечатлить (сначала – исключительно из желания с ней переспать), Коннорс день за днем совершает новые романтические жесты и в конечном счете понимает, что неравнодушен к Рите. Охота, начавшаяся из любопытства, заканчивается любовью.
Желание героя эволюционирует (в драматической истории действует правило «один герой – одно желание»). Герой должен вернуться домой вместе с Ритой. Как это сделать? Благодаря подсказкам авторов фильма зритель понимает – Коннорсу нужно измениться. Пока он остается высокомерным эгоистом, вырваться из «дня сурка» у него не получится.
Сам Коннорс пока не осознает свои недостатки – он не видит себя со стороны. Он пытается придумать, как бы, насладившись прекрасным днем с Ритой, наутро проснуться с ней, а не в том же дне, где Рита не помнит об их любви. Итак, что же вызывает перемены в герое? Внешние обстоятельства. И внутренние потребности. Роберт Макки отмечает: «По мере своего развития история требует от человека все новых способностей и силы воли, приводит к более значительным изменениям в жизни персонажей, а обстоятельства, в которые они попадают, постоянно усложняются»[224]. Но пересказывать фильм – не дело. Напомню лишь, что в конце герой становится нормальным парнем, который научился любить.
Нам, зрителям, интересно наблюдать за героем в развитии. Мы ждем, что он изменится. Проанализируйте любой оскароносный фильм – и вы увидите дугу персонажа-протагониста. Еще один хрестоматийный пример: «Крестный отец». Поначалу герой, ветеран Второй мировой, отнюдь не тот жестокий и безжалостный глава «семьи», каким становится под конец (этот пример показывает, что изменения героя не всегда носят положительный характер: дуга, как уже говорилось, бывает и нисходящей).
А что с историями без дуги персонажа? В таких главенствует действие. Например – «Рэмбо». Три серии подряд герой уничтожает врагов, вспоминая прошлое – войну. Никакой эволюции. А теперь сравните Рэмбо как персонажа с Джеймсом Бондом. Вроде бы тоже боевик. Но Бонд меняется от книги к книге (от фильма к фильму). И если застывшего Рэмбо хватило лишь на три истории, то Бонд вечен: на протяжении всей бондианы с героем происходят маленькие (и не очень маленькие) изменения. У Яна Флеминга герой словно на виртуальных «качелях» – по мере повествования герой то становится лучше, то вновь обрастает недостатками. Это и превращает его в живого человека, это и позволило Флемингу сохранить читательский интерес к Бонду.
Для кинематографа дуга персонажа – обязательное требование. Для художественной литературы – нет. Но повествование сильно выигрывает, если дуга все-таки заложена. Пример? «Гамлет». В начале – слабый и сомневающийся. В конце? Решайте сами.
Пример художественного произведения без дуги персонажа? Любая бульварная мелодрама. Миллионам читателей мелодрамы по душе. Но все же согласитесь: если в начале истории вам представят персонажа, который ведет себя как нежный и любящий муж, а к концу повествования подходит таким же – верным семьянином без каких бы то ни было секретов, нереализованных желаний или тайных страстей, – вы будете крайне разочарованы. Понимание, что герой изменился, приходит к читателю в кульминации. Кульминация необходима, в ней герой раскрывается полностью. Задача писателя – создать активного героя. Такой герой принимает решения. Действует.
Ранее уже говорилось о катарсисе, который должен венчать историю. Вот что пишет Воглер в «Путешествии писателя»:
То, что в критический момент герой должен действовать, кажется очевидным. Однако многие писатели совершают одну и ту же ошибку: откуда ни возьмись появляется союзник и невероятным образом спасает друга. Герои могут получить помощь извне, но гораздо лучше, когда герой – личность, способная на решительные действия. Именно герою надлежит быть особенно активным и собственноручно нанести сокрушительный удар своим страхам или своей тени…
Кульминация должна приводить зрителя к катарсису. В буквальном переводе с греческого это слово означает рвоту или очищение, оздоровление, однако в классическом учении о трагедии так называется очистительный эмоциональный прорыв. Греческая драма строилась так, чтобы люди могли избавиться от грязи повседневной жизни, выплеснув наружу свои переживания. Если для очищения пищеварительной системы греки принимали рвотные снадобья, то для очищения души они регулярно посещали театр. Смех, слезы, волнение, страх – все это оздоравливает человеческий дух. Так что лучше всего, если катарсис находит физическое выражение в таких эмоциях, как слезы или смех. Сентиментальные сюжеты заставляют зрителей плакать, до предела обостряя их чувства. Кульминационным моментом драмы может стать смерть полюбившегося героя[225].
Кульминация (сопровождаемая катарсисом) – обязательный элемент драматической истории. Это подтверждает и Александр Митта: «Предел успеха в рассказывании истории – довести эмоции зрителей до максимума, который с древнегреческих времен называется “катарсис” – очищение души через страх и сострадание»[226]. К катарсису приводит правильно продуманный путь героя и как следствие – происходящие с ним необратимые изменения. При этом сам катарсис представляет собою разновидность эмоциональной иллюзии, иллюзии восприятия (в психологическом смысле): он зависит от того, насколько мы отождествляем себя с трагическим героем, в какой мере испытываем страх и сострадание, наблюдая за тем, что с ними происходит.
За кульминацией непременно следует развязка. В жизни после точки наивысшего напряжения (представьте себе оргазм…) хочется выдохнуть. С литературой то же самое – после эмоционального оргазма нужна разрядка (то есть развязка). Воглер предлагает один из вариантов развязки: «Иногда герой в буквальном смысле слова приходит в то место, откуда начались его странствия. Но порой сюжет закольцовывается только визуально или метафорически, например повторением образа или реплики из первого действия – это один из способов связать концы с концами и придать произведению завершенный вид»[227].
После того, как герой прошел весь путь, повторяющиеся картины и фразы смотрятся иначе, приобретают особый смысл. Яркий пример закольцованного повествования – «Алхимик» Пауло Коэльо. Герой в буквальном смысле возвращается в то самое место, откуда начал поиски сокровищ, чтобы, пройдя путем невероятных испытаний, найти сокровища «у себя под подушкой».
Но часто авторы надолго бросают персонажей второго-третьего плана прямо посреди повествования, а то и вовсе забывают о них. Не делайте так. Почему? Воглер напоминает: «Исполнитель каждой роли должен быть задействован в начале, в середине и в конце фильма. Существует простое практическое правило: каждая побочная тема должна “прозвучать” в фильме минимум трижды – по одному разу в каждом действии. На этапе возвращения все сюжетные линии необходимо обозначить и разрешить. Каждый персонаж должен принести домой некую разновидность эликсира или научиться чему-то»[228].
Это поможет вам не плодить картонных персонажей. Вы населяете мир людьми, поэтому постарайтесь, чтобы у каждого введенного в повествование человека было какое-то желание. Пусть маленькое, пусть не озвученное явным образом – но пусть оно будет. Вспомним уже приведенное правило Воннегута: «Любой персонаж должен чего-нибудь хотеть, пусть даже просто стакан воды»[229]. Желания оживляют героев (да, даже второстепенных). Задайтесь вопросом – почему этот гоблин все время такой злой? Может быть, потому что он страдает от мигрени и мечтает от нее избавиться? Избавление от боли – чем не желание?
И самое главное, согласно Воглеру: «Возвращение кажется лишенным фокуса, если не дает ответов на вопросы, которые возникли в первом действии и получили развитие во втором. Иногда это связано с тем, что проблема изначально «была поставлена неудачно, а затем автор, сам того не замечая, сменил тему: любовная история, например, незаметно превратилась в антиправительственную сатиру. Нить потеряна. Картина будет казаться расфокусированной, если в финале не прозвучат те мотивы, с которых все начиналось»[230].
Дуга персонажа подразумевает итог пути – это те необратимые изменения героя, которые неизбежно вызывают отклик в душе читателя или зрителя. Как уже было сказано, такие изменения – не всегда со знаком «плюс». Возможные варианты:
● Был человеком с неуравновешенной психикой, стал еще и маньяком, превратившимся в монстра («Сияние» Стивена Кинга).
● Был неудачником, обрел власть («Бойцовский клуб» Чака Паланика).
● Ничего не умел, многому научился («Звездные войны»).
● Был наивным ребенком, стал умелым магом и победил Темного Лорда («Гарри Поттер» Джоан Роулинг).
● Верил в жизнь, потерял веру («Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда).
● Был неудачником, обрел любовь к жизни и друзей («Ночной портье» Ирвина Шоу).
● Боялся прошлого, признал вину и наказал себя за содеянное («Холод» Андрея Геласимова).
● Не умел любить, научился («День сурка»).
Вспомните предыдущую главу про создание объемного героя: читателю неинтересны плоские персонажи. Читателю интересно наблюдать, как меняется внутренний мир героя. А вам как автору интереснее создавать такого персонажа. Магия писательства – еще и в том, что ваше собственное путешествие писателя приведет к необратимым изменениям. Почему? Потому что создавать сложных героев и сложные истории – это путь, исполненный страхов, путь, усеянный преградами. Пройдя этот путь, вы поменяетесь. Увидите собственную дугу персонажа. Обретете себя – на новом уровне.
Вместо послесловия к главе разберем путешествие писателя, который пишет книгу. Желание героя этой истории: дописать роман. На пути писатель встречает внешние препятствия – родственники называют его бездарем, советуют найти нормальную работу. И внутренние – неуверенность, страхи… Но герой не сдается и продолжает движение к цели. Дойдя до финальной черты, он либо побеждает – книга выходит в свет, либо нет – герой бросил роман, сказав себе: «Я неудачник».
Роман, написанный «в стол», – тоже результат. Какой станет ваша дуга персонажа? Если вы не сдадитесь, то получите дугу-«плюс»: ничего не умел, стал писателем. Или – жил с неуверенностью в себе, обрел уверенность. Или – не верил в успех, обрел славу.
Сдадитесь – тогда вас ждет дуга-«минус»: ничего не умел, стал полным неудачником. Или – не верил в себя, окончательно опустил руки. Выбор за вами.
Олег Сироткин: эволюция героя
«Изменение – это центральное слово для кино. В основе кинематографа – движение, смена изображения. Я размышлял над сутью кино и пришел к выводу, что в фильме все должно постоянно видоизменяться. Это такое редкое искусство, в котором все в “текучем состоянии”: фон, на котором рассказывается история, время внутри фильма, люди, действующие на экране. Сказанное относится к персонажам: герои должны изменяться. Фильм – это по сути нравственный урок, который получает протагонист посредством истории.
В начале фильма показывается персонаж, который нам симпатичен (эмпатичен), но с мировоззренческим изъяном в образе мышления. Допустим, он думает так: “В этом мире каждый за себя, сам о себе не позаботишься – никто о тебе не позаботится”, или “Всегда бей первым”, или “В этом мире успеха добиваются только избранные. Если тебе на роду написано стать известным, ты станешь. А если нет, что ни делай – не получится”. То есть герой придерживается некоей точки зрения, которая полемична по своей сути. Вы как автор с ней спорите. Вы сталкиваете человека, носителя этой идеи, с теми событиями, которые вынуждают героя пересмотреть взгляд на жизнь.
В итоге (в ходе путешествия) герой меняет точку зрения. Не случайно в структуре сценария по Блейку Снайдеру[231] представлены понятия opening image (открывающая сцена) и final image (закрывающая сцена), которые показывают изменения фильма: “было” – “стало”, “до” и “после”. Вспомните фильм “Назад в будущее”. Второй эпизод. Сцена за столом в доме Марти Макфлая: в начале фильма семья лузеров, в конце – семья успешных людей. Повторяется один в один сцена семейного обеда. Подобная перемена во взглядах и составляет арку (дугу) персонажа. Герой в ходе вашей истории проводит “работу над ошибками”. Иногда у него попросту меняется характер – не все так очевидно, скажем, в драме. Был трусливым, но добрым, стал решительным, но бесчеловечным (“Крестный отец”). Кстати, в комедии главный герой, как правило, статичен. Там как раз все построено на том, что герой не меняется в истории. Ситком – жанр, в котором вообще никто не меняется (самый яркий пример – “Теория Большого взрыва”; впрочем, доктор Шелдон Купер к последним сезонам все же серьезно меняется, а вот остальные герои – нет). Есть люди с определенными комическими перспективами, которые очень болезненно сталкиваются при их тесном соседстве. И вся прелесть ситкома, что в каждой серии набор этих угловатых персонажей больно и со звоном бьется в кадре к удовольствию зрителя»[232].
Небольшое отступление. Писатели и алкоголь
Я алкоголик с писательской зависимостью[233].
Б. БиэнФраза «Пиши пьяным, редактируй трезвым», которую ошибочно приписывают Хемингуэю, сбила с пути не одного молодого писателя. Автор «Прощай, оружие!» и других великих книг действительно много пил. Энтони Бёрджесс, автор знаменитого «Заводного апельсина» и биограф Хемингуэя, писал: «Управляющий отелем Gritti Palace рассказал мне, что три бутылки “Вальполичеллы” после завершения рабочего дня были для Хемингуэя лишь мягким стартом. Затем Хемингуэй переходил на дайкири, скотч, текилу, бурбон или мартини. За свое пристрастие Хемингуэй расплачивался здоровьем»[234]. Почему пил Хемингуэй? Вот его ответ: «Я пью, чтобы окружающие становились интереснее»[235]. И еще: «Мужчина не мужчина, пока он не пьян»[236]. Сам папа Хэм признался незадолго до смерти, что алкоголь убивает карьеру писателя.
О вреде алкоголя высказывался и Фицджеральд: «Сначала ты пьешь алкоголь. Потом алкоголь пьет алкоголь. Потом алкоголь пьет тебя»[237]. Фицджеральд боролся с зависимостью, о чем писал редактору Максу Перкинсу: «С первого февраля по первое апреля подчиняю жизнь сухому закону, только не говорите об этом Эрнесту [Хемингуэю]: для него я такой же законченный алкоголик, как для меня Ринг Ларднер[238], – мы ведь почти всегда встречаемся на попойках и вечеринках; не надо его разочаровывать, хотя он и мог бы понять, что даже рассказик для “Пост” можно сочинить лишь на трезвую голову…»[239]
Фразу, ставшую эпиграфом к этой главе, произнес ирландский писатель и журналист Брендан Биэн. «Я алкоголик с писательской зависимостью» – так могли бы сказать о себе многие писатели: фраза обрела бессмертие, а Биэн прожил лишь сорок один год. Другой знаменитый пьяница, Эдгар По, едва дотянул до сорока. После смерти второй жены трезвым его видели редко. Современники обвиняли писателя «в самом что ни на есть неанглийском поведении»[240] – подвыпивший По мало походил на джентльмена. Марк Брайен назвал его образ жизни «писательской школой Эдгара По: “Живи в мучениях, умри в канаве без гроша”»[241].
Сильно пьющий Сергей Довлатов писал: «Я пью только вечером… Не раньше часу дня»[242]. Неисправимым алкоголиком прослыл «похабник и скандалист» Сергей Есенин. Джек Керуак говорил: «Я католик и не могу прибегнуть к самоубийству. Но я планирую допиться до смерти»[243]. Он умер от цирроза печени в 47 лет. Еще один знаменитый пьяница Хантер Томпсон говорил так: «Я ненавижу защищать наркотики, алкоголь, насилие и безумие, но они всегда работали на меня»[244]. А когда однажды журналист упомянул, что все писатели, которых он интервьюировал, жаловались на неспособность писать под воздействием алкоголя или наркотиков, Томпсон резко парировал: «Они бессовестно лгут. Или вы беседовали с очень узким кругом авторов. Это все равно что сказать: “Все без исключения женщины, которых мы проинтервьюировали, признались, что никогда не участвовали в сексуальных оргиях, не упомянув, что вы брали интервью только у верующих монашек”»[245].
Томпсон ухитрился дожить до 67 лет… чтобы покончить с собой. Другой знатный пьянчуга Чарльз Буковски говорил так: «Я просто алкоголик, ставший писателем только затем, чтобы валяться в постели до полудня»[246]. А потом, спустя какое-то время, признавался: «…Затем лет семь или восемь я писал очень, очень мало. Запой у меня был тот еще. В итоге я оказался в благотворительной больничной палате с дырами в животе, рыгал кровью, как водопад. В меня без остановки перелили семь пинт – и я выжил. Сейчас я уже не тот, каким был раньше, но снова пишу»[247].
Да, многие писатели пили, пока писали романы. Но к чему это привело? Статистика неутешительна: в 2011 году в сетевом издании Slate вышел материал об алкогольной зависимости писателей. В нем приводится любопытная статистика: 71 % выдающихся американских писателей XX века по меньшей мере заигрывали с алкоголем[248]. Речь о США, где 8 % населения – алкоголики.
О вреде алкоголя лучше других высказался Виктор Пелевин. Кстати, писателя постоянно обвиняют, что он принимает психоделические вещества и злоупотребляет алкоголем: якобы в его книгах описаны такие состояния, пережить которые мог разве что законченный наркоман. Да, в молодости Пелевин не брезговал водкой – но с возрастом отказался от алкоголя и теперь не пьет ничего крепче зеленого чая. Дадим же ему слово:
«Большинство моих друзей, да и я сам, давно поняли, что самый сильный психоделик – это так называемый чистяк, то есть трезвый и достаточно дисциплинированный образ жизни. Тогда при некоторой подготовке снимается проблема непримиримого противоречия между трипом и социальной реальностью. Понимаешь, что есть только трип между прошлым и будущим, именно он называется жизнь»[249].
«Я не курю и не пью, и считаю, что в химию мозга не следует вмешиваться напрямую, во всяком случае, на постоянной основе, это ведет только к зависимости от химикатов и не решает ни одной человеческой проблемы. Наркотики вообще способны решать только те проблемы, которые перед этим создают сами. И потом, что это значит: “расширение сознания”? У сознания нет таких характеристик, как длина или ширина, сознание не надо расширять или углублять, я думаю, что его надо постепенно очищать, а для этого наркотики не просто бесполезны, они вредны. Человеческое тело само выработает всю нужную химию»[250].
«Психоделический опыт меня уже не интересует. Трезвость гораздо более сильный наркотик»[251].
«Скажу о наркотиках. В молодости со мной всякое бывало… Но я уже давно не употребляю наркотиков. Единственный стимулятор в моей жизни – это китайский чай. Я научился ценить простое, ясное и трезвое состояние ума. Мне никуда из него не хочется уходить, это мой дом, мне в нем хорошо и уютно. Я много лет не пью и не курю. Для меня принимать наркотики или психотропы – это примерно как зимой раздеться догола, выйти на улицу и побежать куда-то трусцой по слякоти. Теоретически говоря, можно такое проделать, организм выдержит, но ничего привлекательного в такой прогулке я не вижу и никаких озарений от нее не жду»[252].
«Наркотики я не люблю. Это как прыгать в колодец, чтобы насладиться невесомостью, – рано или поздно наступает минута, когда самые интересные переживания кажутся не стоящими, так сказать, процентов по кредиту. С наркотиками эти проценты очень большие, даже если кажется, что их совсем нет. Человек просто не всегда понимает, как и чем он платит»[253].
А вот что думает Харуки Мураками. В молодости писатель много пил и выкуривал по две пачки сигарет в день, но с возрастом понял, что это не дело…
В общем и целом я готов согласиться с мнением, что писательский труд – занятие нездоровое. Когда писатель приступает к работе и начинает воплощать свой замысел в тексте, выделяется некое токсичное вещество, которое у других людей – а оно есть в каждом – спрятано глубоко внутри. Писатель, осознавая всю серьезность ситуации, вынужден иметь дело с этим опасным веществом, а иначе ни о каком подлинном творчестве не может быть и речи. (Позволю себе несколько странную аналогию с рыбой фугу, мясо которой тем вкуснее, чем ближе к ядовитым частям. Возможно, это внесет некую ясность.) Короче, как ни крути, а писать книги вредно для здоровья. ‹…›
Чтобы заниматься работой, столь вредной для здоровья, нужно быть исключительно здоровым человеком. Это мой девиз. Другими словами, нездоровый дух нуждается в здоровом теле. Парадоксальность этой сентенции я не перестаю ощущать на своей шкуре с тех пор, как стал «профессиональным» писателем. «Здоровый» и «вредный для здоровья» совсем не обязательно находятся на разных концах спектра. Они не противостоят друг другу, а, наоборот, друг друга дополняют, а иногда даже действуют сообща. Вполне естественно, что если кто-то решил вести здоровый образ жизни, он будет думать только о том, что полезно для здоровья. А тот, кто не собирается вести здоровый образ жизни, – о том, что вредно для здоровья. Но с таким однобоким взглядом на мир вы никогда ничего не добьетесь.
Некоторые писатели, создав в молодости значительные, прекрасные произведения, с возрастом вдруг обнаруживают, что наступило творческое истощение. Это довольно метко обозначают словом «исписаться». Новые работы этих авторов могут быть по-прежнему хороши, но всем очевидно, что их творческая энергия иссякла. Полагаю, это происходит потому, что им не хватает сил, чтобы противостоять воздействию токсинов. Физические возможности, которые поначалу позволяли справляться с ядом, в какой-то момент, достигнув своего предела, потихоньку пошли на убыль. Писателю становится все труднее работать интуитивно и стихийно, потому что равновесие между силой воображения и физическими способностями, необходимыми для поддержания этой силы, нарушено. Тогда писатель с помощью наработанных за долгие годы приемов продолжает писать как бы по инерции – и оставшейся энергии хватает лишь на то, чтобы придать тексту форму литературного произведения[254].
Вот и писатель Джон Ирвинг как-то заметил, что Хемингуэй и Фицджеральд написали свои лучшие вещи в молодости (до тридцати лет), а потом «промариновали [алкоголем] мозги» и «…тела [отравленные алкоголем] предали их»[255]. Подводит черту Кормак Маккарти (писателю хорошо за восемьдесят, и он уже почти двадцать лет не употребляет спиртного): «Многие мои друзья тех [бурных] времен уже умерли… И теперь я дружу только с теми, кто не пьет»[256].
Идеальная сцена
Писатель должен быть участником сцены, которую пишет[386].
Х. ТомпсонФормула такова: любая удачная сцена – это желание, действие, конфликт и изменение. Вот шпаргалка, которая поможет написать идеальную сцену. Вновь обратимся к книге Джона Труби «Анатомия истории»: прежде чем приступать к работе над новой главой своего романа, попробуйте ответить на предложенные им вопросы.
1. Позиция в развитии героя: способствует ли сцена развитию героя? Если нет, ее можно смело выкинуть.
2. Проблемы героя: какие проблемы могут возникнуть в этой сцене? Как они могут помешать герою достигнуть цели?
3. Стратегия: что поможет герою решить возникшие проблемы, как он будет их решать?
4. Желание: какое желание – героя или чье-то еще – двигает сцену? Если никто ничего не хочет, выкидывайте сцену.
5. Точка выхода: чем заканчивается сцена? Здесь важно последнее слово или последнее предложение – оно тянет за собой следующую сцену.
6. Оппонент: кто противостоит желанию? Есть ли конфликт? Если нет конфликта – выкидывайте сцену.
7. План: как герой хочет достичь цели? Прямо (герой провоцирует конфликт) или косвенно (герой пытается одурачить антагониста, не заявляя прямо о своей цели, что позже может привести к еще большему конфликту)?
8. Конфликт: кто или что препятствует герою в достижении цели?
9. Неожиданный поворот или откровение. Старайтесь удивить и аудиторию, и героя тем, что происходит в сцене.
10. Ценности: какой урок герой выносит из сцены?
Советы писателям. Джеймс Паттерсон
1. Превратите каждую страницу вашего повествования в полноценный, независимый триллер.
2. Я стараюсь, чтобы на каждой странице происходило что-то волнующее. Если ничего не происходит, я выкидываю эту страницу.
3. Делайте то, что любите. Неважно, что говорят другие. Мой учитель английского в школе сказал, что мне надо бросить писать. Мой первый роман завернули 37 издательств. А потом он получил престижную награду Edgar Award[257].
4. Я очень рад, что чужие замечания не вынудили меня сдаться. Теперь я счастлив. Потому что, насколько я вижу, мои читатели тоже счастливы. Я знал, что мой первый роман хорош. И его в конечном счете опубликовали.
5. Теперь у меня есть работа, которую я даже не воспринимаю как работу. Это всегда было волнующим путешествием – ежеминутным, ежедневным. И это путешествие продолжается.
6. Доверяйте своей интуиции, но окружите себя умными людьми, которых вы уважаете.
7. Я знаю своих читателей. Знаю, как заставить их читать. Как их испугать до смерти. Как заставить их полюбить моих персонажей. Как заставить смеяться.
8. Работайте только с теми, кто вам нравится.
9. У меня аллергия на писательский блок. Лучше пробовать, переключаться, прописывать новые сцены, чем застрять на одной и не двигаться с места.
10. Наша с вами задача приучить детей к чтению. Это не задача учителей. Дайте детям книгу, которая их зацепит и вдохновит[258].
Джеймс Паттерсон – самый высокооплачиваемый писатель США по версии Forbes USA[259]
Как писать диалоги?
Пожалуйста, избегайте диалога, если можно обойтись жестом[260].
Ч. ПаланикПочему диалоги так важны? C их помощью вы раскрываете характер героев и двигаете сюжет. Речь уникальна, как отпечатки пальцев. Уверенный в себе мужчина говорит четкими, короткими фразами. Неуверенный студент на экзамене сбивается и мямлит. Ребенок говорит не так, как пожилой человек. Врач – не как продавец книжного магазина. Геймер – не как модельер. Речь персонажей помогает показывать историю, а не рассказывать ее. Правильно выбранные реплики, сленг, повторяющиеся, «дежурные» слова и выражения создают у читателя в голове объемный образ, а воображение его достраивает. Обратимся к Чехову, мастеру короткого рассказа, гению пьес и жизненных зарисовок. Отрывок из пьесы «Вишневый сад»:
Варя: Что же ты не спишь, Аня?
Аня: Не спится. Не могу.
Гаев: Крошка моя. (Целует Ане лицо, руки.) Дитя мое… (Сквозь слезы.) Ты не племянница, ты мой ангел, ты для меня все. Верь мне, верь…
Аня: Я верю тебе, дядя. Тебя все любят, уважают… но, милый дядя, тебе надо молчать, только молчать. Что ты говорил только что про мою маму, про свою сестру? Для чего ты это говорил?
Гаев: Да, да… (Ее рукой закрывает себе лицо.) В самом деле, это ужасно! Боже мой! Боже, спаси меня! И сегодня я речь говорил перед шкафом… так глупо! И только когда кончил, понял, что глупо.
Варя: Правда, дядечка, вам надо бы молчать. Молчите себе, и все[261].
Так пишут гении. А как же выкрутиться тем, кто делает лишь первые шаги в написании художественной прозы? Первое, что стоит запомнить: диалоги не копируют живую речь. Они создают иллюзию речи, но любая фраза героя, кажущаяся спонтанной, должна быть тщательно выстроена. Все потому, что стенограмму повседневной речи не вставишь в роман. Проделайте эксперимент: запишите на диктофон разговор с друзьями, в котором вы эмоционально обсуждаете нечто важное. А потом расшифруйте – прослушайте запись и запишите все дословно. Прочитайте. Ужасно, согласитесь.
«Диалог напоминает куст розы – лучше всего выглядит, когда подстрижен. Я бы посоветовал переписывать его так долго, пока не удастся его предельно сократить. Естественно, после такой операции он не будет иметь ничего общего с подлинной разговорной речью, но это и к лучшему. Читатель абсолютно не нуждается в подлинных разговорах, он жаждет обмена фразами, которые будут раскручивать фабулу», – пишет Найджел Воттс («Как написать повесть»)[262].
«Стрижка» устной речи – прямая обязанность писателя. Живая речь – это повторы, заминки, а то и полная невнятица. Я журналист и подготовил за свою жизнь множество интервью. Каждый раз схема работы одинакова: подготовить вопросы, провести интервью, расшифровать беседу – то есть перенести на бумагу. И финальный этап – переписывание текста заново: редактор облагораживает речь интервьюируемого, чтобы он не запинался и не повторялся. Переписывает, чтобы увлечь читателя, но при этом не меняет смысл сказанного. Ищите ритм беседы и правильные слова. Как их отыскать, эти слова? Вам станет проще, если запомните три функции разговорной речи в прозе.
Функция 1: движение действия к финалу
Герои говорят не просто так – они двигают историю к финалу. У новичков создается обманчивое впечатление, что писать диалоги несложно. Отсюда – уйма диалогов, не относящихся к идее произведения. Герои просто разговаривают. О погоде. О текущей политической ситуации. О минувших выходных на даче. В прозе такое «простое говорение» – признак слабого пера.
«Как правило, диалоги в романе воспринимаются легче всего, но лишь до тех пор, пока они служат развитию сюжета», – напоминает Энтони Троллоп, английский писатель, один из наиболее успешных и талантливых романистов Викторианской эпохи[263].
Если тема беседы напрямую относится к идее или теме произведения (герои говорят о погоде, потому что накануне произошло очередное убийство, но следы на месте преступления смыло дождем, и это затрудняет поиск маньяка) – пусть эта беседа будет в тексте. Если же герои говорят о погоде, потому что о погоде говорим временами мы с вами, чтобы заполнять возникающие паузы, – такие диалоги следует беспощадно вырезать.
Функция 2: информирование
Да, вам необходимо дать читателю дополнительную информацию о мире произведения или о герое – его прошлом, его характере, обо всем, что важно для понимания образа героя. Но это коварная ловушка. В стремлении создать дополнительный объем или похвастаться собранными в процессе работы над текстом знаниями начинающие авторы часто вкладывают в уста героев много лишних деталей и заставляют их говорить настолько неестественно, что даже живая речь (которая, как было сказано выше, совсем не то же самое, что диалоги в художественной прозе) звучала бы фальшиво. Писатель и редактор Лидия Чуковская приводит прекрасный пример, как не надо делать:
– Я так волнуюсь, дорогая Ниночка, – говорила мама. – В открытом море шторм; кажется, уже все рыбаки вернулись, а он там. Это ужасно!
– Успокойтесь, Екатерина Николаевна… – ответила тетя Нина. – Ваш Игорь Владимирович опытный, смелый капитан. Он дал обязательство ловить рыбу в любую погоду. А слово у него твердое. Вы и сами знаете, к его судну прикреплен кунгас. Только накануне он взял в море у сейнера двести шестьдесят центнеров рыбы. Это же целая гора! Вот Игорь Владимирович и не захотел порожняком возвращаться.
«Вы и сами знаете…» В том-то и дело, что Екатерина Николаевна наверняка и безо всякой тети Нининой подсказки знает и про кунгас, и про обязательство, и про 260 центнеров рыбы. Это не разговор, а сплошное притворство: не станет тетя Нина сообщать Екатерине Николаевне известные той цифровые данные, да еще в такую тяжелую для ее подруги минуту. Тут впору подбодрить человека искренним участием, а в словах тети Нины, хотя она и начинает свою речь восклицанием «успокойтесь», больше холодного треска, чем сочувствия…[264]
Функция 3: речевая характеристика
Деревенский житель расскажет о планах на выходные не так, как подросток. Договариваясь о вечеринке, молодые герои употребят молодежный сленг. Продвинутый подросток скажет: «Го бухать. Сегодня винишко-тян пати». Упомянутый сельчанин скажет иначе: «Вот и пятница. А не хряпнуть ли нам по чекушке?» (Художественные достоинства этих умозрительных примеров мы не рассматриваем.) Если деревенский житель вдруг выдаст: «Го бухать», в голове у читателя возникнет определенный образ. Такая реплика в устах старика возможна, если дедушка, приехавший из деревни, подцепил модные словечки у подростка-неформала. Вы говорите себе: «Надо же, продвинутый дед». Заметьте, ассоциации у вас возникли всего лишь после двух слов, произнесенных человеком определенного возраста и социального слоя.
Составьте словарик реплик и слов, характерных для тех людей, которых вы описываете. Как разговаривают подростки? А маленькие дети? А военные? Какой сленг у юристов? А у программистов? Все время от времени употребляют сленговые выражения. Ваша задача как писателя – уловить интонации, характерные обороты, речевые особенности и передать их в тексте. «Но как разговаривают эльфы?» – спросите вы. Придумайте. Сделайте их речь убедительной. Если читатель верит написанному – он проникается текстом.
Писатель Алексей Иванов – мастер воссоздания устной речи. Прочтите «Ненастье», и вы буквально провалитесь в повествование, следя за репликами «афганцев». Как писателю удалось так точно воспроизвести надломленные характеры людей, вернувшихся с афганской войны? Вот отрывок из романа:
Басунов слушал и наблюдал. Ему приятно было видеть, какую большую и неустранимую помеху он собою создает для работы этих теток-дежурных.
– Долго вы тут будете? – все поняв, спросила старшая тетка.
– Сколько потребуется.
– Мне надо сообщить по смене и начальнику дистанции, – сказала старшая диспетчерша. – У меня шесть поездов на линии. Это серьезно.
– У нас тоже серьезно, – ответил Басунов.
– Не трогай нигде, дебил! – крикнула младшая тетка Дудоне, который повертел пластмассовый переключатель с подписью «снятие извещения».
– Дадите полчаса на блокировку хода? – снова спросила старшая тетка.
Она быстро и умело переключилась на режим чрезвычайной ситуации.
– Мы ничего не делаем и ничего не приказываем, – пожал плечами Басунов. – Мы просто так пришли. Делай, чего хочешь.
Диспетчерша взяла с пульта телефонную трубку.
– Двенадцать, полста семь, говорит Ненастье, – сказала она. – У нас ЧП. Станцию и пост заняли какие-то люди в военной форме. Их много.
Басунов наклонил голову, слушая. В трубке что-то горячо поясняли.
– Ясно. Ясно. Да, – тетка кивала. – Понятно. Нет. При них работать нельзя. Они тут везде ошиваются, кто знает, что у них в мозгах? Которые в посту – вроде трезвые. Нет, неуправляемые. Нет, невозможно. Без гарантий.
Басунов слегка прижмурился в глубоком удовлетворении.
– Перекрываем все движение по магистрали, – положив трубку на пульт, сообщила старшая диспетчерша. – Это вам было надо, парни?
– Мы только погулять вышли, женщина, – улыбнулся Басунов[265].
А вот что говорит об этом сам писатель: «Я всегда специально погружаюсь в разговорную среду той или иной социальной страты. Можно разговаривать с “носителями языка” самому, просто присутствовать и слушать, читать специфические форумы. Обычно я, когда задумываю роман, сразу начинаю составлять себе словарь из слов и выражений для той или иной группы. Иногда это словари из живой речи (по личным впечатлениям, по чтению спецлитературы или форумов), иногда – выборки из уже существующих словарей. У меня есть словари для “церковной” речи, блатной речи, молодежного сленга, речи петровской эпохи, речи начала ХХ века, канцеляризмов, речи программистов и любителей сетевых игр, речи профессиональных водителей и автотехников, речи школьников советского времени (по воспоминаниям), речи чиновников, словари терминов артиллерии, корабельного дела, картографии, бизнеса, архитектуры и так далее.
Речь железнодорожного диспетчера для “Ненастья” я послушал вживую в диспетчерской, а диспетчерский щит нашел в интернете и изучил, как он выглядит и что на нем написано.
Услышать речь военных вообще можно без проблем: выпил с кем-нибудь – и понеслись рассказы о подвигах, только успевай записывать идиомы. Вообще речь афганцев из “Ненастья” – это речь быдла: выражения, манера говорить, шутки. Наработав определенный багаж, можно и самому сочинять в том же духе. Например, есть быдлячьи выражения “объясню через печень”, “выговор с занесением в грудную клетку”, и я придумываю подобное: “Не дрожи мозгом!” – говорит Серега Лихолетов. Для такой технологии нужно чувство языка, понимание устройства культуры данного сообщества и чувство меры. Но о каждом отдельном случае надо рассказывать отдельно»[266].
Еще один показательный пример – диалог из романа Андрея Рубанова «Финист – ясный сокол»:
– Ромеи – сказал Митроха, – живут за морем, на краю земли. Они не как мы. Вообще другие. Они верят, что бог един.
– Дурень ты, – печально сказал Кирьяк. – А я думал, серьезный мужик. Если бог – един, кого он ёт?
– Никого не ёт, – ответил Митроха.
– И как же он без бабы обходится? Вынимает причиндалы и сам себя тешит?
– Нет у него причиндала.
– У бога – нет причиндала?
– Нет. Но сын есть.
Кирьяк обвел меня и Митроху соловыми глазами.
– Хорош бог. Никого не ёт, причиндала нет, а сын есть!
– Да, от целкой бабы. Из смердов.
– Из смердов? Что ж он за бог, если поял простую бабу? А мог бы княжью жену или дочку! Да кого угодно!
Митроха поднял ладони в мирном жесте.
– Это вера ромеев. Они думают, что бог не сам поял ту бабу. Бог пустил особый ветер, и от того ветра невинная девка понесла божьего сына. Имя его – Крест. Он умер, а потом восстал из мертвых.
– Восстал из мертвых? Так он упырь, что ли?
– Не упырь. Божий сын.
– Ты сам-то веришь в такое? Сидит один бог – и воет от тоски. Поять некого! Поговорить не с кем! Единственный сын – и тот упырь!
– Он не упырь, а сын бога.
– То есть нелюдь.
– Нет. Человек.
– Ничего не понимаю, – недовольно сказал Кирьяк. – То ли нелюдь, то ли человек, то ли упырь. От ветра зачат. Такое придумать – браги мало, тут чего покрепче надо…[267]
Когда вы определитесь со словарем и решите для себя, какие диалоги лишние, а какие нет, следует перейти к другой важной теме – последовательности реакций. А она всегда неизменна:
Чувство → Действие → Речь.
Рассмотрим это на простом примере. Вы идете по темной улице. Вокруг никого. Навстречу идут три незнакомца. Они все ближе и ближе. И вот один отделяется от группы и, подойдя к вам вплотную, дерзко требует:
– Дай закурить.
Что происходит с вами? Сначала вы чувствуете страх (или прилив адреналина – допустим, вы каратист и в случае чего раскидаете противников по обочине). Вторая фаза: вы готовитесь драться, перенося вес на одну ногу (это подготовительное действие). Вы нанесете удар первым, если потребуется. Наконец, вы говорите:
– Я не курю.
В описанной последовательности может не быть действия: вы ощутили прилив уверенности в себе и смело ответили. Может не быть и ответа: вы почувствовали силу и сразу дали хулигану в нос. Или же вы ничего особенного не почувствовали (на этой улице вечно так, вы уже привыкли) и, сделав шаг вперед, сказали, что не курите.
Все начинается с чувства. Затем идет жест (движение). И, наконец, герой что-то говорит. Только так – и никак иначе. Об этом упоминал и Алексей Толстой:
Древние люди для своего обеспечения собирались стаями на случай того, если нападет какой-нибудь саблезубый тигр или явится мамонт. Если видели мамонта… Что делал в таких случаях главный вожак? Он начинал жестами показывать в ту сторону, потом вслед за жестами шли хриплые звуки, которые подтверждали жест, но главным был жест, была мимика, причем жест шел от внутреннего движения его мускулов, которые, в свою очередь, шли от внутреннего движения его психики. Это все неразрывно – связано психическое состояние человека, вплоть до химического состава тела и его выделений, – все это связано с жестом. Затем идет крик, этот крик постепенно оформлялся музыкально, и получалось какое-то слово, звук, например: солнце, соль… Потом из этих слов начали складываться короткие фразы. Но предшествовал всему этому жест, неразрывно связанный с психическим состоянием человека. Народный язык был основан на этом жесте.
Если человек находится в радостном состоянии, у него одни жесты, один строй речи. Пусть одну и ту же мысль высказывают – один веселый человек, другой грустный, убитый горем человек, третий испуганный, а четвертый – пьяный человек. Вы посмотрите: одну и ту же мысль каждый из них выскажет совершенно другим строем речи, причем предшествовать этому строю речи будут совершенно другие жесты. ‹…›
Вот вы описываете человека в какой-то момент вашего рассказа. Вошел кто-то в комнату. Как надо его описать? Вы не будете говорить о том, что у него такой-то галстук, две ноги, две руки, один нос. Это все не нужно. Вам нужно увидеть главное: душевное состояние этого человека, которое характеризуется жестом, и жест этот подсказывает вам глагол. “Вошел взволнованный человек”. Вы говорите: “Вошел человек, который ерошил волосы”. Это сразу даст вам определение того основного, что вы хотите сказать об этом человеке. Или: “Вошел человек, который отвертывал себе пуговицу”. Значит, что-то происходит в нем. Иногда достаточно одного этого движения, чтобы дать характеристику. Нужно главным образом искать это психологическое движение, чтобы персонаж сам говорил о себе языком своих жестов[268].
Закройте глаза. Какой жест выдает волнение? А раздражение? Как проявляется злость? Как увидеть любовь? Резюме: появляется «в кадре» человек – всегда первичен его жест:
За этим порядком [чувство, действие, речь] скрывается тот факт, что человек не волен в своих чувствах. Вы не решаете – сейчас я почувствую то-то и то-то, вы просто чувствуете. В свою очередь, действие до определенной степени контролируемо. Что же касается речи, она почти под абсолютным контролем.
Таким образом, речь требует работы мысли, определенной организации. Требования к действию ниже – часто жест спонтанен, почти инстинктивен. Представьте себе: внезапно появляется ваш старый друг. Вы удивлены, но все-таки обнимаете его. К вашему ребенку несется машина. Вы бежите к нему – крик застыл в горле. Или вы приезжаете на собеседование. Вам важно, что с вами будет, и у вас уже есть чувства – неловкость, досада, будто вас изучают, как букашку под микроскопом. В глазах менеджера по персоналу – ни тени участия, он не предлагает вам присесть. Просто откидывается в кресле и мерит вас холодным, презрительным взглядом.
– Вы кто? – наконец спрашивает он.
Его тон – да и вся обстановка, если уж на то пошло, – для вас как ледяной душ. И хотя вы знаете, на что способны, вас захлестывает паника. Паника – это чувство.
Как по волшебству, ваши ладони становятся липкими от пота, пот течет по спине, подмышки делаются мокрыми. Вы крутите шеей – воротник внезапно становится тесен, вы ежитесь – одежда будто мала. Вы задыхаетесь.
Все это действия.
– Я… я… – бормочете вы.
– Молодой человек, я спросил ваше имя…
Опустим занавес и будем считать, что объяснили: чувство предшествует действию, а действие – речи. И, конечно, мотивирующий стимул предшествует реакции персонажа[269].
Раз уж мы заговорили о том, что из диалогов можно и нужно вычеркнуть, затронем еще одну тему. Живая речь – не пинг-понг. Вот что по этому поводу говорит Чак Паланик: «Пожалуйста, избегайте принципа “подача – отбивка” в диалоге, когда персонажи отвечают именно и только на те вопросы, которые им задают»[270].
Три уровня диалога
С психологией построения речи и структурой диалога разобрались. Теперь поговорим об уровнях диалога. Что это такое? Герои используют разговорную речь для:
● передачи информации: «Я ходил в магазин и купил буханку хлеба».
● выражения эмоций: «Ой, не могу!», «Ай-ай-ай!».
● просьб и распоряжений: «Сядь на стул и слушай меня».
«Есть три типа диалогов: описательный, инструктивный и выразительный. Описательный: “Солнце поднялось высоко”. Инструктивный (поучительный): “Иди шагом, бежать нельзя”. Выразительный: “Ой!” Большинство писателей применяют один, от силы два типа. Хотите быть круче всех – используйте все три. Перемешивайте их. Так разговаривают нормальные люди», – объясняет Чак Паланик[271]. И действительно, в плохих романах диалоги чрезвычайно бедны. Герои не разговаривают. Они обмениваются информацией. Вот небольшая зарисовка: представьте себе встречу двух подруг:
– Как прошел день?
– Я пошла в магазин. Встретила бывшего. Мы говорили. Ничего интересного. О том о сем. Немного о нас.
– А я дома сидела. Целый день. Мне на все наплевать.
– Я тебя понимаю. У меня тоже депрессия… Потом приехала мать, и мы долго говорили, что ей пора на рентген. Несколько часов унылого нытья. А когда все закончилось, поехала в клуб.
– И как там было? Я не пошла.
– Скучно. Все напились. Под утро вырубился свет, и мы разошлись.
Вот и нам скучно. Героини обменялись информацией. А что они при этом чувствовали – непонятно. Как быть? Добавьте так называемую атрибуцию диалогов – авторское обозначение принадлежности слов герою («сказал такой-то», «заметила такая-то»). Если вы посмотрите на пример выше, на беседу двух подруг, то увидите – он плох не только тем, что в нем используется только один тип общения (обмен информацией), но и потому что автор не дал дополнительных подсказок о том, как проходит это общение. А значит, у вас в голове не возникает нужных образов. Вы не видите кино. Можно ли было бы оживить упомянутый выше фрагмент? Несомненно. Вот та же зарисовка, но с атрибуцией:
– Как прошел день? – спросила Маша, облокотившись о стол.
Оля пожала плечами.
– Я пошла в магазин. Встретила бывшего. Мы говорили. Ничего интересного. О том, о сем. Немного о нас.
Оля достала сигарету из пачки и с трудом прикурила. Маша, казалось, не замечала, что подруга дрожит.
– А я дома сидела. Целый день. Мне на все наплевать.
Оля кивнула. На ее лице появилась вымученная улыбка.
– Я тебя понимаю. У меня тоже депрессия… А потом приехала мать, и мы долго говорили, что ей пора на рентген. – Оля судорожно вздохнула. – Несколько часов унылого нытья. А когда все закончилось, поехала в клуб.
– И как там было? Я не пошла.
Оля махнула рукой:
– Скучно. Все напились. Под утро вырубился свет, и мы разошлись.
Она раздавила о блюдце окурок. И щелчком отбросила его в темноту.
Чувствуете разницу? Повторюсь, сейчас мы не оцениваем художественную ценность приведенного фрагмента, тем более что в нем по-прежнему используется лишь один тип общения – повествовательный. Я лишь показываю, как атрибуция диалогов влияет на восприятие текста.
Все тот же Чак Паланик замечает: «Вы довольно быстро поймете, как важна атрибуция в диалоге… Для меня атрибуция – один из самых необходимых инструментов. Надо при каждой реплике указывать, кому принадлежат слова»[272]. «При каждой» – возможно, и перебор, но инструмент это действительно полезный.
Чего стоит по возможности избегать в атрибуции диалогов, так это наречий. Если применять их бездумно и неумело, это выходит боком. Значит ли это, что надо вымарывать из текста все без исключения наречие? Конечно же, нет. Ни один художественный текст не выживет без наречий – образ действия расцвечивает действие. Но вот в атрибуции диалогов с наречиями стоит обращаться осторожно. Примеры неудачного использования наречий в атрибуции (это один из любительских романов, опубликованных в сети):
«И у меня тоже кончилось все», – тоскливо уверен, но не так безрассуден, Старче.
«Слесарь, – обзывающе произношу я. – Зачем она тебе?»
«Что с тобой, бедный?» – искренне озаботился я.
«Что-о?» – простодушно удивился я поэтическим галлюцинациям Ники.
«Через сто двадцать семь часов», – мечтательно струился Старче.
«Я пью за вас, друзья мои», – величаво произнес Ника.
Помните главное правило хорошей литературы? Не рассказывайте. Показывайте. Использование наречий – признак писательской лени. Сравните сами два варианта:
– Я люблю тебя, – искренне сказала она.
Или:
– Я люблю тебя. – сказала она. Бросилась мне на шею и начала целовать, задыхаясь от нахлынувших чувств.
Вы вкладываете в уста героя слова и подкрепляете действием. Герой оживает.
Я считаю, что дорога в ад вымощена наречиями, и готов кричать об этом на стогнах. Если сказать по-другому, то они вроде одуванчиков. Один на газоне выглядит и симпатично, и оригинально. Но если его не выполоть, на следующий день их будет пять… потом пятьдесят… а потом, братие и сестры, газон будет полностью, окончательно и бесповоротно ими покрыт. Тогда вы поймете, что это сорняки, но будет – увы! – поздно…
Есть писатели, которые пытаются обойти это правило исключения наречий, накачивая стероидами сами атрибутивные глаголы по самые уши. Результат знаком любому читателю криминального чтива в бумажных обложках.
– Брось пушку, Аттерсон! – проскрежетал Джекил.
– Целуй меня, целуй! – задохнулась Шайна.
– Ты меня дразнишь! – отдернулся Билл.
Пожалуйста, не делайте так. Умоляю вас, не надо. Лучшая форма атрибуции диалога – «сказал», вроде «сказал он», «сказала она».
Стивен Кинг «Как писать книги»[273]Не слишком ли много правил? – спросите вы. Но вы ведь помните: самое главное правило – нет никаких правил. Нужны наречия или нет, решать вам. Просто не забывайте, что диалоги – отличный маркер качества всего текста. Редактор читает диалог и видит там – «…обзывающе произношу я». И закрывает файл с текстом.
И последнее о диалогах – проговаривайте их. Так написанное станет звучать как «живая» речь. «Живая» в кавычках – потому что, напомним, подлинную живую речь в роман не вставишь, в ней много лишнего и несовершенного. «Для проверки диалога стоит его прочитать вслух, а еще лучше – попросить кого-то прочитать вам, и очень хорошо, если это будет человек с актерскими способностями. Обратите внимание, не возникнут ли у читающего проблемы с построением фраз или идиомами. Не все, что писалось легко, можно так же легко прочитать», – пишет Найджел Воттс[274]. Подводит итог Чак Паланик, рассказывающий о пользе писательских мастер-классов и семинаров: «Читая вслух, вы слышите каждое неудачное решение в вашем тексте. Вы слышите, где падает темп и теряется энергия. Где у вас все расплывчато. Или где вы поторопились вставить банальные фразы-клише. Вы слышите, что там, где должно было быть смешно, ваши коллеги-писатели не смеются, или вздыхают, или ворчат – вот это и есть подлинная обратная связь мастер-классов. Как и непроизвольное аханье, и быстрое, прерывистое шмыганье носом, когда человек изо всех сил старается не заплакать»[275].
Напоследок – небольшая шпаргалка для оценки качества ваших диалогов:
1. Двигает ли диалог сюжет?
2. Употребляю ли я слова, характерные для речи тех людей, которых я описываю?
3. Прибегаю ли я к атрибуции диалогов?
4. Употребляю ли я атрибутивные глаголы («проскрежетал он» вместо «сказал он»)? Если да, могу ли я заменить атрибутивный глагол?
5. Есть ли наречия в атрибуции?
6. Использую ли я все три уровня речи?
7. Хорошо ли звучит диалог, когда я читаю его вслух?
Дмитрий Быков. Как писать диалоги
«Чем дольше живешь, тем отчетливее понимаешь, что речь – способ уходить от действия. В России, стране логоцентричной, – то, что сказано, уже как бы и сделано».
«Диалог – способ непрофессионального писателя раскрыть душевную жизнь героя, показать его мысли или избежать действия. Все выбалтываются и ничего не делают. Настоящая жизнь в литературном произведении не состоит из болтовни».
«Горький учил, что начинать с диалога – дурной тон».
«В хорошей пьесе непонятно, что происходит на сцене первые десять минут. В великой – первые двадцать пять минут. Чем меньше понятно из стартовых диалогов, тем лучше».
«Попробуйте написать роман без диалога. Любая форма коммуникации – распродажа своего “я”».
«Когда герои говорят одно, а думают другое, получается значительно более интересный текст. Художественный текст, построенный на контрасте, сильнее и ярче».
Ошибки начинающих авторов
1. Диалогом автор пытается раскрыть мысли героя. Но помните, что человек не всегда думает словами.
2. Заменить словами действия. Герои вместо того, чтобы действовать, начинают эти действия обсуждать. Но задача литературы – воспроизвести действующего героя. Это труднее, чем заставить героя говорить, поэтому начинающие авторы часто заставляют героев больше говорить и меньше действовать. Ведь нужно быть профессионалом в описываемом процессе: чтобы описать, как герой вскапывает огород, нужно хотя бы раз вскопать огород самому.
3. Словами героя автор пытается высказать свои мысли, что тоже звучит очень искусственно.
Как избежать ошибок?
1. Герои не должны вести теоретических дискуссий. Декларация – дурной вкус. Мировоззрение должно быть понятно из действий героя, а не слов.
2. Диалог должен быть символическим и при этом служебным. Он должен состоять из таинственных, непонятных и непафосных фраз (хороший пример – «Три сестры» Антона Чехова).
3. Избегайте психологического раскрытия героя.
4. Диалог не должен быть магнитофонной записью повседневной речи. Чтобы речь производила впечатление только что услышанной, она должна быть сильно сгущена.
5. Диалога не должно быть много. Или его не должно быть слишком много.
Из видеолекции для Creative Writing School[276]Вырезая лишнее
Первый черновик всегда дерьмо[277].
Э. ХемингуэйХемингуэй так сказал не случайно. Любой текст нуждается в переписывании. Это непреложное правило. Начинающий писатель может подумать: а зачем тогда нужен этот «первый черновик», почему бы сразу не написать гениальный текст? Но на первых порах главная задача при работе над текстом – вывалить на бумагу все, что придет в голову. Мы уже рассмотрели, как работают писатели-«садовники» и писатели-«архитекторы». К какому бы типу вы ни относились, первым делом надо как можно скорее довести текст до финальной точки. А вторая и последующие редакции – работа на улучшение: «Хотя страницы выглядят как первый набросок, они уже переписывались и перепечатывались по четыре-пять раз. С каждой переделкой я стараюсь сделать текст насыщеннее, сильнее и точнее, исключая каждый элемент, который не приносит пользы»[278].
Обратимся к опыту редактирования Жюля Верна: «Пишу я очень медленно, неимоверно тщательно, постоянно переписываю, пока каждая фраза не примет окончательную форму… Постоянные переделки отнимают много времени. Я никогда не удовлетворяюсь написанным, прежде чем не сделаю семь-восемь правок, всегда что-то правлю и правлю, можно сказать, что в чистовом варианте почти ничего не остается от первоначального. Это ведет к большой потере времени и денег, но я всегда стараюсь добиться лучшего как по форме, так и по стилю, хотя люди никогда в этом отношении не отдают мне должного»[279].
Редакторская правка – обязательный этап работы над рукописью. Его не избежать. «Самиздат страдает только от отсутствия редактуры. Редактура и маркетинг – вот две единственные полезные функции издательства. Самому себя продавать неловко, а править – рука не поднимается», – поясняет писатель Дмитрий Глуховский[280].
Главная психологическая ловушка на этапе редактуры – решиться открыть вчерашний файл. Американско-канадская писательница Сара Груэн сетует: «Это одна из самых тяжелых минут для писателя. Но в этом и заключается его работа: превратить нестройное собрание вчерашних каракуль в завтрашнюю книгу»[281].
Еще одна жюль-верновская цитата: «Настоящая работа для меня начинается с первой корректуры, когда я не только правлю каждую фразу, но и переписываю порой целые главы. У меня нет уверенности в окончательном варианте, пока я не увижу напечатанного текста; к счастью, мой издатель позволяет вносить значительные исправления, и роман часто имеет восемь или девять корректур. Завидую, но не пытаюсь подражать примеру тех, кто не меняет и не добавляет ни единого слова от самого начала первой главы вплоть до последней фразы»[282].
Важность переработки текста остроумно подчеркивает американский журналист Уильям Сафир – редактор газеты The New York Times, лауреат Пулитцеровской премии: «Перечитывая текст, вы найдете в процессе перечитывания огромное количество повторений, которых можно избежать, перечитывая и редактируя текст»[283].
Помните: переписывая, вы делаете текст таким, каким он должен стать. Приготовьтесь, что от первоначального варианта в финальной редакции мало что останется. Вы будете искать правильную последовательность слов, пока не найдете, и едва ли окончательный порядок слов будет сильно похож на первый черновик. Не бойтесь, это нормально. Главное – не останавливаться до тех пор, пока внутренний голос не скажет, что текст готов.
Исаак Бабель признавался: «Раньше я как бы декламировал фразу за фразой, проверял все на слух, потом садился, писал без помарки и сразу же сдавал в редакцию. Все прежние мои рассказы, которые вы читали, написаны без помарок, можно сказать, по памяти. Потом я изменил метод. Вот пришла мне мысль, и я ее записываю. Затем надолго откладываю. Проходит два-три месяца, опять к ней возвращаюсь, и так это иногда несколько лет продолжается. У меня особая какая-то любовь к переделкам. Есть такие люди, которые напишут вещь и больше не могут ее видеть. У меня иначе: написать мне трудно, а переделывать нравится»[284].
Но как понять, хорошо ли написан текст? Блестящий ответ есть у Хемингуэя: «Главный дар хорошего писателя – это встроенный, ударопрочный детектор дерьма. Это писательский радар, и он был у всех великих писателей»[285]. Придется научиться критически оценивать свой труд. Не идите на компромисс. Если чувствуете, что текст недостаточно хорош – а при ответственном отношении к делу вы непременно это почувствуете, – переписывайте, переписывайте и переписывайте, пока слова не встанут в нужном порядке. Не плодите халтуру. Кого вы обманываете, сдавая в издательство сырую рукопись?
С Хемингуэем согласен и Мураками: «В работе писателя победа, равно как и поражение – это дело десятое. Тиражи, литературные премии, хвалебные или ругательные лицензии можно воспринимать как своего рода показатели, но не в них суть. Мне гораздо важнее, соответствует ли то, что я написал, моим собственным стандартам, или нет. И тут никакие оправдания не действуют. Перед другими оправдаться не так уж сложно, но себя-то не обманешь. И в этом смысле писательский труд похож на марафонский бег. Грубо говоря, потребность писать – пусть и не всегда явная – живет в тебе самом, а значит, соответствовать критериям внешнего мира вовсе не обязательно»[286].
Если вы не уверены в собственных силах, а «детектор дерьма» пока работает не очень хорошо (для его настройки нужно и время, и опыт), пригласите к работе над рукописью профессионального редактора. Это проверенный способ сделать текст лучше и выделить среди тысяч других.
Редактор – друг автора. Он не собирается убивать ваш текст (хотя иногда вам так кажется), он хочет его улучшить. Да, редактор порой слишком строг и, возможно, не всегда объективен. Но чаще замечания справедливы. Редактор не влюблен в текст, как вы. Он доброжелательный, но критический читатель. Поэтому важно, чтобы вы доверяли редактору, чтобы вы были одной командой.
Сами редакторы, впрочем, призывают авторов прислушиваться к себе и, дистанцировавшись от текста, полагаться именно на внутренний радар. Вот что писал Фицджеральду редактор Максвелл Перкинс: «Прошу вас не принимать в расчет мои соображения. Когда речь идет о важных для вас вещах, вы, я знаю, с ними все равно не согласитесь. Мне было бы стыдно, если бы я попытался оказывать на вас давление, которое, впрочем, бесполезно; писатель, если он хоть чего-то стоит, должен отвечать только перед самим собой»[287].
Завершая работу над «Великим Гэтсби», Фицджеральд написал Перкинсу: «Благодаря вашим советам я смогу сделать “Гэтсби” совершенством»[288]. К этому моменту прошел уже год после того, как была поставлена финальная точка в первом черновике романа (на работу над черновиком ушел еще год), а редактура все еще продолжалась. Какой вывод можно из этого сделать? Редактура – один из главных этапов в написании романа. Может быть, самый главный.
На что поставите – на количество написанных произведений? Или на качество? Чехов как-то написал брату: «Отделывай и не выпускай в печать… прежде чем не увидишь, что твои люди живые и что ты не лжешь против действительности»[289]. Редактура – это переписывание, выбрасывание лишнего, «монтаж» текста, если говорить языком кинематографа.
Сокращайте. Это болезненно, но необходимо. Но как понять, что выбрасывать, а что оставлять? Для начала научитесь отстраняться от написанного, смотреть на текст со стороны. «Читайте тексты беспристрастно, как если бы их читал незнакомец. А еще лучше – враг», – призывает английская писательница Зэди Смит[290], обладательница премии Сомерсета Моэма. Не позволяйте вашим любимым фрагментам текста околдовать вас. Наверняка в романе, над которым вы работаете, есть куски, которые жаль выкидывать. Вы писали их, шлифовали, они вам и вправду дороги. Но прислушайтесь к внутреннему голосу, который подсказывает: «Выбрось эту сцену. Она мешает. Тормозит действие».
Вспомним знаменитое высказывание Чехова о заряженном ружье: «Не надо ничего лишнего. Все, что не имеет прямого отношения к рассказу, все надо беспощадно выбрасывать. Если вы говорите в первой главе, что на стене висит ружье, во второй или третьей главе оно должно непременно выстрелить. А если не будет стрелять, не должно и висеть»[291]. Начинающие авторы любят сцены, в которых ничего не происходит. Их несложно писать – взялся за перо, и пошло-поехало. В порыве вдохновения автор описывает помещение или природу, философствует, заставляет героев заниматься бессмысленной болтовней, никак не двигающей сюжет. Пространные описания и метафоры замедляют действие и путают читателя. Да, они создают объем, увеличивают количество слов и дарят автору иллюзию, что его рукопись можно назвать серьезным романом. Правда, потом выясняется, что три четверти написанного можно спокойно отправлять в мусорную корзину.
Как определить, нужна сцена или нет? Поможет совет Роберта Макки: «Если единственным обоснованием для существования какой-либо сцены служит экспозиция (показ мира без эволюции внутреннего мира героя), то автор должен безжалостно ее вычеркнуть и включить содержащуюся в ней информацию в другую часть произведения»[292].
Помните – каждая сцена в вашей истории должна выполнять свою функцию. Написать такую сцену – или целую главу – сложнее, чем кажется. Еще одна шпаргалка от Роберта Макки: «Внимательно проанализируйте каждую из написанных вами сцен и задайте себе ряд вопросов. Что является наиболее важным в жизни персонажа в данный момент? Любовь? Правда? Что-то другое? Каким зарядом обладает эта ценность в кульминации сцены? Положительным? Отрицательным? Отчасти и тем и другим? Запишите ответы.
Затем обратитесь к заключительной части сцены: как теперь можно определить данную ценность? Как положительную? Отрицательную? Или она имеет двойственный характер? Сделайте записи и сравните их с предыдущими. Если записанное вами при анализе завершающей части сцены ничем не отличается от первоначальных выводов, то предстоит ответить на еще один важный вопрос: зачем эта сцена вообще включена в мой сценарий?
Когда с начала до конца сцены жизненная ситуация остается неизменной, ничего значимого не происходит. В сцене присутствует действие – какие-либо разговоры или поступки, но в том, что касается ценности, никаких изменений нет. Такую сцену нельзя считать событием»[293].
Избавляйтесь от всего, что не относится к идее и теме повествования. Безжалостно выбрасывайте любимые фрагменты, если они тормозят сюжет. «Режьте по-крупному, затем по мелочи», – призывает Рой Питер Кларк[294]. Кристофер Воглер напоминает: «Возможности человеческого восприятия ограниченны, и не стоит эксплуатировать их понапрасну: чтобы достичь наибольшей концентрации внимания на важных моментах, все лишнее необходимо убрать. Вырезая реплики, паузы, а иногда и целые эпизоды, я замечал, как выигрывало от этого оставшееся: словно маленькие рассеянные огоньки собирались в яркие лучи, высвечивающие главные моменты картины»[295].
Хемингуэй однажды сказал, что повесть «Старик и море», за которую писателя удостоили сначала Пулитцеровской, а потом и Нобелевской премии, он мог бы растянуть на тысячу с лишним страниц: «В книге нашел бы место каждый житель деревни. Я бы описал все способы, какими они зарабатывают себе на жизнь, как они рождаются, учатся, растят детей»[296]. Но перечитав собранные материалы и сделанные черновики, он пришел к разумному решению: сократить повесть настолько, чтобы оставить взгляду читателя «верхушку айсберга». И удалил семь восьмых написанного текста. Все по классической хемингуэевской формуле: «Величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды»[297].
Почему Хемингуэй так жестоко обошелся со, строго говоря, готовым текстом? Почему не оставил уже написанные куски и не превратил повесть в роман, описывающий быт деревенских моряков? Вот почему: «Все, что вы знаете, вы можете смело опустить. Это только усилит айсберг (если же писатель опускает то, чего не знает, то тогда у него в рассказе появляются трещины и дыры). В литературном творчестве вы ограничены тем, что уже хорошо сделано до вас. Поэтому я пытался найти что-нибудь еще. Прежде всего я старался устранить все лишнее, передавая читателю мысли, поступки и переживания так, чтобы он почувствовал, что прочитанное ими стало частью их жизненного опыта и как бы происходило на самом деле. Это очень трудно, и я трачу на это очень много сил. В общем, на этот раз мне небывало повезло. Я смог передать опыт полностью, и при этом такой опыт, который никто никогда не передавал»[298].
Да, Хемингуэй был своим первым и главным редактором: «Я пишу с большим трудом, без устали сокращая и переделывая. Мне очень дорого благополучие моих произведений. С бесконечной заботливостью я граню и шлифую их, пока они не становятся бриллиантами. То, что многие авторы спокойно сохранили бы в гораздо большем объеме, я превращаю в крохотную драгоценность»[299].
С этим согласен и Карлос Кастанеда, объясняющий необходимость недосказанности в любом тексте: «Не объясняй слишком многого. В каждом объяснении скрывается извинение»[300].
Лишние слова, как стероиды, накачивают текст пустотой, раздувают его ненужными и не относящимися к повествованию деталями, малоинтересными читателю сюжетными ответвлениями (в таких случаях говорят – «автор увлекся»).
Посмотрите фильм «Гений», рассказывающий о судьбе писателя Томаса Вулфа (его играет Джуд Лоу) и его работе с гениальным редактором Максвелом Перкинсом (Колин Ферт). Объем первого черновика романа «О времени и о реке», принесенного в редакцию, составил пять тысяч (!) страниц. И только благодаря совместным усилиям Вулфа и Перкинса, который вплоть до последнего черновика заставлял автора вычеркивать лишнее, текст сократили на 90 тысяч слов. Сценаристы фильма помогли нам увидеть, как выглядела работа над романом.
«Гений». Отрывок из сценария
Перкинс: …Скажем, глава, когда у тебя герой встречает девушку. Ты пишешь вот что: «Глаза Юджина привыкли к дыму сигарет и сигар, клубящемуся, словно ядовитые испарения, и он увидел женщину в шерстяном костюме, в перчатках, которые, как плющ, покрывали ее обыкновенно белые, но сейчас расцелованные солнцем руки, словно мякоть ракушки – цвета младенческой кожи – перед глазами зоолога, неспособного преодолеть смущение перед этой румяной многообещающей розоватостью; такими были ее руки. Но лишь ее глаза остановили дыхание Юджина и заставили сердце подпрыгнуть. Были они синими. Даже сквозь клубы помпезного “Честерфилда” и высокомерного “Лаки страйк” он увидел в ее глазах синеву, запредельную синеву океана. Синеву, в которой он мог бы плыть вечно и ни разу не затосковать ни по огненно-красному, ни по пшенично-желтому. Через пропасть комнаты его пожирала эта синева, эти глаза. Они глядели будто сквозь, они не замечали его и вряд ли когда-нибудь заметят – так он, по крайней мере, думал. В этот миг Юджин понял, о чем всегда писали поэты, – все эти потерянные, блуждающие, одинокие души отныне стали его братьями. Он познал любовь, которой не суждено сбыться. Он так стремительно провалился в эту любовь, что никто в комнате не услышал ни звука. Грохота падения. Звона его разбитого сердца. Стояла полная тишина. Но его жизнь лежала в руинах». Конец главы.
Вулф: Тебе не нравится?
Перкинс: Конечно, нравится. Но не в этом дело. То есть он видит девушку и влюбляется? С первого взгляда. Так?
Вулф: Да.
Перкинс: И думает об океанской фауне?
Вулф: В тот момент – да.
Перкинс: Не верю. Ты влюбился в образы. Не в девушку.
Вулф: Тогда вырежем зоолога и марки сигарет. Сейчас…
Перкинс: И размышления о розовом.
Вулф: Нет! Нет! Это правильное прилагательное! Он именно так думает. Розовое – это не просто розовое. А еще тысяча других вещей, невероятно для него важных. Вариации его психического настроя. Каждый образ и звук каждого слова имеет значение.
Перкинс: Нет, не имеет.
Вулф: Они нужны.
Перкинс: Нет.
Вулф: Нужны!
Перкинс: Ерунда. Нет! Он влюбляется. Ты когда-нибудь влюблялся с первого взгляда? Как это было – как пшенично-желтый или как помпезный «Честерфилд»?
Вулф: Это было как молния!
Перкинс: Значит, так и должно быть. Как молния… А гром ни к чему.
Вулф: Я понял! Понял! Вычеркнем это (вычеркивает). И это (вычеркивает). Ладно. Убираем шерстяной костюм (снова вычеркивает). «Он увидел женщину»… Убрали… Убрали! «Но лишь ее глаза остановили дыхание Юджина, заставили сердце подпрыгнуть!»
Перкинс: Давай без Вордсворта[301].
Вулф: «Это остановило его дыхание… Были они синими…»
Перкинс: Режь океанскую фауну.
Вулф: «Синева ее глаз, как синева океана…»
Перкинс: Штамп.
Вулф: «Запредельная синева океана, которая…»
Перкинс: Ничего, кроме синевы.
Вулф: «…в которой он мог бы плыть вечно и ни разу…» М-м-м… Режем!
Перкинс: И до какого места?
Вулф: «Разве он видел раньше такую синеву? Такие глаза?»
Перкинс: Риторика ни к чему.
Вулф: Почему?
Перкинс: Это не молния. Это отступление.
Вулф: «Запредельная синева…» Нет!.. «У нее были синие глаза».
Перкинс: Лучше.
Вулф: Оставляем. Дальше… «Он был ничтожеством, она была всем».
Перкинс: Просто девушка сидит напротив. И хватит.
Вулф: Девушка напротив… Оставляем. Потерянные блуждающие души – вычеркиваем! «Он так стремительно рухнул в эту любовь, что никто в комнате не услышал ни звука. Грохота падения. Звона его разбитого сердца…»
Перкинс: Грохот? Звон? В этом смысл?
Вулф: А что ты слышал, когда влюблялся?
Перкинс: А ты что? Грохот?
Вулф: Все это делается у него внутри! Ясно? Его жизнь перевернулась, а никто ничего даже не заметил.
Перкинс: Так об этом и напиши.
Вулф: Терпеть не могу сокращать текст!
Перкинс: Возможно, важнее другое: в твоей книге, во всем этом нагромождении слов, чем принципиально выделяется этот момент?
Вулф: Тем, что он прост?
Перкинс: Ничем не приукрашен!
Вулф: Как молния, ярко сверкнувшая в черном небе.
Перкинс: Именно!
Вулф: Боже! «Юджин увидел женщину. У нее были синие глаза. Он так стремительно провалился в любовь, что никто в комнате не услышал ни звука». Точка! Конец четвертой главы.
Перкинс: Осталось всего девяносто восемь.
Вулф: Я люблю тебя, Макс Перкинс![302]
Это, без сомнения, эталон редактуры. Два гения. Два мнения. Но побеждает здравый смысл. По настоянию того же Перкинса Фицджеральд удалил из текста «Великого Гэтсби» восемнадцать тысяч слов. Читая роман, мы понимаем, что решение было верным.
Учитесь у гениев. Тренируйтесь распознавать в тексте воду, которую можно безболезненно отжать. Вот что писал профессор английского языка Уильям Странк в классической книге «Элементы стиля» (The Elements of Style): «Сильная проза – сжатая проза. В предложении не должно быть лишних слов, в абзаце – лишних предложений, так же как на чертеже нет лишних линий, а у машины – лишних деталей. Это не значит, что писатель должен писать только короткими предложениями или избегать подробностей и упоминать героев лишь вскользь, – это значит, что каждое слово несет смысл»[303].
Евгений Водолазкин тоже призывает выкидывать из текста лишние слова: «Проверяйте слова на необходимость. С этим мало кто справляется по-настоящему. Так работал писатель Исаак Бабель: он правил свои рассказы, вычеркивая лишние слова, – до тех пор, пока не оставалось ни одного, которое можно вычеркнуть. И у него их действительно нет. Некоторые рассказы имеют более двадцати вариантов. И, кстати, на заметку молодым писателям: Бабель говорил, что два прилагательных к одному существительному может себе позволить только гений»[304].
Чехов советовал начинающим авторам: «Давая волю фантазии, приудержи руку. Не давай ей гнаться за количеством строк. Чем короче и реже ты пишешь, тем больше и чаще тебя печатают. Краткость вообще не портит дела. Растянутая резинка стирает карандаш нисколько не лучше нерастянутой»[305].
Еще один совет о сжатости письма, который Чехов дал молодой писательнице: «Пейзаж Вы чувствуете, он у Вас хорош, но Вы не умеете экономить, и то и дело он попадается на глаза, когда не нужно, и даже один рассказ совсем исчезает под массой пейзажных обломков, которые грудой навалены на всем протяжении от начала рассказа до (почти) его середины. Надо работать над фразой, делать ее – в этом искусство. Надо выбрасывать лишнее, очищать фразу от “по мере того”, “при помощи”, надо заботиться об ее музыкальности и не допускать в одной фразе почти рядом “стала” и “перестала”. Голубушка, ведь такие словечки, как “Безупречная”, “На изломе”, “В лабиринте” – ведь это одно оскорбление. Я допускаю еще рядом “казался” и “касался”, но “безупречная” – это шероховато, неловко и годится только для разговорного языка, и шероховатость Вы должны чувствовать, так как Вы музыкальны и чутки, чему свидетели – “Забытые письма”»[306].
Когда нет лишних слов, создается объем произведения, появляются рельеф и текстура. Представьте себе двух атлетов: один – накачанный стероидами, раздутый «качок», а другой – гимнаст с четко прорисованными мышцами. Какой образ вам нравится больше? Вот и с текстами то же самое.
Помните – чем меньше лишних слов, тем больше смысла.
Вот еще одна выдержка из письма Фицджеральду от Перкинса: «Книга[307] в целом блестящая, и мне стыдно даже за эти мелкие придирки. Не перестаю поражаться, сколько смысла несет у вас каждая фраза, какое глубокое и сильное впечатление оставляет каждый абзац. Все происходящее поэтому просто-таки светится жизнью. Если бы мне нравилось ездить экспрессами, я бы сравнил живость и многоликость создаваемых вами картин со сменой впечатлений за окном несущегося вагона. Когда читаешь, кажется, что книга совсем небольшая, но ощущений испытываешь столько, что для всех них потребовался бы роман втрое длиннее»[308].
Долго ли придется переписывать и сокращать? Пока слова не встанут в нужном порядке. Ирвина Шоу спросили на пике его писательской карьеры, по-прежнему ли он получает удовольствие от литературной деятельности. Он ответил: «Раньше удовольствия было больше. Теперь мне гораздо тяжелее писать. Я становлюсь старше, силы убавляются, опыт растет. ‹…› Раньше одно предложение я мог написать одним способом. Я писал предложение, и оно не вызывало сомнений. Чем старше и опытнее я становлюсь, тем отчетливее понимаю, что там, где был только один вариант, теперь таких вариантов тридцать. И моя задача – выбрать лучший»[309].
Последнюю главу «Прощай, оружие!» Хемингуэй переписывал «39 раз, пока не остался доволен»[310]. А внук писателя, Шон Хемингуэй, обнаружил в Президентской библиотеке-музее Джона Ф. Кеннеди 47 черновиков окончания романа. Первые варианты забраковал Фицджеральд, близкий друг писателя: «Помню, что первый вариант – во всяком случае, первый из тех, какие я видел, – представлял собой – на старый манер – попытку подвести итог дальнейшей судьбы персонажей: “При фашизме наш священник стал одним из других священников и т. д.” Может быть, ты не забыл, что я тогда советовал убрать из книги всплески красноречия всюду, где они отыщутся, и ты сопротивлялся этому так, словно тебя волокли на казнь. Мой совет претил тебе, потому что ты чувствовал: настоящая проза та, которая вызывает у читателя высокое эмоциональное напряжение и либо оставляет его в этом состоянии, либо заставляет пережить резкий спад, скачок вниз»[311].
Уже после выхода романа в издательстве Scribner вышло «авторское издание» романа в редакции 1929 года с «бонусами»: в сборник включены все варианты последней фразы романа. Например, такой: «That is all there is to the story. Catherine died and you will die and I will die and that is all I can promise you» («Вот и вся история. Кэтрин умерла, и вы умрете, и я умру, и это все, что я могу вам пообещать»)[312]. Сильно? Безусловно. Но Хемингуэй остался недоволен и продолжил поиски, переписывая текст раз за разом. В итоге роман заканчивается так: «Немного погодя я вышел и спустился по лестнице и пошел к себе в отель под дождем»[313].
Американский журналист Синтия Барнетт замечает, что Хемингуэй, написав те самые сорок семь вариантов последних строк книги, в итоге «остановился на том, в котором Генри под дождем возвращается в отель. Некоторые варианты были слишком солнечными, во многих фигурировал дождь. Но в самую точку попадал только выбранный писателем образ – дождь, подразумевающий слезы человека, который не в силах выразить свое горе»[314].
Итак, Хемингуэй упорно искал и все же нашел идеальную последовательность нужных слов. Почему автор идет к этой последовательности так долго и так трудно? Отвечает Алексей Толстой: «Надо вам сказать, что есть один художественный закон, а именно: каждую мысль можно выразить только одной-единственной фразой, по-настоящему выразить. Все другие фразы будут приближенными к этой фразе, а вот такая отточенная фраза будет одна-единственная для точного выражения этой мысли»[315].
Подводит итог литературный теоретик Стенли Юджин Фиш. В его книге «Как написать предложение» (How to Write a Sentence) говорится: «Слова проскальзывают в ячейки, определенные синтаксисом, и сверкают, как воздушные пылинки различными примесями, которые мы называем смыслом. Прежде чем слова попадают в свои ячейки, это просто отдельные единицы, направленные всюду и в никуда. Но как только слово попадает в место, “определенное” для него, оно демонстрирует безжалостную логику синтаксической структуры – слова связываются взаимоотношениями. Они субъекты или объекты действия, и они комбинируются в некое суждение о мире, которое может его превозносить, отрицать или облагораживать»[316].
Переписывайте и переписывайте, пока не почувствуете, что текст готов. Не идите на компромисс. Не сдавайтесь. Пишите, пока не поймете, что слова выстроились как надо. Только тогда они вызовут отклик в сердце читателя. Редактируйте. Безжалостно сокращайте, вырезая лишнее. Работайте над каждой фразой. Ведь, как писал Исаак Бабель, «ни одно железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя»[317].
Советы писателям. Стивен Кинг
1. Пишите так, чтобы каждое слово было к месту. Вырезайте лишнее – это не школьное сочинение, где вам поставят «отлично» за количество исписанных страниц и умение писать позаковыристее.
2. Убирайте штампы. Писатель, который ими пользуется, – ленивый невежда. Штамп не несет смысловой нагрузки. Вместо штампа создайте сильный образ, который увлечет читателя.
3. Не стыдитесь коротких, понятных слов и избегайте канцелярита.
4. Каркас предложения – существительное и глагол. Наречия чаще всего не нужны. Если вам нужно наречие – значит, глагол неубедителен. Дожмите глаголом и уберите наречие.
5. Пишите простыми предложениями – не тоните в деепричастиях, причастиях и множественных придаточных.
6. Формула: второй вариант = первый вариант минус 10 %[318].
Письма. Антон Павлович Чехов
«…вычеркивайте, где можно, определения существительных и глаголов. У Вас так много определений, что вниманию читателя трудно разобраться и он утомляется. Понятно, когда я пишу: “человек сел на траву”, это понятно, потому что ясно и не задерживает внимания. Наоборот, неудобопонятно и тяжеловато для мозгов, если я пишу: “высокий, узкогрудый, среднего роста человек c рыжей бородкой сел на зеленую, уже измятую пешеходами траву, сел бесшумно, робко и пугливо оглядываясь”. Это не сразу укладывается в мозгу, а беллетристика должна укладываться сразу, в секунду. Засим еще одно: Вы по натуре лирик, тембр у Вашей души мягкий. Если бы Вы были композитором, то избегали бы писать марши. Грубить, шуметь, язвить, неистово обличать – это не свойственно Вашему таланту. Отсюда Вы поймете, если я посоветую Вам не пощадить в корректуре сукиных сынов, кобелей и пшибздиков, мелькающих там и сям на страницах “Жизни”»[319].
Из письма Алексею Пешкову (М. Горькому)Третий акт
Продвижение
Работа ремесленника – производить самые качественные вещи; работа бизнесмена – продвигать их наилучшим образом[320].
Б. Сандерсон[321]Вы верите, что гениальная рукопись сама себя продает? Если она действительно гениальна – возможно, что и так (но не будем забывать, как большие писатели годами обивали пороги издательств). Но лучше, как говорится, подстелить соломку. Писатель – союз двух стихий. Импульсивная, зачастую капризная творческая личность отлынивает от работы, прокрастинирует, но все же создает текст. Расчетливый предприниматель задумывается, как извлечь из написанного материальную выгоду. Как правило, писатель уступает место бизнесмену, когда рукопись уже закончена. Но лучше, если этот тандем начнет взаимодействовать сразу. Интернет открыл писателю доступ к аудитории. И ваша задача – найти ее, свою аудиторию.
Вопрос – ответ. О продвижении
Стоит ли сейчас вести блог или это давно уже никому не нужно?
Сначала стоит ответить себе на вопрос: какие задачи будет решать блог (Telegram-канал, официальная страница в соцсети и так далее). Запомните главное правило – для продвижения все площадки хороши. Telegram, Instagram, сайт, «ВКонтакте», Facebook – решите, какая аудитория вам нужна, и составьте стратегию продвижения (план, как завоевать читателей). Вы пишете книгу о беге, и ваши потенциальные читательницы – девушки, ведущие здоровый образ жизни? Заведите Instagram. Сочиняете фантастический роман? Сделайте блог о будущем, об инновациях, о тенденциях развития науки и техники (даже не о своей книге – о теме, которую затрагивает ваша книга) и продвигайте его через социальные сети.
Да, Telegram по-прежнему на подъеме. Но это не значит, что канал – единственная площадка, где стоит искать читателей. В идеале он должен стать лишь одним из источников, как выразились бы интернет-маркетологи, «дистрибуции контента». Особенность современных медиа – децентрализованность: если раньше достаточно было запустить сайт и «нагнать» аудиторию, то в наше время это уже не работает. Для эффективной маркетинговой стратегии стоить задуматься о бренде (личном бренде писателя или бренде книжной серии, которую вы пишете), а не о площадке, на которой этот бренд представлен.
Как заявить о себе? Стоит ли самому продвигать себя через социальные сети?
Да, однозначно. Слово аналитикам издательского сервиса Ridero: «Более 100 экземпляров книги удалось продать только 147 авторам, и только четверо продали свыше 1000 экземпляров книги. Среднестатистический автор продает около 24 книг в год»[322].
Почему одни продают больше других? Потому что успешные авторы умеют «показать товар лицом» сетевой аудитории. Писатель XXI века – не только писатель, это и маркетолог, и бренд-менеджер, и сам себе промоутер. Раньше от писателя требовалось одно: написать приличный текст. Остальные задачи брало на себя издательство. Сейчас издательства работают несколько по иному принципу – гораздо охотнее издают книги авторов с именем. Не секрет, что крупные издательства примечают авторов, популярных на самиздатовских площадках, и предлагают им контракт. И действительно: зачем издательству вкладываться в раскрутку невесть кого, если можно издать автора, который уже проделал всю черновую работу?
Интернет-публика – ценнейший актив. Вот почему вы с самого начала работы над книгой (или даже тогда, когда вы ее только задумали) обязаны приступить и к маркетинговой кампании в сети. Нет, я не призываю кричать на каждом углу, что вы пишете книгу. Речь о создании бренда. Предложите аудитории что-то интересное, постарайтесь заработать репутацию эксперта в какой-то области. Без аудитории вы не состоитесь как писатель, и сейчас это стало еще очевиднее.
Не помешает ли публикация романа в интернете взаимодействию с издательствами?
Можно ли, разместив роман на самиздатовских площадках, отправлять рукопись в большие издательства: АСТ, «Эксмо» и так далее? Не завернут ли вас с рукописью, сказав, что нет резона тратиться на печать и продвижение книги, если она уже выложена в полном доступе в интернете? Отвечают эксперты Ridero и «ЛитРес: Самиздат»[323].
Ridero. Так как права на произведение при публикации через Ridero остаются у автора, он волен отправлять рукопись в издательства и заключать другие контракты о публикации. Это уже укоренившаяся практика среди наших авторов – приходить к издательству не только с готовой рукописью, но и с данными о первых продажах и реакции читателей после самостоятельной публикации. Для издателя первый успех книги – это дополнительный аргумент в пользу ее издания. Мы наблюдаем и обратную ситуацию – когда издатели следят за бестселлерами Ridero и приходят к авторам с предложением об издании.
Интересно, что все чаще наши успешные авторы оставляют себе право продавать книгу самостоятельно в электронном виде, передавая издателю только эксклюзив на печатный тираж и дистрибуцию в офлайн-магазинах. Таким образом они сохраняют для себя возможность получать максимальные роялти (свыше 50 % от цены электронной книги с сайта Ridero, 25 % – при продаже через «ЛитРес» и Amazon) и продолжают самостоятельно развивать успех своей книги.
Книга в полном доступе в интернете появится только по решению автора – только 10 % книг на Ridero авторы распространяют бесплатно, остальные книги продаются, а читателям доступен бесплатно только ознакомительный фрагмент. Автор может в любой момент изменить настройки доступа к книге (сделать книгу платной, изменить цену или вообще снять с продажи).
«ЛитРес: Самиздат». В названии проекта не зря присутствует слово «самиздат». Воля автора – использовать любые стратегии, чтобы книгу заметили и полюбили читатели. Поэтому можно сразу направлять рукопись на рассмотрение в издательства. Или начать с публикации в «ЛитРес: Самиздат». Можно сделать то и другое одновременно – зависит от выбранной стратегии.
В издательствах – таковы реалии – присматриваются к авторам, которые стали популярны на сервисах самиздата, чтобы таких авторов издать. Логика понятна: зачем начинать работу с неизвестным автором, вкладывая ресурсы в издание и продвижение книги, если есть автор, который сам сделал первый шаг, сам подготовил книгу к публикации, издал ее и продвигает доступными ему способами?
Аудитория в сети – большое преимущество. Книга, которая выложена в полном доступе в интернете, может стать хитом продаж в своем жанре. Такие книги интересуют издателей. Ведь книга уже прошла проверку у большой аудитории, а значит, потенциально интересна читателям.
При этом ничто не мешает отдать книгу в крупное издательство после публикации через «ЛитРес: Самиздат». Пример: летом 2017 года «Эксмо» купило права на издание серии книг Евгения Мисюрина «Пенсионер». Автор опубликовал книги с помощью сервиса весной и за несколько месяцев обосновался в топе продаж в своем жанре. Две книги изданы в бумаге, тираж первой уже распродан. Это яркий пример успеха, который начался с публикации электронной книги.
Подробнее о сервисах самиздата и преимуществах самостоятельной публикации книги читайте в главе «Подводные камни самиздата».
Самиздат. Ликбез
Может ли «новый самиздат» всерьез соперничать с традиционными издательскими институциями? Да, конечно[324].
Д. ГлуховскийПодводным камням самиздата посвящена следующая глава, в которой эксперты Ridero и «ЛитРес: Самиздат» ответили на самые популярные вопросы подписчиков Telegram-канала «Хемингуэй позвонит». А ниже – обзор крупнейших цифровых издательств России и не только.
Издание книги на русском языке
Русскоязычный сегмент самиздата пока только развивается. Крупнейших игроков – четыре. В обзоре не упоминаются площадки для самостоятельной публикации текстов. Представлены только профессиональные издатели, присваивающие книге ISBN – международный стандартный книжный номер, без которого книга не книга.
Ridero. Создание книги в Ridero занимает 5 минут (проверено на тестовых образцах). Автор загружает текст, изображения и получает готовую книгу – бумажную и электронную. Ridero создает для книги отдельный сайт и по желанию автора бесплатно публикует в магазинах или печатает тираж по требованию. К достоинствам сервиса стоит отнести продвинутый редактор (умеет создавать сложные макеты) и высокие роялти, если вы планируете продавать книгу через сайт Ridero. Исключительные права на текст остаются у автора.
«ЛитРес: Самиздат». Сервис, запущенный проектом «Литрес». Зачем его запустили? Как объясняют сами создатели – каждый год электронный книжный рынок России растет на 100 %, а это десятки миллионов читателей. И нельзя же позволить Ridero снять все сливки! Что касается прав на текст, то сервис предполагает два способа правовых взаимоотношений с автором. Первый – неисключительное право, которое дает базовые условия сотрудничества (25 % роялти). А если автор выбирает «ЛитРес: Самиздат» эксклюзивным партнером, предлагается повышенная ставка роялти – 35 %, а книга попадает на площадки «ЛитРес» и площади партнерской сети: в Google Play Книги, iBooks Store, Overdrive. Глобальное преимущество «ЛитРес» – ежемесячная аудитория в 20 миллионов читателей.
Bookscriptor. «Новый мир для современных авторов» – так создатели проекта представляют площадку. На начало 2019 года в «Букскрипторе» опубликовано более 200 тысяч книг. Задача сервиса – убрать препятствия на всем пути автора от идеи книги до читателя, держащего ее в руках. Если препятствие – это финансовый вопрос, сервис поможет найти инвестиции на подготовку книги и ее печать в совместном проекте с краудфандинговой платформой Planeta.ru. Помогает подготовить рукопись к печати – предоставит автору редактора и корректора, сделает дизайн обложки и аннотацию, оформит ISBN и подготовит макет. Для тех, кто готов заняться версткой самостоятельно, создан бесплатный онлайн-сервис – с ним легко работать и без специальных знаний. Готовая книга размещается в электронном формате в магазине Bookscriptor или печатается тиражом от 1 экземпляра.
Bookmate Publisher. Все мы (как читатели) знаем и любим Bookmate – огромную библиотеку. А знаете ли вы, что сервис предлагает авторам публиковать и издавать электронные книги? Publisher – сервис дистрибуции электронных книг, открытый Bookmate. Сервис предназначен для публикации книг в каталоге Bookmate и получения авторских отчислений. Все книги в Bookmate защищены от копирования, их нельзя ни скачивать, ни распространять: владельцы сервиса считают это конкурентным преимуществом. Роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», попавший в короткий список премии «Большая книга», автор опубликовал именно на Bookmate, и после этого на него вышло издательство АСТ.
Издание книги на английском языке
Западный писательский бизнес отличается от российского. Выбор здесь больше, и вот сервисы, которые лидируют в отрасли.
AuthorHouse. Попадает в список с пометкой «Выбор автора». Нет, я выбрал не Amazon и даже не Barnes&Noble. Лидер моего персонального списка – AuthorHouse. Почему? Во-первых – мощнейшая дистрибуция: книга публикуется и на Amazon, и на Barnes&Noble, и много где еще. Среди цифровых издательств AuthorHouse лидирует по числу изданных книг. Во-вторых, AutorHouse предусматривает дополнительные платные услуги для самой тонкой «настройки» книги. И еще один бонус: редкий случай, когда автору дозволено самому назначать цену за книгу.
Amazon. Крупнейший игрок. Публикует книги в своем «родном» формате Kindle, что, с одной стороны, ограничивает автора, привязывая его к сервису, с другой – косвенно гарантирует миллионы читателей.
CreateSpace. Это второй проект для самостоятельной публикации книг от Amazon. Плюс сервиса – дистрибуция. Минус – за премиальные услуги с автора взимаются деньги.
Xlibris. Этот сервис самиздата среди других зарубежных ресурсов отличает поддержка, оказываемая авторам. Здесь все, как говорится, по-взрослому. Публикация книги не мгновенная, как в других издательствах, – это целый процесс. От подачи рукописи до выпуска книги проходит в среднем 12–17 недель. Серьезный подход? Выводы делайте сами.
Barnes&Noble. Ветераны издательского бизнеса замахнулись и на сетевой самиздат. Это крупное издательство, предлагающее цифровую «печать». Авторам гарантируют поддержку и – при оплате дополнительных услуг – продвижение.
Ridero. У Ridero (и об этом знают немногие) есть англоязычная версия. Международная поддержка и доставка книг в международные же книжные магазины. Сервис молод, но амбициозен.
Подводные камни самиздата
Издательские сервисы Ridero и «ЛитРес: Самиздат» отвечают на вопросы подписчиков Telegram-канала «Хемингуэй позвонит» о самиздате.
Сколько стоит издать роман в жанре научной фантастики начинающему автору?
Ridero: Нисколько. Сервисы самиздата предлагают сделать это бесплатно. Если же вы планируете потратить бюджет на продвижение и печать бумажного тиража, рассчитывайте собственные силы и обратитесь в типографию для просчета стоимости печати. Прежде чем печатать бумажный тираж, помните: стопки отпечатанных книг, лежащих под кроватью, – не самый ценный актив. Перед тем как печатать тираж, постарайтесь выстроить коммуникацию с потенциальными читателями. Соберите аудиторию, которой сможете продать свою книгу.
После того, как я опубликую текст у вас на сайте, я останусь правообладателем? Могу ли я опубликовать этот же роман на других издательских платформах?
Ridero. Да, конечно. Оферта Ridero подразумевает, что права на произведение остаются у автора. Ridero не становится правообладателем произведения. У автора остается свобода выбора и возможность опубликовать текст на сторонних площадках.
«ЛитРес: Самиздат». Смотря о каких правах идет речь. Право авторства неотъемлемо, а если говорить об исключительном праве на использование произведения (воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения и так далее) – тут уж вам решать. Наш сервис предполагает два способа правовых взаимоотношений с автором. Если автор передает нам неисключительное право, тогда мы предложим вам базовые условия сотрудничества: распространение на собственных ресурсах «ЛитРес» и роялти в размере 25 % от розничной цены. При этом автор сохранит определенное пространство для маневра и сможет самостоятельно публиковать текст на других площадках, размещать его в других магазинах. Или же автор может выбрать «ЛитРес: Самиздат» эксклюзивным партнером. В этом случае мы предложим повышенную ставку роялти – 35 %, а книга попадет не только на площадки «ЛитРес» и партнерской сети, но и в Google Play Книги, iBooks Store, Overdrive и другие крупнейшие книжные магазины мира.
Я боюсь выкладывать свой роман в интернет – его же сразу украдут и используют идею для написания своей книги. Как мне быть?
Ridero. Идея, согласно ч. 5 ст. 1259 ГК РФ, не является объектом охраны авторского права – то есть идею как таковую нельзя украсть. Авторское право охраняет воплощение такой идеи – сам текст, его синопсис. Если кто-то публикует ваш текст и представляется его автором, этот человек нарушает авторское право, и в отношении него через суд стоит требовать ограничения распространения произведения, публикации опровержения, а также указания вас автором. Если автор произведения указан верно, но при этом сам текст распространяется за деньги или бесплатно без ведома автора, нарушено исключительное право на произведение. Автор вправе требовать немедленного прекращения распространения произведения и денежной компенсации.
«ЛитРес: Самиздат». Для начала давайте примем за аксиому: мало придумать (или украсть) идею, надо еще суметь воплотить ее в жизнь так, чтобы получилась книга, интересная читателям. Поэтому так и хочется ответить на вопрос: да пожалуйста, пусть крадут, посмотрим, что из этого получится. А если серьезно: напомним, что право называться автором произведения считается неотъемлемым. Поэтому в ряде случаев доказать авторство реально. Редакторы, проверяющие книгу перед публикацией, достаточно компетентны, чтобы в спорной ситуации провести сравнительный анализ и сделать выводы. Сервис «ЛитРес: Самиздат» располагает встроенным антиплагиат-модулем, который сравнивает новый текст от каждого автора с огромной (более миллиона) базой текстов. Если в тексте встречается плагиат, система выдаст предупреждение, и модераторы более внимательно проверят рукопись.
Вот еще один верный способ доказать авторство в любом суде. Перед публикацией распечатайте рукопись, приложите флешку с файлом, запечатайте в конверт и отправьте заказным письмом на свое же имя. Когда получите письмо, не вскрывайте его и храните на случай, если возникнет необходимость представить суду доказательства авторства.
Есть ли преимущества публикации книги в интернете перед работой с классическим издательством, выпускающим бумажные книги?
Ridero. Опубликовать книгу в интернете автор может в своем блоге или на разных площадках: Стихи.ру, Проза.ру. Ridero не «публикует в интернете» вашу книгу, Ridero помогает автору получить профессионально сделанную книгу с ISBN в популярных электронных форматах и в виде макета для печати и поставить ее на полки онлайн-магазинов (где размещают книги и классические издательства). А технология «печать по требованию» позволяет автору продавать книгу в бумажном виде – без всяких вложений в тиражи и по стоимости, сопоставимой с тиражным изданием.
«ЛитРес: Самиздат». Главное преимущество публикации книги в интернете – сроки. В классическом издательстве от принятия рукописи до выхода книги может пройти год, а иногда и больше. Наш сервис сокращает путь до недели, если автор заранее подготовил файл как надо. Кроме того, в интернете вы в режиме онлайн отслеживаете, сколько раз вашу книгу скачали, откуда пришли читатели, как ваши действия влияют на популярность книги и так далее. Такую статистику вам не даст ни одно издательство и ни один книжный магазин.
Нужно ли автору открывать ИП для получения гонораров от издательства? Мне придется самостоятельно платить налоги после поступления денег или издательство выплачивает все налоги за автора?
Ridero. Автор может по желанию зарегистрировать ИП («Деятельность в области художественного творчества»). Но, как правило, авторы так не поступают, потому что это неоправданно. Регистрация ИП – правовое действие, требующее регулярной работы. ИП обязаны отчитываться в ФНС и фонды, платить налоги и взносы авансовым методом. Писателям проще заключать договоры на издание книг и получать гонорар от писательского труда без получения статуса и обязанностей ИП.
Если автор выступает в правоотношениях с издательством как физическое лицо, все необходимые налоги (НДФЛ) и взносы в фонды за него обязано уплачивать издательство, которое платит автору гонорар. Эта обязанность предусмотрена Налоговым кодексом РФ. Ridero при выплате роялти авторам обязательно выплачивает налоги и взносы за каждого автора, а также применяет профессиональный налоговый вычет для писателей (20 %) – это законно уменьшает сумму уплачиваемого налога. При сумме авторских отчислений, равной, например, 100 рублям, облагаться налогами и взносами будут только 80 рублей.
«ЛитРес: Самиздат». ИП открывать не нужно. Мы работаем с авторами – физическими лицами. Недавно мы запустили новую услугу, которая упрощает получение роялти. Укажите номер банковской карты в специальном поле, и в большинстве случаев сумма поступит на счет за несколько дней после заявки. Что касается выплаты налогов, учитывайте один нюанс. Проект «ЛитРес: Самиздат» международный, мы работаем по оферте от зарубежного юридического лица. Это значит, что налоговым агентом становится сам автор. Получив от нас роялти, вам нужно самостоятельно отчитаться перед налоговыми органами той страны, в которой проживаете, и уплатить соответствующие налоги.
Расскажите о роялти вашего сервиса. Как рассчитываются начисления автору? Я буду много зарабатывать?
Ridero. Размер роялти при публикации книги через Ridero назначает сам автор. Формирование розничной цены книги начинается с этой константы. На нее накладываются комиссии продавцов и сборы. На розничную цену книги, опубликованной через Ridero, влияет:
● торговая наценка интернет-магазина (ее определяет магазин, и обычно она колеблется в пределах 40–60 %), и налог на добавленную стоимость (20 % от розничной цены книги);
● себестоимость печати для книг print-on-demand (определяется в зависимости от количества страниц в книге, например, для 100-страничного издания она будет равна примерно 192 рублям) и доставки до склада интернет-магазина.
При реализации книги напрямую с сайта Ridero торговых наценок и дополнительных затрат (например, за доставку книги до склада интернет-магазина) нет. А значит, это самый выгодный вариант для автора: цена печатной книги для читателя в случае продажи с сайта Ridero будет существенно меньше, чем у магазинов-партнеров, а с электронной книги, которую купили на Ridero, автор получит роялти примерно в два раза больше, чем у стороннего продавца.
В программу встроен калькулятор, который сразу показывает автору, сколько будет стоить книга в магазинах при тех роялти, которые он устанавливает. Калькулятор поможет вам рассчитать варианты цены при разном размере авторских отчислений и выбрать оптимальную стоимость книги. Чтобы цена на книгу была конкурентоспособной, автору важно найти баланс между роялти и розничной ценой.
В договоре между Ridero (ООО «Издательские решения») и автором распределение доходов определяется не итоговой розничной ценой (так как в нее входят комиссии третьих сторон), а выручкой Ridero от продаж книги. 80 % от выручки, полученной Ridero от сторонних площадок или напрямую от покупателей книг на своем сайте, идут на выплаты автору роялти в установленном им при публикации размере за вычетом НДФЛ, перечисление НДФЛ и обязательных сборов в ПФР и ФСС. 20 % – комиссия Ridero.
Заработок, как и в любом другом деле, зависит только от вас. Самостоятельное издание требует от автора заинтересованности и собственных усилий по развитию успеха своей книги. Максимальный годовой заработок автора Ridero – 1 268 000 рублей, включая налоги (данные за 2017 год).
«ЛитРес: Самиздат». Как много вы станете зарабатывать – зависит от таланта, усилий и от популярности книги. У нас зарегистрированы авторы, заработавшие за полгода от 500 тысяч рублей. В среднем популярные авторы зарабатывают от 10 тысяч в месяц. Сам процесс расчета роялти объясним на конкретном примере. Вы назначили цену на книгу 149 рублей. Далее расчеты пойдут от розничной цены книги. Если вы опубликовали книгу по неисключительной лицензии, то с продаж каждой книги в России вы получите (149 / 1,2) × 0,25 = 31,04 рубля.
1,2 в формуле – это НДС, который входит в конечную розничную цену на litres.ru. В базу расчета роялти он не входит. При исключительной лицензии роялти составят (149 / 1,2) × 0,35 = 43,46 рубля с каждого проданного экземпляра. Схема прозрачна, в ней нет никаких лишних звеньев и скрытых комиссий.
Как продвигать свою книгу? Как найти читателя?
Ridero. Начнем с истины: книги нуждаются в продвижении. Как и любой информационный продукт, книгу можно продвигать бесплатными или платными способами. Собственными силами или с помощью литературных агентов и рекламных агентств – вариантов масса. Мы запустили бесплатный видеокурс «Основы продвижения книги», где подробно рассказываем о доступных инструментах.
«ЛитРес: Самиздат». В первую очередь книгу нужно правильно подготовить к публикации. Мы советуем обращать внимание на жанры и на теги, которые стоит указывать при публикации. По этим данным покупатели ищут подходящие им книги в интернете. Поэтому важно, чтобы жанры и теги соответствовали книге, а не были проставлены наобум.
В 2016 году Том Эрбен, успешный немецкий маркетолог в книжном бизнесе, на презентации «Партизанский маркетинг для издателей» в рамках издательской школы музея «Гараж» и Франкфуртской книжной ярмарки рассказывал, что все больше читателей ищут книги в книжных онлайн-магазинах по узкоспециализированным запросам. Например, «исторический роман XVI века» или «биография Генриха VI». А иногда и вовсе – «как избавиться от колорадского жука». Еще раз: чем точнее вы подберете теги для вашей книги, тем выше вероятность, что читатель ее заметит.
Следует написать и яркую аннотацию к книге – чтобы она привлекала читателей. Когда писатель пишет книгу, он вкладывает в нее душу, а вот на аннотацию, цепляющую взгляд, запала часто уже не хватает. И это тоже проблема продвижения. Как бы хороша ни была книга, читатель не откроет ее, если «не зацепило».
Говорить о продвижении можно долго. И это тема не для одного вопроса. Книга, в том числе электронная, – товар. Вам помогут книги по маркетингу и в первую очередь понимание, кто он – ваш читатель. Определившись с этим, вы будете знать, где его искать, как и когда предложить ему вашу книгу.
Что делать, если я нашел свою книгу на пиратском ресурсе?
Ridero. Если вы считаете, что это пиратский ресурс, в первую очередь убедитесь, что это не партнер «ЛитРес» (когда вы ставите электронную книгу в продажу через этот магазин, книга автоматически размещается и продается в его партнерской сети). Полный список партнеров «ЛитРес» можно посмотреть на сайте. Если вы убедились, что книга размещена на площадке, у которой нет на нее прав, напишите администратору этого ресурса претензию с требованием удалить неправомерно опубликованный материал. Образец претензии и подробную инструкцию по заполнению вы найдете в разделе «Помощь» на сайте.
«ЛитРес: Самиздат». Реферальных партнеров у компании «ЛитРес» много, их число постоянно растет. И этот процесс происходит параллельно с другим, не менее важным: широкомасштабной борьбой с пиратством. Совместно с АЗАПИ – Ассоциацией по защите авторских прав в сети Интернет – мы прикладываем массу усилий к тому, чтобы сделать чтение электронных книг легальным. Борьба с пиратством ведется по нескольким направлениям – подробнее о выигранных процессах можно почитать в новостных лентах. Поэтому, если найдете книгу на пиратских ресурсах и книга выложена на них в полном объеме, напишите нам через форму обратной связи на selfpub.ru – возьмем «на карандаш» и постараемся помочь.
Можно ли выкладывать книгу одновременно на «ЛитРес: Самиздат» и Ridero?
Ridero. Оферта Ridero никак не ограничивает право автора опубликовать книгу везде, где он хочет. Правила работы сервиса Ridero дают право автору опубликовать книгу и на других селфпаб-площадках.
«ЛитРес: Самиздат». В принципе да. Юридических ограничений на эту тему нет. Но у «ЛитРеса» есть ограничение на публикацию дублей, поэтому книга, опубликованная через «ЛитРес: Самиздат», не может быть повторно опубликована через Ridero. В этом случае автор через Ridero может выложить книгу в магазине Ridero и на Amazon[325]. На всех остальных ресурсах книга будет опубликована именно через «ЛитРес».
Можно ли продавать собранную на Ridero книгу через свой сайт самостоятельно?
Ridero. Да, конечно. Автор волен распространять книгу любым ему доступным способом – через Ridero и партнерские онлайн-магазины и библиотеки – в электронном виде и в печатном по требованию («ЛитРес», «Озон», Amazon, Bookmate) или самостоятельно. Epub с сервиса Ridero скачивается бесплатно, остальные форматы – PDF, mobi, fb2 – за дополнительную плату (для владельцев ПРО-аккаунтов бесплатно).
Резюме
На каком из двух ресурсов остановиться – выбор за автором. И там и там – свои плюсы и минусы. Ежемесячная аудитория Ridero – 840 тысяч посетителей. У Ridero прекрасный редактор текстов (поддерживает форматирование текста и предлагает выбрать стиль книги). Еще одно достоинство – дистрибуция в Amazon. А еще Ridero выплачивает налоги за авторов. Для авторов, продающих книги через Ridero, доступны роялти в 80 %. Есть услуга print-on-demand, то есть печать по требованию: вашу книгу напечатают и привезут по указанному адресу.
Глобальное преимущество «ЛитРес» – ежемесячная аудитория в 20 миллионов читателей. Согласитесь, это немало. Так что чисто с математической точки зрения размещать свои произведения через «ЛитРес», конечно, выгоднее. Есть юридические нюансы, касающиеся передачи прав. Доставлять готовую книгу до двери (услуга print-on-demand) «ЛитРес» тоже умеет – с конца 2018 года.
Итак, вы узнали обо всех нюансах самостоятельного размещения книги. Перед выбором прочите договоры обеих площадок (особое внимание уделите передаче прав) – и примите решение.
Как продать роман?
Книга написана, что делать дальше?
Если вы считаете, что текст получился достойный, издайте книгу на сервисах для самостоятельной публикации, о которых было рассказано в предыдущих главах. Или же пробуйте найти издателя, который заинтересуется рукописью. В обоих случаях вы, возможно, получите право называться профессиональным писателем – то есть человеком, который зарабатывает деньги своими книгами (если они, конечно, будут продаваться). Первый вариант – быстрее. Второй дает вам статус не просто писателя, а писателя, признанного профессионалами рынка. Впрочем, одно другому не помеха: опубликовав книгу на сервисе самиздата, начинайте искать издателя.
Питчинг
Что такое питчинг? Это род презентации – сценаристы представляют продюсерам с телеканалов и инвесторам заявки на кинопроекты. Западные литературные агенты тоже устраивают питчинги для начинающих авторов. Задача – «продать» рукопись агенту, заинтересовать его. Я ходил на сценарные питчинги в Москве, чтобы послушать, что и как предлагают молодые авторы. Среди представленных заявок на сериалы были такие сюжеты: убийство в цирке с клоунами; жизнь телохранителей; жизнь бабушек и дедушек из соседнего подъезда. Все заявки завернули. Не потому, что они были так уж плохи, а потому, что их не сумели выгодно представить. Не сумели продать идею продюсеру. Что главное? Уверенность. Но это не все. Вот нехитрая шпаргалка, которая поможет построить выступление или составить заявку. Отвечайте по пунктам, и у вас будет готовое сопроводительное письмо[326]. Четыре главных вопроса вашей истории выглядят так:
1. Кто ваш герой?
2. Чего он хочет?
3. Что ему мешает достичь цели (в чем конфликт, кто антагонист)?
4. К чему герой приходит в финале?
В профессиональном питчинге есть еще один важный пункт: коммерческий потенциал. Да, речь о кино. Но и писателям я рекомендовал бы выйти за рамки литературы и думать о будущем текста. Напомню, если садиться за писательский стол в надежде заработать – это путь в коммерческую писанину, а мы с вами уже пришли к выводу, что писать стоит не ради денег (деньги – приятный бонус). И – тем не менее. Телепродюсеры оценивают следующее:
1. Актуальность вашей истории для зрителей.
2. Замысел – узнаваемость и оригинальность. Неожиданный взгляд на стандартный сюжет. Пример: «Ромео + Джульетта» (известный сюжет в новых декорациях). Результат – абсолютный хит и высочайшие кассовые сборы.
3. Есть ли в истории так называемый high-concept?
Что это такое? Сами киношники отвечают: универсальный сценарий, годящийся для любых декораций; универсальные герои, которых можно «поселить» в любом сеттинге; неожиданные повороты сюжета; идея и мораль, способные завлечь зрителя. Причем идея должна быть понятной и осязаемой – чтобы ее мог сформулировать даже ребенок. Стивен Спилберг, один из «отцов» high-concept, как-то сказал: «Мне нравятся идеи, и в первую очередь киноидеи, которые можно пощупать. Если эта идея описывается двадцатью пятью словами или даже меньше, то из нее может вырасти неплохой фильм»[327]. И действительно – как правило, все понятно уже по логлайну (краткий пересказ сюжета одним-двумя предложениями). Если логлайн «цепляет» продюсера, если у вас получилось продать идею при помощи двадцати пяти слов – это потенциальный high-concept. Стоит добавить, что low-concept подразумевает куда более серьезную проработку характеров и прочие премудрости.
4. На какую аудиторию рассчитана история?
5. Можно ли «конвертировать» историю в другие форматы?
Сериал, полный метр, компьютерная игра, театральная постановка, новеллизация, сувенирная продукция. Пример? Поттериана. Джоан Роулинг заработала миллиард с отчислений за игры, сувениры, тематические парки и многое другое.
Хоть вы работаете над романом, но все равно можете задать себе все эти вопросы. У вас наверняка будут пробелы. Не удивляйтесь, если окажется, что вы написали две трети романа, но так и не можете сформулировать, о чем он. Мысленно пройдитесь по вышеприведенному списку – и, возможно, вы поймете, интересна ли ваша история издателю, которому вы хотите предложить рукопись.
Работа с издательством
Как вас покупают и почему отказывают – рассказывает главный редактор «Астрель-СПб» Александр Прокопович.
Общие принципы
«Что такое издательство? Если отбросить лирику, то издатель – это инвестор. Издательство – компания, вкладывающая деньги в покупку авторских прав, а потом – в производство, логистику, подготовку оригинал-макетов и печать книг. Причем действия после покупки авторских прав – способ отбить уже вложенные деньги. Для этого приходится вкладывать куда больше, чем в выплаченные гонорары.
Представляете себе схему? Вы приносите рукопись, вам за нее платят. Потом рукопись проходит редактора, корректора, верстальщика, дизайнера. Итог – файл для типографии. Покупаем бумагу, везем в типографию, потом забираем тираж, развозим по магазинам и ждем, как же магазины начнут продавать книгу. Магазины со временем перечисляют деньги за проданные экземпляры, причем на момент покупки рукописи мало кто понимает, сколько штук удастся реализовать (если речь идет о неизвестном авторе). С раскрученными авторами проще.
Вот такой процесс. Рискованный. Вывод: чтение вашей рукописи – это в первую очередь определение рисков (станет книга продаваться или нет). И не надо стенаний насчет того, что вы написали великий роман, а издатель говорит о продажах. Если издатель будет вести себя иначе, он обанкротится, а в итоге от этого пострадают и авторы. Редактор, даже если он личный поклонник автора, не может опубликовать книгу, если нет соответствующей серии или у коллег-редакторов нет запроса на текст вашего жанра. Посылайте текст «профильному» редактору. И постарайтесь не попасть в странную ситуацию, когда вы написали историческую драму, а отправляете ее редактору, занимающемуся детской литературой.
Что дальше? Либо “взрослую” книгу опубликуют в детской серии, что похоронит вас как автора, либо вам просто откажут. Во втором случае считайте, что вам повезло. Отказ – не поражение. Если у редакции нет правильных механизмов вывода вашей книги на рынок, лучше пусть вам откажут, а не похоронят плохими продажами».
Письмо в редакцию
«Начну с простого. Вы посылаете текст в редакцию. Вы же надеетесь, что его напечатают? Обращайте внимание на объем. Не присылайте рассказ объемом в десять страниц – что с ним делать? Вы видели книги в десять страниц?
На сайте издательства, как правило, выложена информация: что присылать и как присылать. Молодые авторы задаются вопросом – нужен ли синопсис? Нужен. Кроме контактов, предоставьте синопсис и фрагмент текста. Если окажется, что вы не можете коротко пересказать историю, охарактеризовать героя и объяснить мир художественного произведения… А так ли хороша ваша книга? Вместе с синопсисом вы отправляете фрагмент текста или рукопись. Алгоритм работы редактора таков: он смотрит текст и, если язык его устраивает, заглядывает в синопсис. Если возникает интерес – читает рукопись. Не расписывайте синопсис больше чем на страницу. На первых этапах редактор анализирует, что написано и как написано, а после принимает решение, читать текст целиком или нет.
Присланную письмом рукопись не стоит запаковывать архиватором – скажем, я часть почты получаю со смартфона, и если вижу архив, то пропускаю. Не стоит присылать текст, разбитый на файлы по количеству глав, только целиком: ни один редактор не захочет соединять файлы в одну историю. Никаких экзотических текстовых редакторов – в издательствах никто не экспериментирует с программным обеспечением. Обычный Word, причем не новый – самого нового, вероятно, в редакции и нет. И никаких картинок, которые утяжеляют файлы в разы, даже если это ваш портрет. Некоторые авторы пытаются “удивить” редактора шрифтом, цветом, колонтитулами. Нет, это не удивляет, это раздражает.
Перед тем как послать текст в редакцию, перечитайте. Проверьте орфографию, посмотрите, что еще исправить. Если вам все равно, представьте, что о вас подумает редактор.
Рекомендую в начале текста разместить контактные данные. Отдельно в письме – обязательно, но в тексте тоже. Не на каждой странице – это только мешает, а вот на первой странице – да. Почему? Представьте, редактор распечатал текст, бросил в сумку и поехал домой. Прочел, понравилось. Как найти контакт автора? В почте уйма писем, а тут – о, чудо! – контакт на первой странице рукописи»[328].
Вопрос – ответ. Александр Прокопович
Что писать о себе в сопроводительном письме издателю?
Только нужное. Ваша биография, биография вашей семьи, ваши оценки в школе – все это никому не интересно. Имя, фамилия, телефон для связи – все.
Для чего вообще нужен синопсис?
Для того, чтобы в издательстве сразу поняли, годится ваш текст или нет. И не путайте синопсис с рекламой. Как бы вы ни расписывали, какой у вас замечательный роман, какое огромное влияние он окажет на интеллектуалов всей страны, какие бы прибыли вы ни обещали, помните: все это делали до вас тысячи людей, и никому это ничем не помогло.
О чем писать в синопсисе?
Синопсис должен быть понятным и информативным, то есть отвечать на три главных вопроса: что за мир, что за герой, в чем интрига?
Что писать в письме редактору?
Вот самый простой шаблон, содержащий всю необходимую информацию:
Здравствуйте, [имя редактора].
Я бы хотел предложить вам рукопись [название] (x знаков с пробелами, или y а.л.), в жанре [название жанра].
Аннотация: […]
Синопсис: […]
Спасибо за внимание.
Подводим итоги: что делать автору?
Для повышения шансов на публикацию полезно участвовать в конкурсах, которые проводят издательства, «светиться» в их проектах и сборниках. Если вы попали, как говорится, в обойму, то можете быть уверены, что ваш новый текст прочитают, – ведь ваше имя уже знакомо издательству. Если же вы пишете письмо в редакцию как автор «с улицы», постарайтесь сделать так, чтобы оно сработало.
Напоследок – еще замечание: вы сами выбираете, с одним издательством работать или с несколькими. Как правильно? И так и так. Просто учитывайте плюсы и минусы. С одной стороны, если вы работаете с разными издательствами, то заставляете их конкурировать за вас и, следовательно, находитесь в выигрышной позиции. С другой стороны, ни одно из этих издательств не вложит ни копейки в вашу рекламу, в продвижение. Потому что они не захотят инвестировать в конкурентов.
Александр Прокопович – главный редактор «Астрель-СПб», писатель, сценарист. Автор трех романов – «Детектив с Лысой горы», «Спецназ с Лысой горы» и «Крымский ковчег». Сооснователь литературных курсов «Мастер текста».
Будни редактора. Ольга Аминова «Если рукопись талантлива, у “самотечника” есть шанс»
Ольга Аминова, бывший начальник отдела современной прозы издательства «Эксмо» – о роли редактора в жизни писателя, издании новых авторов и работе над текстом.
– Максвелл Перкинс – редактор Хемингуэя, Вулфа и Фицджеральда – очень расстраивался, что заставляет авторов переписывать текст снова и снова. Насколько редактор имеет право вмешиваться в художественный мир произведения? Не возникает ли у вас порой схожих с Перкинсом ощущений?
– Схожие ощущения возникают у меня всякий раз, когда я предлагаю писателям (оговорюсь: авторам, уже имеющим историю публикаций) ту или иную правку. Именно поэтому я всегда сопровождаю редактуру запиской: все исправления и предложения носят рекомендательный характер. Я обязательно аргументирую свои советы. Но если автор отказывается их принять, я не буду настаивать. Во-первых, потому что писатель – «сам свой высший суд». Во-вторых, никто не может быть абсолютно уверен в своей правоте. И редактор не исключение. Сегодня кто-то, может быть, смеется над словотворчеством того или иного писателя, а завтра его опыты будут восприниматься как откровение. Может такое быть? Безусловно!
– Какова роль редактора в современном издательстве? Серьезно ли вы правите тексты авторов, с которыми работаете?
– Помните, кому посвятил свой роман Юрий Домбровский «Факультет ненужных вещей»? Анне Самойловне Берзер – редактору «Нового мира». А почему? Потому что она боролась за публикацию этого шедевра, отстаивала право художника быть услышанным. Сейчас редактору тоже порой приходится отстаивать авторов, но не из-за цензурных запретов (их, в общем-то, нет), а по коммерческим причинам. Есть авторы, которые опережают свое время, непонятны большинству, поэтому имеют ограниченный круг читателей. Выходит, их не нужно публиковать? Но эти писатели – провидцы. Их тексты – кирпичики новой традиции, которая со временем, возможно, станет желанной для большинства. Современный редактор – это менеджер проекта. Он не только работает с текстом, взаимодействует с автором, заключает с ним договор. Современный редактор определяет целевую аудиторию книги, ее конкурентную среду, разрабатывает маркетинговый комплекс проекта, позиционирование. Отвечает и за цену книги на рынке, и за художественное оформление, и за оборачиваемость, и за рентабельность.
– Один из «ваших» авторов – Виктор Пелевин. Сложно ли работать с такими именитыми авторами? Насколько авторы открыты для редактуры?
– Чем талантливее автор, тем проще с ним работать. Во-первых, реже приходится редактировать. Во-вторых, он всегда убедительно аргументирует свой отказ от той или иной правки или с благодарностью ее принимает. Большого мастера вообще отличает великодушие.
– Не возникает ли у вас чувства, что вы находитесь в тени? Не хочется ли временами получить больше внимания к своей работе?
– Не возникает. Внимания к моей работе всегда достаточно.
– Вы работаете только со «своими» авторами? Смотрите ли вы тексты новых и неизвестных вам авторов?
– Мне часто приходится читать произведения авторов, которые предлагают к изданию мои коллеги, чтобы совместными усилиями определиться с позиционированием. Я знакомлюсь с рукописями неизвестных авторов, прошедших первичный отбор внештатными рецензентами.
– Велика ли вероятность, что новый автор из «самотека» попадет в список важных для вас книг?
– Если рукопись талантлива, то шанс попасть в список важных для меня авторов у «самотечника», безусловно, есть. Как часто это случается? Очень редко. Но все же случается!
– Каких текстов сейчас не хватает на рынке?
– Это очень общий вопрос. В каждом сегменте художественной литературы я могла бы выделить лакуны по той или иной теме, проблеме. Например, в современной российской прозе очень мало иронии. Сатиры – хоть отбавляй. А вот юмора, доброй иронии – кот наплакал.
– Издательство «Эксмо» всегда очень выборочно подходило к новым авторам. Как вы принимаете решение об издании книг? Влияют ли на это решение регалии автора? Или текст говорит сам за себя?
– Скольким увенчанным славой приходилось отказывать, если тексты не были талантливыми!
– Какова роль классического издательства в современном мире, когда каждый может издать свой текст самостоятельно?
– Текст важно не только издать, но и донести его до читателя. Главная потребность писателя – быть услышанным. Причем как можно большим количеством людей. Классическое издательство удовлетворяет эту потребность. Разветвленная система дистрибуции, книжные сети – всем этим обладает крупное традиционное, как вы выражаетесь, издательство.
– Как вы – представитель классического «бумажного» издательства – оцениваете потенциал цифровых книг?
– В самом начале, когда электронная книга только появилась на рынке, мы все очень тревожились, что она вытеснит печатную. Шли разговоры, что скоро не будут нужны ни технические редакторы, ни специалисты по работе с типографиями… Но прошло время, рост продаж электронной книги остановился, а в некоторых странах даже сократился. Всем нам стало очевидно, что печатная книга по-прежнему необходима читателю. Осмелюсь предположить, что даже новому поколению, выросшему уже на цифровых технологиях, так же важно держать книгу на полке, как важно видеть свои фотографии не на экране ноутбука, а в классическом альбоме. Есть множество людей, для которых книга – это не только набор слов, но и запах бумаги, шорох страниц, вещь в коллекции.
– Что такое в вашем понимании «великий» роман? А что такое «хороший» роман?
– «Великий» роман – тот роман, который будет читаться многими поколениями и при этом не потеряет своей остроты, глубины, актуальности; роман, который войдет в школьные учебники. У «хорошего» романа меньше шансов остаться в веках.
– Как выглядит работа с новым текстом, принятым к публикации?
– Если вы имеете в виду писателя, который уже издается в редакции, его книги выходят в определенной серии, то работа с его новым текстом строится так: читаю, пишу отзыв на произведение (или откликаюсь устно) с перечислением достоинств и недостатков, если последние имеются. Далее, если требуется, автор дорабатывает текст – я вновь его читаю (одобряю или вновь отдаю на доработку) и передаю литературному редактору, после редактуры согласовываю с автором правку, пишу аннотацию, придумываем вместе название, набрасываем идеи для художественного оформления, сдаю текст. А там уже начинается работа производственного отдела: разметка, верстка, корректура…
– Как вы работаете с новыми рукописями? Сколько вам нужно времени, чтобы оценить, хорош ли текст?
– Иногда для того, чтобы понять, хорош ли текст, достаточно нескольких первых страниц. Мастерство оцениваю по умению создавать художественный образ. Неважно: образ-характер, деталь, образ действия. Бывает, новому автору отлично удается строить сюжет, но дебютант оказывается неопытен в разработке мизансцен и диалогов. Приходится с автором встречаться, объяснять, показывать на примерах. Отдавать в доработку. Работа бывает длительной. Не всегда все получается с первого раза. Но если автор перспективный, то на него не жаль времени.
– Много ли рукописей приходится читать в месяц?
– Очень много. Каждую неделю по две-три.
– Что определяет качество художественного текста?
– Повторюсь, для меня качество текста определяется умением создать выразительный художественный образ при минимуме средств.
– Как вы считаете: писать хорошо – врожденный дар или приобретенный навык?
– Как-то Сомерсета Моэма спросили, пишет ли он по вдохновению или по необходимости. Моэм ответил, что, конечно, по вдохновению. Тогда последовал другой вопрос: «А как часто оно вас посещает?» Ответ был прост: «Всякий раз, когда сажусь за письменный стол». Профессионализму недостаточно таланта – нужен порядок, необходимо усилие, где-то даже насилие. Писать хорошо – это писать хорошо стабильно. А всякая стабильность сопряжена с приобретением навыка.
– Согласны ли вы с формулировкой, что врожденный дар письма – на самом деле следствие колоссальной начитанности?
– Не согласна. Помните, между Верленом и Рембо состоялся разговор, в котором юный Артюр сказал своему старшему товарищу: «Ты знаешь, как нужно писать, но тебе нечего сказать; мне же есть что сказать, но я не знаю как…» Что-то идет от культуры – от начитанности, а что-то может идти от опыта, без литературного бэкграунда.
– Какие главные проблемы вы как редактор выделяете в текстах, с которыми вам приходится работать?
– У одного текста главные проблемы одни, у другого – другие. Невозможно выделить что-то общее.
– Читают ли в издательствах все рукописи или существует некий фильтр?
– В издательствах читают все рукописи. Только сначала это делают внештатные рецензенты. Именно они и являются первым фильтром.
– Ощущает ли ваше издательство дефицит новых авторов?
– Дефицит таланта есть всегда.
– Как правильно оформить рукопись, чтобы редактор ее прочел?
– Первое чтение осуществляют рецензенты. Они пишут отзыв, в котором рекомендуют или не рекомендуют рукопись к ознакомлению редактора. Чтобы рецензент одобрил текст, оформление не важно.
– Вопрос от подписчиков: «Сколько вы получаете рукописей в месяц и сколько выпускаете книг? Какова конверсия?»
– В месяц может прийти до тысячи рукописей в жанре, например, детектива. Но из этой тысячи может ни одна не пойти в печать. Такая прямолинейная конверсия невозможна. В каждом жанрово-тематическом сегменте есть своя статистика издания книг ежемесячно. Например, в нише российской сентиментальной литературы в зависимости от сезона может издаваться от двадцати до сорока книг. И все они могут быть написаны не новичками, а авторами, которые уже давно с нами работают. А вот в сегменте российской интеллектуальной прозы гораздо чаще публикуют новых авторов.
– Вопрос от подписчиков: «Какими качествами должна обладать книга, чтобы ее признали современной классикой?»
– Разве можно в двух словах ответить на этот вопрос? Чтобы не пускаться в разглагольствования, отвечу коротко: в такой талантливо написанной книге должны быть универсальность и актуальность.
– Вопрос от подписчиков: «Я написал книгу. Но ее никто не издает. Это значит, что книга плохая, или ее просто не прочли? Или я плохо ее продвигал?»
– Может быть как первое, так и второе, и третье. Чтобы понять, в чем кроется истинная причина, нужно отправить рукопись в сотню издательств, попросить прочесть независимых экспертов, литературных деятелей, получить от них обратную связь.
– Сегодня автор должен думать не только о том, как написать хороший текст, но и о том, как его продвигать. Какие рекомендации вы можете дать еще не изданному автору при условии, что он написал действительно достойный роман?
– Демонстрируйте издателям готовность участвовать в продвижении. Это значит: соглашайтесь на выступления перед аудиторией, берите на себя ответственность за написание грамотных постов в соцсетях, не отказывайтесь от откликов на запросы СМИ. Проявляйте инициативу!
– Как пробиться? Сейчас проще сделать это? Сложнее? Или ничего не изменилось по сравнению с предыдущими десятилетиями?
– Пробиться сложнее. Связано это с огромным потоком информации, от которого среднестатистический человек пытается отгородиться. И когда автора активно рекламируют, а книгу активно рекомендуют, эффект может быть не только положительным. Вы пытаетесь дать людям информацию, а ее встречают с раздражением.
– Не лучше ли молодому автору начинать писательский путь с сетевого самиздата? Или все же можно рассчитывать на внимание большого издательства?
– Можно!
Вопрос – ответ. Обо всем
Что читать, чтобы хорошо писать? Переходит ли количество прочитанной хорошей литературы в качество собственных текстов?
Еще как переходит. Читайте все, что нравится. Все, что цепляет. Уделяйте чтению время. Для начала не обращайте внимания ни на что, кроме самого процесса чтения, но чем больше вы станете читать, тем отчетливее начнете замечать нюансы, которых раньше просто не видели. Смотрите на стиль. Сравнивайте тексты разных авторов. Читать плохие тексты – тоже школа: со временем вы поймете, как не надо писать.
Нет денег на писательские курсы, но очень нужна теоретическая подготовка. Как раздобыть и систематизировать новые знания?
Начнем с курсов: они не сделают вас писателем. Но если есть непреодолимое желание попасть на такие курсы, найдутся и деньги, и время. Новые знания можно получить из этой книги, из книг великих писателей, из общения с другими начинающими писателями. Жизнь – школа, в которой не бывает каникул. Пишите каждый день. Без перерывов на выходные. Опытные писатели называют это «путешествием вглубь себя».
Много ли сейчас издается художественных произведений?
Вот лишь один пример: если сложить в стопку все книги, выпущенные крупнейшей в России издательской группой «Эксмо-АСТ» за 2017 год, высота этой стопки будет равна 31 тысяче Останкинских телебашен[329]. Немало, согласитесь! А если прибавить еще и книги за 2018 год… Да, речь обо всех книгах. Но художественная литература в портфеле издательства занимает большое место.
Можно ли заработать писательством?
Все тот же холдинг «Эксмо-АСТ» недавно пообещал за пять лет сделать профессию писателя одной из самых высокооплачиваемых в стране. Каким образом? Вот тезисно пункты программы. Во-первых, следует помогать автору с самого начала работы над книгой. Во-вторых, планируется при помощи нейросетей анализировать психотип читателя: что ему не нравится – некрасивые обложки, невнятные аннотации? Следовательно, и продаваться книги будут лучше. Молодых авторов надо учить лучше писать – то есть создать образовательную инфраструктуру. Бестселлеры следует продвигать еще лучше, а структуру работы с книжными магазинами коренным образом поменять. Все это, если верить руководству «Эксмо-АСТ», должно исправить систему… и дать писателю больше денег. Это планы.
А что сейчас? Сейчас писательством зарабатывают – всерьез зарабатывают – лишь единицы, и речь о писателях из первой десятки: Донцова, Акунин, Пелевин и так далее. Но худо-бедно подзаработать на книгах могут и авторы самиздата. По словам главы «ЛитРеса» Сергея Анурьева, лидер продаж «ЛитРес: Самиздат» заработал за 2017 год 700 тысяч рублей, что неплохие для автора деньги.
Но это скорее исключение из правил. Как правило, писателя кормят смежные профессии. Одни пишут сценарии. Другие переводят. Третьи занимаются журналистикой. Да и доходы популярных авторов вовсе не баснословны – России в этом смысле далеко, например, до США: там успешный писатель с именем зарабатывает своим пером миллионы долларов. С другой стороны, и на Западе миллионные гонорары – удел лишь единиц. Словом, лучше смириться и жить с мыслью, что золотых гор писательство вам не принесет. И если вам все-таки удастся сделать на своем романе приличные деньги – пусть это станет приятным сюрпризом.
Советы писателям. Маргарет Этвуд
Обзаведитесь блокнотом. Записывайте идеи, которые, возможно, когда-нибудь пригодятся.
Читайте много. Читайте критически! Отмечайте, что вам нравится, а что нет. Обращайте внимание, как авторы работают с сюжетом и языком. Каждый писатель когда-то был просто читателем. Выберите тех авторов, кто вам особенно по душе, и с карандашом в руках анализируйте их книги. Мы все учимся у коллег, это нормально.
Не забывайте об осанке. Писательский труд – огромная нагрузка для спины и шеи. Трудно писать, когда корчишься от боли. Ведите здоровый образ жизни, делайте упражнения, укрепляйте спину. Занимайтесь спортом. Гуляйте.
Столкнулись с писательским блоком? Сходите прогуляться или отправляйтесь спать. Во время прогулки вас может посетить мысль, как выйти из тупика. Да и во сне порой приходят хорошие решения, главное – правильно задать вопрос подсознанию. Кто знает, вдруг поутру вы проснетесь с гениальной идеей?
Не бойтесь излить душу бумаге. Что бы вы ни написали, это не видит никто, кроме вас. Не беспокойтесь, что скажут люди. А если потом вы поймете, что хотели написать вовсе не это, – мусорная корзина всегда под рукой.
Из видеолекции «Margaret Atwood’s Top Writing Tips»[330].Книги о писательском мастерстве
А. П. Чехов «Правила для начинающих авторов»
Цитата из этого свода веселых правил стала эпиграфом к книге «Пиши рьяно, редактируй резво». Чехов дает простые и внятные советы, которые помогут пишущим людям разобраться в анатомии творчества. Конечно же, Чехов пишет с иронией: «В печатном мире существуют приличия. Здесь так же, как и в жизни, не рекомендуется наступать на любимые мозоли, сморкаться в чужой платок, запускать пятерню в чужую тарелку и т. д.».
Д. Суэйн «Приемы издающегося писателя»
Одна из лучших работ по писательскому мастерству. На русский язык официально не переведена, частично цитируется в этой книге. Но это лишь вершина айсберга – Дуайт Суэйн заслуживает самого пристального внимания.
А. Митта «Кино между адом и раем»
«Смех, жалость, ужас суть три струны нашего воображения, потрясаемые драматическим волшебством», – утверждал Пушкин. Но надо еще сыграть на этих струнах, так что режиссер Александр Митта добавляет: «Все талантливые люди талантливы по-разному. Если вы хотите открыть своему таланту путь к тем, кто вас поймет и оценит, эта книга поможет». Фундаментальный труд о теории драмы.
К. Воглер «Путешествие писателя»
Путешествие героя – настоящее или воображаемое, за золотым ключиком или за обретением веры в себя – основа и движущая сила любой интересной истории, от мифа до голливудского блокбастера. Продюсера Кристофера Воглера вдохновила знаменитая работа антрополога Дж. Кэмпбелла «Тысячеликий герой» (о ней речь ниже) об универсальном мифологическом мотиве приключения, и он, по опыту зная, что древние схемы применимы и в современном искусстве, написал практическое пособие для будущих писателей и сценаристов. Стоит непременно прочесть эту книгу.
Ч. Паланик «36 писательских эссе» (36 Writing Essays)
Благодаря прекрасному любительскому переводу русскоязычные писатели получили доступ к интереснейшему труду – «36 писательских эссе» Чака Паланика, автора знаменитого «Бойцовского клуба». В книге описаны методы и приемы, которые могут помочь начинающим авторам писать увереннее. Не обошлось и без автобиографических вкраплений.
Р. Макки «История на миллион долларов»
Фундаментальная работа, в которой есть все ответы на любые вопросы начинающего сценариста и писателя. Это книга сценариста-практика, посвященная препарированию хорошей истории: структурные элементы, типология героев и многое другое.
Р. Макки «Диалог»
Еще одна книга автора бестселлера «История на миллион долларов», вышедшая в апреле 2018 года. Искусство слова для писателей, сценаристов и драматургов. «Говорение лучше любого другого свойства демонстрирует, что люди – это люди». Драматизированный и нарратизированный диалоги. Конфликт. Текст и подтекст. Прочитав эту книгу, вы поймете, как следует говорить вашим героям.
Дж. Труби «Анатомия истории»
Почему я включил в список эту книгу Джона Труби? Главное, ради чего стоит ее прочесть, – она научит вас писать логлайн. Логлайн, как уже говорилось, – это дистиллят истории, ее суть, ужатая до одного предложения, максимум двух. Но, конечно, это не единственное достоинство книги.
С. Кинг «Как писать книги»
«Плодовитый американский писатель», как себя называет Стивен Кинг, долго не решался на автобиографию. А когда решился – получилась достойная работа по писательскому мастерству. Первая часть книги посвящена непосредственно жизнеописанию, вторая – писательству. Обязательна к прочтению.
У. Эко «Откровения молодого романиста»
Умберто Эко сквозь увеличительное стекло рассматривает все аспекты писательства. Самоанализ, размышления о заимствованиях, о влиянии писателя на реальность. Читать этот серьезный труд, как и все книги знаменитого итальянца, непросто, но результат стоит потраченных усилий: вы узнаете, как работал Эко, чьи романы издаются многомиллионными тиражами.
А. Рэнд «Искусство беллетристики»
Вот что написано в предисловии: «Издательская версия неофициального курса лекций Айн Рэнд, прочитанного в собственной гостиной в 1958 году. Это был год, ознаменовавшийся выходом в свет книги “Атлант расправил плечи”, когда Рэнд была на пике творческой формы как писатель-романист».
К. Воннегут «Времетрясение»
Полуавтобиографическая книга, в которой Курт Воннегут размышляет о писательском мастерстве: «На своих семинарах я учил, как общаться посредством чернил и бумаги. Я говорил студентам, что любая написанная ими вещь – это как будто свидание вслепую, когда тебе нужно с первого раза очаровать незнакомого человека, так чтобы ему не было с тобой скучно и чтобы ему захотелось встретиться с тобой еще раз. Также можно представить себя владельцем первоклассного публичного дома, где всегда толпы клиентов, хотя на самом деле писатель творит в полном одиночестве».
Н. Воттс «Как написать повесть»
Всего лишь одна цитата: «Слово “автор” происходит от латинского auctor, что в буквальном переводе означает “основатель, создатель, творец, тот, кто из ничего делает нечто”. И хотя мы можем строить повесть так, как ребенок строит песочный замок, ядром удачной повести будет это загадочное “авторство”, то есть действие, благодаря которому повесть вырастает совершенно естественным путем».
Аристотель «Поэтика. Риторика»
О чем эта книга? «О сущности поэзии и ее видах – о том, какое значение имеет каждый из них, как следует слагать фабулы для того, чтобы поэтическое произведение было хорошим, из скольких и каких частей оно должно состоять, а также о других вопросах, относящихся к той же области…» Классический труд, с которым должен ознакомиться каждый уважающий себя автор.
Х. Мураками «О чем я говорю, когда говорю о беге»
Книга о писательстве – занятии вредном и нездоровом – сквозь призму оздоравливающего бега: «Сомерсет Моэм писал, что даже в бритье есть своя философия. Каким бы скучным ни было действие, когда повторяешь его изо дня в день, оно приобретает некую медитативную сущность. В этом смысле я полностью разделяю позицию господина Моэма. А значит, если я, будучи писателем, а также и бегуном, решу записать свои скромные размышления о беге, ну и, соответственно, потом их напечатать, то в этом не будет ничего предосудительного».
Дж. Кэмпбелл «Тысячеликий герой»
Когда Джордж Лукас снимал «Звездные войны», это была его настольная книга. Почему? «Цель этой книги… состоит в том, чтобы раскрыть некоторые из… истин, выступающие для нас в облачении религиозных фигур и мифологических персонажей, сопоставив множество не слишком сложных для понимания характерных фрагментов, и тем самым выявить издревле присущий им смысл». Так ли сильно разнятся мифотворчество и современный «сторителлинг»? Прочтете – узнаете.
М. Карри «Режим гения. Распорядок дня великих людей»
В предисловии говорится: «Прочитав эту книгу, вы поймете, как включать “режим гения” и создавать шедевры усилием воли и каждодневным трудом, не дожидаясь мифической музы». Спорное утверждение, но если вам интересен график работы некоторых писателей, под обложку стоит заглянуть.
С. Шелдон «Оборотная сторона успеха»
Автобиография легендарного писателя, щедро пересыпанная писательскими советами. Девятнадцатая, завершающая книга Шелдона, подводящая итоги ошеломительного успеха человека, чьи романы по-прежнему прекрасно продаются.
И. Бабель «Работа над рассказом»
«Когда я начинал работать, писать рассказы, я, бывало, на две-три страницы нанижу в рассказе сколько полагается слов, но не дам им достаточно воздуха. Я прочитывал слова вслух, старался, чтобы ритм был строго соблюден, и вместе с тем так уплотнял свой рассказ, что нельзя было перевести дыхания». Советы, которые и сейчас звучат современно.
У. Индик «Психология для сценаристов»
Из аннотации: «Работа над сценарием, как и всякое творчество, по большей части происходит по наитию, и многие профессионалы кинематографа считают, что художественная свобода и анализ несовместимы. Уильям Индик категорически с этим не согласен. Анализируя теории психоанализа – от Зигмунда Фрейда и Эрика Эриксона до Морин Мердок и Ролло Мэя, автор подкрепляет концепции знаменитых ученых примерами из известных фильмов с их вечными темами: любовь и секс, смерть и разрушение, страх и гнев, месть и ненависть».
М. Горький «О писателях-самоучках»
«За время 1906–10 годов мною прочитано более четырехсот рукописей, их авторы – “писатели из народа”. В огромном большинстве эти рукописи написаны малограмотно, они никогда не будут напечатаны, но – в них запечатлены живые человечьи души, в них звучит непосредственный голос массы, они дают возможность узнать, о чем думает потревоженный русский человек в долгие ночи шестимесячной зимы». В этой статье Горький резюмирует прочитанное и дает советы.
«Мастерство писателя». Антология журнала «Литературная учеба»
Яркая подборка эссе и очерков о писательском мастерстве. Полезное и важное чтение для тех, кто изучает опыт великих писателей.
В. Пропп «Морфология / Исторические корни волшебной сказки»
«О возможности понятия и термина “морфология сказки” никто не думал. Между тем в области народной, фольклорной сказки рассмотрение форм и установление закономерностей строя возможно с такой же точностью, с какой возможна морфология органических образований». Пропп, один из классиков отечественной и мировой гуманитарной науки, анализирует устный фольклор и демонстрирует его косвенное влияние на художественные тексты.
В. Кононов «Автор, ножницы, бумага. Как быстро писать впечатляющие тексты»
Из аннотации: «Журналист и писатель, главный редактор издания “Секрет фирмы”, автор книг “Код Дурова” и “Бог без машины” рассказывает, как придумать и сформулировать тему для текста – статьи, книги, питча, письма, поста – написать его и самостоятельно отредактировать».
К. Бейти «Литературный марафон: как написать книгу за 30 дней»
Крис Бейти, когда-то придумавший национальный месячник сочинения романов (NaNoWriMo), написал книгу о том, как писать книги. В книге собраны «стратегии, которые позволяют найти местечко для книги в нашей невероятно напряженной жизни».
Б. Костелянц «Драма и действие»
Для Бориса Осиповича Костелянца, известного советского литературного критика, драма всегда была не просто родом литературы: в ее основе – всегда драматический выбор, который проверяет на прочность «связи человека с человеком и человека с миром». Книга как раз об этом.
В. Шкловский «Техника писательского ремесла»
«Сейчас несколько тысяч писателей. Это очень много. Современный писатель… живет у знакомых или в Доме Герцена на лестнице. Но Дом Герцена не может вместить всех желающих, потому что, как я говорил, их тысячи, это небольшое несчастье, потому что можно было бы построить специальные казармы для писателей». Яркая, ироничная книга знаменитого советского литературоведа: советы писателям, рассказы о писательском опыте.
И. Горюнова «Как заработать, если умеешь писать»
Книга, написанная литературным агентом: выпускница Высших литературных курсов при Литературном институте сначала сама стала писателем, а потом стала помогать другим писателям в продвижении. В книге рассказывается именно о том, о чем написано на обложке: как продать текст. Полезна она и маркетинговыми советами.
Вопрос – ответ. Майя Кучерская «Стиль – это отпечаток ваших литературных пальцев»
Майя Кучерская, руководитель проекта Creative Writing School (CWS), ответила на вопросы подписчиков Telegram-канала «Хемингуэй позвонит».
– Как писать так, чтобы людям нравилось? Можно ли этому научиться?
– Вот скажите мне: зачем писать, чтобы нравилось людям? Надо, чтобы нравилось вам! Только вам! Чтобы вы были в восторге, чтобы вы кричали себе: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Ваш восторг и драйв зарядят текст, и только тогда он понравится всем. Не верите? Напишите два рассказа. Один – чтобы понравился вам. Другой по правилам – в центре симпатичный герой, с ним происходят разные неожиданности, приключения, любовь, в конце пусть он все преодолеет и окажется молодцом. А теперь проверьте, какой текст больше понравится «людям». Если внезапно оба – поздравляю вас, вы – профессионал.
– Как найти себя, выработать уникальный стиль?
– Много, много писать, сочинять, откладывать, вычеркивать, но не выбрасывать, заново придумывать. Однажды остановиться и оглядеть эту груду написанного. Вы увидите, что у вас два-три любимых мотива, повторяющихся из текста в текст. Две-три любимые темы, несколько излюбленных стилевых приемов – вот это и есть уникальный вы.
– Что такое писательский стиль в вашем понимании? Можно ли к нему отнести «авторские» знаки препинания? Есть разные мнения.
– Стиль – это отпечаток ваших литературных пальцев. Знаки препинания, как и их отсутствие, синтаксис, длина предложения – все это входит в стиль.
– Читают ли в «толстых» литературных журналах тексты, присланные никому не известными авторами? И вообще – где лучше продвигать свои тексты?
– Читают, в каждом журнале «на самотеке» сидят специальные люди и по крайней мере проглядывают все присланные тексты. Поэтому начало вашего текста должно быть сильным, цепляющим – именно его, скорее всего, и прочтут. Как и финал. Продвигать нужно везде – подавать на премии, отсылать во все журналы. Не ждать, не волноваться – сочинять дальше, и… однажды все придет.
– Дает ли обучение в CWS какие-то привилегии в смысле издания текста на бумаге? Поддерживаете ли вы связь с издательствами, ищут ли они перспективных авторов среди обучающихся в вашей литературной мастерской?
– Обучение в CWS, как, кстати, и в новооткрытой магистерской программе «Литературное мастерство» в Высшей школе экономики, дает привилегии – но совсем другие. Вас учат писать, строить текст, создавать героя, редактировать себя. И вы – это совершенно неизбежно – начинаете писать все лучше и лучше. Любой сидящий «на самотеке» редактор распознает сильные, профессиональные тексты мгновенно – по уверенной повествовательной поступи. CWS этой поступи учит. Рекомендовать своих учеников мы почти никогда не рекомендуем, очень редко, в особых случаях. Пусть их успех будет результатом их усилий – так и им будет слаще, и нам.
– Как вкраплять секс в произведения (и надо ли это делать вообще), чтобы не скатиться в откровенную пошлость и порнуху?
– На русском языке это трудно, поэтому надо действовать осторожно, именно «вкраплять», передавать эротическое напряжение не прямо, а через дополнительные детали, через разговор как бы о другом, а на самом деле об этом.
– Чему вы учите в магистратуре Высшей школы экономики? На кого рассчитана эта программа? На сколько лет?
– Учим любить. Любить сочинять, талантливо и с драйвом, но и читать, читать классиков и современников. Учим продвигать свою книгу. В общем, учим на профессиональных литераторов всеми доступными средствами: курсы по литературной истории, теории, практике, встречи с современниками. Придумываем свои литературные проекты, в основном веселые. И так, не приходя в сознание, все два года.
– Где граница между черновиками романа? Очень часто можно услышать такую фразу: это мой третий черновик. В какой момент второй черновик перестает быть вторым и становится третьим?
– Сложно сказать. По-моему, сегодня, когда все мы пишем на компьютере, граница между первым-вторым-третьим черновиком совершенно размылась. Пишешь себе и пишешь, и черновик постепенно превращается в беловик.
– Как, по-вашему, лучше писать: составляя план романа или отпуская текст, чтобы он, как говорится, «сам себя писал»?
– Ну, хорошо бы понимать, куда вы движетесь и куда хотите привести своего героя. План всегда полезен, хотя бы краткий. Но внутри отведенных отрезков пусть, конечно, текст пишет себя. В описании эмоциональных сцен это необходимо.
– Насколько важна подготовительная работа при написании романа? Нужны ли полевые исследования, и если да, то как долго их проводить, прежде чем садиться за написание текста?
– Полевые исследования – необходимы. Мы же не можем все знать. Но должны. Пишем про ювелира – досконально изучаем ювелирное ремесло. Ошибки – исторические, фактические – всегда не в пользу текста. Точность – наоборот. Причем это чувствуют даже неспециалисты – где вы приблизительны в описаниях, а где точно знаете, о чем пишете. Так что за время создания, скажем, романа об эпохе оттепели, вы должны стать экспертами по этой эпохе.
– Стоит ли брать псевдоним, чтобы создать уникальный бренд, если в сети у вас уже есть известные однофамильцы? Как вести социальные сети, если берешь псевдоним: создавать новый профиль специально для этой виртуальной личности или вести свой обычный профиль, раскрыв подписчикам свой псевдоним?
– Если это известные литераторы с вашим именем – есть о чем задуматься. Может, и стоит. А еще лучше сделать так, чтобы, произнося, например, «Маша Иванова», все имели в виду именно вас. Затмить конкурента.
– Представим ситуацию. Писатель издал свою дебютную книгу. Рекламная кампания запущена, первые читатели хвалят, рецензии тоже положительные. Но продажи не идут. Что делать?
– Срочно писать вторую книгу.
Майя Кучерская – российская писательница, литературовед и литературный критик. Кандидат филологических наук. Лауреат «Бунинской премии» (2006), «Студенческого Букера» (2007). Победительница в читательском голосовании премии «Большая книга» (2013). Руководитель магистерской программы «Литературное мастерство» в НИУ ВШЭ. Руководитель Школы литературного мастерства Creative Writing School.
Меморандум газеты The Star
«Правила Хемингуэя»
Перед вами – выдержки из так называемого руководства по стилю газеты The Star, выходившей в Канзас-Сити. Этот документ получил молодой Эрнест Хемингуэй, когда в 1917 году его взяли туда на работу – криминальным репортером. Даже сорок лет спустя писатель признавался, что советы из этого руководства стали для него «лучшими правилами писательского дела». Раннее руководство по стилю The Star дошло до нас в двух разных версиях – судя по всему, именно приведенной ниже версией руководствовались сотрудники газеты во времена Хемингуэя. В руководстве, по которому учился писать молодой Хэм, было 150 правил. Вот те, что относятся непосредственно к написанию текстов:
1. Пиши короткими предложениями. Первые абзацы должны быть краткими. Пиши энергичным языком. Утверждай, а не отрицай.
2. Никогда не пользуйся старомодным сленгом. Сленг интересен, когда свеж.
3. «Похитители украли семь ручек», не «Похитители украли несколько ручек» – если знаешь число, уточняй.
4. Удаляй чрезмерно сложные конструкции. «Похороны состоятся во вторник, в 14:00», не «Похоронная церемония будет иметь место в два часа пополудни, во вторник».
5. «Он болел в феврале», не «Он болел на протяжении февраля». Последний вариант означает, что он проболел весь февраль.
6. Употребляй слово «револьвер» или «пистолет», а не «оружие».
7. Пиши «Мэри пошла по магазинам с Мэйбл», не «в компании с Мэйбл».
8. «В комнате было несколько человек», не «несколько людей».
9. Длинная цитата без указания автора слов – это очень плохо. Как можно раньше укажите говорящего: «Я бы предпочел, – сказал интервьюируемый, – чтобы читатель как можно быстрее узнал, кто я такой».
10. Пытайся сохранить стиль речи в цитате. Например, цитируя ребенка, не заставляй его говорить: «Я поднял камень и непреднамеренно его швырнул».
11. Никогда не говори «усопший».
12. «Голосующие выбирают из нескольких кандидатов», не «между несколькими». «Выбирать между двумя кандидатами» правильно.
13. Старайся не вставлять «что» слишком часто, руководствуйся требованиями благозвучия и гладкости.
14. Простота и хороший вкус предполагают «дом» вместо «резиденции» и «живет» вместо «проживает»
15. «Он прошел двенадцать миль», а не «он прошел расстояние в двенадцать миль»; «он заработал десять долларов», а не «он заработал сумму в десять долларов», «он пошел туда, чтобы увидеть свою жену», а не «он пошел туда для того, чтобы увидеть свою жену»; «он был в отпуске в июне», а не «он был в отпуске в июне месяце»[331].
Монологи о ремесле
О писательстве
«Писательство как форма молитвы»[332]. Ф. Кафка
«Писатель – это тот, кому писать труднее, чем остальным людям»[333]. Т. Манн
«Первым и главным признаком того, что данный писатель не есть величина случайная и временная, – является чувство пути»[334]. А. Блок
«Писательство все чаще и чаще кажется мне родом недуга, эдаким странным вирусом, который отделяет автора от других людей и побуждает его совершать бессмысленные поступки (к примеру, запираться в комнате и долгими часами сидеть перед чистым листом бумаги вместо того, чтобы ласкать юное создание с нежной кожей)»[335]. Ф. Бегбедер
«Рассказать писателю хорошую историю – все равно что обняться с карманником»[336]. М. Шалев
«…настоящая проза та, которая вызывает у читателя высокое эмоциональное напряжение и либо оставляет его в этом состоянии, либо заставляет пережить резкий спад, скачок вниз»[337]. Ф. С. Фицджеральд
«Писательское ремесло или писательское искусство – жалкая попытка найти выражение для невыразимого. В полнейшем одиночестве писатель пытается объяснить необъяснимое. И иногда, если он достаточно удачлив и обстоятельства складываются благоприятно, очень немногое из того, что он пытается сделать, просачивается – но очень немногое»[338]. Дж. Стейнбек
«Беда с этой писаниной. Я без нее не могу, она как болезнь, как наркотик, как чертово бремя, но всерьез считать себя писателем я не хочу. Может, потому, что слишком их на своем веку навидался. Они в основном не пишут, а поливают грязью друг друга. Все, кого я встречал, были либо суетливыми пакостниками, либо старыми девами; они без конца пикировались и делали гадости, при этом чуть не лопаясь от сознания собственной важности. Неужели все пишущие были таковы? Во все времена? Наверное, так оно и было. Писательство, похоже, вообще сучья профессия. И одним сучизм дается лучше, чем другим»[339]. Ч. Буковски
О таланте и мастерстве
«Начинающий писатель подобен дикарю – он не знает того, что стоит за пределами его опыта. Дикаря научили стрелять из ружья, оно кажется ему самым грозным оружием: ему неизвестны пушки, пулеметы, гранаты, ракеты. Так и начинающий писатель. То, до чего дошел он сам, своим умом, кажется ему вершиной искусства, собственная находка представляется открытием. Только со временем приходит сознание ограниченности и несовершенства имеющихся в арсенале изобразительных средств. Это сознание и есть первая ступень мастерства»[340]. А. Рыбаков
«Когда я начинал писать, то наслаждался текстом сам, но страдали читатели. Когда я стал опытнее, то мне перестали нравиться мои прежние творения: та писанина показалась мне ужасной. Над каждым текстом я страдал, как женщина в родовых муках. Но читатели начали получать удовольствие»[341]. Э. Хемингуэй
«Кроме того, что знать литературу, знать историю, нужно знать русский язык, потому что язык есть орудие мышления и орудие художественного творчества. Если мы им плохо владеем, то мы, значит, плохие мыслители и плохие художники»[342]. А. Н. Толстой
«Талант развивается из чувства любви к делу, возможно даже, что талант – в сущности его – и есть только любовь к делу, к процессу работы. Уважение к читателю требуется от литератора так же, как от хлебопека: если хлебопек плохо промешивает тесто, если из-под рук в тесто попадает грязь, сор – значит, хлебопек не думает о людях, которые будут есть хлеб, или же считает их ниже себя, или же он – хулиган, который, полагая, что “человек не свинья, все съест”, нарочно прибавляет в тесто грязь. В нашей стране наш читатель имеет особенное, глубоко обоснованное право на уважение, потому что он, исторически, юноша, который только что вошел в жизнь, и книга для него – не забава, а орудие расширения знаний о жизни, о людях»[343]. М. Горький
«У великих или вечных писателей “каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели” и что “кроме жизни, какая есть”, они еще чувствуют “ту жизнь, какая должна быть”»[344]. А. П. Чехов
«Выразить словами то, что понимаешь, так, чтобы другие поняли тебя, как ты сам, – дело самое трудное, и всегда чувствуешь, что далеко, далеко не достиг того, что должно и можно»[345]. Л. Н. Толстой
О дисциплине
«Не писать вообще – это проще всего на свете»[346]. У. Голдмен
«Я писатель только тогда, когда пишу»[347]. Х. К. Онетти
«Часы, потраченные на разговор о писательстве, – это часы, отнятые у самого процесса»[348]. С. Кинг
«Я пишу только тогда, когда приходит вдохновение. К счастью, вдохновение приходит каждый день в 9 утра»[349]. У. Фолкнер
«Вдохновение и интерес – это то же самое. Уклониться от истинного вдохновения столь же трудно, как и от порока. При истинном вдохновении исчезает все и остается только оно одно»[350]. Д. Хармс
О сомнениях
«Я в каком-то смысле подделка – вроде как пишу из нутра отвращения, едва ли не полностью»[351]. Ч. Буковски
«Писатель – это человек, который годами, кропотливо и неустанно пытается найти свое второе “я”, тот мир, который формирует его личность, делает его таким, каков он есть. Когда я говорю о творчестве, о процессе создания книги, я имею в виду не роман или поэму. Я прежде всего говорю о человеке, который добровольно заточает себя в комнате, садится за стол и погружается в глубинное одиночество – именно там, среди его теней и призраков, рождается новый мир, сотканный из слов»[352]. О. Памук
«Писателей во время работы всегда должно быть двое – один пишет, другой критикует, ночью же критик отсутствует»[353]. Л. Н. Толстой
«Я писал “Американских богов” и очень страдал от синдрома самозванца, потому что я англичанин, а это была колоссальная книга о США, и я хотел написать про всех этих… ну знаете, про богов, религии, про разное видение мира. Но все же я закончил “Американских богов”, у меня на это ушло года полтора. Я случайно столкнулся с Джином и сказал ему: “Я закончил первый вариант «Американских богов»! Кажется, я наконец-то научился писать романы”. Учтите, это был мой третий или четвертый по счету роман. А Джин посмотрел на меня с бесконечной жалостью и мудростью в глазах и ответил: “Нил, научиться писать романы – нельзя. Можно только научиться писать тот роман, который пишешь сейчас”»[354]. Н. Гейман
«Если я глупец, то, по крайней мере, сомневающийся; и я не завидую ни одному человеку, уверенному в своей непогрешимой мудрости»[355]. Дж. Г. Байрон
О деньгах
«Оставайтесь любителем. Никогда не пишите ради денег, – пишите только ради удовольствия»[356]. У. Фолкнер
«Писанье как “искусство для искусства” выгоднее, чем творчество за презренный металл. Пишущие домов не покупают, в купе первого класса не ездят, в рулетку не играют и стерляжьей ухи не едят. Пища их – мед и акриды приготовления Саврасенкова, жилище – меблированные комнаты, способ передвижения – пешее хождение»[357]. А. П. Чехов
О надтекстовом смысле
«Истина многоуровнева. У нее есть рациональный уровень, за который отвечает наука, и есть иррациональный – область чувств, интуиции, веры. Из всех видов словесного творчества на этом уровне способна работать только литература. В научном труде смысл равен тексту, и в этом его достоинство, поскольку нет ничего печальнее «художественных» научных работ. В труде литературном – если это хороший труд – возникает некий надтекстовый смысл. Это в некотором смысле взгляд за горизонт»[358]. Е. Водолазкин
«Все искусство обращается прежде всего к чувствам, и художественный замысел, воплощаясь на бумаге, также должен адресоваться прежде всего к чувствам, если преследуется высокая цель – привести в действие скрытый двигатель ответных эмоций. Литература должна всемерно стремиться к пластике скульптуры, к цветовому богатству живописи, к волшебной многозначительности музыки – этого искусства всех искусств. И лишь будучи полностью, непоколебимо преданным совершенному слиянию формы и содержания, постоянно заботясь об облике и звучании фраз, можно приблизиться к пластике, цвету и можно на мгновение заставить заиграть свет волшебной многозначительности над банальной внешностью слов, стертых, изношенных веками небрежного употребления»[359]. Дж. Конрад
«Читатели зачастую используют текст как проводник для собственных чувств, зародившихся вне текста или текстом случайно навеянных»[360]. Умберто Эко
О ритме
«Стиль не требует больших усилий – главное ритм. Стоит его найти, и использовать неподходящие слова станет невозможно… Меня переполняют идеи, видения и прочее, а я не могу их выразить, потому что нет нужного ритма. Ритм – это нечто глубинное, он намного глубже слов. Образ, эмоция поднимают эту волну в сознании задолго до того, как для нее подберутся слова»[361]. Вирджиния Вулф
О влиянии на реальность
«Однажды в Ясной Поляне ко мне подошла дама, вузовский профессор, у которой пять лет назад началась дисграфия. Для профессора это очень плохо. Она сказала, что прочла “Лавра” – и у нее восстановилась способность писать. Я понял: то, что для меня просто текст, для кого-то – надежда. Поэтому я беру на себя ответственность: пытаюсь писать очень аккуратно, внимательно. Например, когда я описываю больных, стараюсь не говорить, что все безнадежно, чтобы не лишать человека веры. Я категорически не согласен с фразой Тютчева: “Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется”. Надо предугадывать»[362]. Е. Водолазкин
«Два студента парижской Школы изящных искусств создали фотоальбом, в котором воспроизведен маршрут, проделанный Казобоном[363]. Они отыскали и последовательно сфотографировали все упомянутые в моем повествовании уголки Парижа в тот самый ночной час, когда их видел мой герой… Казобон, выбравшись из городской канализации, через подвал попадает в забегаловку в восточном вкусе, с потными завсегдатаями, кружками пива и сальными шашлыками. Студенты умудрились отыскать и сфотографировать это заведение. Само собой разумеется, что закусочную эту я придумал, позаимствовав отдельные детали у похожих заведений… тем не менее студенты не сомневались, что отыскали именно ту, которая описана в моей книге… Они не то чтобы пренебрегли обязанностями образцовых читателей, дабы удовлетворить стремление эмпирического читателя непременно проверить и убедиться, что в романе описан реальный Париж. Напротив, они хотели трансформировать “реальный” Париж в отрывок из моей книги. И из всего, что можно отыскать в Париже, выбрали именно то, что соответствует моим описаниям»[364]. У. Эко
«Тексты, которые я пишу, очень воздействуют на мою жизнь, и иногда возникает желание написать роман про умного и доброго миллионера, который живет на Багамских островах»[365]. В. Пелевин
О пользе чтения
«Если хотите быть писателем, вам прежде всего нужно делать две вещи: много читать и много писать. Это не обойти ни прямым, ни кривым путем – по крайней мере я такого пути не знаю»[366]. С. Кинг
«Тот, кто не читает хороших книг, не имеет преимуществ перед человеком, который не умеет читать их»[367]. М. Твен
«Лучший способ научиться писать – читать хороших писателей и жить»[368]. Ч. Буковски
«У некоторых ваших друзей по колледжу возникают трудности с построением фраз. Я думаю, некоторые писатели и впрямь страдают от той же участи, главным образом потому, что в душе они бунтари, а грамматические правила, как и многие другие в нашем мире, призывают сбиваться в стадо и подтверждать то, чего естественный писатель инстинктивно сторонится, и, более того, интерес его лежит в более широком диапазоне тем и духа… Хемингуэй, Шервуд Эндерсон, Гертруда Стайн, Сароян – те немногие, кто перекраивал правила, особенно в пунктуации и течении и разрыве фразы. И, конечно же, гораздо дальше зашел Джеймс Джойс. Нас интересует цвет, форма, значение, сила… пигменты, оживляющие душу. Но у меня ощущение, что между не-грамматистом и неначитанным есть разница, и именно неначитанных и неподготовленных, тех, кто так спешит выплеснуться в печать, кто не достигает возраста крепкого и основного трамплина, я упрекаю»[369]. Ч. Буковски
«Читайте, читайте, читайте. Читайте все – хлам, классику, хорошие книги и плохие. Наблюдайте, как другие это делают. Плотник учится своему мастерству, наблюдая. Читайте! И тогда вы постигнете мастерство. И одновременно пишите. Если ваше произведение стоящее – вы это поймете, если нет – выкиньте в окно и приступайте к следующему»[370]. У. Фолкнер
Письма. Николай Михайлович Карамзин
«…Уже прошли те блаженные и вечной памяти достойные времена, когда чтение книг было исключительным правом некоторых людей; уже деятельный разум во всех состояниях, во всех землях чувствует нужду в познаниях и требует новых, лучших идей. Уже все монархи в Европе считают за долг и славу быть покровителями учения. Министры стараются слогом своим угождать вкусу просвещенных людей. Придворный хочет слыть любителем литературы; судья читает и стыдится прежнего непонятного языка Фемиды; молодой светский человек желает иметь знания, чтобы говорить с приятностью в обществе и даже при случае философствовать. Нежное сердце милых красавиц находит в книгах ту чувствительность, те пылкие страсти, которых напрасно ищет оно в обожателях; матери читают, чтобы исполнить тем лучше священный долг свой – и семейство провинциального дворянина сокращает для себя осенние вечера чтением какого-нибудь нового романа. Одним словом, если вкус к литературе может быть назван модою, то она теперь общая и главная в Европе.
Чтобы увериться в этой истине, надобно только счесть типографии и книжные лавки в Европе. Отечество наше не будет исключением. Спроси у московских книгопродавцев – и ты узнаешь, что с некоторого времени торговля их беспрестанно возрастает и что хорошее сочинение кажется им теперь золотом. Я живу на границе Азии, за степями отдаленными, и почти всякий месяц угощаю у себя новых рапсодов, которые ездят по свету с драгоценностями русской литературы и продают множество книг сельским нашим дворянам. Доказательство, что и в России охота к чтению распространяется и что люди узнали эту новую потребность души, прежде неизвестную.
Жаль только, что недостает таланта и вкуса в артистах нашей словесности, которых перо по большей части весьма незаманчиво и которые нередко во зло употребляют любопытство читателей! А в России литература может быть еще полезнее, нежели в других землях: чувство в нас новее и свежее; изящное тем сильнее действует на сердце и тем более плодов приносит. Сколь благородно, сколь утешительно помогать нравственному образованию такого великого и сильного народа, как российский; развивать идеи, указывать новые красоты в жизни, питать душу моральными удовольствиями и сливать ее в сладких чувствах со благом других людей! Итак, я воображаю себе великий предмет для словесности, один достойный талантов.
Сколько раз, читая любопытные европейские журналы, в которых теперь, так сказать, все лучшие авторские умы на сцене, желал я внутренне, чтобы какой-нибудь русский писатель вздумал и мог выбирать приятнейшее из сих иностранных цветников и пересаживать на землю отечественную! Сочинять журнал одному трудно и невозможно; достоинство его состоит в разнообразии, которого один талант (не исключая даже и Вольтерова) никогда не имел. Но разнообразие приятно хорошим выбором; а хороший выбор иностранных сочинений требует еще хорошего перевода. Надобно, чтобы пересаженный цветок не лишился красоты и свежести своей.
Ты как будто бы угадал мое желание и как будто бы нарочно для меня взялся исполнить его. Следственно, я должен быть благодарен и не могу уже с циническою грубостью спросить: “Господин журналист! Можешь ли ты удовлетворить всем требованиям вкуса?” Но между тем благодарность не мешает мне подать тебе дружеский совет в рассуждении обещаемой тобою критики. А именно: советую тебе быть не столько осторожным, сколько человеколюбивым. Для истинной пользы искусства артист может презирать некоторые личные неприятности, которые бывают для него следствием искреннего суждения и оскорбленного самолюбия людей; но точно ли критика научает писать? Не гораздо ли сильнее действуют образцы и примеры? И не везде ли таланты предшествовали ученому, строгому суду? La critique est aisée, et l’art est difficile![371]
Пиши, кто умеет писать хорошо: вот самая лучшая критика на дурные книги! – С другой стороны, вообрази бедного автора, может быть добродушного и чувствительного, которого новый Фрерон убивает одним словом! Вообрази тоску его самолюбия, бессонные ночи, бледное лицо!.. Не знаю, как другие думают; а мне не хотелось бы огорчить человека даже и за “Милорда Георга”, пять или шесть раз напечатанного. Глупая книга есть небольшое зло в свете. У нас же так мало авторов, что не стоит труда и пугать их. – Но если выйдет нечто изрядное, для чего не похвалить? Самая умеренная похвала бывает часто великим ободрением для юного таланта. – Таковы мои правила!»
Письмо издателю журнала «Вестник Европы» (опубликовано в виде предисловия в первом «номере» в январе 1802 года)[372]Часть II Диалоги о ремесле
Джон Патрик Хемингуэй «Писательство – осознанное отшельничество»
Джон Патрик Хемингуэй, внук Эрнеста Хемингуэя, – о дисциплине, одиночестве и поиске совершенства.
– Что для вас значит быть писателем?
– Не так давно одна девушка спросила меня, почему я решил стать писателем. Поначалу для меня это был побег от роли читателя, мне было интересно увидеть, как новое рождается у меня самого. Дальше стало гораздо трудней. Я стал ощущать тяжесть на плечах – вес имени, доставшегося от деда – Эрнеста Миллера Хемингуэя. Полагаю, я прошел то, что проходит каждый писатель, прежде чем ему удается отыскать свой собственный голос. Подражание, отчаяние, желание все бросить и, наконец, обретение себя.
– А как насчет ваших писательских устремлений?
– Писательство для меня – это возможность увидеть, как далеко я могу зайти в поиске совершенства. Насколько хорошим человеком могу стать. Увидеть, насколько я могу влиять на людей. Я говорю не о контроле, а о способности дать читателю такие сильные переживания, чтобы они казались явью. А чтобы это написать, я должен стать настолько хорошим писателем, насколько это возможно. Если ты способен написать первую половину хорошей истории, то ты просто обязан взять себя в руки и довести ее до конца. Работать над ней снова и снова, пока она не станет гладкой, как дуло ружья.
– Эрнест Хемингуэй как-то сказал: нужно просто сесть за печатную машинку и истекать кровью.
– Именно. Всякий раз, начиная какую-нибудь короткую вещь, я думаю, насколько это будет сложно. Поначалу кажется, что невозможно довести задуманное до конца, а затем я попадаю внутрь этой истории, и она меня затягивает.
– Где взять силы, чтобы продолжать писать?
– Мне кажется, должна быть врожденная предрасположенность. Писательство – то, что у меня неплохо получается. Мне это нравится. Я не врач, не банкир, я рисую словами. И пишу для самого себя. И это помогает мне идти вперед. В один прекрасный день ты сочиняешь рассказ и понимаешь, что получилось хорошо. Что удалось достичь той точки, где ты раньше никогда не был. В этом есть даже что-то пугающее. Это ощущение силы, это течение энергии, которая проходит сквозь тебя.
– Это сродни наркотику, да?
– Это приятная привязанность. Она позволяет сохранять ум живым. Это делает тебя человечным. Ты приближаешься к себе настоящему.
– Как вы определяете для себя самого смысл? Что это значит лично для вас?
– Порой я даже не задумываюсь, что я пытаюсь сказать, пока не допишу. У меня в голове есть идея, и пока я ее прописываю, все меняется – история начинает жить собственной жизнью. Но процесс написания – это то самое истечение кровью. Я просто стараюсь писать красивые и сильные истории, достойные изложения. Берясь за перо, я выжимаю себя, чтобы получилась история, которая заслуживает прочтения.
– Говоря это, вы улыбаетесь. Почему?
– Я считаю себя достаточно счастливыми человеком. Конечно, в моей жизни случаются и грустные события. Бывают хорошие времена, бывают не очень. Если наступают плохие времена, я позволяю себе отдохнуть пару дней. Но затем беру себя в руки и возвращаюсь к работе. Дисциплина – вещь в писательском деле определяющая: если ты не напишешь, никто за тебя не напишет. Ты один, один как перст. Писательство – осознанное отшельничество. Ты пишешь в одиночестве, но затем приходит время, когда необходимо явить себя миру, чтобы научиться слышать его шепот, который ты, писатель, когда-нибудь сможешь расшифровать. Человеку требуется несколько лет, чтобы научиться говорить. Научившись говорить, остаток жизни писатель учится слушать. Вслушиваться – именно так писатель впитывает в себя истории. Невозможно все выдумать из головы, нужны живые люди: их разговоры, их культура, ситуации.
Вот вам пример: я напишу о Москве только в том случае, если узнаю об этом городе достаточно, сумею понаблюдать за людьми и их жизнью. Россия – это особенный мир, и невозможно написать о России, посмотрев, скажем, видео в сети. Я как писатель не хочу создавать ничего поверхностного. Ни один писатель не должен сочинять поверхностных вещей. Нужно стараться писать так, чтобы затрагивать сердца и умы людей. Писать о гуманистических ценностях, рассказывать, что такое человек.
– Вы впервые в России?
– Да, это мой первый приезд в Москву. Я раньше уже бывал в Петербурге. Россия – это страна, вокруг которой нагромождено множество стереотипов. Какие-то из них служат русофобской кампании в США – но я в стереотипы не верю. Я думаю, что у вас очень современная страна, относительно демократичная. У нас в Штатах тоже нет абсолютной демократии. У вас здесь очень гостеприимная атмосфера и все выглядит очень стильно. Красивые люди, поразительно образованные: надо сказать, система образования здесь лучше, чем у нас в США. Раньше и у нас было так, но сейчас стандарты упали. Я знаю, что у вас в стране много проблем, но у кого их нет? По-моему, у России огромное будущее. Да и вообще я считаю себя наполовину русским – ведь моя жена русская.
– Очень интересно! Как же вы познакомились?
– У нас был общий друг, о котором я писал рассказ. Однажды мы все вместе позавтракали, за завтраком много шутили, а теперь я женат! Уму непостижимо. Чистое везение!
– Верите в судьбу?
– Я верю в случай.
– И в чем разница?
– Это философский вопрос. Случай – это твой собственный выбор. Тогда я решил пойти на эту встречу с другом – мы несколько лет никак не могли повидаться. И я пошел вместе со своим сыном – ему тогда было 17 лет. Там была Кристина. Мы отлично провели время – много смеялись и болтали. Но про себя я подумал: «У тебя нет никаких шансов, она слишком молода». Через год я написал ей, завязалось общение. Кристина покорила меня чтением стихов Набокова на русском языке. Она любит литературу, а я обожаю поэзию.
– Кто из поэтов вас особенно вдохновляет?
– Из больших американских поэтов – Грегори Корсо, а также Серж Генсбур, Томас Борхе – политик и поэт из Никарагуа, что-то из латиноамериканской поэзии, ну и Джон Донн, конечно же. Истинный гуманист. Лучше других понимает, что значит быть человеком.
– А что для вас значит быть человеком?
– Сохранять в себе стержень. Сохранять внутреннее достоинство, неподвластное внешнему давлению. Создать крепкую семью. Завести настоящих друзей.
– Когда вы видите что-то хорошо написанное, что вы чувствуете?
– Что это очередной подарок человечеству.
– Как понять, что текст написан хорошо?
– Это сложно описать словами. Ты просто чувствуешь, что вот этот текст – хорош. Когда все элементы сходятся воедино. Это трогает тебя, читателя, вдохновляет, позволяет ощутить глубину момента, почувствовать эмпатию. Великие писатели на все это способны.
– А как насчет вас? Считаете ли себя одаренным писателем?
– Люди постоянно меня спрашивают, передается ли дар генетически и досталось ли мне что-то от деда, Эрнеста Хемингуэя. Я всякий раз пожимаю плечами. Все, что я знаю, – это то, что я люблю писать.
Джон Патрик Хемингуэй родился в 1960 году. Автор «Странного племени» (Strange tribe) – семейных мемуаров, в которых Джон рассказывает о сложных отношениях своего отца Грегори со знаменитым дедом.
Питер Джеймс «Успех – это способность двигаться от провала к провалу без потери энтузиазма»
Питер Джеймс – об уверенности писателя, сборе информации и писательском ремесле.
– Когда вы решили стать писателем? Как поняли, что хотите писать книги?
– С семи лет. Я с детства писал, но мне не хватало уверенности. Я не думал, что моя писанина будет хоть кому-то интересна. В подростковом возрасте меня поддержал школьный учитель – он в меня поверил. Он сказал – пиши. Я прислушался. В пятнадцать лет я выиграл в школе литературный конкурс, и это прибавило мне уверенности в себе. А когда мне исполнилось восемнадцать, я написал первый роман и благодаря этому обзавелся агентом в Нью-Йорке.
– Роман издали?
– К счастью, нет. После этого я написал еще два романа, которые, к несчастью, издали. После провала я думал, что никогда не добьюсь успеха. Когда мне было девятнадцать, я поступил в школу телевидения – первую такую школу в Англии. Окончив учебу, я понял, что работу на телевидении или в киноиндустрии в Великобритании получить невозможно. Друг из Канады предложил начать карьеру там. Я приехал в Торонто, и меня взяли на работу в ежедневную детскую передачу «Дверь в горошек». Должность называлась «принеси-подай» – низшая форма жизни на телевидении. Принеси то, подай это…
– «Сделай мне кофе» и все такое…
– Да. Так прошло три месяца. Однажды продюсер прибежал в панике и сказал: «Сценарист заболел, и у нас на сегодня нет сценария! Я видел твое резюме – ты учился в киношколе, а в школе выиграл писательский конкурс. Напишешь нам сценарий?». Я сказал – хорошо. Меня посадили в уголок за пишущую машинку, и я написал сценарий к шоу.
– Трудно было?
– Работа не вызвала сложностей. Идея была такая: в шоу задействованы пять кукол, которые заходят через дверь в горошек и развлекают детей. Следующие полтора года я писал по три сценария в неделю, и это сводило меня с ума. Я просыпался посреди ночи, бормоча стишки. Но мне платили! Мне было двадцать два года, и я получал деньги за то, что пишу.
– Полагаю, это была хорошая школа драматургии.
– Да! Набив руку на куклах, я стал писать сценарии к фильмам. Начал с малобюджетных ужастиков с классными названиями – «Трупы детям не игрушка» или «Я расчленил маму». А затем встретил будущую жену, ныне уже бывшую, и она, спасибо ей за это, сказала: «Ты постоянно говоришь – вот бы написать роман. Так сядь уже и напиши. В “Таймз” как раз вышла статья – говорят, мало шпионских триллеров». Я сел и написал шпионский триллер. К моему удивлению, книгу напечатали. К еще большему моему удивлению, книга не продавалась. Я написал второй шпионский триллер, и он продавался еще хуже.
– Что вы почувствовали? Отчаяние?
– Ага. Я думал: у меня нет таланта. Мне тогда как раз исполнилось тридцать, и я поделился переживаниями с подругой из издательства Penguin Books. Она сказала мне: и зачем же ты пишешь шпионские триллеры? Я ответил: чтобы публиковаться и добиться успеха. Она спросила: а что ты знаешь о шпионском мире? Можешь ли ты переплюнуть Джона Ле Карре и его «Шпиона, пришедшего с холода»? Ты решил потягаться с теми, кто знает, что такое шпионский мир, а эти люди – выходцы из служб безопасности. У тебя никогда не будет доступа к информации, которая поможет написать великий роман. Словом, ее совет звучал так: хочешь добиться успеха, пиши, во-первых, о том, что тебя действительно увлекает, во-вторых – о чем ты можешь найти информацию. Поиск информации – фундамент любого произведения.
– Это хороший совет.
– Потрясающий! Лучший совет, что я получил в жизни. Пять месяцев спустя нас обокрали. Для снятия отпечатков в дом приехал полицейский. Увидел мою книгу и сказал: «О, так вы, значит, писатель. Если вам понадобится консультация о жизни полиции, звоните мне». Жена этого полицейского, как оказалось, тоже работала в полиции. Они пригласили меня на барбекю. Собралось человек десять гостей, все – офицеры полиции: убойный отдел, дорожная полиция, патруль, защита детей… Познакомившись с ними поближе, я подумал – какие замечательные люди. И тут мне пришло в голову: а ведь никто не видит человеческую жизнь лучше, чем полицейские. В следующие годы дружба становилась крепче, мне начали доверять и однажды предложили провести день с патрульными. Вот тогда-то мой мир и перевернулся. Мы начали в семь утра. Поступил звонок: ночью умер младенец, так называемая смерть в колыбели – синдром внезапной младенческой смерти. Семь утра, мы едем по вызову. Приезжаем. Нас встречает молодая пара со своим мертвым трехмесячным ребенком. Конечно, родители подавлены, и полиции следует проявлять чуткость. Но при этом полицейские – о чем мне сказали позже – держат в голове версию, что родители сами убили ребенка.
– Полицейским всегда приходится о таком думать.
– Да. И это сложно. Вызов отработали. Час спустя поступил звонок от женщины – сожитель засунул ей в рот собачьи экскременты. Домашнее насилие. Через час – пожилая пара, которая лишилась своих сбережений. Еще через час – студент из Турции, которого сбил автобус, он умирает, а его девушка не говорит по-английски и приходится искать переводчика и все такое. Проходит день, и ты понимаешь: этот день не о преступлениях. Этот день – о человеческой психологии. Наряду с раскрытием убийств и преступлений полицейские проделывают не меньше социальной, психологической работы. Вот это и вызвало во мне интерес. Я понял: полиция видит жизнь с изнанки.
– Ваш писательский путь выглядит как хороший сценарий. Вы верите в судьбу? В том смысле, что вам было предначертано стать писателем. Вам раз за разом отказывали в публикации, но вы не отчаивались, и в конце концов ваши книги начали издаваться и принесли вам известность.
– Приведу фразу, которая мне очень нравится: успех – это способность двигаться от провала к провалу без потери энтузиазма.
– А что помогало вам не сдаться в моменты отчаяния?
– Мечта. Какое бы отчаяние я ни испытывал, я верил в себя. Я чувствовал, что если буду идти вперед, то когда-нибудь напишу книгу, которая выстрелит. Меня вело железное упорство. Хотя первые романы и провалились, я не отчаялся. Я с самого детства знал, что писательство – это мое. Я был уверен – мне есть что сказать.
– Вы все так же получаете удовольствие от написания книг?
– Да, и даже больше, потому что теперь я и вправду могу изменить окружающий меня мир. Я написал книгу о контрабанде человеческих органов. А в конце, там, где блок с благодарностями, приписал про нехватку донорских органов. Спустя два года я получил письмо от главы центра трансплантации – он написал, что зафиксировано резкое увеличение числа доноров, и этому поспособствовала моя книга. Это очень приятно – ощущать, что можешь привлечь внимание к проблемам общества. А еще мне нравится, когда мне пишут: мой муж за двадцать лет не прочел ни одной книги, а теперь наконец начал читать…
– Почему люди читают?
– Я согласен с Джорджем Мартином: человек, который не читает книг, проживает одну жизнь, читатель проживает тысячи. И есть другое похожее выражение: чтение хорошей книги дарит нам еще одну жизнь. С тех пор, как я научился читать, я с головой окунулся в книги и начал мечтать о писательстве. Помню, как в двенадцать лет я сидел в классе, написав сочинение на три страницы: «как я провел лето» или что-то в этом роде. А потом, пока остальные дописывали, я взял в руки книгу, чтобы скоротать время, и подумал: «В ней 400 страниц! Это же сто двадцать сочинений. Как можно такое написать?»
– Вы помните первую прочитанную книгу? Или, может быть, главную книгу вашего детства?
– Главная книга – несомненно, «Брайтонский леденец» Грэма Грина. Мне было четырнадцать, когда я прочел роман. Все, что я читал до Грэма Грина о преступлениях, сводилось к нехитрому шаблону: сначала находят тело – часто на первой же странице, часто в библиотеке в загородном доме. Остаток книги – разгадывание головоломки и ответ на вопрос «кто убийца?». В «Брайтонском леденце» Грэм Грин нарушил это правило – к концу первой главы жертва еще была жива. А первая фраза меня просто потрясла: «Хейл знал, что они собираются убить его в течение тех трех часов, которые ему придется провести в Брайтоне». Ты это читаешь – и тебе приходится листать книгу дальше, потому что у тебя возникает куча вопросов: кто такой Хейл, почему он в Брайтоне? Кто собирается его убить? Сюжет развивается, ты узнаешь, что главный персонаж – семнадцатилетний подросток. Он гангстер. Он убийца, и он главный в этой империи отщепенцев. Он старается держать преступников в узде. Он набожный католик и одновременно преступник. Читая, я понял, что в рамках криминального романа великие авторы затрагивают серьезные вопросы, а не сводят повествование к поиску убийцы. И вот в четырнадцать лет я подумал: когда-нибудь я напишу книгу, и хорошо бы она получилась хоть на одну десятую такой же замечательной, как «Брайтонский леденец»! В детстве я читал много детективов. Романы о Шерлоке Холмсе, Эркюле Пуаро, Джеймсе Бонде…
– Офицера полиции Роя Грейса, который считается самым удачным вашим персонажем, некоторые критики называют новым Шерлоком Холмсом. Что вы думаете о таком сравнении?
– Довольно лестное сравнение! По моему мнению, Шерлок Холмс – величайший из выдуманных сыщиков. Мне нравятся и мисс Марпл, и Пуаро, но Холмс – это недостижимый уровень, до него никто не дотягивает. Я смущен и польщен.
– Что, по-вашему, отличает хороший книжный триллер? И как вы сами определяете свой жанр?
– Я пишу криминальные триллеры. Что делает триллер хорошим? Яркие герои, хороший темп. Крайне важно, чтобы читатель получил понимание, в каком мире мы живем. Мы открываем книгу уж точно не ради простенькой загадки.
– Некоторые читают, чтобы развлечься.
– Да. Конечно, мы хотим развлечься! Но закрыть прочитанную книгу нам все-таки хочется с пониманием, что мы узнали о мире нечто новое. Даже если мы не осознаем такого желания. Приведу конкретный пример. Сейчас я пишу об интернет-мошенничествах в сфере знакомств. Сейчас на Западе настоящая эпидемия таких преступлений. И вот что интересно: жертвами становятся, как правило, люди пожилого возраста: они ищут романтические знакомства, а вместо утешения получают обман. Это очень печальные истории. Я использовал их в книге. Я общался с женщиной восьмидесяти пяти лет, которая шагу не может сделать без ходунков: она спала с фотографией тридцатилетнего парня под подушкой и верила, что такой человек на самом деле существует и любит ее. Был еще мужчина лет шестидесяти – шестидесяти пяти, вдовец. Он военный. И вот он ждет в лондонском аэропорту, когда появится любовь всей его жизни. Он перевел ей четыреста тысяч фунтов стерлингов, потому что ей при разводе якобы нужно было выкупить половину дома у бывшего супруга. Он отправил деньги без малейших сомнений. А вместо любимой он встречает полицейских, которые ему сообщают: знаете, нам очень жаль, но, во-первых, вы потеряли свои деньги, а во-вторых, женщины, которую вы любите, на самом деле не существует. Я хочу показать потенциальным жертвам, как это бывает.
– А что такие истории дают лично вам?
– Повторюсь: я стараюсь изменить мир к лучшему, привлечь внимание к проблемам общества. Я тесно работаю с британской полицией. Схемы преступлений постоянно меняются. Преступления пятнадцатилетней давности – совсем другие, не как сейчас. Пятнадцать лет назад никто не слышал про интернет-мошенничество, а теперь это распространенная и опасная вещь. Преступники уже не так часто вламываются в чужие дома – зачем, если гораздо больше денег можно получить, не отходя от компьютера? В полиции мне сказали: мы хотим, чтобы ты написал об интернет-аферах, чтобы обратил на это внимание общества. Мы предоставим необходимую информацию. Мы организуем тебе встречи с пострадавшими. Нашлись люди, которые согласились со мной поговорить, и я стал записывать их истории. Потом я познакомился с частным детективом, который специализируется на цифровых мошенничествах. Он отвез меня в Гану: там открыто целых двенадцать колледжей, где обучают интернет-мошенничеству.
– Это же незаконное обучение?
– Конечно, нет. Но в Гане особое отношение к интернет-аферам. Там можно встретить парней восемнадцати-девятнадцати лет, разъезжающих на новеньких «Порше», и они рассуждают так: Запад нас угнетал пятьсот лет, теперь настала пора расплачиваться. И этим парням ни капли не стыдно. Такие вещи меня поражают.
– И вы пытаетесь привлечь внимание к проблеме.
– Да. Мне нравится писать крутые истории, но нравится и открывать людям глаза. Я уже говорил, что несколько лет назад я писал о контрабанде человеческих органов. Органов для пересадки не хватает, в Англии в ожидании печени умирает три человека в день. Я принялся вплотную изучать тему, задавать полиции вопросы о контрабанде, и в итоге вышло так, что в Колумбии обнаружили приют, где живут дети… Ну, вы понимаете… Когда на Западе кому-то требуется печень, убийцы берут печень у ребенка. Я слышал, что человек может стоить не один миллион евро. И его органы тоже.
– Должно быть, трудно жить, зная обо всем этом?
– Да, это непросто. Я вижу темную сторону жизни. Но вместе с тем я оптимист. Верю, что в мире существует некий баланс между инь и ян, между добром и злом, и для писателя важно, скажем так, подчеркивать этот баланс. В свои книги я всегда стараюсь добавить что-то светлое, чтобы не скатываться в чернуху.
– Но все же вы пишете о преступлениях, об убийствах.
– Что меня поражает в убийствах: это преступление, которое никак не компенсируется. Если я украду у вас телефон, то могу расплатиться за причиненный ущерб деньгами. Но если я вас убью, то не смогу отдать взамен свою жизнь. Убивая человека, вы убиваете семью: жизнь близких убитого навсегда перевернет эта трагедия. И вот что я думаю: нас, читателей триллеров, притягивает та разница между обычным человеком и тем, кто способен убить не задумываясь.
– У вас есть ответ, почему убийцы не испытывают стыда за содеянное?
– Человек, способный на убийство, пребывает в одном из двух психических состояний. Либо это шизофрения – наподобие голосов в голове, приказывающих убивать проституток или еще кого-то. Либо человек – психопат, лишенный моральных ориентиров и эмпатии. Знаете, как в четыре года – «мне нравится твоя игрушка, возьму-ка я ее себе». Психопаты на удивление умны, это и помогает им совершать преступления. Психопаты не испытывают чувства вины. Это самые опасные люди. Если бы мне пришлось совершить убийство, рано или поздно чувство вины вынудило бы меня кому-то об этом рассказать, а тот человек рассказал бы всем остальным. Люди, не способные на раскаяние, так не сделают. Психопатам не надо снимать тяжесть с души.
– Приведите конкретные примеры.
– Работая над книгой «Люби меня мертвым» – романе о «черной вдове» и ее жертвах – я познакомился с прототипом героини. Начну с пояснения: в мужских тюрьмах в Англии есть категории A, B, C и D. Максимальная категория D присваивается серийным убийцам и террористам, и таких людей содержат в отдельных тюрьмах. Но в женских такого разделения нет. Поэтому серийная убийца – такая, как Розмари Уэст, описанная в книге, – оказывается в тюрьме вместе с женщиной, нарушившей правила дорожного движения или не заплатившей штраф.
Женщин в британских тюрьмах объединяют в группы по возрасту. В группе 18–24 – работницы сферы секс-услуг. В группе 20–40 – наркодилерши. 40–60 – в основном убийцы собственных мужей. И вот в последней группе мне встретилась женщина, которая задавала интересные вопросы о литературе: Диккенс, Шекспир, Достоевский. Я подумал: интересно, почему она здесь? Предположил, что задавила кого-то в нетрезвом виде, по случайности. Я никогда не спрашиваю: «Что вы сделали?» Я спрашиваю: «Сколько вам дали?» И вот я задаю ей этот вопрос. Осужденная говорит: «Девять с половиной лет, мать его, и это несправедливо! В Лондоне одной женщине осталось всего шесть, а она сидит за то же самое!» «Понятно, – говорю я, – и что же вас сюда привело?» Она отвечает: «Я отравила свою свекровь, старую кошелку! Она отправилась в больницу умирать, так что я сняла все деньги с ее счета в банке, а она, черт возьми, не умерла, а вернулась домой! Тогда я поняла, что скоро все вскроется, и мне пришлось ее убить. А потом я испугалась, что мой муж обо всем догадается. Пришлось отравить и его». И она говорит все это всерьез. Она злится, что ее наказали несправедливо: в Лондоне женщине, которая совершила то же самое, дали всего шесть лет! Я спросил у офицеров: «Эта женщина говорит правду?» И они ответили: «Да, сэр, она отравила свекровь, и та умерла. Она отравила мужа, он провел три месяца под системой жизнеобеспечения, у него необратимо поврежден мозг». Но заключенная не раскаивается. Она просто злится, что ей дали слишком большой срок.
– Никакой эмпатии.
– Абсолютно. Когда я покинул тюрьму, меня трясло. Было чувство, что совсем рядом со мной – руку протяни – было реальное, осязаемое зло. Это очень страшно. Разговариваешь с человеком, вроде как твоим собратом, а он словно с другой планеты.
– Много ли в ваших книгах реальности?
– Около двадцати процентов. Реальность подталкивает к написанию книги. Я вышел от этой женщины, думая: как бы мне о тебе написать? Заключенной было 55, но в своей книге я описал ее как тридцатипятилетнюю женщину, эффектную, которая сделала, так сказать, карьеру, выбирая мужчин старше себя, выходя за них замуж и убивая их.
– Значит, реальность – это некий импульс для написания книги.
– Да, импульс. Сейчас я пишу о «романтическом мошенничестве». Для этой книги я также взял две-три истории из реальной жизни и, скажем так, насытил их художественным вымыслом. Лет пять-шесть назад я написал роман, на который меня вдохновила история женщины из Брайтона. Ее преследовал маньяк, задумавший убить всю семью. Я взял эту историю за основу, а потом общался с полицией и с психиатрами, чтобы составить портрет вымышленного персонажа. В романе «Умрешь, если не сделаешь» я пишу о человеке с зависимостью от азартных игр. Чтобы разобраться в том, как все устроено в мире игр, я говорил с «жучками» на скачках, провел много времени, так сказать, за кулисами казино, наблюдая, как ведут себя клиенты.
– Ваши собеседники всегда знают, что вы писатель?
– Да, и в девяноста девяти случаях из ста с готовностью мне помогают. Полицейские всегда читают мои тексты и указывают мне, где я ошибся или где я написал лишнего.
– Вы тратите много времени на исследования, прежде чем начать писать. Как это обычно выглядит? Вы изучаете, изучаете, изучаете, а затем садитесь и пишете книгу? Или же чередуете написание романа и полевые исследования?
– Сначала появляется идея. Затем я стараюсь узнать как можно больше о предмете: говорю с жертвами, полицией, банками, словом, со всеми, кто хоть как-то причастен к выбранной теме. Самое главное для меня – герои истории. При этом я всегда стараюсь описывать события с разных точек зрения – полиции, преступника, жертвы, – чтобы дать читателю полную картину, позволить ему лучше узнать персонажей. Исследования продолжаются постоянно, пока я пишу. Когда я заканчиваю книгу, то отправляю тем, кто мне помогал, несколько страниц или глав, чтобы узнать их реакцию.
– Вы всегда заранее знаете, как будет развиваться сюжет?
– Я всегда знаю, к какому финалу мне хочется прийти. Это очень важно. Многие начинающие писатели говорят о писательском блоке…
– Я как раз собираюсь вас об этом спросить.
– Я не верю ни в какой писательский блок. Начинающий писатель говорит мне: у меня блок. Я сразу спрашиваю: вы знаете, чем закончится ваша история? В 99 % случаев ответ – нет, не знаю. Тогда я говорю: а как бы вы себя чувствовали, если бы сели в машину и поехали, не зная, куда вам, собственно, нужно? Если вы знаете, чем у вас все закончится, никакой блок вам не страшен. Да, вы можете застрять на какой-то главе – ну так пойдите и выпейте водки с мартини, или выгуляйте собаку, да что угодно… и немного подумайте. Если знаете концовку – сумеете преодолеть любое препятствие. Едва ли не каждый, кто жалуется мне на писательский блок, не знает, как закончить свою историю. Нет, если ты Ли Чайлд и уже написал двадцать книг – тогда пиши, куда кривая выведет. Но если у вас нет такого опыта за плечами, сначала определитесь, к чему вы ведете. Лично я сразу продумываю финал книги. Где-то в половине случаев он меняется по мере приближения к нему – бывает, я придумываю что-то поинтереснее, – но в целом я всегда знаю направление повествования. У вас же, например, не бывает журналистского блока?
– Отличное, кстати, определение!
– Или адвокатского блока. А как насчет сантехнического блока или блока таксиста? Ой, я что-то не могу вести машину, у меня блок! Если вы зарабатываете на жизнь писательством, то просто не можете себе этого позволить: какой еще писательский блок? Конечно, порой бывает трудно…
– И вам тоже?
– Постоянно! Когда я был маленьким, мои любимые писатели были на пике популярности. А затем они начинали лениться. Думаю, даже Стивен Кинг. Некоторые его последние книги – откровенная халтура. Я всегда думал, что если когда-нибудь добьюсь успеха, то обязательно буду стараться, чтобы каждая следующая книга была лучше предыдущей.
– Стремитесь к совершенству.
– Да, с каждой книгой я поднимаю планку для самого себя. Так что чем дальше, тем сложнее становится, никак не легче. Появляется некоторая уверенность, ты уже знаешь, что сработает, а что нет, но я постоянно дохожу до какой-нибудь пятидесятой страницы в новой книге и думаю: ну все, это будет катастрофа, все наконец поймут, что я плохой писатель.
– А что насчет страха чистого листа?
– Есть такое. Книга для меня состоит из этапов. Самое сложное – первые двадцать страниц, ведь начинаешь буквально с пустого места, с того самого чистого листа. В среднем на роман у меня уходит семь месяцев.
– Только на сам текст, без учета исследований?
– С первого предложения до последнего. Семь месяцев – грубая оценка. Затем пять месяцев редактирования. На первую страницу, первую главу уходит до двух недель. Самая важная строчка в книге – первая. Самая важная страница – первая. Самая важная глава – первая. Если людям не понравится первая глава, они отложат ваш роман. Последняя строчка тоже важна: вы оправдываете возложенные на текст ожидания, люди не должны чувствовать себя обманутыми. Я трачу много времени на первую главу, чтобы поймать ту внутреннюю энергию текста, которая мне нужна. В каждой хорошей книге есть эта особая энергия. Я могу пойти в книжный, взять двадцать книг и по первой же строчке сразу сказать, понравится мне или нет. Не по синопсису истории, а именно по первой строчке. «Был отличный солнечный день, пели птички» – пожалуй, такое не для меня.
– Сразу вспоминаются разные знаменитые первые строчки. Например, из «Почтальон всегда звонит дважды»: «Из грузовика с сеном меня выбросили где-то в полдень».
– Да, отличное начало. Великие романы, захватывающие дебютные предложения. Для меня это важно – сделать начало книги особенным. К двадцатой странице я думаю – ну все, начало положено, едем дальше. И потом возникает этот неизбежный провал в районе пятидесятой страницы… Я как-то говорил с Ли Чайлдом, Мартиной Коул и другими успешными писателями на писательской конференции. Мы выпивали, и я спросил: у вас бывает какое-то место в книге, к которому вы начинаете испытывать сомнения? И Ли сказал: да, где-то на пятидесятой странице. Мы сошлись во мнении, что это у всех так.
– В каждой книге?
– В каждой книге. Думаю, это общее правило для всех писателей. При условии, что вам не все равно. А мне не все равно, я довольно страстно отношусь к своим книгам.
– Вы говорите о писательстве как о страсти. А как бы вы определили понятие «профессиональный писатель»?
– По моему мнению, профессиональный писатель – тот, кто зарабатывает писательством на жизнь, а не пишет книги как хобби, для души. Вспомнилось: Маргарет Этвуд однажды пересказала мне одну свою беседу: она была на вечеринке и встретила хирурга, который спросил ее, чем она занимается. Она ответила: «Я писатель. Я пишу книги. А вы?» «Я нейрохирург», – ответил ей собеседник, – но после выхода на пенсию планирую написать роман». Маргарет сказала ему: «Правда? Как интересно! А я, когда выйду на пенсию, планирую стать нейрохирургом». Люди думают, написать роман легко, но на самом-то деле – нет.
– Вы уже написали книгу, которую всю жизнь мечтали написать, или только движетесь к ней?
– Я только что закончил книгу, над которой работал двадцать восемь лет. Называется роман «Абсолютное доказательство»? Сейчас расскажу, откуда взялась идея. В 1989 году мне неожиданно позвонил пожилой человек и сказал: это Питер Джеймс, писатель? Я ответил, что да. «Слава богу, я нашел вас. – сказал он. – Я не сумасшедший и не одержимый. Во время войны я летал на бомбардировщике. Я университетский профессор на пенсии. Мне явлено абсолютное доказательство существования Бога, и мне сказали, что именно вы сможете добиться, чтобы меня воспринимали всерьез». Я спросил его о подробностях. Он принялся рассказывать: «Жена недавно умерла от рака. Когда она была еще жива, я ей пообещал после ее смерти пойти к медиуму, чтобы с ней пообщаться. Я так и сделал, но вместо жены явился мужчина – посланник Бога. Он сказал, что Бог есть и он очень обеспокоен состоянием мира. И попросил передать Божье слово людям. В качестве доказательства он рассказал о трех вещах, про которые никто не знает. А еще он сказал: Питер Джеймс сможет сделать так, чтобы к тебе прислушались».
– Вам не показалось, что человек страдает психическим расстройством?
– Сначала я, конечно, так и подумал. Звонивший сказал: «Мне нужно четыре дня вашего времени». Я встретился с ним – это оказался интересный человек, вовсе не сумасшедший. После этой встречи я поехал к другу, английскому епископу, и сказал ему: со мной на связь вышел человек, заслуживающий доверия, который утверждает, что у него есть доказательство существования Бога. Что мне ответил епископ? «Во-первых, – сказал он, – доказательство есть враг веры. Во-вторых, если ты все же что-то докажешь, это станет большой проблемой. Потому что сразу возникнет вопрос – чей это Бог?» И следующие 26 лет я изучал мировые религии. То, что я написал, витиевато, что-то вроде «Кода да Винчи». Думаю, это и есть та книга, которую я всю жизнь хотел написать.
– И последний вопрос. Какой совет вы дали бы начинающим писателям? Тем, кого еще не опубликовали, и тем, кто, может быть, сейчас на грани отчаяния.
– Прочитать действительно хорошую и успешную книгу того жанра, в котором вы собираетесь писать, и разобрать ее, как будто вы автомеханик. Взять двигатель, разобрать его и собрать обратно. Я так и делал, когда только начинал писать. Я брал книгу и думал: что заставило меня полюбить главного героя? Что заставило меня читать дальше? Так вы многому учитесь. У меня есть канал на YouTube, можно посмотреть его и на моем сайте – peterjames.com. Я беру интервью у многих авторов. Всего я опросил около ста пятидесяти человек – среди них Ли Чайлд, Джордж Мартин, Маргарет Этвуд. Я всегда прошу моих собеседников дать совет начинающим писателям. Все интервью на английском и доступны бесплатно. Называется мой блог «Авторская студия». Я его завел, потому что знаю, как нуждаются в помощи начинающие авторы. Мне приятно помогать людям. У меня есть список из десяти вопросов, каждое интервью – буквально на пять минут. Как только я встречаю популярного автора, то сразу достаю свой телефон, чтобы записать очередную «жертву».
Питер Джеймс – английский писатель, сценарист, продюсер. Родился в 1948 году. Автор двух десятков романов, переведенных на 30 языков. Совокупный тираж романов Джеймса – 30 миллионов экземпляров. Особым успехом у читателей пользуется цикл романов о детективе Рое Грейсе: первый из них, «Убийственно просто», был опубликован в 2005 году и сразу же вошел в десятку бестселлеров, а также завоевал несколько литературных премий.
Евгений Водолазкин «Важный элемент речи – молчание»
Евгений Водолазкин – о литературном пути, лингвистических помехах и жизни вне времени.
– Вы олицетворение того, что Ибсен называл «жизненным опытом человека»: ясно отличаете пережитое от прожитого («только первое может служить предметом творчества»), и это отражается в ваших собственных текстах. У вас от природы повышенная чувствительность к жизни или это приобретенное?
– Скажем так: я с этим давно живу. Иногда это перемежалось с полной безответственностью. Но с возрастом серьезное отношение преобладает. Не на ярмарку ведь едешь – с ярмарки.
– Думаете ли вы о надтекстовом смысле, когда работаете над произведением? Или он приходит сам?
– Литература описывает по преимуществу явления, а уж они вытаскивают за собой какой-то надтекстовый смысл. Или не вытаскивают – это как получится. Из этого вовсе не следует, что надо писать только о возвышенном и прекрасном: можно писать о совершенно противоположных вещах, но через отрицание описывать возвышенное и прекрасное. Или наоборот: пишешь о прекрасном, а над текстом – какой-то вонючий пар. У Чехова все рассуждают, что нужно работать, нужно в Москву и так далее, а надтекстовый смысл – жизнь проходит бездарно, и она одна. С точностью предугадать, что это будет за смысл, невозможно – хотя бы потому, что в окончательном виде он формируется в голове у читателя. Но задать читателю направление – это писатель может.
– Ритм повествования диктуется историей? Как вы находите звучание и порядок слов?
– Я бы сказал наоборот: история диктуется ритмом. Но это было бы bon mot[373]. На самом деле они существуют в связке. Возьмите «Самодержец пустыни» Леонида Юзефовича – это идеальное сочетание ритма прозы и ритма истории. Тексты имеют свою мелодию. И если я ее слышу, то начинаю писать. Часто она приходит мне в голову до сюжета. Например, я знал, что роман, над которым я сейчас работаю, будет написан от третьего лица. Музыка такого повествования очень отличается от повествования в первом лице.
– Сама жизнь должна быть содержательной – чтобы творчеству было на чем основываться. Какой период вашей жизни был для вас в этом смысле самым насыщенным?
– Жизнь существует как целое, даже если она похожа на мозаику (об этом я писал в «Лавре»). Так нашу жизнь видит Бог, так ее можем видеть и мы, если сосредоточимся. Что касается меня, то формально я мог бы выделить насыщенные и ненасыщенные периоды жизни, но ценность их для меня одинакова. Количество знаков в тексте мы считаем с пробелами, хотя пробелы не несут вроде бы никакой информации. И речь состоит не только из говорения. Не менее важный ее элемент – молчание.
– Не кажется ли вам в таком случае, что тексты, которые создает искренний писатель, и есть то молчание, о котором вы говорите, а все, что вокруг них, – фон, языковая тошнота: когда говоришь и пишешь не потому, что тебе есть что сказать, а потому, что не можешь сдержаться?
– Можно сказать и так. Но есть удивительные случаи, когда человек, создающий гениальные тексты, переходит к высокому молчанию. Просто оттого, что его знание выше любых слов. Фома Аквинский, один из самых глубоких умов в мировой истории, в конце жизни перестал писать. И когда его спросили, почему он больше не пишет, он ответил: «Я видел то, перед чем все мои слова как солома». Об одном из моих героев сказано, что его слово – на полпути к молчанию. Я видел таких людей. В их речи не было сора. Это были только необходимые слова. И эти слова были золотыми.
– Фраза «можешь не писать – не пиши» зазвучала для меня совершенно иначе после того, как вы сказали, что «молчание – не пустота», а «другой период речи». Как же научиться «молчать»?
– Надо стараться проверять слова на необходимость. С этим мало кто справляется по-настоящему. Так работал, например, Бабель: он правил свои рассказы, вычеркивая лишние слова, пока не оставалось ни одного, которое можно вычеркнуть. И у него их действительно нет. Некоторые его рассказы имеют более двадцати вариантов. И, кстати, на заметку молодым писателям: Бабель говорил, что два прилагательных к одному существительному может себе позволить только гений.
– Вы сказали однажды, что слова девальвируются, и, пожалуй, это действительно так. Но сама литература при этом – по вашим же словам – набирает «популярность». Как вы можете объяснить такой парадокс?
– Так и литература ведь бывает разной. Есть литература, состоящая сплошь из девальвированных слов, – и она тоже популярна.
– Вы как-то обмолвились, что ваш самый первый рассказ родственники назвали «малохудожественным». А теперь как вам удается находить этот тончайший баланс между художественностью текста и рассказом истории, делать жанровую литературу языковым событием? Это как идти по лезвию бритвы: в любой момент есть риск сорваться, но вы почему-то не срываетесь.
– Срываюсь. Есть в моих текстах фрагменты, которые меня очень раздражают, но потом я начинаю считать их пробелами – должны же между словами быть пробелы. Но, конечно, пишу я не для того, чтобы срываться, я пытаюсь, говоря по-черномырдински, делать как лучше. Я очень ценю слово, но знаю меру в проявлении этой любви. Потому что слово, отпущенное на свободу, будет страдать нарциссизмом. Так залюбленные дети часто садятся на голову родителям. Если слишком увлечься стилем, такие тексты теряют бытийность, вес – и становятся слишком легкими. Иногда и мне хочется удивлять публику стилем, но я беру себя за шкирку и ставлю на тот путь, который считаю правильным.
– Какой же путь вы считаете правильным?
– Тот, который ведет к цели. И это тот случай, когда цель не только оправдывает средства, но и определяет их. Если, например, мне нужно описать трагическое событие, то было бы странно делать это кудрявым стилем, правда?
– В «Авиаторе» есть очень важный, на мой взгляд, пассаж: «Волны Белого моря меньше океанских, но переносятся труднее – может быть, как раз из-за малой своей высоты». Это ведь, если задуматься, метафора всего вашего творчества – вы создаете свои произведения на совершенно особой волне. Каждый ваш текст – «пологая, длинная волна», его тягучая размеренность неизбежно вызывает внутренний дискомфорт на определенном этапе чтения. Вы намеренно так играете с чувствами читателя?
– Знаете, однажды, добираясь на монастырском катере с острова Анзер на Большой Соловецкий остров, я чуть не пошел ко дну. Тогда я понял, что в случае чего хватит любой волны. И если бы передо мной была поставлена задача пользоваться только короткими волнами, я бы, думаю, особенно не горевал. Если взять пример из области радио, то на коротких волнах, как известно, представлены самые дальние земли. Вы правы в том, что моя любовь к длинной волне выражается в пристрастии к жанру романа. Только этот жанр более или менее совпадает с жизнью по ритму. Но иногда меня тянет на совсем короткие вещи – такие себе «скриншоты». В иных случаях с их помощью можно выразить больше, чем целым романом.
•••
Четверг
‹…› Спустя примерно час после того, как мы отчалили из Кеми, разыгрался шторм. Волны Белого моря меньше океанских, но переносятся труднее – может быть, как раз из-за малой своей высоты. Самых слабых с первой же качкой начало рвать. Люди были набиты в трюм, как сельди в бочку, они блевали на себя и на окружающих. От этого плохо становилось даже тем, кто обычно не боялся качки.
Но худшее было впереди. Когда корабль стал переваливаться с борта на борт, раздались душераздирающие крики. Это гибли те, кто стоял у бортов. Тысячепудовая человеческая масса прижимала их к ржавому железу баржи и расплющивала в лепешку. Когда позже их изуродованные тела тащили по пристани, за ними тянулся след кровавого поноса.
Меня тоже рвало – просто выворачивало наружу. Страх утонуть, охвативший было меня в первые минуты качки, быстро прошел. Возникшее безразличие рисовало мне картину прозрачных холодных глубин, где меня больше не рвет и не слышно криков умирающих. Где нет конвоя. В те страшные часы я почему-то не думал о том, что даже на дне никому из нас будет не выбраться из этого мрака и смрада, что даже на конечной глубине ржавый люк «Клары Цеткин» останется задраенным, и нам предстоит вечно плавать в собственном кале и блевотине.
В Бухте Благополучия на пристань нас выгоняли пинками. Тех, кто был не в состоянии двигаться, велено было тащить другим заключенным. И те, кто шел, и те, кто не мог ходить, чувствовали примерно одно и то же. Мы были счастливы, что остались живы, потому что ничего страшнее чрева «Клары Цеткин» никто из нас в своей жизни не видел. Тогда нам казалось, что и не увидим.
Е. Водолазкин «Авиатор»[374]•••
– Настоящий мастер «скриншотов» – Чехов. У него и надтекстовый смысл слышен в каждой истории, и стиль узнаваем. Есть ли, на ваш взгляд, такие мастера в современной литературе?
– Для меня это прежде всего Фазиль Искандер, к сожалению, покойный. Современным Чеховым называют канадскую писательницу Элис Манро. Но Чехов, по-моему, лучше.
– Как вам кажется – вы родились писателем?
– Я родился ответственным человеком. И не могу не осмысливать обстоятельства, в которых я нахожусь. Пользуюсь подручными средствами. В России это прежде всего литература. А родись я, предположим, где-нибудь на островах Тихого океана, где нет литературы, я бы с той же тщательностью вырезал свистульки, увеличивал количество колец в носу… не знаю, чем они там еще занимаются.
– Вы вообще верите в судьбу, в предопределенность чего бы то ни было?
– Всякая сложная вещь объемлется парадоксом. Есть две стороны медали: с одной стороны – моя свободная воля, которая выражается в постоянном выборе, с другой – это воля Бога, которой уже предусмотрена моя свободная воля.
– То есть, по-вашему, верным будет утверждение, которое мне, признаться, очень близко: у нас есть лишь иллюзия выбора, и на самом деле мы не управляем автомобилем, за рулем которого сидим?
– Нет, это не иллюзия. Человеческая свобода как дар абсолютного Бога тоже абсолютна. Это как две прямые, бегущие параллельно. Просто одна всегда находится впереди.
– Водолазкин в долитературный период и Водолазкин сегодня – вне всякого сомнения, разные люди. С какой стороны вы смотрите на огонь сейчас?
– Если отвечать посредством текста, который вы цитируете, то – времени нет, из этого следует, что я смотрю на огонь с обеих сторон. Если бы время существовало, я бы добавил: одновременно.
•••
Посматривая с сомнением на волка, Арсений сообщал Христофору:
Он сидит неестественно, я бы сказал, напряженно. По-моему, он просто боится за свою шкуру.
Мальчик был прав. Вылетавшие из печи снопы искр доставляли волку определенное беспокойство. Лишь когда огонь приступал к ровному завершающему горению, волк растягивался на полу и по-собачьи клал голову на лапы.
Мы в ответе за тех, кого приручили, говорил, гладя волка, Христофор.
Глядя в печь, Арсений видел там порой свое лицо. Его обрамляли седые волосы, собранные в пучок на затылке. Лицо было покрыто морщинами. Несмотря на такое несходство, мальчик понимал, что это его собственное отражение. Только много лет спустя. И в иных обстоятельствах. Это отражение того, кто, сидя у огня, видит лицо светловолосого мальчика и не хочет, чтобы вошедший его беспокоил.
Вошедший топчется у порога и, приложив палец к губам, шепчет кому-то через плечо, что Врач всея Руси сейчас занят. Наблюдает пламя.
Впусти ее, Мелетий, говорит старец, не оборачиваясь. Чего ты хочешь, жено?
Жити хощу, Врачу. Помози ми.
А умереть не хочешь?
Есть которые хотят умереть, поясняет Мелетий.
У меня сын. Пожалей его.
Вот такой? Старец показывает на устье печи, где в контурах пламени угадывается образ мальчика.
Е. Водолазкин «Лавр»[375]•••
– Возможно, «Лавр» – метафора не только жизни вообще, но и писательского пути в частности. Вы чувствуете одиночество?
– Когда человек чувствует одиночество – это первый шаг к его преодолению. Круг моего общения – почти исключительно моя семья, и у меня нет желания что-либо здесь менять.
– Стейнбек писал, что люди – одинокие животные, которые пытаются стать менее одинокими, и один из способов – рассказать историю так, чтобы другие люди разделили с тобой твои чувства. Я вспомнил об этом потому, что круг вашего общения – это ведь еще и читатели, с которыми вы говорите посредством своих книг. Возникает ли у вас желание получать, как теперь говорят, обратную связь?
– Да, отзывы – положительные и не очень – для меня важны при одном непременном условии: они не должны быть злобными. То, что лишено доброты, ложно в самой своей основе. Некоторые пишут отзывы, чтобы слить накопившуюся агрессию. Им все равно, о ком или о чем писать, – лишь бы ударить побольнее. Есть те, кто пишет почти исключительно отрицательные отзывы или рецензии. Им кажется, что они показывают свою крутизну, а на самом деле – беспомощность, нередко – бездарность.
– Цитата из «Лавра»: «Человек вас исцеляет, посвящает вам всю свою жизнь, вы же его всю жизнь мучаете. А когда он умирает, привязываете ему к ногам веревку и тащите его, и обливаетесь слезами». Это ведь вы о писателях высказались, признайтесь.
– Да – в том смысле, что так может казаться. На деле же писатель ведет совсем другой диалог – примерно так же, как ведет его Лавр. Писатель любит своего читателя – и да, он работает для него. Но при этом он выстраивает свои отношения с Богом (совестью), и эти отношения значат гораздо больше.
– Как говорил Бальзак, задача искусства не в том, чтобы копировать природу, а в том, чтобы ее выражать. За счет чего вам удается выражать, не копируя?
– Копировать то, что уже существует, действительно нет смысла. Для себя задачу литературы я формулирую так: выражать невыраженное. А может быть, даже невыразимое. То, что существует, но пока не названо. То, к чему чаще всего так просто не подберешься, – нет таких слов. Фронтальная атака невозможна. И тогда надо поступать как-то неэвклидово, использовать те инструменты, которые нам доступны. Лотман, например, говорил о «пространственном выражении непространственных явлений». В качестве идеального воплощения такого подхода я вижу «Старосветских помещиков» Гоголя, где не описывается, кажется, ничего, кроме наливок, пампушек и бессмысленных бесед. На самом же деле это повествование об ужасе смерти. Ничего более пронзительного я не знаю.
– Еще одна цитата – из армянского писателя Стефана Зорьяна: «Художник слова только тогда станет мастером, когда до самых глубин познает жизнь… А для этого необходимы твердые убеждения, ставшие плотью и кровью писателя». Расскажите, пожалуйста, об убеждениях, ставших вашей плотью. О ваших сегодняшних убеждениях, поскольку путь писателя – это еще и меняющиеся убеждения…
– Это большая тема, вкратце не ответить. Назову лишь одну свою важную эволюционную линию: из человека социального, верящего в общественный прогресс и пользу общего дела, я превратился в человека со взглядами, которые можно определить как христианский персонализм. Это не значит, что я равнодушен к проблемам общества. Речь идет лишь о том, что обществу нужно помогать лично, от себя, не вступая ни в какие альянсы и уж тем более в партии, политические движения и так далее. Это только кажется, что такая работа не имеет общественного значения. Личный прогресс (а прогресс может быть только личным) помогает обществу гораздо больше коллективных мантр. Так происходит хотя бы потому, что в общественном движении ты почти ничего не определяешь, а в личном – все.
– «Авиатор» – книга о персональном сознании, где общее блекнет перед частным (при этом становясь продолжением частного – фоном, декорациями). Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать писатель, чтобы менять реальность? Сначала реальность вокруг себя, а потом и общую реальность, которая, согласно вашей теории, неизбежно поменяется…
– Я бы не сказал, что писатель должен непременно менять реальность. Иногда, напротив, он должен ее сохранять. В любом случае – у него должны быть ясное сознание и чистая совесть. Это что-то вроде стрелки компаса, которая при любых поворотах указывает нужное направление.
– Если писатель не живет полной жизнью, литература несколько ограниченна. Вам нравится выбираться во «внешний мир»? Та же серия рассказов «Дом и остров, или Инструмент языка» – яркая иллюстрация, что вы принимаете участие в общественной жизни. Но доставляют ли вам эти вылазки удовольствие?
– Специально я никуда не выбираюсь. Я реагирую только тогда, когда внешний мир выбирается ко мне. В этих случаях я считаю возможным и нужным высказать свою точку зрения. Но именно свою, а не коллективную.
– Вы зашли в писательство с черного хода – вас привела исследовательская работа. Вы часто говорите, как древнерусская литература помогает вам в творчестве. Как сосуществуют у вас внутри эти два мира?
– Я по-прежнему работаю с древнерусскими текстами. Их энергетическое поле гораздо мощнее поля любого современного текста. Они наполняют меня силой. Сейчас, правда, в моей жизни возникло столько дополнительных дел, что на древнерусской литературе сосредоточиться все сложнее.
– Последняя на сегодня большая цитата. Вот что говорил Чехов: «Можно собрать в кучу все лучшее, созданное художниками во все века, и, пользуясь научным методом, уловить то общее, что делает их похожими друг на друга и что обусловливает их ценность. Это общее и будет законом». Вы уже нашли это самое «общее» и на основе его строите свои произведения? Или же все, что вы пишете, и есть поиск «общего»?
– Как человек, на протяжении многих лет практиковавший рациональный тип познания мира, я могу сказать, что такое познание имеет свои границы. Я могу взять гениальное стихотворение – и все рассказать о его источниках, размере, структуре и задачах. Но написать такое же я не могу. А это – четкое свидетельство того, что главного в нем я не понимаю. Потому что гениальность – это тогда, когда начинается вот это самое «я не понимаю». Гениальные вещи – это всегда тайна, и с этим надо смириться. Только тайна способна удивлять. Ведь если бы к ней можно было подобраться по лесенке рационального знания, то достаточно было бы почитать «Введение в литературоведение», отправиться в Ясную Поляну – и написать что-нибудь о войне и мире.
– Считается, что у многих писателей есть некая одна тема, которая их «беспокоит». Есть ли какая-то общая управляющая идея, объединяющая ваши тексты?
– Смысл жизни. Тема не то чтобы очень узкая, но, если коротко, то именно она. Я пытаюсь к ней подступиться с разных сторон, их много – время, история, память, вера, любовь…
– Верным ли будет утверждение, что каждый ваш роман – преломление наблюдений, каких-то объективных фактов через призму собственного жизненного опыта?
– Конечно, откуда же мне еще брать сведения, как не из виденного и пережитого? Но я не оставляю предметы на прежних местах: я их двигаю, чтобы понять: а что было бы, если бы они стояли иначе? Поэтому нет ничего более наивного, чем делать выводы биографического характера, основываясь на литературных произведениях. Да, у героя в руках нож, и у автора в руках нож. Но герой дерется с уличной бандой, а автор чистит картошку.
– Тогда что для вас первично: вымысел или факт?
– Факты подбираются под определенный замысел. Допустим, герою захотелось выпить виски. Я начинаю вспоминать все сорта виски, какие пробовал, – и предлагаю моему герою. Но если бы он не захотел выпить, я бы об этом напитке и не вспомнил. «Историю» я люблю придумывать сам, поэтому не пишу биографических романов и не написал ни одной книги в ЖЗЛ. Не рассматриваю это как достоинство. Я очень ценю писателей, которые способны влезть в шкуру исторического лица и сантиметр за сантиметром исследовать логику его поведения. Это великий дар и великое терпение, чего я, видимо, лишен. Как вы, возможно, заметили, в моих романах почти нет исторических лиц. Когда я пытаюсь о них писать, мне чудится окрик конвоя: шаг влево, шаг вправо… Для того, чтобы хорошо описать историческое лицо, надо быть великим актером и вживаться в роль. А я по типу скорее режиссер – и требую от героев действовать так, как я скажу.
– Как вы взаимодействуете с фантазией? Она капризна или откликается на первый же зов?
– Я стараюсь продумывать своих героев до тех пор, пока они сами не начинают подсказывать мне свои шаги. Это возникает не в начале романа, а появляется позже. Но когда герои начинают двигаться своим ходом – это самый счастливый авторский миг.
– Хемингуэй пытался писать так, как до него никто не писал. Ставите ли вы перед собой такую же задачу?
– Это никогда не было моей целью. Когда, например, я работал над «Лавром», я только и делал, что писал так, как писали другие… веке в пятнадцатом. Есть произведения, в которых можно «оттопыриться» от всей души, а есть такие, в которых надо подчеркнуть традиционность своего письма. Все зависит от задачи.
– Если обратиться к биографиям писателей, то можно заметить, что при кризисе многие даже бросают писать. А вы когда бросали писать в последний раз, если, конечно, бросали? Бывают ли у вас такие кризисы, которые заставляют усомниться в собственных силах? Если да, как вы с ними боретесь?
– Я слишком поздно начал, чтобы отвлекаться на кризисы. Это, как правило, удел писателей, которые рано стартовали. Как в песне Вероники Долиной о барабанщике – «я долго жил и ни во что не бил». Читал древнерусские тексты – и молчал. А теперь мне есть о чем барабанить. Вы правы в том, что чаще всего эта способность в какой-то момент у писателей исчезает. Самые честные из них говорят: приехали, я больше не буду писать. А многие пишут. И за каждым – своя правда, потому что очень трудно признаться себе в творческой импотенции. Допускаю, что это произойдет и со мной, но, честное слово, не знаю, каковы будут в этом случае мои шаги.
– Я опять о Хемингуэе: он как-то признался, что у него на девяносто одну страницу дерьма получается одна страница шедевра. А как у вас? Много ли приходится переписывать?
– Я всегда думаю о том, что скажут. Но если то, что я пишу, кажется мне правильным, оставляю все как есть. Кое-что из прежде написанного мне не нравится, но я никогда не переписываю – потому что не знаю как. Нет ничего хуже шахматистов, которые имеют привычку «перехаживать». Тогда игра теряет всякий интерес. Да и ходы их оказываются все равно плохими.
– Какой вы видите свою писательскую миссию? И думаете ли о ней вообще?
– Я избегаю таких категорий – «миссия». Если взять более низкий регистр – «задача», – то я вижу ее в том, чтобы дать читателю материал для размышления. Я, условно говоря, ставлю вопрос, на который можно ответить по-разному, и мне не важно, каким именно будет ответ. Главное – чтобы он был.
– Как вы пишете – следуя за мыслью или управляя мыслью?
– Я обычно имею план, но не очень детальный – так, чтобы у героев была возможность проявить себя. К каждому роману готовлюсь тщательно – просто чтобы знать материал. Но это касается декораций и костюмов. Актеры же должны обладать достаточной степенью свободы.
– Какой совет вы могли бы дать тем, кто пытается создавать художественные тексты?
– Вероятно, вы имеете в виду начинающих писателей. Потому что другим советы не нужны. Я бы посоветовал писать просто – как говорится, без понтов. Начинающие авторы боятся писать просто – и начинают с верхней «фа». Они боятся быть банальными – и сразу переходят на крик. Рано или поздно они понимают, что никого здесь не перекричишь, и начинают петь спокойно. И вот тогда, научившись нормальному пению, они время от времени пробуют высокие ноты. Но это уже те ноты, которые родились внутри, а не напеты Набоковым, Платоновым или Сашей Соколовым.
– Есть ли иной способ побороть неуверенность, а главное – писательскую беспомощность, кроме как продолжать писать?
– Продолжать писать – это, наверное, лучший способ. Если автор, конечно, не капитан Лебядкин. На самом деле вы затронули сложную проблему. В начале пути очень легко сломаться от безверия в свои силы. И здесь очень важно чье-то доброе слово. Доброе, но одновременно – объективное. И, наоборот, слово безжалостное может сделать калекой. Кажется, Зинаида Гиппиус, прочитав первый сборник стихов Набокова, сказала, что из него никогда не выйдет хорошего литератора. Представляете, если бы на месте Набокова был менее уверенный в себе человек? Мы могли бы лишиться одного из лучших стилистов мировой литературы.
– Какое отношение у вас, хранителя языка, вызывает его эволюция? Я говорю, в частности, о неологизмах, составляющих значительную часть молодежного лексикона. Вот безобидный, но наглядный пример: «Родители вздыхали, но платили за неоднократно зафейленный мной универ». Это главный редактор одного весьма крупного СМИ рассказывает о своей учебе в вузе.
– Когда-то такие вещи меня сильно раздражали. Впоследствии под влиянием Максима Кронгауза – а также, видимо, в силу возраста – я стал относиться к этому терпимее. Даже в дурновкусии порой есть свой шарм. А кроме того, самое неприглядное язык со временем отторгает.
– Продолжая тему: сто с лишним лет назад в России были изменены правила правописания. По сути, это уничтожило несколько букв русского алфавита: «фиту» заменили на «ф», «и десятеричное» – на «и», «ять» – на «е». Что потерял русский язык без этих важных, как мне кажется, букв?
– Об этом есть студенческая статья Дмитрия Сергеевича Лихачева «О некоторых преимуществах старой русской орфографии», за которую он попал в Соловецкий лагерь. Там он подробно эту проблему рассматривает. Я же скажу коротко: языковые реформы обедняют культуру. «Ненужные» вроде бы буквы на самом деле очень важны: они отражают историю слова, а в конечном счете – и языка.
– Из ваших текстов и интервью можно понять, что для вас очень важны путешествия. Что вы привозите из них?
– Привожу впечатления. Путешествия как бы спрессовывают время. Количество встреч, пейзажей, интерьеров увеличивается в разы. И это делает жизнь интенсивнее. Существует, правда, опасность перенасыщения – и тогда все сбивается в один малопривлекательный ком. Тогда остается только катить его, подобно жуку-скарабею. Вытащить из этого сплава что-то конкретное уже невозможно.
– У вас есть талисман?
– У меня на столе стоит фотография моего покойного кота. Над первыми романами мы работали вместе. Мне его очень не хватает.
– Вы недавно обмолвились, что текст, над которым вы работаете сейчас, может стать вашим главным романом. Почему вам так кажется?
– Главным – для меня. Очень субъективная оценка, так что можно не обращать на нее внимания.
– Вы возглавляете Центр по изучению современной русской литературы. Расскажите, пожалуйста, чем конкретно занимается этот центр?
– Этот центр издает ежегодник «Текст и традиция». В нем печатаются не только сотрудники Пушкинского Дома, но и литературоведы из многих стран, а также писатели. Эти тома можно полистать на сайте нашего Дома.
– Чтобы подвести итог: согласны ли вы с утверждением лауреата «Большой книги – 2017» Льва Данилкина, что хороший текст сам найдет издателя? Вернее, издатель сам найдет хороший текст…
– Думаю, что Данилкин совершенно прав: хорошие тексты не пропадают. Вот представьте себе, что на тротуаре лежит пятитысячная купюра. Поверьте: никто из прохожих не спутает ее с конфетной оберткой. И я не знаю того, кто поленился бы ее поднять.
Евгений Водолазкин – писатель, литературовед, доктор филологических наук. Родился в 1964 году в Киеве. Опубликованный в 2009 году роман Водолазкина «Соловьев и Ларионов» вошел в шорт-лист премии «Большая книга». Следующий роман, «Лавр», был удостоен этой премии в 2013 году. В 2015 году Евгений Водолазкин был награжден сербской премией «Милован Видакович», а в 2016 году за роман «Лавр» писателя удостоили итальянско-русской премии Горького (Сорренто).
Ольга Брейнингер «Когда человек гордо говорит, что он писатель, это тревожный звонок»
Ольга Брейнингер – о творческом пути писателя, текстурности текстов и литературном фанатизме.
– Для тебя творчество – перманентное состояние или это нечто преходящее, импульсивное? Ты готова творить ежедневно и ежечасно – или пишешь лишь тогда, когда загораешься, а если пламя угасло, то начинаешь заниматься чем-то еще?
– Второе. Я не пишу каждый день. Отчасти это связано с тем, что у меня много проектов. Сейчас в приоритете докторская диссертация. Работать одновременно над двумя проектами сложно, поэтому приходиться выбирать, переключаться. Написать кусок докторской, а вечером кусок романа – это не обо мне. Переключатель сломается на второй день. Я постоянно слежу за всем, что меня окружает, осмысливаю это. Интересно наблюдать за блогерами, потому что я раньше не видела, как они работают. Завораживает, как блогеры обращаются с мыслью, как работают с контентом. Все, что появляется, блогер немедленно фиксирует. У меня не так – если я сразу что-то запишу, мысль так и погаснет, не получив дальнейшего развития. А если мысль останется в голове, то прорастет там, переплетется с другими мыслями. И вот когда в голове все доходит до точки кипения – тогда да, пусть весь мир подождет.
– Мир подождал, и появился роман «В Советском Союзе не было аддерола». Как ты оцениваешь текст?
– Мне понравилось, как сказал Алексей Поляринов: когда ты пишешь первый роман, ты учишься писать первый роман. Это чертовски верно. Я спросила у Поляринова после презентации «Центра тяжести», его дебютного романа: «Ты уже жалеешь, что твой роман увидел свет?» Он сказал, что да. И я тоже очень сильно жалею об этом.
– Почему?
– Мне запали в душу слова Михаила Шишкина[376], что единственное чувство, которое писатель может испытывать после своей первой публикации, – это стыд. «Аддерол» был опубликован через три года после написания. Эти три года я понемногу литературно социализировалась, начала писать на регулярной основе. Я вышла на другой уровень, как мне хочется надеяться, профессионализма. Я знаю, что «Аддерол» несовершенен, знаю, в чем именно, и хочу дальше работать по-другому.
– Может быть, в этом несовершенстве и есть очарование текста, его настоящесть?
– Отчасти да. Когда мы с редактором «Редакции Елены Шубиной» Аней Колесниковой (она великолепно поработала с текстом) готовили «Аддерол» к печати, были моменты, которые я хотела переделать, но Аня говорила: не нужно этого делать, потому что ты испортишь главное, что оживляет текст. Мне понравилось, как мы работали с текстом, потому что моя внутренняя установка – на «текстурность» письма. Я ненавижу гладкий текст. Читатель проскальзывает по гладкому тексту, нет сцепления.
– Что в твоем понимании «текстурность» текста?
– Мне нравится, когда чтение связано с внутренним преодолением сопротивления.
– Ты говоришь о языке или образах, метафорах?
– Я говорю о языке.
– То есть ты сейчас отсылаешь к Набокову? Такому вот лингвисту-лингвисту?
– Я больше думаю об Эллисе[377]. Мне нравится, когда текст сохраняет грубость. По-английски это называется raw, но это значит не «сырой», а в моей интерпретации – фактурный, грубоватый, зернистый. То есть настоящий.
– Что значит «настоящий»?
– Когда текст не заполирован редактурой. Когда он живой. Когда ты оставляешь в тексте заусенцы специально, чтобы сохранить внутреннюю энергию. Когда я читаю книги, для меня это первый критерий, по которому я оцениваю написанное: насколько в тексте ощущается внутренний двигатель, стихийная потоковая сила. Все это легко убить, если перередактировать. С Аней Колесниковой, моим редактором, в этом смысле было прекрасно работать, потому что она понимала, чего я хочу, и в моменты сомнений говорила: «Так, нам пора остановиться. Ты помнишь, что мы хотели сделать?»
– Насколько важна роль редактора в книге?
Очень важна. В идеальном мире автор и редактор работают в тандеме.
– На этапе написания или на этапе работы над уже созданным текстом?
– Я бы хотела, чтобы со мной работал тот, кому я доверяю и к кому могу обратиться с разными вопросами. Есть ли нерв? Не разваливается ли геометрия повествования? Держу ли я напряжение?
– Алексей Сальников, автор романа «Петровы в гриппе и вокруг него», рассказывал: когда он пишет и попадает в правильную тональность, у него начинает бешено колотиться сердце, потеют ладони – словом, настоящая внутренняя эйфория. А у тебя какие ощущения, когда ты пишешь что-то настоящее?
– У меня все начинается с интонации. Бывает, я еще не знаю, что напишу, но уже слышу в голове шум, который постепенно обретает тональность и интонацию. Да, для меня важно эту интонацию передать. И когда в эту интонацию попадаешь, тогда возникает драйв. Я люблю задыхающуюся прозу, я люблю то, что я сама для себя назвала «звуковое перегружение», у Эллиса этого много.
– В русском переводе не потерялось ли это «звуковое перегружение»?
– На русском текст тоже выглядит очень хорошо. У Эллиса есть интересный прием – name-dropping. Автор «бросается» именами. Казалось бы, банальная вещь, ничего общего с литературой. В «Гламораме» все начинается с того, что устраивается вечеринка. К организатору постоянно подходит помощник и отчитывается – тот или иной человек подтвердил, что придет. В тексте это строчки имен, имен, имен. Вначале это сильно раздражает, и ты думаешь – ну зачем? Ты ведь настраиваешься на диалог, а потом в него вклинивается лишний персонаж и дает ненужную информацию.
– Эллис умышленно ломает ритм текста?
– Да, и когда я поняла интонацию Эллиса, мне это безумно понравилось. В конце концов, эта накрутка звука начинает работать как раздражитель, как сопротивление, которое читателю приходится преодолевать. Для меня это безумный драйв, поэтому мне так нравится «Гламорама». Я тоже пробую нечто подобное, мне бы хотелось делать такое на русском языке.
– Любой «большой» (в смысле не объема, а значимости) текст нужно преодолевать? Читать, испытывая сопротивление? Если текст проглатывается на одном дыхании, для тебя это недостаток?
– Нет, не обязательно. Думаю о текстах, которые проглатываются на одном дыхании и читаются ровно. Многие мне нравятся. Но это не моя эстетика. Я хорошо понимаю, что я хочу сделать, и ровные спокойные тексты – не моя дорога.
– Ты пытаешься, когда пишешь, отвечать на свои внутренние вопросы? Считаешь ли ты писательство психотерапией?
– Да. Причем это касается не только романов. У меня есть теория, что даже в науке так: темы, которые ученые выбирают для диссертаций, появляются не из ниоткуда. Я совершенно уверена, что выбор темы – это непрямой ответ на внутренний запрос. У меня это сработало, потому что в «Аддерол» я вложила все, что меня волновало, все, что я видела, все, что было для меня важно. На тот момент передо мной страшно остро стояла проблема национальной самоидентификации. А потом, когда текст был уже написан, стало легче.
– Ты получила ответ или тебя просто отпустило, потому что ты выговорилась?
– Потому что я получила ответ, да. Я полностью разделяю написание романа как большой поиск и сознательное использование работы над текстом как элемента психотерапии. Ко второму я отношусь крайне негативно. Я вообще плохо отношусь к любому прикладному использованию текста. Такие записи в тетрадочках следует навсегда оставлять в столе у психолога. Литература так не работает.
– Среди писателей есть два противоборствующих лагеря: «архитекторы» и «садовники». Курт Воннегут называет их еще «черепахи» и «ястребы». Первые рисуют план, а потом начинают по этому плану скрупулезно выстраивать архитектурную конструкцию. А «садовники» приходят к метафизической грядке с зерном идеи. Зерно бросают в грядку, грядку поливают, удобряют и смотрят, что же взойдет. Писатель-«садовник» не знает, что он пишет.
– У меня немного другой образ. Я представлю себе вот как. Есть темнота – это Вселенная. Твоя задача как писателя – отвоевать, отрубить, вырубить себе кусок Вселенной. Ты берешь топор и начинаешь работать с неким айсбергом. Это твой кусок пространства, это твой текст, твое литературное пространство. Она существует до тебя, но ты отбираешь его у мира и делаешь своим – через слова. И если сначала ты работаешь топором, чтобы, условно говоря, обозначить территорию нового текста – то по мере приближения к тому роману, который у тебя в голове, ты переходишь к более тонким инструментам, к резцу, а потом и вовсе начинаешь плавить слова прикосновениями пальцев – здесь, там, на четверть секунды, чтобы неживое превращалось в живое.
– То есть тебе близок подход Микеланджело – «отсечь все лишнее»?
– Отвоевать свою темноту и свой айсберг.
– Себе, в личное пользование?
– Ты его потом все равно оставляешь там, во Вселенной. Ты берешь этот кусок во временную аренду и перерабатываешь. Ухватываешь что-то важное, цельное, придаешь смыслам законченную форму. Но они не принадлежали и не будут принадлежать тебе.
– У меня есть теория, что писатель не пишет текст, а настраивается на некую волну, и из Вселенной приходит трансляция. Если прибегнуть к твоей метафоре, получается, что мы, глядя во Вселенную, можем предположить, что там – бесконечное количество айсбергов?
– Да, скорее всего, именно так. Я верю в то, что писатель – это медиум, транслятор смыслов.
– Какова тогда в твоем понимании роль писателя в создании текста?
– Кроме того, чтобы уловить трансляцию, необходимо предельно хорошо донести ее до читателя. «Хорошо» необязательно значит «понятно». Я о том, чтобы форма соответствовала, скажем так, посланию, которое ты несешь читателю. Одни тексты требуют гладкости, другие – шершавости и так далее.
– И когда ты понимаешь, что за послание приходит с текстом? Сразу, по ходу работы или только в конце? Или только после того, как роман уже опубликован?
– Это первое, что начинает во мне звучать. А потом уже появляется все остальное. Если нет «месседжа», я не пишу. Для меня идея – это самое главное. У меня есть «минус второй» и «минус первый» романы. В минус втором романе одним из главных героев был Хемингуэй, я как раз недавно это вспоминала. Потом я довольно долго не писала. Во-первых, я хотела поумнеть. Во-вторых, хотела слепить себе характер.
– Стать другим человеком, чтобы написать хороший текст?
– Я по натуре романтик. Истории, которые всегда что-то во мне зажигали, – это истории о революционерах и людях, сделавших себя. Так что мое становление – это сознательный процесс, я специально ломала себя и проводила через полосу саморазрушения. Среди всего, что выводит человека за пределы своего «я», боль – как ни банально, самый доступный и действенный способ себя изменить.
– Вернемся к литературе. Ты долгое время не писала после Литинститута. Почему?
– После минус второго и минус первого романов был долгий период тишины. Я не писала лет пять точно. Мне казалось, что в этом пока нет смысла, что я еще не готова. Что я еще не нашла тот самый месседж, который я хочу и должна донести до читателя. Вот когда этот месседж у меня появился, я стала писать.
– Что изменилось с выходом «Аддерола»? Ты ощутила в себе или в окружающем мире какие-то перемены?
– Если честно, да. Я поняла это не сразу. Я жила в Америке, почти отрезанная от литературного мира. «Аддерол» – текст очень-очень личный. После публикации у меня возникло ощущение, что я накрылась пальто, высунула оттуда книжку и продолжаю осторожно подглядывать, что там с ней происходит. И вроде бы я сознательно шла на публикацию, а текст все равно очень личный. Сложное ощущение. Но так и должно быть, это правильно.
– А когда возникло желание опубликовать этот текст? И как он появился?
– Есть версия в стиле «скандалы-интриги-расследования», а есть настоящая. Надо настоящую? Я начала думать об этом тексте еще в Оксфорде, где я проработала два года – с 2011 по 2013 год. Это был для меня самый настоящий переломный момент. Тогда в голове появились фрагменты текста. Рабочим названием было «Черно-белый роман», и почти ничего из того, что я тогда написала, не вошло в финальную версию. Потом я приехала в Америку, пришла в Гарвард, чтобы писать о национальной самоидентификации, постколониализме и всем таком прочем. Но мой первый год в Гарварде совпал с огромными и болезненными геополитическими катастрофами – и это была абсолютная ломка сознания. «Аддерол» начался с последней главы. Я пришла домой с какого-то семинара по политологии, села за стол и написала главу полностью – от первой до последней строчки. Эта глава – единственная, которую мы вообще не редактировали.
– То есть она как бы написана залпом?
– Да. Ни одного изменения. Потом возник пробел, я съездила на Кавказ, в Чечню, вернулась. Наступил момент, когда я поняла: сейчас или никогда. Вообще-то я в обычной жизни нормальный, очень ответственный человек, у меня все прекрасно с тайм-менеджментом, но то, что случилось тогда, абсолютно необъяснимо для моего характера. У меня в то время была двойная программа по учебе, я хотела получить вторую специализацию и занималась культурологией нефти. Но однажды вместо этого всего я пошла в офис – без окон, с ужасным люминесцентным светом, от которого болели глаза. В офисе я закрылась на три недели. И за эти три недели написала роман.
– И не выходила?
– Нет.
– Вообще?
– Да. Привезла туда косметику, сменную одежду, подушку, плед; нашла душевую кабину. Три недели провела в затворничестве. Спала за столом, просыпалась, писала. Не ходила на занятия, перестала появляться в университете, днем и ночью писала. Тут надо бы сказать, что мной двигал огромный внутренний стимул. Но был еще один человек, который тогда в меня очень верил. Он говорил – давай, работай, делай! Ты должна стать писателем! И у меня возникло понимание, что я должна сделать это именно сейчас.
– Как думаешь, почему это понимание пришло именно тогда?
– Понимание пришло в тот момент, когда я поняла месседж, пазл сложился в голове. Когда я села работать, я думала – это займет неделю-две, у меня ведь много чего уже было написано в Оксфорде. Я думала – приведу написанное в порядок. Потом выяснилось, что ни черта не подходит. Я выбросила написанное. Все, кроме той последней главы. И начала писать заново.
– Почему ты решила выбросить написанное?
– Я поняла: это уже не то, что я хочу сказать. То был «Черно-белый роман», а я начала писать «Аддерол».
– То есть «Черно-белый роман» ты все же написала, но оставила в столе?
– Я написала текст наполовину. Он канул в Лету, и там ему и место.
– Как роман дошел до издателя?
– Долгая история. Сначала я отправила роман в толстые журналы, ответа не было. Потом, опять-таки под давлением друга, которому я очень благодарна, я отправила роман на «Дебют», текст попал в лонг-лист. Потом все завертелось. Мне написали из толстого журнала, текст опубликовали, и я осмелела. Тот же друг мне сказал: «Теперь – издательства!»
– Ты помнишь это ощущение – когда берешь в руку напечатанную книгу?
– Я, если честно, страшно стеснялась всего происходящего. Много времени ушло, чтобы я стала спокойно к этому относиться.
– В итоге ты все же приняла себя в статусе писателя – или остались внутренние противоречия?
– В русском языке «писатель» – такое заряженное слово, что просто взять и сказать «я писатель» – это нескромно. Говоря так, ты много на себя берешь. Возникает неловкость. Думать о своем статусе, о том, писатель ты или нет, – неправильно. Надо делать текст.
– Но если все-таки говорить о языке… Вот в сравнении с английским словом writer – почему слово «писатель» подразумевает больше ответственности?
– Потому что у русской литературы традиционно есть ряд дополнительных функций, которых нет ни у одной другой национальной литературы.
– Какие?
– Просветительская и идеологическая. Писатель – не просто человек, который написал текст. Писатель – человек, у которого есть миссия. Писатель – ответственная фигура. Русский писатель – это калибр. Это Толстой, Достоевский, Платонов. Мне неловко об этом говорить. Когда человек гордо говорит, что он писатель, это тревожный звоночек.
– Но ты все же ощущаешь себя писателем?
– Недавно мне пришло письмо, которое начиналось словами: «Писателю Ольге Брейнингер-Уметаевой». Ого, подумала я. Теперь это официально.
Ольга Брейнингер – писатель. Родилась в 1987 году в Караганде Казахской ССР. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького, магистратуру Оксфордского университета и докторантуру Гарвардского университета. Жила в Германии и Англии, в настоящее время живет в Бостоне (США) и преподает в Гарвардском университете. В 2017 году дебютировала с романом «В Советском Союзе не было аддерола».
Владислав Отрошенко «Если тебе плохо, когда не пишется, значит, ты писатель»
Лауреат и член жюри литературной премии «Ясная Поляна» Владислав Отрошенко – о мелодии души, поражениях и абсолютном счастье писателя.
– Начнем с главного: как побороть в себе страх неудачи?
– Верить в себя. Продолжать работать и совершенствоваться. Примеров неудачного писательского дебюта множество. Ярчайший – Гоголь и его поэма «Ганц Кюхельгартен». Николай Васильевич сжег текст и потом страшно его стеснялся. Я, как и все писатели, начинал писать и не заканчивал множество текстов. Мне казалось – вот, пишу как настоящий писатель. Сижу, что-то сочиняю. Создан антураж. Листы бумаги, пепельница, чашка кофе… Так продолжалось много лет. Ничего не получалось, но я не отчаивался. Потому что с подросткового возраста во мне росла уверенность.
– В чем?
– В том, что я писатель. Я не знаю, почему, но я это чувствовал. Другое дело – я не был уверен, добьюсь ли успеха. Ведь абсолютное чувство веры в успех и в собственные силы есть только у идиотов и графоманов. Вера то приходит, то уходит. Особенно когда пишешь объемную вещь. Сомнения – спутник роста. И тем не менее, повторюсь, я знал, что буду писателем.
– Откуда?
– Это приходит из детского мироощущения. Из обостренного чувства одиночества, повышенной восприимчивости, ощущения непохожести на сверстников. Из представления о себе как о белой вороне. И это умение отстраненно смотреть и на себя самого, и на людей – оно оттуда. Все это и выливается на бумагу. Помню себя в детстве: мне были не нужны партнеры по игре. Я любил играть один. И не любил, когда взрослые лезли в игры. И это совершенно самодостаточное одиночество – причем не трагическое, не драматическое.
– Когда вы начали писать?
– Осознанно – когда мне исполнилось двенадцать. Я услышал рассказ дяди-моряка, и он показался мне романтическим. На самом деле – банальная история, как моряк в порту снял бабенку, и они переспали. Дядя рассказывал это во взрослой компании, а я краем уха услышал, и в голове эта история преобразилась в романтическую сказку. Я сел сочинять. Во мне загорелось это непреодолимое желание – рассказывать истории. Потом было еще много, скажем так, фальстартов: с двенадцати лет я пробовал и пробовал, и мне всякий раз казалось, что я скоро стану писателем. Но нет. Я подражал, придумывал наивные истории. Но наконец возникло это чувство – «вот оно».
– В какой момент?
– Когда я уже отчаялся. Я бросал тексты, не дописывал. Что-то мешало. В них не было мотора, который двигал бы слова. Не было главного. Знаешь, что главное в искусстве? Ведь все сюжеты и вправду уже придуманы. Как правильно подметил Борхес – историй всего четыре. О городе, который штурмуют и обороняют герои, о возвращении, о поиске и о самоубийстве бога. Когда я преподавал литературное мастерство в «Русском пионере», я говорил студентам: вот четыре истории, но есть пятая, которую вы можете в этот мир привнести. Пятая история – о Борхесе, который придумал, что историй всего четыре. У каждого писателя своя история. Мы привносим в мир то, чего не было до нас. Придумать сюжет несложно. А вот найти мелодию души, которая у каждого своя, гораздо сложнее. Эта мелодия, которую писатель транслирует с первых удавшихся попыток, уникальна. Почему ранние вещи не получаются? Потому что в них нет интонации. Это тонкая и неуловимая сущность в искусстве. Ты вдруг понимаешь, что в тебе говорит голос: то ты его чуть опережаешь, пытаясь записать, то он тебя опережает…
– Как вы его услышали?
– После горы неудачных попыток. Как я понял, что это он? А как отличить оргазм, полученный с женщиной, от самоудовлетворения? Механизм ведь один и тот же, результат одинаковый. Но любой мужчина видит разницу. С искусством так же. А голос я услышал при очень волнующих обстоятельствах. Я окончил факультет журналистики МГУ и работал на Radio Moscow, почти в контрразведке. Вещание шло на сто семьдесят стран. Я работал младшим редактором в главной редакции информации, готовил доклады по советской прессе и по зарубежным агентствам для Плевако, руководителя отдела: делаешь выжимки и рассылаешь по редакциям. Наговорит Косыгин или Громыко на десять страниц текста, твоя задача – сделать сжатый материал на десять строк. После Плевако шел с докладом к Лапину, тогдашнему директору Гостелерадио СССР. Я числился маленьким винтиком большой системы. Помимо дневных, мне доставались жуткие ночные дежурства. Ты сидишь «на телетайпе» в герметичной комнате (я астму там заработал) и анализируешь входящие материалы, часть из которых – с пометкой «эмбарго» до определенного часа. И вот, отработав полтора года в критических условиях и не думая ни о какой литературе – сидя в прокуренной наглухо комнате, я хотел лишь глотнуть свежего воздуха и выспаться нормально! – я вдруг услышал «мелодию». Пришли образы, как будто приоткрылся шлюз. Полились мелодии с определенной интонацией. И я стал это записывать. Я хорошо помню этот момент. Это происходило на фоне противостояния с США – Рейган, гонка вооружений, «Звездные войны». А я, вместо того, чтобы следить за повесткой, отрывал куски бумаги от лент телетайпа и записывал текст. Не думая, зачем. Забегая вперед, скажу: с Гостелерадио СССР меня выгнали из-за «Двора прадеда Гриши» – сборника, который я начал в телетайпной.
– Почему выгнали?
– Я эту историю раньше не рассказывал. Дело было так. Ночь за ночью я приходил на смену и продолжал записывать. Уже появились наметки первых двух рассказов. Я чувствовал – это оно, чувствовал себя окрыленным, одухотворенным. Чувствовал, что ничего не боюсь. Работа отошла на второй план. Я возвращался туда, потому что телетайпная создавала своего рода магическую атмосферу. Я писал под стук аппаратов, в прокуренной, наглухо герметичной комнате. Ду-ду-ду-ду. Стучат аппараты. С шуршанием выплевывают бумагу. Вокруг трещит. Меня это не отвлекало, наоборот. Кстати, если писатель ищет условия для творчества – скажем, домик на берегу моря, тишина – это чушь. «Просветление» приходит где угодно.
Итак, я писал. А в мире произошло глобальное мировое событие. Министра иностранных дел Андрея Громыко сделали Председателем Совета Министров СССР. Это серьезное повышение, и Рейган отправил коллеге очень теплое поздравление… несмотря на холодную войну. Видимо, это был стратегический шаг. В Политбюро посовещались и дали очень душевный ответ Рейгану. Американцы сделали шаг, мы сделали шаг. И вот такой ответный поклон пришел в мою смену. С пометкой «эмбарго до двух ночи»: то есть материал нельзя выпускать ни в какие СМИ, пока не пришло время. Я, увлеченный написанием рассказов, подготовил материал к эфиру и сделал врезку: «Громыко благодарит Рейгана в ответ на его поздравления». И так далее. Зная время снятия запрета на публикацию, я продолжаю работу. Выпущу в два ночи, думаю я. И пишу. Через час в мире происходит невероятное событие: делая радиопробу у себя в Америке, Рейган вместо «раз, два, три, хорошо ли меня слышно», в шутку так говорит: «Я приказываю поднять все бомбардировщики США и лететь бомбить русских». Это задокументированный факт. Естественно, новость разлетелась по мировым агентствам, тут же стала центральной. И, конечно же, на ленту в телетайпную пришло сообщение – немедленно снять материал с благодарностями председателя Совмина. Решили они там, видимо, так: молчание на поздравление и станет ответом на безбашенную шутку Рейгана. А я продолжал отрывать бумагу и записывать рассказы – не заметил распоряжения на ленте. Отдежурил ночную смену, вышел на утреннюю – так я тогда работал. Прихожу часам к одиннадцати и вижу переполох. Думаю – что случилось? И вскоре выясняю, что я, двадцатидвухлетний пацан, вмешался в мировую политику и провалил задумку «не отвечать Рейгану». Вышел страшный скандал. Рейгана – так вышло – поблагодарили, несмотря ни на какие шутки. А меня «укатали». И все же я благодарен тому случаю. Тогда я начал писать. Почувствовал защищенность самим фактом, что я пишу. Стал другим человеком на клеточном уровне. Даже астма прошла.
– В вашем дебютном сборнике «Двор прадеда Гриши» одиннадцать рассказов. Вы быстро их написали?
– Пять или шесть написались на одном дыхании. На середине возникло страшное торможение. Вдруг бах – и остановилось. Я испытал ужас. Думал – ведь как же все хорошо шло, почему вдруг ступор? Две-три недели не мог сдвинуться с места. Так плохо мне никогда не было. Физически трясло. Жуть. Гоголь однажды о себе сказал: «Бог отъял у меня способность творить» – страшные слова. Мне тоже стало страшно. И когда все вернулось – это было счастье. Последний рассказ цикла тоже «встал» на месяц. Я не находил правильных слов. Лежал в отчаянии, не зная, как этот рассказ завершить. Понимал, что без него цикл будет незаконченным. И как-то днем я уснул на диване возле радиоточки – приемника, который висел на стене в каждой советской квартире. И вот я слышу, что передают тот рассказ, который я силюсь написать, – кто-то его читает. Я встаю и думаю: «Вот же подлец, что он несет?» Сажусь за стол и записываю слова, которые доносятся из динамика. Дописав, ложусь на диван. Просыпаюсь уже под вечер. Думаю – приснится же такое. Радиоточка еще вещает. И вдруг вижу на столе исписанные листы – и понимаю, что рассказ написан до финальной точки. Я не знаю, что это было, – но бывает же такое! Когда я пишу, мое сознание меняется. И это непередаваемое ощущение. На эту тему у меня есть эссе «Встреча в Тамбове» – про то, как Андрей Платонов вдруг увидел себя, пишущего, со стороны… Так вот, когда я закончил этот цикл рассказов, я понимал: это хорошо, у меня получилось.
– Чем вы можете объяснить писательский блок?
– Природа этого писательского затыка для меня непостижима. Мне кажется, речь о дисгармонии – внутренний критик подавляет внутреннего писателя. Учитесь входить в такое трансовое состояние, когда нет никаких внутренних тормозов, а критик молчит. Некоторые писатели говорят – критика отключать нельзя. Отвечу так: баланс важнее. Если в вас сидит очень-очень большой писатель и маленький-маленький, крохотный, как муравей, критик, ничего не получится. Потому что большой писатель раздавит маленького критика. Он начнет говорить: «Молчи, я писатель. А ты муравей. Не тебе, муравью, знать, как писать великие романы».
– Вы сейчас графомана описали.
– Пожалуй. Или обратный сценарий: большой-большой критик, стоит только писателю написать пару слов, кричит: «Да что ты пишешь, да кто ты такой? Ты самозванец! Твои литературные потуги – посмешище». И то и другое – ужасно. Это крайности. Нужен баланс. Гармония в мире построена на балансе. Международные отношения? Тоже построены на балансе. Выстроив такой баланс внутри себя, ты освобождаешься и получаешь возможность спокойно работать. Стоит критику или писателю вылезти, возвыситься, сразу натыкаешься на «кочку», спотыкаешься и сбиваешься с ритма. Временами баланс нарушается. Это побочный эффект творчества.
– Как выверить этот баланс?
– Продолжать работать. И не завидовать другим. Зависть разрушает баланс. Вот ты впал в ступор, а другие сидят и пишут, и ты думаешь: «Боже, человек уже полромана написал за пять месяцев, а я – два предложения». У каждого – свой ритм. Нельзя ориентироваться на других. При этом изучение опыта других писателей – крайне полезная вещь. В одиночку продвигаться вперед сложнее. Когда я учился, то интересовался творчеством Гоголя. Увидев, что он мог по восемь недель писать одно предложение, я успокоился. Или, скажем, я работаю над текстом, для которого собрал столько материала, зарылся в такие дебри, и мне страшно. А потом я вспоминаю историю «Хаджи-Мурата»: Лев Толстой писал эту вещь восемь лет, он тоже зарылся в материал и досконально изучил Кавказскую войну. Знакомясь с опытом других писателей, ты понимаешь, что ступор и остановки – это неизбежно. В профессии писателя много издержек.
– Мне кажется, их больше, чем бонусов.
– Бонус только один – ты пишешь. Когда пишется, тебе хорошо. Что еще? Деньги? Признание? Это приятные дополнения, но не более. Главное в писательстве одно – когда пишется, ты чувствуешь себя неуязвимым. Для времени, потому что живешь в другом временном измерении. Когда ты пишешь, ты живешь не по календарю – понедельник, вторник, среда, четверг и так далее, – а по внутреннему времени. Ты замедляешь время. Оно исчезает. Эйнштейн утверждал, что космонавт, который улетает от Земли со скоростью света, живет в другом временном измерении. На земле проходят века, для него – мгновения. Писатель – в каком-то роде космонавт. Когда ты пишешь, ты становишься неуязвимым даже для смерти. Ты будто смотришь на мир сквозь толстое стекло.
– А что с побочными эффектами?
– К ним относится чрезвычайная лабильность психики. Я брата-писателя узнаю по предрасположенности к резким перепадам настроения, вегетососудистой дистонии, паническим атакам, повышенной рефлексии. И так далее. Я знал одного писателя – обойдемся без имен, – которому нужно было вдрызг с кем-нибудь разругаться, чтобы писалось. Кому-то пишется с дикого похмелья (видимо, от стыда). Психика у писателя расшатанная. Она такова изначально, с детства. Сильные травмы, пережитые в детстве, и бурные положительные эмоции закладывают диапазон – маятник раскачивается в обе стороны. Без такого раскачивания – от счастья до глубочайшей подавленности – творчества нет. Но как человек ты страдаешь, потому что становишься психически неустойчивой личностью.
– Вы согласны с тем, что писатель всю жизнь пишет одну книгу?
– Писатель выражает одну и ту же мелодию души. В этом задача пришедшего в мир писателя – выразить мелодию своей души. К мелодии прикладывается все остальное – сюжеты, герои. Яркий образец выражения мелодии души – Томас Вулф и его гениальный роман «Взгляни на дом свой, ангел». Вулф работал как мощнейший транслятор, до предела заряженный мелодией, которая в нем звучала. Или возьмем Чехова: его мелодия узнаваема, любой образованный человек скажет – вот чеховские рассказы. Обманчивая внешняя бессюжетность и определяет звучание Чехова.
– Как расшифровать чужую мелодию?
– Это сложный вопрос. Вот Чехов – он писал о тончайших душевных струнах, сам расшифровывал жизнь. Я, кстати, о своем творчестве этого сказать не могу. Останавливает меня недавно гаишник. Спрашивает – где работаешь? Я ему – нигде, я писатель. Он мне – о чем пишешь? И вот этот простенький вопрос гаишника – вопрос моей жизни. Я ему так и ответил – пишу о жизни и о смерти. О чем писал Толстой? Он писал о смерти. Толстой писал, как человек борется и побеждает – или не побеждает – смерть. Как человек живет в этом мире, зная, что обязательно умрет. Как находит точку опоры. Это расшифровка. Но писал Толстой о смерти. О чем писал Бунин? О мучительной прелести мира. Главная мелодия – как человек страдает от этой красоты. Каждый писатель вносит вклад в познание мира – в этом его миссия. Но лучше не задавать себе вопрос, какова твоя мелодия души. Это загасит исследовательскую искру, и что тогда?
– У меня тоже есть ощущение, что писатель – это человек-транслятор. Есть ли какие-то способы получше настроиться на «вещание» из Вселенной?
– В принципе да. Это интересный вопрос, потому что он затрагивает тонкие, я бы даже сказал, интимные стороны писательского искусства. У каждого писателя свой уникальный настрой, подходящий для приема мелодии. Настраивает на творчество состояние покоя, когда ты знаешь, что тебе никуда не надо идти. Ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю. Когда ты обрастаешь щетиной, ходишь в грязных трениках дома, неряшливый, с немытой головой…
– Это вы о себе говорите или в принципе?
– Отчасти и о себе. Для меня эти вещи важны. Первая главная вещь: чувство, что в обозримом будущем мне никуда не надо. Полный штиль. Нет, я могу выйти из дома, если захочу. Но по собственной воле. Это первое условие одиночества и покоя. Когда ты можешь побыть наедине с собой, валяться на диване. У итальянцев есть выражение «фар ниенте», что переводится как «ничегонеделание». Я говорю о «медитативном фар ниенте». Когда ты ничего не делаешь, потому что тебе ничего не надо. Второе обязательное условие – чтение. Я люблю читать в моменты ничегонеделания латинский словарь. Открывать и читать. Люблю читать Канта. Чуть меньше – Шопенгауэра.
– Не выбивают ли из состояния покоя внешние обстоятельства?
– Внешний мир приглушен. Когда тебе пишется, ты приглушаешь жизнь вокруг. Когда ты работаешь, она затихает. И чем она однообразнее, тем лучше.
– Вы описываете чуть ли не транс: замедление сердцебиения, изменение ритма дыхания, медитация.
– Верно. Вы замедляете темп своей жизни, потому что в лихорадке сложно поймать состояние, когда пишется. Во всяком случае, мне. И вот ты, как адепт восточных практик, замедляешь эмоциональную жизнь и впадаешь в транс. У меня есть повесть «По следам дворцового литавриста» – о двух противоположностях: «сновидческой реальности» и «реальной реальности». В чем феномен сна? Когда ты там, в сновидении, тебя не волнуют события твоей повседневной жизни. Тебя волнует то, чем ты живешь в сновидении. А когда ты пишешь, эмоции «там» бьют через край. Все переворачивается с ног на голову.
– У вас такое бывало?
– Да. Я писал «Дело об инженерском городе», повесть из цикла «Персона вне достоверности». Сделал паузу. Вышел на прогулку с собакой, которую безумно люблю. Единственное существо, которому я разрешаю заходить в кабинет, когда пишу, – вот какая любовь. Это важно для понимания дальнейшего. Так вот, я вышел в магазин – за сигаретами. Привязал собаку у входа. На кассе, когда расплачивался, в голове зазвучали фразы. Я в полубессознательном состоянии выскочил из магазина и помчался домой. Работал до позднего вечера. И вот уже ближе к полуночи незапертая дверь открывается, и в квартиру влетает собака. Грязная, без ошейника. Понимаете, я отключился в магазине. И забыл, что пришел не один! Я запомнил этот случай – это иллюстрация издержек писательской работы. Внешний мир перестает существовать, когда ты впадаешь в транс.
– Глубина транса и отличает истинное творчество от словесной архитектуры?
– Писатель владеет техникой письма. Но писатель знает и технику владения собственным духом. Писатель – недопроявленная фотография. Ты сидишь и допроявляешь, допроявляешь, допроявляешь. Если тебе на фотографии ясна каждая деталь до последней черточки – где тут творчество? Ты просто выстраиваешь словесные конструкции.
– Стивен Кинг сказал, что он – археолог, который ползает с кисточкой по полю вдохновения и ищет окаменелости. Вы пишете, судя по всему, так же?
– Примерно так, да. Первая фаза – состояние замысла. Видишь вспышку, и вдруг вспышка застывает.
– Как рождение или смерть новой звезды…
– Да. И в этот момент тебе легко двигаться вперед. Ты видишь текст, который тебе предстоит написать. Умирают все – внутренний критик, внутренний писатель. Остается только вспышка. Ты паришь в вакууме – как тот самый космонавт, о котором мы уже говорили, – и это состояние невесомости дарит счастье. Параллельно приходят интонации, герои, сюжет. У меня происходит вот так. Я будто бы получаю ключ от истории и записываю первое предложение. Начало зафиксировано, и дальше начинается работа. Эйфории уже нет. Уровень счастья зависит от того, как тебе работается (или не работается).
– Эти вспышки поддаются контролю?
– Нет, к сожалению. Идеи часто рождаются из чепухи. Но когда ты переживаешь такую вспышку в сознании – это абсолютное счастье.
– Вы однажды сказали, что счастье – это соразмерность пришедшего замысла навыкам писателя.
– Да, счастливый замысел тот, что соразмерен с текущими писательскими умениями автора. Приведу в пример Гоголя. Первый том «Мертвых душ» – замысел, соразмерный гению Гоголя. А второй том… В процессе работы началась борьба между творцом и творением, когда творец нагромоздил над творением невообразимые конструкции. Гоголь говорил: первый том «Мертвых душ» – это крыльцо. А потом появится дворец. Выяснилось, что крыльцо было настоящим, а дворец рухнул. Под обломками Гоголь, собственно, и погиб. Я об этом пишу в «Гоголиане». Штука в том, что писателю с опытом – так устроена Вселенная – приходят замыслы, соразмерные текущему опыту. Ведь нет ничего страшнее, чем осознание неподъемности замысла, который у тебя возник. Некоторые не выдерживают. Но, с другой стороны, замысел часто выводит тебя на новый уровень, и после окончания работы ты становишься другим человеком.
– Вы носите с собой записную книжку, делаете заметки?
– Листочки, да. Дома ждут своего часа кусочки, фрагменты. Эдакие замороженные эмбриончики. Самый большой срок между написанным первым предложением и уже готовой вещью – тридцать пять лет. Сразу после «Двора прадеда Гриши» я написал фразу – про старика, который сидит в дупле старой ивы и грезит, что его ноги на другой стороне реки. Буквально пара строк. Дальше не двинулось. Два года назад я достал полуистлевшие уже листы и стал пересматривать. Мне тогда не писалось, и я решил – пересмотрю старые записи. И вот смотрю я на этого старика и говорю себе: это же элементарно. И за два месяца написал серию миниатюр «Фигуры Дона». Видите – тридцать пять лет. Большая, согласитесь, дистанция.
– А влияют ли на ваше творчество внешние факторы?
– Я написал цикл «Языки Нимродовой башни». Миниатюры о языках, которые возникли после разрушения Вавилонской башни. Виновники – редакторы Esquire, которые позвонили и спросили, могу ли я написать рассказ в семьдесят два слова. Я удивился – почему столько? Они говорят: «Никто не знает, от балды придумали». Но я согласился. Интересная шахматная задача. Я решил писать не лажу, а историю с сюжетом. И за три дня – было непросто, признаюсь – написал рассказ «Язык народа йон». Пять строк. Сюжет такой: жил такой народ йон, который при строительстве Вавилонской башни ничего не делал, только пел песни. Когда башня рухнула, Господь наделил народы языками, а йонцам достался такой язык из пяти слов: «жираф», «барабан», «вечность», «заусенчатый», «тяпать». Я написал текст и вдруг за ним выскочил еще один вагончик. А потом еще один. А потом появился паровозик. Так появилась серия, переведенная на несколько языков. Не случись звонка из Esquire, возможно, не было бы этой серии.
•••
Из всех народов, строивших вавилонскую башню, народец йон был самый безалаберный. Йонцы ничего не делали на строительстве. Только песни пели – мол, песня строить и жить помогает. Когда же Всевышний, пресекая затею строителей, сотворил множество языков (раньше говорили на одном), йонцам достался такой, в котором было пять слов – «жираф», «барабан», «вечность», «заусенчатый», «тяпать». Но йонцы не унывали – сложили на своем языке тысячи песен, стихов; создали эпос. Существует на йонском философский трактат: «Жирафозаусенчатая вечность».
В. Отрошенко «Язык народа йон»[378]•••
– Сразу напрашивается вопрос о случайности и предопределенности. Как вы считаете, есть у нас в жизни выбор – или только иллюзия выбора?
– Когда я работал на Гостелерадио, я проклинал шизофренический стиль подачи материалов. Проклинал работу – из десяти страниц сделать десять строк. Но благодаря этой работе я овладел синтаксисом. Я понял, что русский синтаксис обладает колоссальной способностью к сцеплению. Ты можешь скреплять короткие предложения, короткие фразы, причем делать это так, что не разорвешь. Крепче бетона. Предопределенность? Кто знает. Мы не знаем, чем все обернется. Может, об этом знает кто-то там наверху.
– Присущий вам синтаксис – продолжение вашей мелодии души?
– Не совсем. Это инструмент. Балалайка, на которой ты играешь мелодию. Мелодия – она неуловима. Средства ее фиксации – инструменты. Сюжет – инструмент. Язык – инструмент. Синтаксис – инструмент, который все скрепляет и превращает все в некую структуру. А мелодия – это… Святой дух. По-другому и не скажешь. Мелодию нельзя объяснить.
– Журналистика помогла вам стать писателем?
– Да! Причем жесткая, жесточайшая журналистика. Чем жестче журналистика, тем меньше она затрагивает струны души. И одновременно ты учишься писать и лучше чувствовать эти струны. Если ты предрасположен к писательству…
– И как же понять, что ты предрасположен?
– Если ты упорно стремишься к цели, то дух писательства в тебе живет. Это внутренняя потребность. Лакмусовая бумажка – как ты чувствуешь себя, когда тебе не пишется. Вот что главное. Если тебе плохо, когда не пишется, значит, ты писатель.
– Нет ли у вас ощущения, что вы зашли в писательство с черного хода, и работа на Гостелерадио стала для этого необходимым условием?
– Это не совсем правильная постановка вопроса. Писательство – не пространство, в которое ты входишь. Это то пространство, которое из тебя начинает выходить.
– Я хотел сказать, что, возможно, именно журналистская работа создала условия, чтобы «пространство начало из тебя выходить».
– Возможно. Но она не стала определяющим фактором. Что бы случилось, если бы я не стал журналистом? Стал бы я писателем? У писателя внутри сидит зерно. И как оно проклюнется – этого никто не знает. У меня получилось так, как получилось. Я не абсолютизирую свой путь, но мне кажется так: трансформация журналиста в писатели – верный путь.
– Что вы почувствовали, когда взяли в руки книгу, только что вышедшую из типографии?
– Первая серьезная публикация – цикл рассказов «Двор прадеда Гриши» – вышла гигантским тиражом в журнале «Студенческий меридиан». Я потом получил полтора мешка писем от читателей. И это было удивительно, конечно. Первая книга – «Персона вне достоверности» – впервые вышла в 97-м году в Италии в издательстве Voland Edizioni. Ощущения? Мне было дико приятно. Если писатель говорит, что не испытывает в такие моменты душевного подъема, это ложь. Однако издание книги не должно превратиться в самоцель.
– А как насчет амбиций? Они важны?
– Здоровая доля тщеславия и честолюбия необходима. Бунин как-то пришел в гости к Толстому, а тот перечитывал только что вышедшую собственную книгу. Бунин позже сказал: даже гений Толстой не был свободен от этого сладкого желания – посмотреть, как выглядит опубликованное произведение.
– Расшифруйте, пожалуйста, вашу метафору: писатели-пауки и писатели-пчелы.
– Я считаю, что писатели делятся на две группы по способу сотворения образов. Писатели-пауки ткут ткань образа из себя, опираясь на собственное мироощущение, писатели-пчелы собирают образы, как пыльцу. Слушают, наблюдают, анализируют, переосмысливают.
– Расскажите, пожалуйста о премии «Ясная Поляна». Вы стали ее лауреатом, а теперь состоите в членах жюри.
– У нас все, как говорится, по гамбургскому счету. Нам все равно, насколько известен или неизвестен автор, молод он или стар, начинающий он или опытный. Мы оцениваем текст.
– Как выдвинуться на премию?
– Через сайт «Ясной Поляны». У нас все демократично. Заявка в свободной форме. Тебя может выдвинуть издатель, лауреат премии, литературный печатный орган и так далее. Список внушительный. Единственное – необходимы экземпляры книги, чтобы ее прочли члены жюри. Скажу так: начинающему писателю выдвинуться на нашу премию проще всего. Я не хочу говорить плохо о других, каждая премия по-своему хороша. Но вот в чем наше отличие: мы принимаем вещи, написанные в период с двухтысячного года.
– В качестве некоего итога: какой главный совет вы можете дать не опубликованным пока авторам?
– Первое – прислушаться и услышать мелодию своей души. Второе – найти равновесие. Чтобы начать писать, важно сделать первые шаги – так, чтобы тебя не подавил внутренний критик. И третье, последнее – не бояться провалов. И верить в себя.
Владислав Отрошенко – российский писатель, эссеист. Родился в 1959 году в Новочеркасске. В 2004 году за книгу «Персона вне достоверности», опубликованную в Риме на итальянском языке (переводное название Testimonianze inattendibili), Владиславу Отрошенко была присуждена одна из самых престижных литературных премий Италии – премия Гринцане-Кавур. Лауреат премии Правительства России (2014 год), лауреат премии «Ясная Поляна» (2003 год) за книгу «Гоголиана и другие истории». Произведения писателя переведены на 12 языков.
Григорий Служитель «Легче было написать, чем не написать»
Григорий Служитель – о котах, женщинах, жизни и литературном пути.
– «Я всегда писал, каждый день» – твои слова. Вопрос: с какого возраста? Почему?
– Настольной книгой моего детства были «Мифы и легенды Древней Греции» Куна. Это просто кладезь сюжетов и характеров. Когда я прочел «Одиссею», то решил для себя, что нет ничего интереснее, чем сочинить героя и отправить его странствовать. При этом, как водится, все его спутники должны погибнуть, а он единственный доберется до цели. Доберется и подумает: «А было ли мне все это так уж нужно?» Сейчас я понимаю, что так или иначе лет с семи я думал над такой книгой странствий. В моем случае писательство – это не эскапизм, это творчество. А любое творчество – в первую очередь радость созидания.
– Ты помнишь момент, когда к тебе начал приходить текст? Что ты при этом испытывал?
– Я стал задумываться над замыслом книги лет пять назад. Первоначально это должна была быть история о двух нищих – в абстрактном месте, в эдаком прекрасном безвременье. Я начал работать, но скоро выдохся. Книга не пошла. Я оставил этот замысел и терпеливо ждал, когда я поймаю нужный импульс. И я его поймал. Сочинять книгу – труд крайне тяжелый. Этот роман обогатил меня огромным опытом. Первое, чему я научился, – не ждать вдохновения, а когда оно придет, не слишком на него полагаться. То, что я вымучил трудом, как мне кажется, выглядит в конечном счете гораздо лучше, чем то, что я писал «под вдохновением».
– Ты видел много смерти. Расскажи, пожалуйста, о своих с ней отношениях.
– Ее зримое или незримое присутствие… думаю, это должно быть главной темой для человека, который связал свою жизнь с литературой. Все, что делает художник, – всего лишь вариации и интерпретации на тему смерти. Сон без сновидений, райские кущи или вполне себе сносный лимб… можно долго фантазировать. Конечность существования – это, по сути, глубоко неестественная мысль для всего живого. С этим срочно надо что-то делать. Я, например, решил об этом писать.
– Ты как-то сказал: «Мы – это не только то, что у нас есть, но, как мне кажется, еще в большей степени, то, чего нам сильнее всего в себе не хватает». Чего тебе не хватает сейчас?
– Цельности, сдержанности и владения собой. И еще – равнодушия к глупости.
– Твоя книга про кота, «Дни Савелия», – метафора жизни. Но грустная выходит жизнь-то. Где надежда?
– Надежда, в лучшем ее смысле, не должна зависеть от обстоятельств, как бы трагично они ни складывались. Надежда – это наша фляжка воды в самой безжизненной пустыне.
– «История романа – это череда расставаний и потерь. Чем-то моя жизнь стала похожа на роман, когда я его писал». Снова твои слова. Ты упоминал, что купил квартиру по соседству с тем самым адресом, который описан в романе… Так жизнь определяет литературу или литература жизнь?
– Я как раз сейчас разбираюсь в этом вопросе. Это большая тайна. Я довольно скептически отношусь ко всякой эзотерике и вообще к простым способам обозначить наши связи с потусторонним. Как правило, все это – дешевые спекуляции. Но все-таки я чувствую, что существуют, если можно так выразиться, некие рифмы. В моей жизни я их слышу. И слышу их особенно явственно, когда происходит что-то очень важное. Как сказал Бродский: «Писатель измеряется его метафизичностью». Эта метафизичность должна присутствовать в текстах, как ни странно, даже самого убежденного атеиста.
– Я когда-то спросил Евгения Водолазкина, программирует ли писатель события. Он ответил, что писатель не всегда должен программировать, иногда надо просто сохранять. Ты ощущаешь такую ответственность?
– Нам действительно не дано предугадать, как слово наше отзовется. Да, это правда. А написанное слово, я уверен, оказывает гораздо большее воздействие, чем слово сказанное. Человек, особенно русский человек, доверяет написанному больше, чем сказанному. Поэтому и страна у нас такая литературоцентричная. Да, вне всякого сомнения, я думаю о том, как бы не причинить словом вред. Но пока что, кажется, у меня не было повода волноваться.
– И сразу же цитата из текста: «Ведь мы не начинаем нашу жизнь каждый день. Мы продолжаем звучать, послушные чьему-то нажатию клавиши». То есть ты все же считаешь, что в жизни мы ничего не решаем и от нас ничего не зависит?
– На этот вопрос ответа у меня нет. Но думаю, даже веря в предопределение, надо жить так, словно ты ничего об этом не знаешь. Иначе, как часто бывает, человек просто снимает с себя ответственность за ужасные поступки и перекладывает ее на фатум.
– У тебя были писательские амбиции?
– Да, конечно, и они появились гораздо раньше актерских.
– Интонация текста – в меру ностальгическая, в меру меланхоличная. Откуда она взялась?
– На самом деле в романе много юмора. Я хотел написать такую книгу, чтобы читатель не знал, что ему делать: плакать или смеяться. Для меня, во всяком случае, это любимый жанр.
– Что для тебя лично значит L’amoroso Вивальди? Ты то и дело возвращаешься к этой мелодии в тексте.
– Я выбрал этот мотив… как сказать. Мне нужно было что-то лирическое, легкое. То, что кот Савелий пронесет через всю жизнь как образ детской безмятежности. Как воспоминание о счастье. Но, признаюсь, с этим мотивом конкурировал Бах. А точнее, прелюдия и фуга ми минор. Но все-таки кастинг выиграл Вивальди.
– «Пока она несла меня, я раскачивался в воздухе: синь небес – зелень трав, синь небес – зелень трав. Кувырок – дно коробки». Сам текст музыкален. То легато, то отрывистое стаккато. Ты слышал музыку текста, когда писал?
– Да, и я очень много слушал музыку. У меня был целый плейлист. Когда я садился за стол, особенно на финальном этапе, я зажигал свечку и включал музыку. Без этого я не начинал писать. Я даже думаю, что без найденного мотива я бы, наверное, не смог докончить роман.
– Это про музыку книги. А какова музыка твоей жизни?
– Ее даже больше. Я же ведь еще и музыкант. У меня есть группа. Музыка – это огромная часть меня, я всегда что-то слушаю, постоянно. Сейчас я гораздо больше слушаю классику, особенно барокко. В юности я, как и все мое поколение, прошел школу Radiohead, Massive Attack, британского рока и всякой электронщины. В частности, Aphex Twin. Но сейчас я от всего этого подустал. Эта музыка, при всей моей к ней искренней любви, довольно ограниченна. В Монтеверди или Бетховене каждый раз я открываю что-то, чего не замечал.
– Еще цитата из «Дней Савелия»: «Жизнь не просто одна, но даже какая ни есть, она с каждым днем все убывает и убывает, как вода в дырявом корыте». Это твое отношение к жизни?
– Это не отношение, это данность.
– Не удержусь и снова тебя процитирую: «Ножницами, в строгом соответствии с пунктирными линиями, Митя надрезал объявления снизу. Потом они еще долго трепетали на ветру бахромой телефонных номеров. Трепетали, пока не превращались в те же самые ошметки, которые Митя аккуратно счищал, чтобы наклеить на их место новое объявление. Но квартиры в нашем районе почему-то не пользовались особенной популярностью, поэтому труд Мити был до некоторой степени бессмысленным». Не метафора ли это жизни большинства людей в нашем современном обществе?
– Ну, до некоторой степени, любой человеческий труд при любой эпохе – это труд Сизифа. Должно быть, в наши дни человек особенно часто спрашивает себя – что и зачем я делаю? Недаром самое распространенное заболевание в современном обществе – депрессия. Да, стоит нам остановиться, посмотреть в зеркало и задать себе вопрос, что вообще происходит, – и после этого мы можем навсегда потерять покой. Я много об этом пишу в книге.
– «Короче, круглые сутки ей нечего было делать. Она маялась от скуки. Комфорт притуплял ее воображение». Ты сейчас опять о себе написал? Считаешь, что нужно жить в стрессовом ритме?
– Нет, в стрессе нет ничего созидательного и позитивного. Безусловно, я находился в крайнем напряжении, когда писал книгу, особенно последнюю часть. Но это естественно. Если ты занимаешься литературой серьезно – это предельная концентрация всех сил. Это многое забирает. Я осенью отрастил бороду и длинные волосы. Однажды проходил мимо храма, и старушка попросила у меня благословения. Я благословил, мне не жалко. В общем, выглядел я странно. Но надо уметь восстанавливаться. Я занимаюсь бегом, слушаю музыку. Есть разные способы держаться на плаву.
– Кот Момус, упомянутый в книге, – отец главного героя. Напрашивается аналогия с «Последним самураем» Хелен Девитт, где герой тоже искал отца. Ты читал книгу?
– Момуса я придумал, когда рассматривал в очередной раз своего любимого Ватто. У него почти на каждой картине спрятан небольшой каменный божок. Как правило, выражение его лица насмешливое и недоброе. Я захотел ввести в роман такого вот персонажа. Неуловимого и загадочного. Книжку не читал.
– «Страдание по силе привязанности к нему ничем не уступает удовольствию». Ты и правда так считаешь?
– Да, я очень часто вижу, как люди не могут жить без страданий. Это своего рода наркотик. В нашей стране это обычное дело. Более того, где-то внутри русский человек стесняется быть счастливым.
– Говорят: желающего судьба ведет, а нежелающего тащит. Что, по-твоему, отличает «желающих» от «нежелающих»? Можно ли как-то обрести желание жить, чтобы судьба непременно протянула тебе руку?
– Ох, трудный вопрос. Я не тренер личностного роста. Более того, сейчас страшную вещь скажу, я человек ленивый и инертный. Но что касается «Савелия»… мне приспичило. Легче было написать, чем не написать. Мне исполнилось тридцать, и я понял, что вот оно – мое время, другого не будет. И ощущение конечности отпущенного времени меня подталкивало. Я хорошо знаю, что такое депрессия, но тут страсть к творчеству пересилила страх и малодушие. Я, кажется, не совсем на тот вопрос ответил…
– Женщины влияют на твою жизнь?
– Да, еще как. И не только на жизнь. В книге я припрятал пару приветов важным для меня барышням. Каждому писателю нужна своя Беатриче. Или даже несколько.
– Напомню тебе твои же слова: «Наш мир одержим приобретением, сложением и приумножением. Я хотел сделать что-то про существо, которое только теряет». Ты чувствуешь эту вот одержимость?
– Конечно. Мы все это чувствуем. Но это не протест. Мне все-таки ближе западный уклад жизни, но в то же время… Мне надоел культ поверхностного, легкого успеха. Помимо биткоинов, в мире ведь появилась еще одна твердая валюта. И она подчас ценнее денег. Я, разумеется, имею в виду лайки. И это все так глупо. А мой Савва – он ведь по сути неудачник. Но, как писал Чехов: «У человека очи бывают отверзты только во время неудач». Вот мой Савва так и живет с отверзтыми очами. Точнее, с одним оком.
– Как ты проводишь свободное время?
– Вот, например, интервью даю. Веселое занятие. Как уже сказал, обожаю бег. Я много пою. Каждую свободную минуту стараюсь читать. Признаюсь, в прошлом году ходил (и прошел!) на шоу «Голос». Не поверите, но прямо передо мной взяли последнего человека в группы к наставникам! Мое выступление перенесли на этот год и должны были с меня начать, но я отказался участвовать. Жизнь сильно поменялась за этот год. Как-то стало не до этого.
– Ты говоришь: «Возможно, литературные события меняли меня больше, чем то, что происходило в моей жизни». Расскажи, пожалуйста, о таких событиях, которые на тебя сильно повлияли.
– Бродский в своей нобелевской речи сказал, что человеку, читавшему Диккенса, сложнее выстрелить в себе подобного. Я совершенно с ним согласен. Литература высокого класса – это не панацея от мирового зла. Но, увлекаясь, следя за духовной жизнью великих литературных характеров, ты навсегда проникаешься уважением к частности чужого существования. Мои первые и главные события: «Война и мир», «Преступление и наказание», «Белая гвардия», «Дар». Потом возник Пруст, Музиль, Акутагава. Список очень длинный.
– Ты признался, что в некотором смысле буддист, и процитировал далай-ламу: миру не нужны успешные люди, миру нужны рассказчики. А в других смыслах?
– Вы имеете в виду мою религиозность? На этот вопрос я в шутку отвечаю, что я не верующий, а надеющийся.
– Тебя сильно изменила известность?
– Я, если честно, совсем ее не чувствую. «Савву» я писал не ради всего того, что называется сегодня словом «хайп». Но я счастлив, что книга пользуется успехом. Рад, что она нравится. Это естественно для любого автора.
– Что ты понял о жизни, пока писал эту книгу?
– Что она очень коротка и надо многое успеть.
Григорий Служитель – актер, писатель. Родился в 1983 году в Москве. До поступления в ГИТИС учился в Московской киношколе. В 2005 году окончил режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС. Актер, писатель. Дебютный роман Служителя «Дни Савелия» номинирован сразу на несколько литературных премий.
Ольга Славникова «Страх неудачи побороть нельзя»
Ольга Славникова – о страхах писателя, неудачах и дороге к поставленной цели.
– Вы называете себя «логоцентричным» писателем, для которого важны слова. Чуть ли не каждое предложение недавно вышедшего «Прыжка в длину», как и остальных романов, – метафора. Насколько проблема языка актуальна для современной литературы?
– В аннотациях к современной прозе часто видим фразу: «Книга легко читается». Это подается как достоинство, плюс для покупателя в книжном магазине. Проблема языка заключается в том, что легкость имеет свою цену. Выигрывая в тиражах, автор теряет в глубине. Метафора – не украшение текста, не «завитушка», но способ обнаруживать смыслы. Бедна та проза, в которой нет поэзии. Кроме того – и для меня это важно! – метафорический язык не только орнаментирует сюжет, но в значительной мере его создает. Например, метафора проявляет характер героя и влечет за собой его поступки, которые автор изначально не планировал. Так под пером оживает персонаж. Приведение языка к рыночной простоте – своего рода инвалидность литературы.
– Как вы можете объяснить популярность, скажем так, «эльфийского эпоса»? Вампиры, гоблины, хоббиты – тысячи авторов пишут фэнтези. И не так уж много – реалистическую прозу.
– Ну, во-первых, про эльфов писать легче, чем про чиновников или официантов. Никаких реальных фактов и обстоятельств знать не надо, все можно придумывать. Да и придумано уже достаточно, сюжет строится на всем готовом. Чем проводить писательские исследования, проще подключиться к общеизвестным «мирам». Начинающему автору этот путь видится очень привлекательным. Во-вторых, «эльфийский эпос» удовлетворяет потребность в романтической литературе. Реализм сегодня жесткий и другим быть не может, а волшебной сказки хочется многим. И в-третьих, «эльфийский эпос» – рыночный продукт в том смысле, что качества его понятны и предсказуемы, ожидания потребителя не обманываются.
– Может ли «сюжетная» литература быть и «языковой»?
– Хороший вопрос. Именно это я пыталась выяснить в романах «Легкая голова» и «Прыжок в длину». Один устный отзыв на «Прыжок» звучал так: «Когда сюжетное напряжение в романе становится невыносимым, нет никакой возможности читать медленно и смаковать метафоры». С другой стороны, к поспешно пролистанным страницам можно и вернуться. Вопреки общепринятому мнению, «острое» сюжетное событие порождает не меньше образности, чем медитативное созерцание. И образность, как уже было сказано выше, способна собственной энергией порождать сюжетные повороты. Сейчас я опять пишу роман с сюжетом, эксперимент продолжается.
– Не приведет ли современную литературу к деградации эта всеобщая погоня за «сюжетностью»? «Он пошел», «она сказала»…
– Не будем путать собственно прозу и жанр: детектив, сентиментальный роман, фэнтези. Гарднер, один из королей детектива, обходился языком настолько бедным, что по сравнению с его романами любая газетная колонка – пир и роскошь. Не богаче язык у Артура Хейли – знаменитого автора технотриллеров. Не могу привести столь же разительных примеров из отечественной словесности: должно быть, русский язык сам по себе не допускает полного примитива. Деградацией выглядит литература-лайт, вроде продукции Бернарда Вербера или Оксаны Робски, например. Издательство в своих интересах выдает такую продукцию за достижения прозы, неискушенный читатель верит и уже не ищет иного. Проблема не в сюжетности детектива и триллера, а в имитации «высокого».
– Вы как-то сказали, что человек не становится писателем, а находит его в самом себе. В какой момент это случилось с вами?
– Я училась в университете, на третьем курсе. Стояли страшные холода, и я прогуливала занятия. Мне грозил недопуск к зимней сессии. Требовалось написать объяснительную на имя декана, при этом так наврать, чтобы выглядело убедительно. Чтобы пронимало и вызывало сочувствие. И вот темным декабрьским утром я усадила себя за эту работу. Непонятно как вранье пресуществилось в фантазию. Очнулась я темным декабрьским вечером, среди вороха исписанных страниц. Объяснительная так и не была написана, вместо нее получился мой первый рассказ.
– Сколько неудачных текстов вы написали до того, который решились отправить в издательство?
– Сложно сказать. Таких текстов было точно больше, чем опубликованных и изданных на сегодня. Я бы не назвала их неудачными. У меня не хватало сил и опыта, чтобы их закончить. Такая проблема есть у всех начинающих авторов, наивно думающих, что роман можно написать за несколько недель. Но теперь я возвращаюсь к некоторым идеям из самых ранних текстов. Оказывается, они были очень неплохие.
– «Если вы не пишете, все валится из рук». А бывает ведь и наоборот – все валится из рук оттого, что пишется, но пишется плохо. И все равно внутри что-то зудит и не дает покоя. Как побороть в себе писательский страх неудачи?
– Страх неудачи побороть нельзя. Можно научиться с ним жить. Писательский дар дается человеку без причин и заслуг, случайно на макушку падает звезда, и человек, понятно, боится, что способность исчезнет, как появилась. Особенно эти мысли одолевают в плохие дни, когда вроде бы и знаешь, что дальше будет в тексте, а слова не идут. У каждого – свои приемы выхода из таких состояний. У меня – долгие, изматывающие пешие прогулки или часы на тренажере. Кто-то полагает, что тут необходимо выпить. Последнее не рекомендую: муть в голове станет только гуще.
– Где грань между писательством и графоманией? Есть ли смысл искать в себе графомана?
– Субъективно ощущения писателя и графомана схожи. Графоман, быть может, получает от писания еще более острое удовольствие, принимаемое им за вдохновение. Разница в том, что писателю претят шаблоны и штампы, а графоман в них купается. Искать в себе графомана можно только в случае кризиса, о котором сказано выше. Если слова не идут, можно прибегнуть к приему автоматического письма: каждый день заполнять по пять-шесть страниц, все равно чем. Иногда это растормаживает.
– Есть расхожее выражение: писатель всегда одинок. Как вы боретесь со своим одиночеством?
– Для меня суть одиночества в том, что роман пишется два-три года, и все это время автор остается наедине со своим текстом. Никому не покажешь, не получишь обратной связи. Текст слишком уязвим, не защищен финалом. Есть опасность, что скажут плохое, неловкое под руку. Такая вот одиночная кругосветка, полная опасностей… и радостей тоже, конечно. Спасает чтение любимых книг, а уж если появляется вдохновляющая новинка, это вообще замечательно. Возрождается вера в литературу. Но сегодня писатель одинок еще и в том смысле, что в нем никто не заинтересован. Рукопись, которая в столе, нужна только самому автору. У читателей, которые еще остались, есть классика, у издателя есть треш, который продается тиражами куда большими, чем хорошая проза. И для семьи писатель – бремя и беда. Мало того, что погружен в свой файл, но еще и не зарабатывает книгами. Плюс нервный, часто мрачный. Мне повезло с семьей, меня поддерживает муж – поэт Виталий Пуханов, поддерживают сыновья и особенно дочь Ангелина, умница и красавица. Что касается тотальной писательской ненужности, то я говорю себе так: мой новый текст нужен мне, современная проза нужна мне, это моя жизнь, и я вправе ею распоряжаться.
– Изменили ли вас «Букер» и «Большая книга»?
– Получение статусной литературной премии не меняет писателя внутренне. Жизнь его тоже особо не меняется, потому что денежное содержание отечественных наград, прямо скажем, не дотягивает до Нобелевки. Но лауреатство все-таки снимает с писателя груз, потому что значимо именно неполучение премии, вечный шорт-лист. Ну и, конечно, меняется медийный статус лауреата. В 2006-м, получив «Русского Букера», я это хорошо почувствовала.
– Писатель, как мне кажется, целиком состоит из сомнений и рефлексий. «Меня не издадут, я пишу недостаточно хорошо, я уже написал все, что мог». Какие сомнения терзают вас и терзают ли?
– Не терзают, честно говоря. Я в прозе делаю свой максимум, других книг у меня ни для кого нет. Не издадут – и ладно. Мало ли кого не издавали. Терзания питаются иллюзиями, а иллюзий у меня не осталось. Все рефлексии и сомнения относятся собственно к текстам. Достаточно ли закручен сюжет? Не будет ли лишней вставная история? Почему герой вдруг впал в ступор и не движется дальше? А чаще всего: вот чувствую, что здесь, в этой главе, что-то вертится важное, но в сеть слов никак не ловится. Иногда по три дня зависаю над одной страницей.
– Что вы думаете об уже изданных текстах? В одном из интервью вы сказали, что испытывали большие сомнения относительно «2017», когда сокращали текст для французского перевода.
– Что-то не помню про эти сомнения. Сокращать, да, пришлось, потому что по-французски и по-английски книга становится на четверть толще, чем по-русски. А к изданным книгам я отношусь как ко взрослым детям: у них своя судьба, своя жизнь. И еще я понимаю, что всякому роману свое время. Поток сознания в «Стрекозе» уже не мой тип письма. Это отработано. И моя личная машина времени, на которой путешествую в будущее, теперь устроена по-другому. Сейчас пишу роман под рабочим названием «2050», он будет сильно отличаться от «2017», не только временем действия, но характером писательского эксперимента.
– Как вы пишете? Есть ли график?
– Я «жаворонок», хотя и сильно «осовевший». Предпочитаю писать прозу по утрам. Вторая половина дня – это работа, подготовка к лекциям, коучингу, сами лекции и коучинг. Есть и график по году. Особенно хорошо мне пишется летом и в сентябре, а еще в январе, когда идет снег и мигают цветные огоньки. Стараюсь эти месяцы освободить от всего лишнего, даже на зимние каникулы никуда не езжу.
– Что вы можете сказать о молодых писателях? Что они привнесли в литературу?
– О молодых писателях могу сказать, что они все разные. Есть реалисты, есть модернисты, есть документалисты, есть даже «деревенщики». Полный набор типов письма, как было и в моем поколении. Видимо, это генетически обусловлено. Но работает новое поколение в условиях большой исторической и социальной турбулентности. На их детские годы пришелся разлом между мирами, и советская эпоха представляется им временем столь же далеким, как правление Ивана Грозного. В обычных условиях прошлое более или менее понятно, а будущее окутано туманом. Нынешнему поколению прозаиков будущее ближе прошлого. Они вот так «перевернуты»: в футурологии они чувствуют себя увереннее, чем в рамках традиционного семейного романа. Советую почитать Алису Ганиеву («Праздничная гора»), Анну Бабяшкину («Прежде чем сдохнуть»). Еще могу уверенно анонсировать роман «Вода» нового автора Евгении Кореловой: книга будет талантливой, работа идет семимильными шагами.
– Язык молодых – чем он отличается от языка писателей вашего поколения?
– В искусстве стало можно многое из того, что раньше было нельзя. Прошла целая серия таких «разрешений». Сперва – обсценная лексика как полноправное средство выразительности. Сейчас, правда, мат снова пытаются запретить – по-моему, это бессмысленно. В девяностые матюгами упивались, демонстрировали свою крутизну. Это и правда пошло, но сам по себе этот лексический пласт настолько экспрессивен, что в правильных дозах бывает необходим. Дальше: «олбанский» язык, мемы и иные вольности интернета. Дальше: предельное упрощение синтаксиса, с недовложением, например, запятых, как это бывает в СМС. Язык литературы нового поколения приобретает фишки, но теряет несущие конструкции. Молодые романисты чувствуют, что крупную прозаическую форму «держит» язык более традиционный. Весьма рекомендую прочесть роман Сергея Самсонова «Соколиный рубеж». Выразительнейший русский.
– Как пробиться молодым?
– Сегодня в литературе трудно всем, молодым особенно. Крупные издательства – это заводы, и не по производству книг, а по производству денег. Редакции современной российской прозы там в аутсайдерах. Есть профессиональные, любящие литературу редакторы, заинтересованные в новых авторах, но над ними стоят «продажники», они главнее. Реальный путь – литературные премии для молодых авторов. «Дебют» сейчас на паузе, но работает «Лицей». Даже если автор не побеждает, его могут заметить эксперты, члены жюри. Еще неплохо напечататься в толстом литературном журнале – каким бы устаревшим ни казался сегодня этот формат. Можно продвигаться через интернет, например, через платформу Ridero. Но там мало написать, надо себя прорекламировать, пробиться через толпу конкурентов к своему читателю. В общем, плывем против течения.
– К вопросу о премии «Дебют» – вы ее координатор, вы прочли множество текстов. Можно ли выделить какую-то общую для всех молодых писателей проблему?
– Если бы можно было выделить общую для всех проблему, существовало бы – по крайней мере, в теории – общее для всех решение. Но его не существует. Есть проблема формата высказывания: история на рассказ не растягивается на романные сто пятьдесят страниц, политическая эмоция не порождает полноценной эстетики. Есть проблема провинциальности: она острее не у тех, кто пишет «деревенскую прозу», а у тех, кто ставит себе абсолютным образцом великий американский роман. Есть проблема – попытка повторить чужой успех. Есть, наконец, проблема совмещения писательской работы с жизнью, где надо ходить в офис за зарплату, добираться до офиса – иногда по полтора часа в один конец, растить детей, строить семью…
– В одном из интервью вы сказали, что нельзя научить писать «как Ольга Славникова». И в то же время уточнили, что писателя можно провести по тропинке к самому себе. Как вы помогаете в этом начинающим авторам?
– Не существует литературных способностей «вообще». Всегда есть склонность к определенному типу письма, форме, жанру. По моему убеждению, это у писателя врожденное. На занятиях в моих мастерских мы со студентами определяем, кто в мировой литературе их «ближайший родственник». Проще говоря, чьи книги вызывают веру в литературу и желание писать. «Родня» обнаруживается самая разная: от Улицкой до Маркеса и от Кафки до Булгакова. Затем мы занимаемся «воровством»: пишем эскизы-подражания, копируем приемы, стилистику, чтобы понять все это «с руки». Так студенты художественных вузов копируют в музеях картины мастеров. Потом идут более тонкие подстройки: совмещение приемов и стилистики с литературным замыслом студента. Вот это описать невозможно – я сама иногда не понимаю, как это происходит, веду студента на интуиции.
– Какие знания действительно необходимы начинающему писателю? Я с ходу могу вспомнить по меньшей мере пятнадцать книг из серии «Как стать писателем». Есть ли действительно важные учебники, которые стоит прочесть?
– Учебников много, во всех примерно одни и те же рекомендации. Надо понимать, что учебники рассчитаны не на собственно прозаиков, а на будущих авторов коммерческих книг. Там излагаются правила, которые все-таки стоит знать и учитывать. Я рекомендую студентам книгу Джеймса Фрея «Как написать гениальный роман». Там много толкового, студенты уважительно называют книгу «годной». Хотя все понимают, что есть только один способ написать гениальный роман: быть гением.
– А что насчет литературных курсов? Школ?
– Разделим проблему на две части. Первая: базовое филологическое образование. Если в литературу идет экономист или айтишник, ему такое образование необходимо как воздух. Его дает Литературный институт (как второе высшее), а теперь еще и магистратура Высшей школы экономики. Второе: практическая учеба в мастерских. Здесь рекомендую школу Creative Writing School, где сама преподаю. Мастерская – это развитие практических навыков: построение сюжета, разработка персонажей и так далее. Тут важен непосредственный контакт с мастером, личность мастера. У меня в молодости был учитель-уникум: Лев Григорьевич Румянцев, заведующий отделом прозы журнала «Уральский следопыт». Он мне ставил руку. В мастерских я опираюсь на некоторые его методики. И это работает.
– Вы ведете курс «Проза для начинающих» в CWS. Кому он адресован?
– Тем, кто делает в прозе самые первые шаги. Авторам одного-двух-трех рассказов, пока нигде не напечатанных. Или авторам некоего незавершенного текста, с которым непонятно что делать. Курс «Проза для начинающих» в основном посвящен тому, как устроен рассказ. Считается, что малая форма в прозе более легкая, хотя на самом деле это не так. Есть и «Проза для продолжающих». Там разбираемся с крупными формами: романом, романом в рассказах, циклами новелл.
– Много ли вам нужно прочесть, чтобы определить потенциал автора?
– На самом деле достаточно одной страницы. Конкурсное задание в мою мастерскую для начинающих – рассказ на четыре тысячи знаков. И на этом объеме уже видно, может ли автор у меня учиться. Другой вопрос, может ли автор на нынешнем своем этапе написать роман. Тут требуется хотя бы страниц двадцать и синопсис.
– Расскажите, пожалуйста, о литературном коучинге, который вы предлагаете в рамках проекта CWS? Сложно ли к вам попасть?
– Мы с вами уже говорили об «одиночной кругосветке» романиста. Суть коучинга в том, что я присоединяюсь к автору в его опасном путешествии. Мы вместе разбираемся с тем, что у автора уже написано, прорабатываем сюжет, выявляем сюжетные тупики (порождающие много непродуктивного труда и лишнего текста). Обсуждаем героев, их психологию, мотивы. Иногда просто проектируем будущую книгу – от замысла, от первого эскиза. Вместе ищем нужную для романа информацию. Очень тонкая вещь – выявление органичной автору стилистики. Одна молодая писательница очень меня порадовала, оказавшись своеобразным импрессионистом, что позволяет ей решать громоздкие композиционные задачи исключительно за счет стиля. А попасть ко мне проще, чем кажется. Нужно отправить заявку на сайт CWS, и, если есть потенциал, я человека беру, что называется, «с улицы». Ну, может, придется подождать пару месяцев, если на сегодня все забито.
– Дает ли этот коучинг какие-либо привилегии – в плане возможности напечататься?
– Мои рекомендации, если это можно назвать привилегией. При всех сложностях мне есть кому дать сигнал о новом авторе.
– Не все могут позволить себе обучение у вас или в «Хорошем тексте». Есть ли какие-то кружки, сообщества профессиональных литераторов, куда могут прийти «простые ребята из провинции»?
– Увы, все сколько-нибудь серьезное из того, что я знаю, – все платное. Это характерное безобразие сегодняшнего дня. Мало того, что профессия писателя не кормит, так еще и надо вкладывать в себя деньги, чтобы потом делать хорошо свою сложнейшую работу, получить имя в литературе. У писательских школ должны быть спонсоры. Это задача ответственного бизнеса. Но у меня, знаете, такое впечатление, что бизнесу стало как-то зазорно поддерживать русскую литературу. Вроде и деньги есть – много ли надо писателям по сравнению, например, с кинематографистами? Но не хватает в кризис какой-то душевной свободы, душе тесно, тревожно, книжку не почитаешь, а тут лезут с просьбами. В общем, у меня пока не получается ничего добыть. Все, что могу, – это от меня бесплатные бонусы в виде дополнительных занятий, консультаций.
– Развитие цифровых технологий сильно повлияло на издательские процессы – теперь каждый может издать книгу совершенно бесплатно (например, на Ridero). Нужны ли классические «аналоговые» издательства? В чем вообще функции издательства в XXI веке?
– Самиздат в интернете лишен одной важной составляющей: экспертизы. Классическое издательство – это бренд, заявка на уровень, туда попадает не каждый. Можно, конечно, спорить о качестве экспертизы в каждом отдельном случае, но необходимость экспертизы в целом отрицают только графоманы. Литература иерархична: есть писатели топовые, писатели второго ряда, третьего ряда, есть молодые-перспективные. Опять-таки – можно спорить по каждой отдельной писательской фигуре, но само существование рядов есть константа. Иерархия существует, несмотря на все спекуляции пиара и искажения книжного рынка. Потому самиздат никогда не победит.
– Расскажите, пожалуйста, о «Прыжке в длину». Как долго вы работали над текстом?
– Если брать чистое время – я работала над романом три года. Но так случилось, что параллельно писался еще один роман, уже упомянутый «2050». И он должен был появиться первым. Я начинала писать об изоляции России, когда еще не было никакой изоляции. Но тут грянул 2014 год: присоединение Крыма, санкции, события на Украине и так далее. Уже невозможно было воображать будущее без учета всех этих реалий. «2050» пришлось обдумывать заново, и на первый план вышел роман о талантливом атлете, потерявшем в чемпионском прыжке обе ноги. При этом герой спас мальчика, побежавшего за мячом под колеса. Но целью было не спасение ребенка, а сам прыжок, рекорд, которому пришло время именно в тот роковой момент. Вообще говоря, для меня главная задача романа – услышать и передать поступь рока.
– Знали ли вы с самого начала, куда приведет повествование? Вы планируете свои тексты или пишете как пишется?
– С самого начала у меня есть несколько гипотез о финале. По мере развития сюжета они отбрасываются, и впереди возникает нечто совершенно незапланированное. Главный герой романа «Прыжок в длину» Олег Ведерников оказался самым своевольным из всех моих персонажей. Такого опыта у меня еще не было. Этот парень, если хотите знать, меня переспорил и победил. Он должен был стать капитаном команды баскетболистов-колясочников, но вместо этого все бросил, потому что уловил общественную фальшь вокруг инвалидного спорта. Он должен был убить – но отказался стать убийцей. Ему предстояло гордо отказаться от любимой женщины, а он спросил – собственно, с какой стати? И поступил по-своему. И правильно сделал.
– Вы говорили, что много изучали вопрос протезирования в сети. Но насколько важны реальные переживания для писателя? Нельзя ли, как Пикуль, сидеть и писать, обложившись монографиями и не выходя из комнаты?
– Протезирование, типы протезов, проблемы инвалидов-опорников я изучала не только в сети, но и в жизни. Такие исследования абсолютно необходимы. Иначе я, например, не могу визуализировать важную для героев реальность, не могу попасть «в шкуру» инвалида. Но и «монографии», то есть письменные источники, тоже нужны и важны. В интернете, кроме того, много фото и видео, что тоже подспорье писателю. У всех авторов исследования строятся по-разному. Одни говорили, что Артур Хейли, чтобы написать «Отель», сам работал управляющим отеля какое-то время. По другой версии, он ограничился изучением специальной литературы по гостиничному бизнесу. Второе вполне возможно: уровень визуализации, образной детализации у Хейли крайне невысок, так что бизнес-пособий могло хватить.
– Приведу ваши слова: «Работать по максимуму и не халтурить». Хемингуэй сказал в одном из интервью, что самый ценный дар писателя – встроенный shit detector, «детектор дерьма». Есть ли такой «радар» у вас?
– Похоже, что есть. Потому я не могу присоединиться ни к одному из лагерей, на которые разбита сегодня литературная общественность. Радар фиксирует нетонущее вещество то здесь, то там. Печально, что хемингуэевский shit detector заменяется у коллег простейшим распознавателем «свой – чужой». Надеюсь, это не навсегда.
– «Крупная проза требует свободного времени и волевых усилий», – говорите вы. Но возможность зарабатывать писательством в России – скорее миф. Значит, нужен некий баланс между основной работой и писательством, некий компромисс. Как этот вопрос решили для себя вы? Что посоветуете начинающим авторам?
– Все-таки писательство – это именно основная работа, хоть за нее и не платят. Не компромисс, но постоянный строгий учет своего времени – вот единственно возможный путь. В рабочем дне есть время наиболее продуктивное – для меня это утро, и оно отдано прозе. Остальное используется для задач, приносящих деньги, при этом тоже важных, глубоко мне интересных. Мои советы начинающим простые. Во-первых, устраивайтесь так, чтобы по возможности не сидеть в офисе полный день и не тратить время на дорогу. Ищите удаленную работу, чтобы самим структурировать свои сутки. Во-вторых, не идите на такую службу, которую будете ненавидеть, даже если она денежная. В-третьих, работу для денег выполняйте хорошо, чтобы не тратить душу на страхи и конфликты. В-четвертых – обязательно высыпайтесь. Помните, что вы особенные люди и не можете жить, как другие вокруг вас. Цените себя и каждый свой день.
Ольга Славникова – писатель. Родилась в 1957 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1981 году окончила Уральский государственный университет. Дебютная повесть Славниковой «Первокурсница» была принята в печать в 1988 году. В 1997 году вышел первый роман «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки», который попал в шорт-лист «Русского Букера». Вышедшие романы: «Один в зеркале», «Бессмертный», «2017» («Русский Букер»), «Любовь в седьмом вагоне» (среди финалистов премии «Большая книга»), «Легкая голова», «Прыжок в длину». Входила в жюри Букеровской премии (1999), премии имени Юрия Казакова (2000, 2001), премии «Дварим» (2005) и многих других.
Шамиль Идиатуллин «Если можете, не начинайте»
Шамиль Идиатуллин – о композиции в литературе, роли чтения в жизни писателя, удаче и тяжелом труде.
– Вы сказали, что в журналистику пошли, потому что вас писательство манило. Почему не стали поступать в Литинститут?
– Писательство не то чтобы манило – я просто лет в восемь понял, что в морпехи не пройду по здоровью, потому твердо решил стать писателем. Держался в этом намерении довольно долго: сразу начал роман про пиратов с лазерными пушками, рассказы писал, некоторые даже закончил и отправил куда-то – в «Пионерскую правду», «Юность», «Парус». А годам к четырнадцати понял, что не прохожу и в писатели – не по здоровью, а по сумме недостающих тактико-технических характеристик: от окладистой бороды и до складности текстов. Ну и вообще «буду писателем» – это не столько серьезный жизненный план, сколько такая влажная мечта, которой и делиться-то с окружающими стыдно. А окружающие – ну и родители в первую очередь – как раз советовали попробовать что-нибудь связанное с журналистикой. Попробовал. Повезло – попал в хорошие руки. Стал юнкором, начал писать заметки, завелся, увлекся… к тому же времена перестроечные были, мечта журналиста. Ну и к шестнадцати годам, когда окончил школу, ни о каком писательстве уже и не думал. Журналист – и точка. А там посмотрим. Так и вышло, к счастью: и журналист, и там посмотрели.
– Вы писатель, время от времени становящийся журналистом, или все же журналист, который пишет время от времени книги?
– Я точно не настоящий писатель, а книги до четвертой вздрагивал, когда меня так называли. Теперь-то вздрагивать поздно, понятно, но все равно детский тот стыд и пугающая радость иногда накрывают. К сожалению, я и журналистом себя назвать не могу, потому что статей почти не пишу. Скоро лет двадцать как я редактор и даже, прости господи, медиаменеджер. Поначалу это дело получалось совмещать с нормальной журналистикой, потом был счастливый побег в обозреватели лучшего в мире журнала «Коммерсантъ-Власть», но потом меня поймали и вернули в газетные начальники среднего звена. Поэтому у меня и получается писать книги.
– Все еще чувствуете себя самозванцем в писательстве?
– Есть маленько. Так-то все самозванцы – кроме тех, кто подчинился какому-нибудь призыву пятилетки и партии с правительством, – но у меня еще и получалось все время проскакивать мимо форматов, правил и размеров. Но сейчас хотя бы научился не оправдываться.
– Маяковский однажды заметил, что «первая работа поэта всегда “свежее” позднейших, так как в нее вошли заготовки всей предыдущей жизни». Расскажите о своей первой книге – «Татарский удар». Как пришла идея?
– В двадцать пять лет, на пятом году работы в казанской газете, которая сперва называлась «Известия Татарстана», а потом «Время и Деньги», я совершил очередной мощный карьерный скачок – стал из завотделом промышленности замом главреда. Эта должность не позволяла мне писать на постоянной основе, а работа на «Коммерсантъ» – я тогда уже сотрудничал с ним – тоже была нерегулярной. Не помню уже, чего я боялся: что потеряю квалификацию или что «нахлынут горлом и убьют» все вот эти слова и смыслы, которые я с детства привык генерировать и выплескивать: соответствующая железа расторможена, поди ее останови, опухоль во весь организм будет. В любом случае, я сразу вытребовал себе право на еженедельную колонку, довольно хулиганскую и дерзкую даже по тем временам. Там я каждую неделю изощрялся на актуальные политико-экономические темы, глумился и двигал прогресс в рамках закона и газетного формата, который предполагал все-таки жесткую привязку к факту. Колонка «7 дней» прожила почти четыре неплохих года (ее читали, цитировали и даже перепечатывали), а к весне 2001 года скончалась естественной смертью. Времена изменились, я подустал, читатель, боюсь, тоже. Но привычка копаться в событийке, пытаться понять, что дальше-то, и писать об этом – осталась. И начала меня душить. Я пытался этот захват не замечать, а потом сообразил, что если писать для себя, то можно не оглядываться на формат, ожидания читателя и даже фактический базис. Югославская и чеченская войны были свежи в памяти, Путин выстраивал новую вертикаль, региональные элиты сопротивлялись, народ не безмолвствовал, почти каждая значимая фигура классно отрабатывала самую острую постановку вопроса «а что, если?..» – и этот вопрос не давал мне покоя. А потом пришла… нет, не идея, пришел образ – маленький мальчик будит отца, чтобы тот посмотрел, как там вдали, за рекой, полыхают зарницы разбомбленного Казанского кремля. И я, поворочавшись, встал среди ночи, потихоньку включил компьютер и начал набивать пролог к роману «Rucciя».
– Как вы считаете – где-то там, наверху, все эти картинки лежат и ждут «своего» писателя»? Или писатель все же что-то создает, а не принимает сигналы сверху?
– Нет никакого ящика, из которого отец Кабани вытаскивает то мясокрутку, то горючую воду. Ни «наверху», ни где-то еще – в готовом виде, во всяком случае. Есть жизнь, которая сама по себе и миллиард ящиков, и триллион котиков Шрёдингера. Она умеет складывать пяток банальных стекляшек в обалденную калейдоскопию – и таких стекляшек в жизни больше пяти, в миллионы раз больше, в каждой жизни, самой бедной на события жизни, в каждом ее миге. Писатели просто умеют – иногда – складывать такую калейдоскопию самостоятельно, да так, чтобы не только красивенько, но и чтобы по мозгам дало.
– То есть писатель – все же не проводник, принимающий уже написанные «где-то там, наверху» тексты, а сам тексты создает?
– Сам-сам. Не отмажется. Господь создал и разделил миры, землю и небо, на Земле случились голоцен, эволюция, прямоходящий человек и художественная литература, меня родила мама – но ни мама, ни первый прямоходящий человек, ни Создатель не отвечают за то, что я тут понаписал.
– Ваш литературный дебют состоялся в тридцать три года. Что вы почувствовали, открыв свеженапечатанную собственную книгу?
– Счастье, конечно. Я долго не верил, что допишу книжку. Все время что-то мешало: я два раза поменял работу, переехал в Москву, упал в совершенно непривычный режим офисной работы с 10 утра до 12 ночи, два месяца жил без семьи, потом перевез ее: детей надо устраивать в школу-садик, мебель покупать, ну и так далее. Когда справлялся с рабочими и бытовыми проблемами, заедало суеверие: только придумаю сцену бомбежки Белого дома, случается 11 сентября – откладываю книгу, ну ее на фиг. И так всю дорогу. Ну и когда уже дописал, понял, что у книги, которая кончается словами «Потому что никто никогда не убивает детей», шансов быть опубликованной после Беслана немного. И когда книжка все-таки была принята, была напечатана и приехала ко мне первыми авторскими, еще за несколько недель до начала продаж – это было химически чистое счастье.
– Почему вы не бросили? Как удалось дойти до финала, дописать?
– Мне запомнилось, что я писал «Rucciю» пять лет – но это ошибка памяти, оказывается: сейчас посчитал, все-таки три, с весны 2001 по весну 2004 года. Но могло быть и пять, и десять, и вся жизнь – кабы я в феврале 2004, кажется, года не увидел новость о том, что 1 апреля завершается прием рукописей на конкурс остросюжетной прозы. Это шанс, понял я, как-то не особо смутившись тем, что за месяц придется дописать кусок, на который у меня уходил год. Собрался, дописал – ночами, в пене и лихорадке, – выправил, отправил: бегал по всему району в поисках работающей вечером почты, потому что дома интернета еще не было. Пролетел, понятно. Даже и не помню, кто победил в том конкурсе и что ему за это было. В любом случае, у меня на руках оказался готовый текст романа на 18 авторских листов, который можно предлагать издателю.
– Как вы, пролетев на конкурсе, стали издающимся автором?
– Мне страшно повезло. То есть понятно, что первая попытка, в рамках которой я предложил книгу по очереди трем, что ли, крупнейшим издательствам, не кончилась ничем – по-моему, они просто не ответили. Вторая – тоже: летом я отправил письма всем издательствам, книги которых у меня были. Парочка откликнулась лаконичным «Триллеры не печатаем» (явно не заглядывая в текст), остальные проигнорировали. Тут я уже раскидал рукопись веером почти по всем издателям, контакты которых сумел найти. По-моему, уже осень наступила. Ответил один: «Здравствуйте, Шамиль! Меня зовут Юрий Гаврюченков, я работаю редактором в издательстве “Крылов”. С удовольствием прочел Ваш роман, буду рекомендовать к печати. За первую книгу мы платим автору столько-то, за вторую – столько-то. Если Вас устраивают эти условия, то, после одобрения романа главным редактором, мы подпишем договор». Меня, само собой, устроили бы примерно любые условия. Книга вышла через три месяца. Это было не только счастье, но и огромная удача. «Rucciя» не слишком вписывалась в тогдашнюю линейку «Крылова», делавшего ставку на брутальные боевики с детективным сюжетом. Уже через год издательство поймало и отчасти сформировало новый тренд – реваншистский боевик, герои которого отважно бьются с американскими оккупантами и который стал базой для небольшой сетевой секты с черными числами на красных аватарках (число указывало, каким по счету пользователь вписался в отряд храбрецов, готовых умереть, но убить хотя бы одного оккупанта). Соответственно, уже через пару лет моя книга выглядела бы заумным перепевом книжек Беркема аль Атоми и Фёдора Березина. Позднее представить себе выход книги про войну Казани с Москвой, а потом с Вашингтоном, было бы почти невозможно. А так – повезло. Издательство лишь чуть подстраховалось, поставив серию «Современная фантастическая авантюра» (с тех пор меня не по делу обзывают фантастом) и сменило название – выбирая между «Русским разменом» и «Татарским ударом», остановилось на последнем. Все к лучшему, в общем.
– Вы много читали с детства. Я не очень люблю эту формулировку, но все же: кто больше всего повлиял на ваше становление как писателя? Помимо Крапивина, о котором вы рассказывали в одном из интервью.
– Книги Крапивина владели и управляли мной лет с восьми, лет в одиннадцать добавился Виктор Конецкий, в пятнадцать я наконец нашел Стругацких, книг которых в наших городских библиотеках просто не было: фонды формировались во второй половине 70-х – начале 80-х, когда лучших советских фантастов почти не издавали. Вот эти три писателя и четыре человека сделали меня как читателя и, очевидно, как писателя тоже. Понятно, что написанного ими на одного меня не хватало, так что я читал массу всего – всю фантастику и детективы, до которых мог дотянуться, почти весь детлит, включая журнальные публикации в «Пионере», «Костре» и «Уральском следопыте», а потом в «Юности» и «Авроре», и огромный случайный набор взрослых книг, от Пикуля и «Вечного зова» до Мопассана и Кортасара. Но вот так, чтобы перепахало и жило со мной, как главная троица, – это очень немногие: точно Гайдар, Томин, с оговорками Линдгрен и Булычев, заходеровские переводы «Винни-Пуха», «Алисы» и «Мэри Поппинс». Для протокола могу добавить, что из русской классики особенно люблю прозу Пушкина и развесистый глум Салтыкова-Щедрина. Из западной всем неистово рекомендую Шекспира, а также Ивлина Во и Фридриха Дюрренматта, из восточной – плутовские арабские повести типа «Жизни и приключений Али Зибака». Любимые детективщики – Чандлер, Хэммет, Стаут, Жапризо, Несбё. Любимые современные фантасты – Нил Стивенсон и Майкл Суэнвик. Отдельной строкой идет Стивен Кинг – при том, что хоррор я, вообще-то, недолюбливаю и очень рад, что первой прочитал «Мертвую зону», а не «Оно», допустим. Мощнейший автор исторических романов и повестей – Морис Симашко.
– И отдельно я хочу спросить о книге «Момент истины» Богомолова. Почему книга стала любимой? И расшифруйте, пожалуйста, вашу формулировку «воспитал в себе умение читать».
– Нормальный пацан книжки глотает, а те, что не лезут в ментальное горло, отбрасывает. Я был не слишком нормальный, много лежал в больницах, где чтение – единственный досуг, а книг мало, приходится читать и перечитывать, что есть. Этот навык пригодился с Богомоловым. Потому что «Момент истины» – довольно тяжелый и формально недружелюбный текст: слишком много героев и малохудожественных вставок, в том числе скучных документов, слишком тягучая интрига, слишком много рассуждений, топтаний на месте, выпуклых противокозелков и неразжеванных объяснениями кусков какой-то чужой подлинности. А потом – р-раз, и взрыв лютой невероятной крутизны – стрельба по-македонски, экстренное потрошение, «Бабулька приехала!» Недельная пайка эндорфина за раз. Я это дело сразу понял, начал перечитывать только последнюю часть, и постепенно от обиды – «А вот на фига прятать такое счастье на трехсотой странице?» – дорос до серьезного поиска ответа на тот же вопрос. И нашел – ответ-то базовый: без завязки и развития нет кульминации, не погрешишь – не покаешься, третья шоколадная конфета подряд вкуса уже не имеет и так далее. Но для читающего подростка такое открытие, тем более сделанное самостоятельно, было заметным достижением. Отчасти с этим, наверное, связана любовь к книге, которая помогла с открытием, – но в основном все-таки любовь объясняется тем, что «Момент истины» грандиозен, без дураков.
– Кормак Маккарти как-то сказал: «Ужас в том, что все книги сделаны из других книг. Каждый новый роман обязан другим романам, которые уже написаны». Вы согласны с такой формулировкой?
– Да, если не считать это объяснение универсальным. Любая книга – это и впрямь холмик, выросший на горе из предыдущих книг, которые написаны и всем человечеством, и вот этим автором. Но не в меньшей степени гора эта складывается и из других пород – детских страхов автора, его вчерашнего сна, смешного диалога в магазине, ссоры с женой, ну и всего прочего – «когда б вы знали, из какого сора». Вообще, любая формулировка с использованием слова «все» и «любой» является ложной (включая эту). Смог бы Лев Николаевич написать «Анну Каренину», которая считается совершенным романом, не будь он автором еще более знаменитой «Войны и мира»? Наверное, нет. А смогли бы Дарья Донцова или Барбара Картленд написать со сто двадцать седьмого по сто семьдесят четвертый романы, не будь у них уже ста двадцати шести предыдущих? Лучше и не знать, пожалуй.
– Расскажите о своих первых шагах в писательстве. Вам знакомо отчаяние от того, что ничего не выходит, или все сразу вышло хорошо? Вы долго писали в стол, пока не начало получаться?
– Я, к счастью, не слишком много времени убил на ювенилии, а к взрослым опытам в прозе подошел, имея неплохую повествовательную технику – правда, абсолютно газетную. С одной стороны, мне не составляет труда сформулировать и изложить мысль любой степени сложности либо придумать взаимосвязанный массив самых причудливых событий. С другой – именно это тормозит: мне неловко и стыдно писать как бы в века с той же легкостью необычайной, что и в газету, которая живет, как известно, один день. С этим связана малая часть трудностей: я заставляю себя писать иначе, смотреть на описанную ситуацию с точки выше макушки, проверять тонкости в тридцать пятом по счету источнике, не повторяться – а рука-то набита, тяжко. Но большая часть трудностей связана с тем, что мне не нравится сам процесс «отписывания» книги, физический и технический. Это долго, это муторно, это лишает покоя, сна, сериалов и общения с семьей. Поэтому я стараюсь отлынивать, пока возможно. А когда уже невозможно, когда идея и сюжет берут за кадык и тащат – стараюсь протащиться отведенным путем предельно быстро. Иногда даже получается.
– А вот ваши слова: «За свой счет издаваться не надо никогда и никому. Это тупиковый путь, который выгоден только жуликам, разводящим тщеславных новичков. Ни славы, ни денег такое издание не принесет, зато перечеркнет дорогу в нормальное издательство: там автора, заплатившего за выпуск своей книги, считают заведомо несостоятельным, увы». Вы действительно считаете, что самиздат не приведет к успеху? Но как же быть с Яной Вагнер (начинала в ЖЖ, сейчас издается у Шубиной), Глуховским и так далее?
– Вы неправильно поняли. Я веду речь исключительно об издании за свои деньги – это такой отдельный вид дорогого бессмысленного досуга, в рамках которого автор платит от десяти до пятисот тысяч рублей, чтобы ему красиво напечатали его книжку некоторым тиражом, который ляжет на складе или на балконе автора, а потом будет раздарен утомленным знакомым или списан в макулатуру. Яна Вагнер не платила ЖЖ, Роберт Ибатуллин не платил «Самлиб.ру», Дмитрий Глуховский и Энди Вейр не платили собственным сайтам и так далее. Самиздат – отличная и благородная вещь, тем более в наше время. Серьезные издатели нашли и продолжают находить массу достойнейших авторов на сайте Максима Мошкова и даже на «Прозе.ру». И, наоборот, есть вполне культовые авторы, которые из принципиальных соображений не собираются издаваться в бумаге, – достаточно вспомнить Александра Розова и Анну Коростелеву. Я с уважением и пониманием отношусь к любому варианту, включая краудфандинг и «печать по запросу». Я даже издание за свой счет понять могу, особенно когда деньги просят небольшие, а книжка получается совсем настоящая, – но считаю необходимым предупреждать о его тупиковости. Если с вас просят хотя бы копейку, неважно за что – за оформление ISBN, перевод аннотации на китайский, выкладку книги на лучшее место в федеральной сети, – это развод. Возможно, ситуацию изменят игроки вроде Ridero, который пытается стать солидной честной площадкой для независимых авторов, а деньги берет за вполне конкретные услуги. Но более массовым и распространенным остается другой подход. Поэтому прошу помнить: если автор платит за доступ к читателям, он совершает самоубийство как автор… а доступа к читателям все равно не получает.
– То есть вы считаете, что пусть лучше текст лежит в столе, чем будет опубликован и замечен?
– Ни в коем случае. Книгу должны читать. Без читателя нет ни книги, ни писателя. Отдельные исключения лишь подтверждают это правило.
– И как же тогда достучаться до читателя? Осуществлять ковровые бомбардировки почтовых ящиков всех издателей, контакты которых удастся найти?
– Да, например. А лучше целенаправленно искать выходы на редакторов книг и серий, которые, как вам кажется, хоть немного похожи на вашу. Издатель, с одной стороны, профи, который умеет работать с товаром под названием «книга», – в отличие от вас и меня. Он вкладывает деньги и в этот товар, и в вас как в автора. Он не только заинтересован в том, чтобы товар дошел до потребителя (и, стало быть, деньги отбились), но и знает, как это сделать. В отличие от барыг, издающих книги за счет автора: они берут ваши деньги и на этом теряют интерес к чему бы то ни было. Это нормально и понятно – непонятно, вам-то такая радость зачем. И нормальному издателю постоянно нужны новые продаваемые книги. Участие в конкурсах – еще один способ обратить на себя внимание издателя. Я в разных качествах имел отношение к четырем солидным конкурсам: «Большой книге», «Книгуру», «Лицею» и конкурсу имени Крапивина. Смею заверить, что в этих конкурсах, во-первых, судейство по итогам может быть спорным и бесящим, но оно всегда честное. Во-вторых, победить в таких конкурсах непросто, но шанс выйти в полуфинал есть всегда, чисто по арифметическим соображениям: каждый год полуфиналы десятка солидных конкурсов собирают – при всех неизбежных пересечениях списков – около сотни текстов. Большей частью это очень сильные тексты – но и вы ведь не слабы, правильно? Пробуйте. В-третьих, издатели (а также критики и продвинутые читатели) пристально следят за ходом серьезных конкурсов и делают стойку не только на победителей, но и на финалистов и полуфиналистов. Ну и в-четвертых, в победители то и дело выходят мало кому известные авторы или абсолютные новички, и даже обойденный наградами текст может выскочить на пик читательского интереса. Последний пример – великолепный роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него»: второй роман уральца в саратовском журнале (как и первый) почти никто не замечал, пока текст не попал в шорт-лист «Большой книги». Книга оказалась еще в нескольких коротких списках, осталась без премий, но была издана в «Редакции Елены Шубиной» и даже после нескольких допечаток возглавляет топы продаж. И главное – ее читают, от нее колбасит, из-за нее грызутся.
– Как же найти дорогу к издателю? Каков ваш личный рецепт?
– Мой рецепт примитивен – как сказано выше, это веерная рассылка с особым упором на попытки достучаться до тех, кому мои тексты могут показаться симпатичными и близкими. Но срабатывало ведь.
– Вы сказали: «Литература без свежей крови киснет и задыхается». Как молодому автору заявить о себе?
– Участвовать в конкурсах, отправлять тексты в толстые и тонкие журналы, в издательства, выкладывать их на безгонорарные, но респектабельные площадки. Никогда не платить за это.
– Стоит ли начинающему писателю, опубликовавшемуся, скажем, на Ridero (или любой другой площадке), назначать цену за книгу? Или лучше распространять ее бесплатно?
– Совсем начинающему, думаю, цену за книгу назначать не стоит – он кот в мешке, за такое не платят. Надо собрать и подкормить аудиторию, показать, что ты чего-то стоишь, и вот тогда уже… Первая доза бесплатно – девиз самых эффективных в маркетинговом смысле сегментов ритейла.
– Вы верите в толстые литературные журналы?
– Я верю, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк Его. Толстые журналы я нежно люблю и считаю существенным элементом фундамента, на котором до сих пор держится некоммерческая литература и культура в целом. Живется им все хуже, но если их не станет, мы съедем еще ближе к краю бездны, где весело и не надо думать.
– Вы считаете правильным ограничение возраста участников литературной премии «Лицей»?
– Я считаю правильным сам факт ограничения – если премия заявлена как молодежная, странно допускать к ней зрелых авторов. Вопрос о конкретной возрастной границе можно было бы и пообсуждать, но зачем? Мне, например, немножко обидно, что, как ни менялись возрастные рамки премии «Дебют», я всякий раз оказывался для нее слишком старым, – но значит ли это, что рамки были неправильными? Вряд ли. «Лицей», насколько я знаю, придумывался очень быстро, чтобы занять вдруг опустевшую, но крайне нужную нишу. Заявленные требования позволили собрать очень неплохой урожай отличных авторов. Значит, механизм работает. А коли работает – не лезь, это вам любой инженер или программист скажет.
– Верите ли вы в теорию? Речь о теории драмы, структуре сюжета и так далее…
– Верю я, как уже известно, в Господа нашего и его пророка, а к теории отношусь с сочувственным интересом. Понятно, что теория отлично описывает сложившуюся практику, и понятно, что буквальное следование теории способно лишь раз за разом воспроизводить уже имеющуюся практику. В житейском и коммерческом смысле это неплохо, но нам бы чего-нибудь поновее, хоть и с оглядкой на теорию.
– Как взаимодействуют в писателе талант и мастерство?
– Мастерство, техника – инструмент, талант – субъект приложения этого инструмента. Талантливый необученный панчер может вырубить технаря на первой секунде боксерского матча, бездарный, но дисциплинированный технарь почти обязательно вырубит необученного панчера раунду к шестому, натренированный панчер может стать чемпионом. Без техники можно написать одну книжку, но уже на второй ты либо сдохнешь и бросишь, либо начнешь потихонечку учиться энергосберегающим технологиям и выходам на кратчайшие расстояния между точками.
– И куда идти за техникой? В литшколы или вглубь себя?
– В литшколы не верю совсем, простите, но, возможно, чисто из-за нехватки опыта. Надо учиться у великих и любимых. Читать, сравнивать, анализировать, примерять их приемы и подходы и искать собственный фасон. Всегда.
– Лев Толстой советовал: «Только тогда, когда невмоготу уже терпеть, когда вы, что называется, готовы лопнуть, – садитесь и пишите. Наверное, напишете что-нибудь хорошее». Вы, судя по вашим интервью, пишете ровно так?
– Так точно. Мы со Львом Николаевичем серьезно расходимся как в эстетических вопросах, так и в масштабах (он гений и титан, а я нет), но по этому вопросу я полностью с ним согласен. Лишь с той оговоркой, что предпочел бы сачковать и под страхом лопнуть, – но что-то не получается, увы.
– Продолжу цитировать великих. Бальзак говорил, что писатель, прежде чем приступить к книге, должен «проанализировать все характеры, проникнуться всеми нравами, обежать весь земной шар, прочувствовать все страсти». Вы согласны с такой формулировкой?
– В идеале это было бы недурственно: ни один писатель не пишет, все знай проникаются нравами и бегают вокруг земного шара, поди плохо. На практике это, конечно, невозможно: земной шар велик, жизнь коротка. Не набегаешься. Но я согласен с тем, что автор должен полностью и в деталях представлять себе описываемую часть мира, своих героев, знать их происхождение, пусть ни словом не упомянутое в тексте, болячки и психотравмы, и не лажать ни в обоснованности и последовательности событий, ни в психологическом рисунке, ни в тонкостях описываемого производства, ни в фабульном таймлайне.
– Расскажите, пожалуйста, о процессе. Сложно ли вам поймать идею произведения? Долго ли ее вынашиваете, прежде чем сесть за работу?
– Приходит в голову, придумывается или снится сюжет, деталь, поворот событий, иногда вполне реальных. Я записываю несколько строк в специальный файлик и благополучно забываю. Иногда не получается: сюжет или событие начинают зудеть, пухнуть, обрастать ложноножками и крючочками, которые подцепляют новые извилины – сюжетные и мои собственные. Когда терпеть невозможно, я сажусь писать.
– Как вы пишете? Какую часть вашей повседневной жизни занимает писательство?
– Пишу за компьютером – сперва составляю изначальный план книги, потом, уже по ходу дела, второй, третий и так далее. Ни одна моя книга первоначальному плану не соответствует – и в пересказе, в общем-то, не слишком совпадает с идеей, заставившей меня ухнуть в текст. Самое удобное – встать в половине шестого и писать полтора часа, пока башка ясная, а семья не проснулась. Но удавался мне такой фокус буквально несколько раз в жизни. Рабочий режим редакции предусматривает поздний отбой и, соответственно, поздний подъем. Поэтому я пишу ночами, в выходные и в праздники, а с утра до ночи работаю там, где получаю зарплату. Семья к этому уже привыкла. Мне стыдно, но что поделаешь. Впрочем, когда текст придуман, я могу записывать его в любых условиях – в самолете, поезде, рядом с конюшней, пока у дочери тренировка и так далее. Очень завидую молодым коллегам, которые научились набивать целые повести двумя пальцами в смартфоне, пока едут на службу и обратно в метро. Я старенький, и пальцы у меня кривые. Но, может, научусь – и тогда всем хана.
– Ваш совет: «Писать о том, что пережил, видел или достоверно знаю сам, при этом не уходя в документализм и буквализм». Где в художественной литературе проходит грань между достоверностью и документализмом и как не скатиться в буквализм?
– Точных ответов и рецептов я не знаю. Мне, наверное, помогает, что я точно знаю, как писать в газету или на сайт качественных новостей и аналитики, и исхожу из того, что книги пишутся не так, а по-другому. Даже основанные на реальных событиях, тяготеющие к литературе факта, новому журнализму и древнему акынству. Как именно «по-другому», каждый автор решает, выбирает и придумывает сам. В любом случае, художественная литература предусматривает осмысление, обобщение и заострение – что дает хороший шанс обойтись без попыток ксерокопировать реальность. Надо лишь не прощелкать этот шанс. Я сейчас говорю про худлит, но в документальной литературе похожие законы. «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича формально документальный роман, но это великолепная и подчеркнуто авторская проза огромной ударной силы.
– Горький говорил, как важно для литератора непосредственно участвовать в процессах жизни, которые он стремится осмыслить. Какие «процессы жизни» сейчас влияют на вас как на писателя?
– Самые обыкновенные. Семейные и общечеловеческие, далее – гражданские и социальные. Я отец, муж и сын, это в первую очередь, понятно, но и то, что я россиянин, татарин, мусульманин, представитель ИД «Коммерсантъ» и вообще журналистского и литературного цехов, вряд ли многим меньше влияет на меня и вряд ли многим меньше определяет мое существование. С Горьким я не совсем согласен в части формулировки «участвовать непосредственно» – но наблюдать, изучать и понимать то, чем живешь, надо каждому нормальному человеку. А литератору, который это описывает, тем более.
– «Литература – она вообще про частное, иначе это уже публицистика». Расшифруйте, пожалуйста, эту вашу формулировку.
– Die erste Kolonne marschiert[379] и «равнодействующая миллионов воль» – это публицистика, история и ее учебник. Побег Наташи с Анатолем и высокое небо в глазах Андрея – это частное дело Наташи, Анатоля, Андрея и еще пары десятков людей, которые их любят или ненавидят, которые никогда не существовали, которые гораздо реальнее существовавших реально колонн и миллионов и на частных бедах, радостях, глупостях и подвигах которых держится насквозь выдуманный сюжет. И это великая литература.
– Верите ли вы, что писатель в определенном роде может влиять на реальность и «программировать» ее?
– В определенном роде – да. Большинство человеческих цивилизаций собиралось вокруг конкретной книги, которую кто-то да писал – или записывал. И в недавнем прошлом примеров прямого влияния на реальность немало: «Я обвиняю», «Не могу молчать», «Гроздья гнева», «Тимур и его команда», да и у нас некоторые рождены, чтобы Кафку сделать былью. Но я предпочел бы не называть книгу и писателя инструментами непосредственного и немедленного воздействия на реальность. Такой подход и писателям жизнь портит, и реальность не уважает. Писатель все-таки работает с тонкими материями и невидимыми нейронами, которые наверняка меняются под напором писательской рефлексии, но происходит это потихонечку и совсем не так, как задумано. Сегодня куда больше реальность меняют инженерная мысль и программный код – но не будем забывать, что без книг не было бы ни того, ни другого.
– Мураками утверждает, что писательство – «токсичная профессия» с целым букетом побочных эффектов. Как вы относитесь к такой формулировке?
– Легко, потому что у меня все-таки другая профессия. Впрочем, известные мне настоящие писатели – преимущественно довольно милые люди и даже пьют не сильно больше других. И я не замечал, чтобы они страдали сами и заражали окружающих ипохондрией, синдромами Мюнхгаузена или Стендаля либо даже слишком откровенно относились к ближним своим как к кормовой базе, от которой полагается откусывать нужные для текста черты внешности и характера, речевые особенности. Химическое или литейное производство куда токсичнее, уж поверьте.
– Где грань между графоманией и писательством?
– Судить надо все-таки по продукту, по написанному тексту: писатель выгоняет из себя уникальное литературное полотно, как паук паутину, а графоман клепает шикарное сооружение из готовых кубиков или там элементов «Лего» (иногда он в муках рожает кубики сам – тем хуже для него). Иногда случается, конечно, что выгнанное большим мастером полотно мух не ловит, не цепляет и не торкает, а слепленная неумейкой конструкция оказывается очередным чудом света. Но это редкость. В основном правило работает: писатель лепит из собственного материала историю, интересную многим, а история графомана выполнена из общедоступных и симпатичных многим комплектующих, но интересна только ему.
– Какой главный совет вы можете дать тем, кто только мечтает увидеть свои произведения напечатанными?
– Если можете, не начинайте. Если начали писать – дописывайте. Дальше как получится, но недописанной книги не существует: если она даже автору не нужна, как вы сможете заинтересовать ею издателя и читателя?
– Что делать, если ничего не получается?
– Делать что-то другое. Хотя «ничего» – слишком категоричная формулировка, чтобы быть правдивой. Что-нибудь да получается: завязка интригующая, второстепенный герой удался, описание злодея завораживает, деепричастные обороты гипнотизируют, а мораль заставляет любого читателя немедленно встать и вымыть посуду. Попробуйте – сами или с помощью не слишком злобных знатоков в студии, литкружке или соцсети – найти сильные и слабые стороны своего текста и подумать над тем, можно ли первое развить, а второе исправить. Если что-то придумаете – пытайтесь. Если нет – см. начало ответа.
– Важна ли для писателя дисциплина?
– Определяюще важна. Особенно после первой книги и первого успеха.
– Расшифруйте, пожалуйста. Успех вредит творчеству?
– Успех окрыляет, расслабляет и подталкивает к одной из двух тупиковых тактик. Первая – «новые песни пишет тот, у кого старые плохие». Вторая – «чтобы повторить успех, надо повторить успешный текст»: написать примерно так же примерно про то же. Дальше начинается синдром второй книги, которую ждут, которую хочется написать под не меньший хайп, но «еще более лучше». На выходе получается испорченная амбициями версия первой книги либо некрасивый плод ошибки под названием «А я еще и вот так могу». Самое забавное, что это не худшие варианты. Худший вариант – это пресловутое почивание на лаврах. Оно приятно и удобно, уж всяко приятней и удобней придумывания и выписывания чего-то нового. И вот тут как раз необходима дисциплина, которая заставит тебя писать, думать и каждый день менять удобный заношенный халат на свежевыстиранную рабочую одежду.
– Вы говорили, что желание, если сел писать, – спихнуть с себя текст поскорее. Не начинает ли вас раздражать текст, который вы пишете, потому что он все никак не закончится?
– Он дико раздражает на разных стадиях – когда просится наружу, когда никак не кончается и когда, готовым уже, вычитывается раз за разом. Это нормальное раздражение, стимулирующее такое, потому что против него есть метод, и он единственный: доделать.
– Изменили ли вас как-то литературные премии? Например, попадание в короткий список «Большой книги»?
– Да вроде нет. Скорее, отношение ко мне изменилось: уважают, зовут, с идентификацией, опять же, проще стало. Но я-то сам для того, чтобы стать лауреатом, ничего не сделал – книги я не ради этого писал, и на голосование повлиять никак не мог. Чего же мне меняться-то? С другой стороны, сумма счастливых моментов в моей жизни выросла, до сих пор хихикаю, как вспомню. А я вообще похихикать люблю. Спасибо премиям, в общем.
Шамиль Идиатуллин – журналист, писатель. Родился в 1971 году в Ульяновске. Последние 11 лет руководит отделом, курирующим региональные выпуски ИД «Коммерсантъ». Автор восьми романов. Последний роман «Город Брежнев» вошел в список финалистов литературной премии «Большая книга» и получил третье место в неофициальном («народном») голосовании.
Андрей Рубанов «Я обязан сохранять “покерфейс”»
Андрей Рубанов, лауреат премии «Ясная Поляна» и «Большая книга», – о новом романе, современной литературе и сверхусилии.
– «Финист – ясный сокол» – история, ставшая для всех совершенно неожиданной. На создание этого романа в общей сложности у вас ушло восемь лет. Каким был путь от идеи до реализации?
– Извилистым. Сначала был сценарий, потом его переписывание, потом были другие сценарии. Постепенно с годами эта история имела все большее и большее значение для меня, для жены[380], потому что мы двигали все это как кинопроект, приглашали художников, нам рисовали эскизы, делали какие-то фотопробы, пытались найти образы. Потом я понял, что материала так много, что проще облечь его в книгу. Она долго делалась и получилась содержательной, в этом ее преимущество. Есть хорошие книги, но поверхностные. Про «Финиста» я так сказать не могу.
– Что вы имеете в виду под содержательностью?
– Ничего, кроме этого слова. В книге много всего. Роман однозначно понравится многим, его хвалят, и по делу. Очень много было вложено туда всякого разного. И при этом: не весь собранный материал обработан.
– А как собирался материал? Устное творчество оно же нигде не задокументировано.
– Я не археолог, я ничего не раскапывал, я разговаривал с теми, кто раскапывал. Кстати, археологи эпох – очень интересные люди, потому что выпускают монографии, которые не содержат теоретических выводов, а просто описывают найденное. Потом эти находки датируются, сравниваются с другими находками. Вот нашли вы туфельку кожаную, посмотрели, где примерно такую же нашли, как датировали. Все это датирование – плюс-минус 300 лет. Очень много времени провел в разговорах с историками. Работал на нескольких фильмах, и на каждом был историк-консультант – я, если хотите, воспользовался служебным положением. Историку можно было любые вопросы задать, и он с удовольствием, с наслаждением отвечал. В кино нет исторической достоверности. В кино показывают выдуманный мир. С книгами иначе.
– Для вас как для писателя важно соблюдать историческую достоверность?
– Мне важно, чтобы была правда: если бьют, то больно; если один раз тебя мечом ударили, то ты упал. Возьмите пятикилограммовую палку, попытайтесь ею помахать – и все сразу станет ясно. Та история, которую мы придумали для себя, потребляем ее в виде фильмов – она, конечно, вся, мягко говоря, утрированная. Все, на мой взгляд, было по-другому. Вот я и пытался что-то такое нутряное, извините за пафос, выразить. Понимание приходит только через практику, нет никакого другого способа. Историк, который работал на «Викинге»[381], сказал, что навоз – это идеальный консервант (вот почему, когда мы раскапываем слои, то находим то, что находим: кожу, бересту, сохранившиеся металлы). На улицах было так много навоза, что женщины в обморок падали от запаха. Это метафора. Но метафора близкая правде. Я за правду.
– Когда текст отпущен, когда он вам уже не принадлежит, когда он сам по себе, что вы чувствуете? Облегчение, быть может?
– Текст мне надоел. У меня аллергия на весь этот исторический материал. Я его в июне 2018 года закончил. Всё, до свидания.
– Вы не будете возвращаться к материалу, которого собрано больше, чем вошло в книгу?
– А зачем к нему возвращаться? Есть другие темы, тоже интересные.
– Откуда приходят идеи писать, как вы считаете?
– Не знаю.
– Нил Гейман сказал интересную, на мой взгляд, вещь: «Идеи приходят от совмещения не очень совместимых вещей».
– Теоретически он прав. От конфликта противоположных стихий рождается идея, впечатления. Но на самом деле я не знаю, откуда приходят идеи. Однажды Эйнштейна спросили: «Вы записываете свои идеи?», а он ответил: «Идеи приходят редко, я их все запоминаю».
– О чем роман «Финист – ясный сокол»?
– О современных конфликтах. Проблематика вся современная, и конфликты перед персонажами стоят не те, а эти – наши, современные. Читатель ждет ответы на сегодняшние, злободневные вопросы. О чем бы вы ни читали, все равно ищете ответы на сегодняшние вопросы.
– Ответы на какие вопросы вы пытались найти в своей новой книге?
– На много вопросов. Сегодня один вопрос беспокоит, завтра – другой. Книжка долго делается, проживаешь ее, входишь одним человеком, выходишь другим, она тебя меняет. Это как отцовство, как дети.
– Дети рождаются, чтобы мы у них чему-то научились?
– Да, с ними возникает комплекс сложных отношений, которые нельзя просто описать. Одних больше любишь, других – меньше, и наоборот. Аналогия с детьми мне кажется удачной.
– Помните момент, когда вы захотели стать писателем?
– Это было давно, лет в 12–13. У меня выбора не было, я «в книжном шкафу» рос, все в семье были учителями русского языка и литературы. Поэтому я точно помню, что в седьмом классе уже писал.
– С того момента, как вы начали писать, до первой опубликованной книги прошло довольно много времени. Как вы с отчаянием боролись? Ведь результат пришел спустя много лет.
– В какой-то момент я просто забил на то, что у меня еще нет опубликованных книг, и занялся другими вещами. Тогда перед всеми нами открылись другие виды – мы увлеклись буржуазным капитализмом и его «ништяками», которые увидели в видеосалонах. За этой мечтой из видеосалонов мы все и устремились, воплотили ее. А потом я испугался, что ни хрена не сделал в своей жизни, решил, что надо вернуться к старой идее. Я вышел из тюрьмы[382], мне было 29 лет. В 30 начал что-то карябать. В тюрьме написал какие-то полрассказика и потом не забыл про это. В тюрьме я вообще очень сильно духовно продвинулся.
– Но у вас была уверенность, что все получится?
– Не было. Какая может быть уверенность? Это большое серьезное дело, у меня с трудом шло. Первые две книжки были плохие, роман написал с третьего раза.
– Помните, вы сказали мне: «Бетонная задница – это важная мышца писателя»? Сильно ли вы прокачались с момента нашей беседы в 2017 году?
– Да, мышцу эту я подкачал. Впрочем, «бетонная задница» мне досталась по наследству. Отец был очень терпеливым человеком. Терпение – это благой дар, у меня оно есть.
– Этот навык тренируется?
– Да. По этой части я чемпион страны! Ужасные эксперименты вытворял в свое время. Например, лет в 15–16 у меня была идея, что я могу спать через ночь. Тогда у меня были подвижки, интерес к сверхчеловеческому. Всегда собой гордился, что весь такой тренированный, начитанный. Меня страшно распирало.
– Если посмотреть на себя того времени, какие эмоции вызывает этот человек?
– Нормальные, я ни о чем не жалею. Я сделал все, что мог. Это мне греет душу, время зря не потерял.
– В писательстве для вас нет компромиссов – ну вот этого «и так сойдет». Где тот самый критерий качества? В какой момент вы понимаете, что текст получился? И когда перестаете переписывать, переделывать? Процесс ведь по сути бесконечный.
– Нет, не бесконечный. Должен быть конец. Бесконечно переделывают только графоманы. Профи, во-первых, ничего не переписывают. Лично я ничего не переписываю, сделаю две косметические правки, и все. Я иногда преподаю в школе литературное мастерство и говорю своим студентам: «Ребята, пишите план, а потом по нему историю». Никто из новичков не умеет писать план и не любит этого делать. Но по плану легче работать.
– Хемингуэй так и сказал: «Проза – это архитектура, а не декораторское искусство».
– Ну да. Нужна конструкция истории. Важна математика, если хотите.
– Как этот план выглядит у вас?
– Первый эпизод, второй эпизод, третий и так далее. Когда в голове есть история (последовательность событий), можно садиться и писать.
– Вы сказали, что начинает текст писать один человек, а заканчивает другой. Может, тогда первоначальный план в середине пути кажется не таким уж и классным? Как в этом случае быть?
– Никак не быть, продолжать работать. Да, отклонения в процессе пути неизбежны. И это нормально. Вы никогда не стоите на месте, вы все время развиваетесь. Человек, написавший одну книгу, – один человек; человек, написавший десять книг, – другой человек. У человека с опытом – другие подводные камни, вот и все. Самое прикольное – это бездонная пропасть, в которую можно падать бесконечно, чем дальше – тем бездоннее. Очень увлекательно, но, к сожалению, не всем доступно.
– Каков писатель, который честен с самим собой?
– Если он высасывает текст из пальца, то он не писатель. Если не представляет ситуацию, а пишет о ней. Литература основана на знаниях, личном опыте, она дает уникальность переживаний. Вы же ищете уникальность в жизни, вам не нужно, чтобы вокруг висели одинаковые картины. А если врете, то всегда будете похожи на кого-то. На того, кто тоже врет, как и вы.
– Ложь – синоним лени, если говорить о писательстве?
– Черт его знает. Я никогда об этом не думал.
– Книги меняют людей?
– Несомненно. Мне в свое время хорошо «зашел» «Остров Крым» Аксенова. В восхищении перечитывал роман десятки раз, но сейчас, если бы она попалась, было бы иное впечатление. Тогда был другой я. Тут есть потусторонняя штука: любая книга должна приходить вовремя. У каждого человека есть пять – семь книжек, которые в свое время «заходят». Он влюбляется в них, они его как-то меняют, и он про них потом всю жизнь помнит.
– У вас есть такие?
– Много раз называл: Стругацкие, Лимонов, Набоков, Гумилев. Последний для меня сейчас икона. «Финист» написан под влиянием Гумилева, его идеи.
– Какая идея заложена?
– Роман «Финист – ясный сокол» все хвалят «за идею пассионарности». А я люблю его за идею о том, что национальный характер формируется ландшафтом и климатом. Если половину жизни вы видите только белое, серое и черное вокруг, то у вас один мозг. А если все вокруг оранжевое, фиолетовое и ярко освещенное солнцем – у вас другой мозг. Все это основополагающие для нашего подсознания вещи. Но это все пальцем в небо, это теории такие.
– Вам важно, что говорят о ваших книгах?
– Конечно. Всем важно, все переживают. Не верьте тем, кто говорит, что им пофиг. Я внимательно читаю все отзывы, обдумываю, они запоминаются надолго. У Булгакова хранились в альбомах все рецензии на все его пьесы, по большей части разгромные. Это нормально, профессия того требует. Конечно, обязательно надо анализировать обратную связь.
– Броня утолщается?
– Конечно. От одной работы к другой становишься прочнее.
– А публичность мешает творить?
– Нет у меня никакой публичности, она приходит к тем, кто ее хочет. Хочешь быть публичным – иди в телек. Или в YouTube. Я не иду.
– Публичность поможет больше книг продать, например.
– Нельзя к творчеству как к бизнесу относиться. Я пытался в свое время сделать из этого бизнес. Может, достиг успеха. Мне десять тысяч долларов аванса заплатили за книгу. Это было до кризиса, в десятые годы. Добился я успеха или нет? По две книги в год выпускал, но чего хотел, не получил.
– А чего вы хотели?
– Явно не десять тысяч долларов.
– Что заставляет дальше писать? Желание заглянуть в кроличью нору и увидеть, что там?
– У меня нет желания заглянуть в нору. Просто я ничего больше не умею – вот и весь ответ. Все остальное получается хуже, а за писательство меня вроде люди хвалят. У меня нет желания самоутвердиться.
– А раньше было?
– Да. А теперь я просто хочу, чтобы от меня все отстали и дали возможность заниматься своим делом.
– Идеальный сценарий – каков он? С утра до вечера заниматься писательством?
– Ну конечно. Идеи есть, все есть. В целом нормально, я счастливый человек, хожу, кайфую. Книжка вышла – очень приятно, все хвалят. Радуюсь от простейших вещей, я за простоту. Отпустил книгу – радость.
– Это груз?
– Просто большая работа. Вы уехали в пионерлагерь, вернулись, но все равно еще там находитесь.
– О чем будет следующая книга?
– Тоже, наверное, с элементами фантастики. Посмотрим. Я пока ничего точно не знаю.
– У вас сейчас затишье или вы уже пишете новый роман?
– Я всегда в процессе. У меня выходит книга рассказов, подписал три дня назад договор. Пока не знаю названия, должна в 2019 году появиться.
– Что делать тем молодым людям, которые хотят, но у которых не получается писать? Как стать писателем?
– Ищущий найдет. Слабых на этом пути не бывает, они отсеиваются. Это касается не только писательства. Слабые вообще ничего не добиваются в жизни. Многие думают, что везде есть успешные «наверху» люди, и хотят попасть на их место. Но в «Мартине Идене» Джека Лондона все про писательство рассказано. Помните сюжет? Моряк, который начал писать, сначала не мог опубликоваться, потом сумел, а потом покончил с собой.
– Важна ведь и вера в то, что ты делаешь.
– И вера должна быть. Но только веры недостаточно. Если ты хочешь куда-то попасть, ты должен выложиться по максимуму. Всю свою жизнь подчинить этой цели.
– Вам сложно было это сделать?
– Нет, моя самодисциплина на хорошем уровне. Найти три-четыре часа для любимого дела можно всегда – просто сидеть и писать. Остальное время – обдумывать то, что пишешь. Вот и весь рецепт.
Андрей Рубанов – писатель, кинодраматург. Родился в 1969 году в селе Узунове Московской области. Известен в первую очередь как автор автобиографической прозы (в 2005 году вышла его дебютная книга «Сажайте, и вырастет»), также выпустил несколько фантастических романов. Четырехкратный номинант «Национального бестселлера». В 2017 году стал лауреатом литературной премии «Ясная Поляна» за роман «Патриот».
Захар Прилепин «Не завидуйте никому, а то мозги скиснут»
Захар Прилепин – о документальности художественной прозы, литературных критиках и расцвете русской литературы.
– Ваш путь немного напоминает мне путь Эрнеста Хемингуэя. Он участвовал в трех войнах, был журналистом, ненавидел писателей-дилетантов, переписывал и работал в поте лица. Вы, оставив милицейскую службу, устроились на работу журналистом. Никогда не ассоциировали себя с Хемингуэем?
– А зачем? Это слишком поверхностная и банальная ассоциация. Я написал целую книгу о поэтах и философах, которые были до Хэма: Державин, Чаадаев, Катенин, Батюшков, блистательный Бестужев-Марлинский. Все они были профессиональными военными, в отличие от Хэма. Но я и с ними себя не ассоциирую. Пусть со мной себя ассоциируют все, кому это нужно.
– Раз уж мы начали с Хемингуэя – как вы оцениваете его вклад в мировую литературу?
– Ошеломительно крутой писатель и мужик. Думаю, мы подружились бы. Но я все равно не понимаю – ладно на Западе, там многие никого, кроме Хэма, не знают. Но в России! У нас Гаршин воевал, сильнейший писатель. Зощенко воевал, он был аномально мужественный человек. Гумилев воевал так, как и не снилось никому. Валентин Катаев воевал и за красных, и за белых: там такая сногсшибательная биография. Десятки русских литераторов. А вспоминают всякий раз про Хемингуэя. Он после Первой мировой вообще не был профессиональным военным, вы понимаете? В отличие от большинства вышеназванных русских пиитов, которые руководили целыми подразделениями. И половина из них была журналистами – в нынешнем смысле. Ну и что?
– Хемингуэй говорил, что его как писателя сформировало газетное руководство по стилю. А вам как журналистика помогла? Зачем вы в журналистику пошли?
– За деньгами. Но Хэм отчасти прав. Журналистика научила кое-чему. Слова стали податливей.
– «Нужно быть очень щепетильным, мягкотелым существом, чтобы испугаться, что при тебе кого-то убили», – говорите вы. А у вас не возникало страха, что жизнь может в любой момент прекратиться?
– В те моменты, когда она точно может прекратиться, – не возникало. Впрочем, и в другие тоже я не очень думаю об этом. Как будто есть жизнь, которая не прекратится. Водить хороводы вокруг собственной жизни – унизительно для человека мужского пола. Умер и умер. Тоже мне новость.
– Я не хочу углубляться в тему войны, но она же стала для вас катализатором. В какой момент вы нашли в себе писателя? Там, в Чечне?
– Это самый частый гражданский вопрос. Я нашел в себе писателя, когда стихи читал в детстве, взахлеб.
– Когда вы писали первый роман, то думали, что он останется вашим единственным текстом. Вы не ощущали себя писателем и вам нужно было «высказаться»?
– Да нет. Просто начал писать, скорей забавы для. Было свободное время: думаю, дай напишу книжку, чего нет.
– Дебютный роман Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет», о котором вы сказали, что он вас потряс, вырос из тюремного опыта Рубанова. Вы написали свой первый роман на чеченском опыте. Я пытаюсь разобраться, есть ли связь между негативом в жизни потенциального писателя и тем, что человек все же берется за перо. Такие события становятся катализатором?
– Просто надо было описывать что-то, вот и описал. У меня семнадцать книг. Про войну из них – малая часть. Все это никакого значения не имеет. Война – обычная форма жизни. Там просто чуть ярче и обнаженней все. И больше хороших людей вокруг. Но вообще – это не самоцель. Была бы возможность, я бы никогда не ходил с автоматом, а ходил бы с пивной кружкой. И мне было бы так же хорошо.
– Хемингуэй как-то обмолвился, что убил по крайней мере 122 человека, а в письме в красках расписал, как застрелил из карабина немецкого солдата. А вам приходилось писать такие письма?
– Бред сивой кобылы. Того немца он, может, и застрелил, но 122 человека – столько снайперы только могут убить. Хэм тут валяет дурака. Мой дед, Нисифоров Николай Егорович, с 1942 по 1947 год был пулеметчиком – от Сталинграда до Западной Украины. Вот он бы мог такие письма писать, но ему это точно в голову никогда не пришло бы. А мне – тем более не приходилось. Я проводил операции, в результате которых погибали люди. Больше мне по этому поводу нечего сказать. Я никогда об этом не думаю и ничего по этому поводу не испытываю. И уж точно не испытываю желания мусолить все это.
– Еще один документалист войны – Джозеф Хеллер: помните, как «порванные мышцы в кровавой траншее шевелились наподобие ожившего фарша»? Но это все фон для того, чтобы «расправить паруса темы романа». Гений Хеллера не в том, что он просто переложил военный опыт на бумагу, а в том, как он это сделал. Насколько важна в вашем понимании архитектурная составляющая в тексте?
– Не понял связи, но архитектура важна. Понимание архитектуры приходит интуитивно. Либо строится здание, либо осыпается. Науки об этом нет.
– Сейчас поясню: архитектура всплыла не случайно. Говоря о «Язычнике» Александра Кузнецова-Тулянина, вы сказали – «архитектура безупречная». А Хемингуэй как-то заметил, что «писательство – это архитектура, а не искусство декоратора». Расшифруйте, пожалуйста, что вы вкладываете в понятие «архитектура текста»?
– Текст может строиться линейно: как линия из точки А в точку В. Это просто. Герой встал, пошел, пришел, упал. А сложная архитектура – когда сто героев, в режиме ста кардиограмм, действуют, пересекаясь в нужных точках и совпадая в финале в одной. Это высший пилотаж. У Тулянина в «Язычнике» получилось на высочайшем уровне – как у Шолохова или Леонида Леонова. В других его книгах ничего подобного не происходит. А «Язычник» – чудо.
– Вы Гайто Газданова и Леонида Леонова именно за «архитектурность» их текстов полюбили?
– У Гайто нет архитектуры, у него – музыка, неземная. У Леонова – да, сложнейшие конструкции, которыми он с аномальным мастерством управляет. «Дорога на океан» – гениальный роман. Сейчас мало кто так работает. Даже читателя достойного на эту книгу днем с огнем не найти.
– Как многоголосье Достоевского, да. А сейчас так никто не пишет, потому что не умеют? Не хотят учиться? Почему?
– У нас есть гениальные писатели. Александр Терехов работает так, как вообще никому не снилось. А многие, да, мелко ходят и думают о себе больше, чем о том, что больше всех нас. А Достоевский вообще о себе не думал. Его – как тварного тела – в его текстах вообще нет. Даже когда он пишет от первого лица.
– Тема произведения появляется в каждом опубликованном современными писателями тексте или сейчас это необязательный «композиционный элемент»?
– А разве бывают тексты без темы? У любого текста есть тема. Даже «я сейчас сяду и напишу вам всем» – тоже тема.
– Чему писатель должен учиться? И главное – как?
– Жить нужно. Жить жизнью своей земли и своей огромной родни. А писательство приложится. Точкой отсчета должно быть что-то, что находится очень далеко от автора.
– Почему сейчас так много дилетантов в литературе?
– Их всегда было много. Сейчас даже поменьше. Во главе процесса – безусловные профи: Водолазкин, Крусанов, Варламов. Все мастера.
– Не буду называть имен, но вы сказали, что один довольно известный писатель – «это ничто». Дайте, пожалуйста, свое определение – кто такой настоящий писатель.
– Нет определения. Акунин плохой писатель для читателей со средним вкусом. Хотя рассказчик историй – нормальный. Средний бойкий беллетрист начала XX века. Тогда таких много было. Со временем это станет очевидно всем. Определять это не обязательно.
– Вы в открытую высказываетесь о творчестве других писателей, не боясь, что они обидятся. Почему?
– Люди боятся говорить от слабости. Они осознают, что их место в литературе – маленькое, и боятся его еще больше уменьшить. А у меня свое место в литературе, и я ничего не боюсь говорить. Ни про войну, ни про мир, ни про коллег, ни про их национальность, ни про их пол или бесполость. Я пришел в мир не для того, чтоб всю жизнь скрывать что-то для меня очевидное.
– Где граница между литературой и мусором?
– У вас в голове.
– Ваши слова: «Только производя мусор, писатель становится независим материально». Если я не ошибаюсь, еще Стейнбек сказал, что колоссальными тиражами продается либо бульварный мусор, либо гениальная литература. А так называемые крепкие середняки страдают. У вас есть объяснение вот этого разброса читателя по полюсам?
– А в России это перестало работать. Серьезные писатели давно обыгрывают любые дамские романы, детективы и эротику. Возглавляют списки продаж книжки того же Евгения Водолазкина. Я уважаю нашего читателя, он очень умный.
– Тогда чем объясняется возрастающий интерес аудитории к «интеллектуальной прозе»?
– Небо стало ближе.
– В какой момент писатель становится писателем?
– В момент зачатия.
– «Для меня самое главное происходит в области языка». То есть вы поклонник, как говорит Ольга Славникова, «логоцентричной» литературы?
– Если угодно, да.
– Вы написали о дебюте Самсонова: «Давно такого не было: я ходил потрясенный и всем про него говорил». Чем он вас так потряс? И как вы оцениваете то, что он пишет сейчас?
– Я не читал его последних книг. Некогда. Потом прочитаю и скажу. Но «Аномалия Камлаева» такое же чудо, как «Язычник». Но это не дебют. Его дебют – роман «Ноги» про футболиста, очень средний. Но мой сын, увлекающийся футболом, его прочитал. Я все книги Самсонова покупаю. Просто в благодарность за «Аномалию…».
– Почему такие, как Самсонов, не становятся «массовыми» писателями?
– Случайность. Мог бы стать. Какой-то мелочи не хватает.
– И почему действительно яркие тексты не находят читателя? Вот, например, столь полюбившийся вам «Блуда и МУДО» или «Язычник»…
– Иванова читают многие и с удовольствием. В числе немногих вышеназванных он первый среди равных. Алексей Иванов, Олег Ермаков, Михаил Тарковский – они все классики. Если их сегодня не прочитал кто-то – это не их проблемы. У Леши Иванова просто характер вредный. Он мог бы и выше место занимать, если бы поменьше думал о том, как про него пишут, куда его премируют и какие премии ему не дают. Проза у него сногсшибательная. «Тобол» – роман на уровне «Петра I» Алексея Толстого, особенно первая книга. Во второй чуть больше допущений и экшна, чем мне хотелось бы, но это выбор автора.
– «Я не верю, что снизойти может целый роман». А во что вы верите? В тяжелый и упорный труд?
– Сначала труд, а потом может снизойти.
– Вы рассказывали, что выросли на Аполлинере, Ромене Гари и Сент-Экзюпери. Влияние на вас оказали Пушкин, Лермонтов, Толстой, что неизбежно. Кто еще сформировал вас как писателя?
– Мы называли все эти имена: Газданов, Леонид Леонов. Еще Анатолий Мариенгоф. Проза Валентина Катаева. Алексей Николаевич Толстой. Поэзия: Блок, Есенин, Луговской, Гумилев, Юрий Кузнецов, Бродский. Чухонцева сейчас читаю с восторгом.
– «Проверку прочности и эластичности языка во все времена проводит литература» – снова ваши слова. И какие выводы о языке можно сделать сейчас?
– Мы как народ в отличной форме.
– «Свобода в том, чтобы тебя слышали». Вы как писатель эту свободу обрели?
– Я ее и не терял.
– Вы как писатель ищете способы как-то влиять на окружающую действительность?
– Я просто пишу. Написанное может влиять, может нет. Я мало об этом думаю.
– А что вы хотели бы изменить?
– Меня все устраивает. Пусть все будет как есть.
– Зачем вы пишете?
– Мне за это платят.
– Какой след вы хотите оставить после себя?
– Красивый портрет в рамочке в моей деревенской школе. Позолоченные бюстики в пивных. Чтобы орехи можно было о голову колоть. Или сырые яйца.
– Как вы относитесь к иерархиям в литературе? Вы как-то вспоминали слова Пелевина, что писатель – это «злобное, завистливое эго». Вы тоже такой?
– Нет, не такой. Я смотрю за литературой как за красивой поляной, мне радостно от успехов всех моих друзей. А сорняки я не люблю.
– Для романа «Обитель» вы изучали архивные документы. И все же это художественное произведение. Скажите, где грань между документалистикой и прозой?
– Проза – это документалистика высочайшего уровня. Документалистика работает с документами, а проза с сознанием и душой, которые в документах чаще всего неразличимы.
– Можно ли научить писательскому мастерству?
– Можно научить не делать общие ошибки. Мастерству – нет.
– «Я как зарабатывал на своих книгах, так и зарабатываю». То есть писатель в России все же может кормить себя и семью писательским трудом?
– Кто-то может, кто-то нет. Как повезет.
– Писатель Захар Прилепин образца 2004 года и писатель Захар Прилепин образца 2017 года – как изменили вас тексты, которые вы написали?
– Никак.
– Вы по своему имени не скучаете? Не устали быть Захаром?
– Можете назвать меня Женей, я всплакну.
– Вы, помнится, налаживали бизнес по производству ватников, а потом Рубанов написал роман «Патриот», в котором главный герой пытается создать гениальные ватники. Это он у вас идею позаимствовал?
– Думаю, да. Но она и так в воздухе носилась.
– Кстати, о Рубанове: вы говорите, что он «пишет так, как будто “качает железо” или ставит удар». А как вы сами пишете?
– Как будто сижу на берегу и смотрю на воду. И глажу по голове кого-нибудь любимого.
– Ирвин Шоу называл критиков убийцами литературы. А вы, писатель, как к ним относитесь?
– Критики – это счастье. Их почти не осталось. Я всем им очень благодарен. В том числе и тем, кто ругался. Никаких претензий. Помню, в 2009 году Наринская написала, что Прилепин, да, был главным писателем нулевых, но в десятых от него ничего не останется. Разве это не восторг? Я ее обожаю. Жду, что она скажет в 2019 году.
– Как вы все успеваете? И книги писать, и в общественной жизни участие принимать. У вас все по графику или спонтанно?
– А в какой общественной жизни я принимаю участие? Вы меня с кем-то путаете, видимо. Я полтора года прожил на Донбассе и за это время не издал ни одной книги, не ходил ни на один митинг и не участвовал ни в одном собрании.
– Каким должен быть писатель нового времени?
– Таким же, как и старого времени.
– Ваш совет молодым писателям?
– Не завидуйте никому, а то мозги скиснут.
Захар Прилепин – русский писатель, филолог, публицист. Родился в 1975 году в селе Ильинке Рязанской области. В литературу пришел из журналистики, дебютировав в 2004 году романом «Патологии», посвященном чеченской войне. Ныне – заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького по литературной части. Лауреат ряда литературных премий. В ряде творческих проектов выступал продюсером, главным редактором, телеведущим, рэп-исполнителем и актером.
Андрей Геласимов «Сначала пишу все подряд, а потом сажусь за монтаж»
Андрей Геласимов – об источниках вдохновения, борьбе с неудачами и гении Толстого.
– Вы всегда знали, что будете писателем?
– В общих чертах – да. Но это было скорее понимание того, что я буду заниматься искусством в целом. Довольно продолжительное время я посвятил театральной режиссуре, и только потом, уже оставив театр, сделал литературу своим основным занятием. Хотя преподавал ее в университете задолго до этого.
– Вы начали писать, не планируя издаваться. Почему начали?
– Была определенная тяга к этому занятию. В принципе, юношеское увлечение. Был очарован биографиями известных писателей. Сложился такой романтический образ волшебных бездельников, баловней судьбы. Они для меня были такими же звездами, как для других – великие футболисты.
– Кто такой графоман? Где грань между писательством и графоманией? Как понять, что ты не графоман?
– Присутствие таланта всегда ощутимо. Его отсутствие – тоже. Ко всему прочему, графоман не высокомерен. Он легко соглашается стать членом Союза писателей. Более того, он даже хочет этого. Так что если вас до дрожи волнует работа над текстом, а не членство в Союзе, это уже хороший знак. Само по себе высокомерие отвратительно, и сильный писатель обязан его преодолеть. Но если подобной гадости нет в самом начале – ситуация в общих чертах плачевна.
– Как побороть «синдром самозванца»: кто я такой, чтобы писать? Кто дал мне право писать?
– Не знаю. У меня не было такого чувства. Меня пожирало ощущение, что вот-вот – и у меня получится. Неудачи, конечно, переживались болезненно, однако я как-то быстро о них забывал.
– Как долго вы писали в стол, пока не начало получаться?
– Лет пять, наверное. Но это не было постоянной работой. Я писал во время каникул и отпусков. По выходным иногда. Это было скорее хобби. А потом вдруг получилась хорошая вещь, и я понял, как я ее сделал. И не только понял, но и запомнил. С того момента все и пошло.
– Расскажите о ваших первых шагах. Как вас начали издавать? Сложно ли было найти издателя? Что это было: удача и стечение обстоятельств или судьба?
– Удача, несомненно, играет важную роль, как и в любом другом виде деятельности. Однако и в судьбу я верю. Слишком уж много как бы случайных факторов сложилось в моей личной биографии в такой рисунок, что дальнейший путь оказался предопределен. К первому издателю (Дмитрий Ицкович, издательство ОГИ) меня привел мой бывший однокурсник по ГИТИСу. Его жена оформляла один из клубов ОГИ. Там долгое время стояли табуретки с их дачи. Значит, не поступи я на режиссерский факультет в конце восьмидесятых, моя первая книга не вышла бы в ОГИ. Впрочем, сильно подозреваю, что она вышла бы в другом издательстве. Это была повесть «Жажда». И на тот момент совершенно независимо от ОГИ ее уже принял к печати журнал «Октябрь». Ну а теперь она переведена уже на десяток языков. Или больше, я не помню. Это я к тому, что собственно качество текста тоже имеет не последнее значение.
– То есть вы верите в судьбу и предопределенность – если уж на роду написано стать писателем, ты им станешь?
– В судьбу верю, но ничего не предопределено. Любой из нас легко может запороть самый прекрасный план, какой имеет для нас Вселенная. Умельцев хоть отбавляй. На самом деле, помимо литературного таланта, нужен еще отдельный дар, чтобы слышать мелодию своей судьбы – и хоть иногда попадать в такт. Тогда все получится. Вселенная добра к нам. Это мы глуховаты.
– Что вы почувствовали, когда вышла ваша первая книга и вы взяли ее в руки?
– Издатель мой был весьма удивлен тем, что я пришел за книгой только спустя неделю после ее выхода. Он сказал – ты первый такой автор в моей практике. А я просто уже работал над следующим текстом. Никаких особенных чувств по поводу публикации первой повести я не испытывал. Было твердое ощущение, что впереди много другой интересной работы. Помню, как-то оказался в ресторане, где один начинающий писатель праздновал выход своей первой книги. Он даже окропил водкой ее страницы. Я удивился всему этому энтузиазму, но виду не подал. Решил, что все люди разные. Больше книг у того парня, кажется, не выходило.
– «Жажда» – произведение, которым вы уже окончательно заявили о себе как о серьезном писателе с амбициями и собственным стилем. А как «Жажда» писалась?
– Писалось легко. Эта история сама себя рассказывала. Я оказался до такой степени захвачен ею, что выбора у меня не осталось. Бывают тексты, которые в любом случае должны быть кем-то написаны. Фигура писателя здесь не важна. Он лишь инструмент.
– Вы свою жажду утоляли водкой, чтобы проникнуться переживаниями героев. Насколько писателю важно испытать на своей шкуре все то, что описывается в книге?
– Знать материал, конечно, надо. Но тут лучше без фанатизма. Фактура – вещь, безусловно, хорошая, однако и писательское воображение никто не отменял. Если автор не ощущает предметно, пусть и на уровне воображения, тот мир, в который он погружается, ему вряд ли поможет собственный опыт. Плюс надо еще уметь перевести эту предметность ощущений в эстетическую плоскость – то есть в композицию, в характерологию, в умение строить диалог.
•••
Я шел к холодильнику, а он за это время успевал допить свой стакан.
– Вот молодец. Ставь ее сюда. Боже мой, почему я такой жирный? Подай мне ее. Не видишь – я не дотягиваюсь? Сядь рядом со мной. Рисовать больше не надо.
Я садился. Он открывал зубами бутылку водки, наливал себе новый стакан, смотрел на него, улыбался, медленно выпивал его и потом со вздохом откидывался в своем кресле.
– Ну надо же, как хочется пить. В горле все пересохло. Что ты там говорил насчет этих детей?
– Я сказал – обычная малышня.
Он усмехался и презрительно смотрел на меня.
– Не бывает обычной малышни, Константин. «Обычную малышню» придумали дураки. Ты понимаешь?
– Нет, – говорил я.
– Когда-нибудь поймешь. Сейчас просто слушай. Каждый день ты проходишь мимо этих детей и даже понятия не имеешь о том, какие они. Ты можешь сказать, например, как они привлекают к себе внимание, если хотят что-то сказать? Нет? Они руками поворачивают друг другу голову. Берут человека за лицо и поворачивают его к себе маленькими руками.
Он смотрел на свои толстые руки, вздыхал и показывал ими в воздухе, как дети поворачивают к себе чужое лицо.
– Или рисуют друг на друге фломастерами разных цветов. Отсюда не видно, что они рисуют, но видно, что им это нравится. Потому что им щекотно, и они показывают друг другу, что нарисовали на них. Ты когда-нибудь видел, как падает луч света в темную комнату из приоткрытой двери? В самом начале он узкий, а потом расширяется. Точно так же и человек. Сначала один, потом двое детей, потом четверо внуков. Понимаешь? Человек расширяется как луч света. До бесконечности. Ты понимаешь?
Он смотрел на меня и ждал, пока я кивну головой.
– Молодец. А теперь скажи, что ты сам делал, когда был маленьким.
– Я не помню.
– А ты постарайся.
– То же, что и все.
– Играл, гулял, ходил на горшок?
– Ну да.
– Мало. Художник должен знать больше.
– Я не художник.
– Подай мне вон тот ботинок. А то мне тяжело вставать.
– Чуть что, блин, сразу – подай ботинок.
– А ты не кривляйся. Я с тобой разговариваю. Думай, давай, думай.
А. Геласимов «Жажда»[383]•••
– Как писателю понять, пишет ли он достойный публикации текст? Как работает ваш внутренний shit detector, о котором говорил Хемингуэй, – писательский радар, определяющий уровень написанного?
– Мне кажется, хороший автор всегда знает, когда у него получилось. Если, подходя к финалу, вы испытываете сильное чувство, оно в любом случае будет прожито и читателем. Я не очень понимаю тех писателей, которые вымучивают текст. Он либо приходит, либо нет. Важно, чтобы было это сильное чувство. И это уже вопрос масштаба личности, а не писателя.
– Как вы работаете? Согласно плану или просто смотрите, куда идет повествование?
– Никогда не пишу наугад. Начинаю работать, когда история, персонажи и даже стиль мне в общих чертах ясны. Часто я знаю финал. Конечный пункт всего пути для меня очень важен. Мне нужен ориентир. Маяк на дальней скале, если хотите.
– В ваших текстах очень живые диалоги. Как вы заставляете героев «звучать»? Есть ли какие-то секретные приемы, которые могли бы помочь молодым авторам научиться писать именно диалоги?
– Думаю, мой театральный опыт сыграл тут определенную роль. Когда вы много репетируете, без конца произнося диалоги великих авторов, это каким-то образом в итоге поселяется и в вас. Надо лишь не сопротивляться. Я всегда слышу не только реплики, но и голоса своих персонажей: у этого хриплый, у того высокий, а тот картавит. Ну и, конечно, нужно понимание конфликта. Без конфликта диалог строить нельзя. Глупо использовать диалог для примитивного завода информации. Лучшая школа в этом отношении – диалоги Платона. Я бы рекомендовал их всем авторам. А для сюжетостроения надо прочесть «Поэтику» Аристотеля. Там все как в хорошем учебнике – просто, доступно и полезно.
– Как вы пишете? Нужна ли вам какая-то особенная обстановка?
– Раньше была нужна. Но это больше от манерности, свойственной романтическим юношам. Сейчас мне даже лучше пишется в гостиницах, самолетах и поездах. Когда вам есть что сказать, обстановка уже не важна. Я могу диктовать, царапать карандашом в гостиничных блокнотах, записывать в телефон – мне все равно. Хоть палочкой на снегу писать. Главное, чтобы меня распирала история. А выход она себе найдет.
– Хемингуэй признавался, что у него на девяносто одну страницу дерьма получается одна страница шедевра. А у вас? Не устаете так много писать?
– Хемингуэй прав. Любая работа художника – это прежде всего его личное дело. Главное, чтобы ему самому нравилось. А что там скажут другие – это не самый насущный вопрос. В принципе, он вообще нерелевантен. Это уже головная боль книгопродавца.
– Как вы определяете, что лишнее, а что должно остаться в тексте?
– Сначала я пишу все подряд, а потом сажусь за монтаж. Как в кино. И это уже другая работа. Но я не сразу этому научился. «Жажду» не правил совершенно. Она снята одним дублем. Там важно было дыхание текста. В последующих работах, где нарратив уже играл чуть большую роль, чем атмосфера, я убирал лишние куски, когда они нарушали композиционный баланс – замедляли действие, уводили его в сторону, перегружали конструкцию излишними деталями. Хотя я отдаю себе отчет в том, что все эти «прелести» могут быть использованы художником в качестве рабочего инструмента. Так, например, поступил Томас Манн в «Волшебной горе». Мне кажется, он ничего не убирал, и эта громоздкость в итоге стала характерной чертой его стиля. Мне раньше это нравилось, но сейчас я за дисциплину.
– «Индивидуальный авторский стиль, как мне кажется, рождается из персонального ощущения ритма». Помните, когда вы это сказали? В 2004 году. Как изменился Геласимов-писатель за эти годы? И как изменился ваш стиль?
– Вряд ли существует такой феномен, как мой стиль. Каждый роман, каждый текст у меня живет по своим собственным правилам. Это всегда очень разные вселенные. И каждая из них требует своего способа изложения. Я мог бы рассчитывать на некую однородную стилистику, если бы все время писал как бы одну книгу. Но это случай Достоевского, Толстого и других титанов. Я не титан. Я просто рассказываю истории. И у каждой из них свой голос.
– Когда вы садитесь писать, вы сразу знаете, какая форма у вас выйдет? Рассказ, роман…
– Разумеется. Вы можете представить себе кулинара, который не знает, что он готовит – борщ или торт? Я бы прогнал такого с кухни.
– Как вы боретесь с сомнениями?
– Анализирую их причины. Но, в принципе, сомнение – важный инструмент. Это индикатор того, что можно сделать лучше.
– Как закончить роман, если ничего не получается?
– Отложить. Потом получится.
– Кто первый читатель ваших текстов?
– Моя жена.
– У каждого писателя свой читатель. А Воннегут так вообще говорил, что писать надо для одного человека. Для кого пишете вы?
– Для себя. Все равно никто до конца не понимает, что я написал. Знаю я один. Подозреваю, что так у каждого автора.
– Как вам удалось попасть в топ продаж на Amazon? Как пробиться русскому автору за рубежом?
– Я не пробивался. Каждый выполняет свою работу. Я пишу книги, мой агент предлагает их издателям, а те, в свою очередь, предпринимают необходимые, на их взгляд, маркетинговые усилия. Все очень просто. Максимум, что я делаю для продвижения своих книг, – встречи с журналистами. Но они либо сами просят об интервью, либо их приводит пиар-агент моего издателя. Я вообще никогда не предпринимал никаких действий, которые можно было бы описать глаголом «пробиваться». Я просто выдумываю истории.
– На Amazon «Холод» назвали русским «Послезавтра». Ставили ли вы задачу написать русскую версию чего-то американского, чтобы повысить узнаваемость? Или все вышло само собой? Нужно ли писателю сегодня быть еще и маркетологом?
– Мне отнюдь не кажется, что в «Холоде» есть хоть капля американского менталитета. В Штатах его читают как раз из интереса к российской действительности и к нашему непростому способу жить. Этот роман пугает американцев. И в основном не физическим холодом.
– Верите ли вы в самиздат?
– По-моему, писатель Рубанов первую книгу издал за свой счет. Он вполне успешный.
– Вы охарактеризовали себя как «человека, который терпит публичность из последних сил». Расскажите, пожалуйста, об обратной стороне славы.
– Так нет никакой славы. Я как раз делаю все, от меня зависящее, чтобы ее не было. Я наслаждаюсь частной жизнью и ни за что не променял бы ее на публичность. Те немногие выходы на люди, которые я себе позволяю, – это неизбежный компромисс. Какой-то минимум публичности все-таки требуется при моей профессии. Но была бы моя воля, я отменил бы даже его.
– Нужно ли писателю быть на виду? Вас не тянет удалиться из всех соцсетей – или нужно продвигать свои тексты и себя как бренд?
– На виду нужно быть тому писателю, который этого хочет. А кто не хочет, может и не быть на виду. Это же дело добровольное. Из соцсетей когда-нибудь обязательно удалюсь.
– Вы сказали, что вышедшие книги перечитываете на встречах с читателями, но они для вас как чужие. А какое чувство возникает, когда роман только-только отправлен в типографию?
– Беспокойство за новый роман. Как правило, к этому моменту он уже на стадии плотного обдумывания.
– Не могу не спросить об «Анне Карениной» – книге, которую вы, по вашим словами, постоянно перечитываете. Правильнее, наверное, сказать – читаете всю жизнь. Что этот текст дал вам как писателю и как человеку?
– Синтаксис Толстого настолько гармонизирован, что меня лично это сильно примиряет с жизнью. В этом ряду для меня также стоят ежедневные прогулки по лесу, хорошие сериалы от Netflix, Showtime и HBO, односолодовый виски, австрийское белое вино и кое-какая музыка.
– Есть ли другие тексты, столь же важные для вас?
– Диалоги Платона.
– Гертруда Стайн, по словам Хемингуэя, называла его собственный талант «печуркой», а талант Фицджеральда – «огромной огнедышащей печью»: в том смысле, что Хемингуэю ради достигнутых результатов пришлось работать куда тяжелее. Что вы думаете о писательской конкуренции? Можно ли «печурку» усилиями превратить в «огнедышащую печь»?
– Мне совершенно не близка сама идея сравнения талантов. Талант либо есть, либо его нет. Как можно сказать – у кого он больше? Это же не член, в конце концов, чтобы вынуть и сравнить. Да если бы даже и член. Меряются только идиоты. И очень неуверенные в себе люди. Другой вопрос – можно ли увеличить себе тот или иной параметр. Об этом, я думаю, лучше спросить у девушек, которые нарастили себе грудь. Кому-то, возможно, нравится.
– Можно ли научиться – и научить быть – писателем? Островский сказал, что писателем может стать каждый, но для этого нужна упорная воля». Вы согласны?
– Наверное, нет. Усилие, конечно, необходимо. Причем ежедневное. Но я уверен, что на Земле живет много людей, которым не дано и, главное, не надо быть писателями. Для их собственного счастья.
– Хемингуэй оттачивал мастерство письма под руководством Гертруды Стайн. А у вас есть своя Гертруда Стайн? Понятно, что Лев Толстой для вас невероятно важен. Но я сейчас о тех, кто повлиял на вас в непосредственном взаимодействии.
– На старте это был мой мастер по ГИТИСу Анатолий Александрович Васильев. «Большинство из вас, – говорил он своим ученикам, – не понимают красоту вообще. Некоторые понимают умом, но лишь единицы сумеют постичь ее сердцем». Надеюсь, я все-таки угодил в это малое число.
– Писательство – путь одиночества или же можно обращаться за помощью?
– Я все время обсуждаю свои сюжеты и персонажей со всеми своими близкими. У детей обычно масса идей. Мама делится историями из прошлого. Жена помогает правильно выстроить композицию. Какое тут одиночество?
– На вопрос, как научиться писать, Стивен Кинг ответил: «Много читать и много писать». А как ответите на этот вопрос вы?
– Раньше я много читал, но сейчас как-то поутихло. Пишу действительно много. Потому что в кайф.
– Какой главный совет вы можете дать начинающим писателям?
– Мне кажется, что каждый человек хочет заниматься чем-то значительным. И это не обязательно то, что может тебя прославить.
Андрей Геласимов. 5 советов начинающим писателям
1. Рассматривайте свое занятие как хобби. Если оно не доставляет удовольствия, как, например, прогулки на велосипеде, немедленно бросайте его.
2. Учитесь переделывать. И не только за собой. Любопытно бывает переписать втихую великий рассказ кого-то из классиков. И это тоже должно приносить наслаждение. Показывать результат кому-то необязательно.
3. Не трепещите при мысли о публикации. Это неважно. «Сами придут и все дадут». Если не придут – значит, и не надо.
4. Профессионалам в издательском бизнесе показывайте свой текст лишь после того, как один из близких ваших людей искренне засмеялся, читая его, или заплакал. Очень важно попасть в яблочко с первого раза. Для редактора или издателя вы должны стать внезапной находкой. Не надо, чтобы эти люди видели все ваши попытки.
5. Живите в свое удовольствие. А если получится – напишите об этом.
Андрей Геласимов – писатель, педагог. Родился в 1966 году в Иркутске. Филолог по образованию, кандидат наук. В 2005 году на Парижском книжном салоне Андрей Геласимов был признан самым популярным во Франции российским писателем. Лауреат премии «Национальный бестселлер» за роман «Степные боги». Роман «Холод», опубликованный в 2015 году, вошел в лонг-листы литературных премий «Большая книга», «Ясная Поляна», «Русский Букер». В 2017 году вышел роман «Роза ветров».
Лев Данилкин «Ищу в тексте музыку и интонации»
Лев Данилкин, лауреат премии «Большая книга» за 2017 год, – о писательском пути, мелодичности текстов и поиске «лучших слов в лучшем порядке».
– Вот как определил критиков один английский критик: это люди, которые знают дорогу, но не могут водить машину. Насколько это, по-вашему, справедливо? И как вы сами нашли дорогу из критики в писательство и научились водить эту самую «машину»?
– Мне, честно говоря, больше нравится формулировка арт-критика Роберта Хьюза: от роли, которую критикам положено играть в этой культуре, очень устаешь. Это вроде как быть пианистом в борделе – то, что происходит наверху, никак от тебя не зависит.
– И в какой момент вы обнаружили в себе писателя?
– Ну все-таки писатели – это Толстой, Горький, Захар Прилепин, а я – ну, рад, конечно, когда от кого-то это слышу про себя, но мне до этого статуса еще как до Луны. Я – раз уж про Луну вспомнил – скорее кто-то вроде Незнайки, который стащил прибор невесомости и отправился на речку – проверить, как невесомость подействует на рыб. Они взлетели, было интересно.
– Помог ли вам в писательской работе предыдущий опыт – литературного критика?
– Ну, наверное, так и должно быть – сначала короткие тексты пишешь, потом длиннее. А «литкритика» это или что – как раз менее существенно. Просто я всегда сочинял рецензии как, прости господи, стихи, в смысле как готовые законченные тексты, которые в идеале обладают самостоятельной ценностью. «Лучшие слова в лучшем порядке», что называется. То есть существует две задачи: первая – рассказать про чужой текст, объяснить его значимость и показать, как он устроен, и вторая – сделать текст со своей «музыкой». Это, может, никто никогда и не замечает, но для меня это важно – я не могу опубликовать текст, который в момент отсылки редактору кажется мне плохо написанным. Глупый или пустой – да, могу, особенно когда сам это не понимаю сразу, но задним числом, конечно, ясно будет.
– Что руководит вами как писателем? Почему и зачем написана книга «Ленин. Пантократор солнечных пылинок»?
– Я ищу носителей очень странных идей, которые могут существенно скорректировать или даже перевернуть мою – обывательскую, общепринятую – картину мира. Для этого я как бы инфицирую себя разными идеологическими вирусами, тщательно отобранными, – и придумываю, как рассказать о своем опыте. Это, мне кажется, не просто идиотское развлечение: стандартная картина мира только кажется исчерпывающей, а если приглядываться, там много необъясненных вещей. Ну, условно говоря, вот мы знаем, что майя играли в мяч тяжелым каучуковым мячом, и дотрагиваться до него можно было только бедрами, спиной и локтями. Это известно, доказано, подтверждено, не подлежит сомнению. Но вот попробуйте сыграть таким мячом с такими условиями и еще попадать им в кольцо – типа баскетбольного, но не горизонтального, а вертикально расположенного, как колесо на шиномонтажах… Вот про что-то такое я думаю – как бы выстроить такую картину мира, чтобы это все выглядело поубедительнее.
– В одном из интервью вы сказали, что при работе над этой книгой вам пришлось изучить 55 томов собрания сочинений Ленина. Можно ли по творчеству и текстам понять, что автор за человек?
– Обычно да – мне проще всего понять, что за человек передо мной, по его текстам. У меня, я знаю, есть слух на текст, на «музыку» текста. Но в случае с Лениным – который, конечно, иногда выдающийся литератор – это не очень сработало. Просто взять и прочесть 55-томник – не складывается в голове образ, и скучновато, и часто оказывается, что автор противоречит самому себе. Надо выстроить систему, в рамках которой эти противоречия будут понятными и логичными, а не признаком двуличия или слабоумия. Систему эту можно выстроить только через понимание исторических обстоятельств, на одних текстах далеко не уедешь. Так что Ленин – и хороший, и плохой пример одновременно.
– Не возникло ли на определенном этапе работы с материалом отождествления с героем? Может быть, вы и сейчас еще «по-своему Ленин»?
– Да, это привязывается, до идиотизма: когда я шел на «Большую книгу», оставил дома записку: «Ушел туда, куда вы не хотели, чтоб я уходил», как Ленин вечером 24 октября 17-го, когда в Смольный пошел. То есть это классическая затянувшаяся шутка, не смешная ни для кого. Я поэтому занимаюсь другой уже книжкой, чтобы выбить клин клином.
– Прочесть 55 томов, написанных Лениным, – волевое решение. Как развить в себе такую волю?
– Да какая там воля, смеетесь? Просто упрямство, ослиное.
– Вы признавались, что роман увидел свет только по одной причине: был установлен дедлайн. Это правда?
– Конечно, правда. Я мог писать его и десять лет, и пятнадцать, до смерти. Просто понимал, что если книга – а это просто еще одна, стомиллионная по счету биография Ленина – не выйдет в 17-м, то никому не будет нужна.
– А помните ли вы, как начиналась работа над книгой?
– Я сто раз рассказывал (и это правда), как на меня выползла на Капри змея из памятника Ленину – будто из черепа коня вещего Олега. И я понял, что это знак: надо писать. И у меня основной файл, в который я писал все, что казалось мне важным про Ленина, называется «КаприЛенинЗмеяВыползла». Он создан летом 2012-го – и до сих пор обновляется, он огромный, мегачерновик такой.
– Нет ли у вас и правда ощущения бреда – ну как же, трачу лучшие годы на изучение трудов Владимира Ильича?
– Меня, честно говоря, подташнивает уже – не от Ленина самого, а от всех этих подсчетов. Мне бы не хотелось оставаться автором одной книги, у меня в голове сейчас уже не Ленин, а, условно говоря, майянские пирамиды и «Гулливер» – правда ли, что это анти-Евангелие XVIII века… Это, конечно, сумасшествие в чистом виде – но по крайней мере каждый раз новое. Тут штука в том, что они, все эти странные картины мира, не отменяют друг друга, а, наоборот, дополняют – просто возникает как бы новый слой всякий раз. Кстати, между Лениным и Фоменко есть прямая связь – Ленин распорядился издать «Христа» народовольца Морозова, который усомнился в традиционной хронологии. А это, собственно, один из предшественников Фоменко.
– Фредерик Бегбедер назвал писательство своего рода недугом, «эдаким странным вирусом, который отделяет автора от других людей и побуждает его совершать бессмысленные поступки». Насколько вы поражены этим «недугом», отделены от общества, в котором живете и для которого пишете?
– Абсолютно отделен, я вообще социофоб и всю жизнь прожил сам по себе. Я один часто хожу в кино, и один путешествую, и алкоголь употребляю, и мне так нравится. Ну да, может, вся эта деятельность бессмысленная, но этот вирус точно не заразен, на мне он и заканчивается. Я понятия не имею, кто читает, например, «Ленина», и я всегда публично говорю, что это скучная, занудная, местами непролазная книга, там страниц пятьдесят про Второй съезд РСДРП – кому вообще, кроме меня, это может быть интересно? Загадка.
– Остается ли у вас время на жизнь вне литературы? Есть ли потребность жить вне литературы?
– Есть, есть. Просто из-за «литературы» все остальное – которое как раз «вне-литературы» – разваливается. Ну да это пустой разговор.
– На церемонии вручения премии вы сказали, что прекрасно понимали, в какой весовой категории выступили. Что привело вас к победе?
– Конечно, понимал. Все, кто там были, – большие писатели, великие. И я был уверен, что ничего мне там не светит. Да сколько уже можно про «Ленина» – книжка своей жизнью теперь живет, я это не контролирую.
– Как премия повлияла на ваше представление о себе как о писателе? Многое поменялось?
– Вообще ничего. И потом, я знаком с несколькими лауреатами «Большой книги» – по-моему, все они остались точно такими же. Это же все условности, всем про всех все известно – кто чего может написать, кто написал хорошо, а кто туфту. Тут же штука не в премии и даже не в том, что ты «не можешь не писать». Туфту мне и до премии стыдно было писать, и после.
– Для того, чтобы оживить историческую фигуру, обязательно ли пытаться как-то приблизить ее к современности, актуализировать, что ли?
– Нет, совсем нет. Тут штука в том, чтобы показать, что прошлое и настоящее не разделены стеной, что это один и тот же мир. Вот у Водолазкина когда в «Лавре» человек XV века натыкается в лесу на торчащие из-под снега пластиковые бутылки – это ведь не «актуализация» Средневековья, это такой дзенский хлопок перед носом, род отстранения, которое как раз и позволяет читателю въехать в то, что границы между «прошлым» и «сейчас» – нет. А «актуализировать» – нет, это не то. Идеи можно актуализировать – если для чего-то нужно. А людей, фигуры – нет, зачем.
– Знали ли вы всегда, что будете известным писателем?
– Это очень смешно. Известным – где, среди кого? У меня есть лучший друг, мой одноклассник: даже он не знает ни про то, что я «писатель», ни про «Большую книгу». Я ему не сказал – ну и все, а «Фейсбука» ни у него, ни у меня нет. На этом вся известность и заканчивается – не начавшись.
– Почему у книги такое длинное и незапоминающееся название? Считается, что это плохо влияет на продажи. Чем мотивирован такой выбор?
– Бывало и похуже: моя вторая книжка называлась «Круговые объезды по кишкам нищего».
– Вы, будучи литературным критиком, понимаете, как «надо» писать? Можно ли просчитать читательский успех?
– Я точно знаю, как писать не надо.
– Как выглядит обычный рабочий день Льва Данилкина?
– На нервах. Должна быть нервная обстановка, список дел, которые заведомо невозможно успеть сделать, и чтобы дедлайн был неделю или год назад; тогда чего-то напишу. А если есть хоть малейший запас времени – все, пропал день, ничего не напишется, вообще ничего.
– Во сколько вы просыпаетесь? Как Ленин – до восхода? А ложитесь?
– На самом деле Ленин – ну, до октября 17-го – ложился не так уж поздно и вставал не так уж рано, около восьми. Черт его знает, нет системы. Я стараюсь спать не больше шести часов, но меня так надолго не хватает, я начинаю забывать какие-то простые вещи. Вчера вот забыл столицу Никарагуа, чуть на стенку не залез – хотел сам вспомнить, без «Гугла», но так и не смог. Недосып нон-стоп.
– Как много вы читаете? Каждый день? Есть ли какие-то «обязательные» объемы?
– Когда в «Афише» работал, читал по четыре-пять книг в две недели, от корки до корки. Штук десять-пятнадцать начинал и бросал сразу. Сейчас нет никакой нормы, могу в библиотеке часов за пять книг двадцать освоить – то есть отобрать материал и нафотографировать нужные страницы на телефон, чтобы потом их конспектировать в компьютер.
– Что для вас важнее – слова или идея?
– Зависит от объема. Если что-то короткое пишу – скорее слова, а если длинное, на годы, то, конечно… нет, даже не идея, а – «мысль разрешить», выстроить такую картину мира, которая будет казаться более точной, чем нынешняя.
– Как вы начали писать?
– Начитался романа Еремея Парнова «Ларец Марии Медичи» и в шестом классе стал сочинять какой-то дурацкий роман про приключения своего класса в Средневековье… что-то в этом роде. Дичь.
– Как найти в себе графомана? И стоит ли его искать?
– Я вообще не графоман, ничего про это не знаю.
– Насколько критически вы относитесь к своему труду? Много переписываете?
– По тысяче раз переписываю. Я, собственно, не знаю, как должно быть правильно, я знаю только, как неправильно, я чувствую, когда плохо. А плохо – всегда. Даже то, что кажется приемлемым, через несколько лет начинает вызывать аллергию. Все плохо, не люблю свои старые тексты.
– Андрей Рубанов как-то заметил: «За десять лет труда на ниве литературной критики Данилкин вывел в свет целую банду писателей… Он не просто информировал публику об этих писателях – он сделал им имена… До сих пор этот пыхтящий поезд, под названием русская литература, едет по своей колее благодаря Данилкину». А теперь вопрос: продолжите ли вы открывать новые имена?
– Рубанов, конечно, золотая голова, но – в данном случае – сильно преувеличивает, я просто занимался своим делом. Конечно, мне хотелось бы найти еще кого-то, но это больше не моя работа, невозможно и искать, и самому писать, это разные профессии.
– По какому критерию вы выбирали и продолжаете выбирать авторов, которые удостаиваются вашего внимания?
– Да нет никаких критериев. Есть какой-то мой персональный канон в голове, которому текст должен соответствовать, и должна быть «музыка» в тексте, в интонации. Это неправильный для критика способ оценивать тексты, я знаю, – такой критик никогда не напишет ничего подобного великим ленинским статьям о Толстом. Но мне-то уже все равно.
– Как часто вас просят прочесть рукопись, чтобы ее оценить? Что вы отвечаете на это?
– Иногда просят, почти никогда не соглашаюсь – не из снобизма, а потому что я не успеваю прочесть книжки по истории, которые мне нужны.
– Талантливых писателей не так мало, как может показаться. Но «выстреливают» единицы. Как пробиться?
– Их найдут. На самом деле критики и издатели тоже гоняются за авторами.
– И напоследок немного банальный, но обязательный вопрос: «Список Данилкина» – 5 художественных произведений, вышедших за последние год-два, которые обязан прочесть каждый?
– Никто ничего не должен – хотя, думаю, такие вещи, как «Асан», «Журавли и карлики», «2017», «Обитель», ивановского «Географа», имеет смысл прочесть кому угодно. Я за последние пару лет читал фикшн совсем уж в гомеопатических количествах, плохой советчик. Вот, пожалуй, мне страшно понравился один текст – «Египетское метро» Шикеры. Его, естественно, никто не знает – но он есть в сети.
Лев Данилкин – журналист, литературный критик, писатель. Родился в 1974 году в Виннице, окончил филологический факультет МГУ. Писал и пишет для различных изданий, от «Коммерсантъ» до Men’s Health. Автор годовых критических обзоров русской литературы («Парфянская стрела» и «Круговые объезды по кишкам нищего»), биографии Александра Проханова «Человек с яйцом» и биографии Юрия Гагарина, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей». Также в серии ЖЗЛ вышла книга «Ленин: Пантократор солнечных пылинок» (премия «Большая книга» за 2017 год).
Сергей Самсонов «Графоману не бывает стыдно за написанное»
Сергей Самсонов – об отшельничестве писателя, большой литературе и эмоциях читателя.
– Когда ты вообще понял, что ты писатель?
– Ну, взял я стопку бумаги формата А4 и сел писать роман. Под сильным влиянием Рафаэля Сабатини. Назывался «Пираты Карибского моря». Это был год примерно 91-й. Нас еще в пионеры тогда принимали. Листы были тонкие, и бумага как бы прогибалась под тяжестью написанного, все извилины, выдавленные стержнем в ней, можно было потрогать руками. Такой наглядный образ того, как пустота заполняется чем-то и становится чем-то… Ну, значит, написал я две главы, и меня пацаны позвали: «Серый, выходи!» И я вышел на несколько лет: велосипед там, «кастрики», котельная… А потом меня снова позвали – но уже не на улицу, не пацаны, а вот это пустое пространство, нуждавшееся в заполнении. И я вышел на несколько лет…
– Кто-то сказал: «Самсонов – единственный выпускник Литинститута, у которого в литературе что-то получается». Это Литинститут помог тебе стать хорошим писателем?
– Это крайне спорное, если не вздорное утверждение. Я не знаю, кто это заявил, но он либо забыл, либо не знает, что главный бренд Литинститута нашей эры – это Сенчин. Литинститут, я полагаю, был задуман – да и остался – чем-то вроде драчевого напильника или галтовочного барабана для обработки разносортных самородков рабоче-крестьянского происхождения. Там собираются преимущественно очень молодые люди и непрерывно «трутся» друг о друга, понемногу избавляясь ото всяких заусенцев вроде «ложить» вместо «класть». Какие-то основы мировой культуры, азы языка – вот это там преподается. Для мальчика из Абакана, Воркуты, Новомосковска Тульской области – место самое то. А отпрыску академической семьи, столичному «филологу» в четвертом поколении, наверное, нужно что-то потоньше – он может выбирать и привередничать.
– Почему у тебя получается? Почему не получается у других?
– Получается – что? Нечто «книгообразное»? Как нечто похожее на табуретку у дипломированного столяра? Напечатать свое сочинение в «настоящем» издательстве и выставить свежую книжку на полку в каком-нибудь «Библио-Глобусе» получается у многих, хотя и это зависит от обстоятельств – и зачастую от случайных совпадений, от везения. Ну а дальше что? Выставил. Продал сто экземпляров. Ну тысячу, две… На мой взгляд, «получается» – это когда у книжки есть читатели. Покойный Бакин говорил: «Вот Пелевин – писатель…»
– Как ты считаешь, можно ли научить писательскому мастерству?
– Научить можно только до какого-то предела и, конечно, не всех. Научить можно «гаммам». Если бы Хави не попал в футбольную академию «Барселоны», то не было бы Хави, но не из каждого, кого берут в «Ла Масию», получается Хави. Ведь «Ла Масия» – это алмазная фабрика: кусок угля как ни шлифуй, брильянта не получится. В этом смысле все школы писательского мастерства напоминают мне платные курсы пикапа: ну кого ты можешь склеить, если рожей не вышел?
– Как тогда понять начинающему автору, уголь он или алмаз?
– Мне представляется, критерий один – читательская оценка: равнодушие, любопытство, восхищение. По некоторому опыту нахождения в писательской среде могу сказать, что люди в большинстве своем довольно быстро понимают себе цену, без лишних сожалений бросают «это дело» и устраиваются жить. Конечно, возможность вывешиваться в Сети дает определенную иллюзию востребованности, но даже Сеть выстраивает иерархию, выталкивая на поверхность немногих «звезд», облепленных подписчиками. В общем, так или иначе мы приходим к необходимости экспертной оценки. Решают «старшие». Недаром «начинающий» Есенин пишет Блоку: «Я поэт, приехал из деревни, прошу меня принять», «начинающий» Горький приходит к Толстому и «начинающий» Платонов к Горькому.
– Дай, пожалуйста, свое определение графомании.
– Полагаю, мое определение совпадет со словарным. Мне кажется, главный критерий различия «графомана» и «ремесленника» – это чувство стыда. Графоману никогда не бывает стыдно за написанное.
– Каждый ли может стать писателем? Или нужны какие-то особенные качества?
– «Был бы только особый творческий живчик в уме, в ухе, в пальцах», как писал Г. Иванов. Мне кажется, дело не только и даже не столько в природной способности к составлению слов, сколько в чисто физиологической зависимости от «этого дела». «Поел, поспал, посочинял»… Есть люди способные, но «сочинять» для них не равносильно «поесть» или «поспать».
– Писатель Андрей Геласимов охарактеризовал мне тебя так: не мейнстримный, но безусловно талантливый писатель. Тебя устраивает быть «не мейнстримным»?
– Меня устроит только всеобщее коленопреклонение. Мое убеждение: 12 декабря над Красной площадью должны пролетать самолеты, построенные в буквы моих имени и фамилии. Меня многое может не устраивать, но кто бы меня спрашивал? Читатели всех как-то расставляют. С «мейнстримом» все сложно. Арцыбашев в свое время был «мейнстримом», но и Толстой был абсолютным, господствующим «мейнстримом» и получал в три раз больше Чернышевского. Впрочем, как мне кажется, в условиях тотальной одноразовости всего, что производится, о таких вещах можно не думать вообще.
– Литература изменилась, ты прав. Чем ты объяснишь такую ее деградацию? Все эти фанфики, эльфы и прочие «менты»?
– Дело вовсе не в массовых жанрах и не в их наступлении на… Говоря о тотальной одноразовости, я говорю в целом – о логике новинки. Если вещь не маркирована как новая, то ее уже нет. Если нет основания «загуглить», то ее уже нет, какой бы добротной эта вещь ни была. Отношение к книжке подчинилось общей логике отношения к вещам, долговечность и прочность которых уже не имеют значения.
– А талант – он мешает или помогает тебе в работе?
– Ну вот двигатель внутреннего сгорания – как он может помогать или мешать? Он «тянет». Вообще же, блевотнее слова «талант» могут быть только «творчество» и «вдохновение».
– Что ты можешь сказать о профессиональном образовании писателя: помимо собственно чтения, стоит ли уделять время теории? В работе ты оперируешь знаниями или больше интуицией?
– Вот абсолютно ничего не могу сказать. Мне представляется, учиться языку сподобнее всего на самых впечатляющих примерах существования языка – то есть один абзац Бунина или Платонова даст тебе много больше, чем любые «Основы…» чего-то там, особенно если речь идет о «популярных руководствах». Зачем нужны инструкции по пользованию вилкой и ножом? Посмотри, как это делают большие. А большие иногда едят руками (хотя ножом и вилкой они тоже умеют).
– Раз уж ты сказал, что учиться языку нужно на самых впечатляющих примерах существования языка, приведи, пожалуйста, помимо упомянутых тобой Бунина и Платонова, свой список писателей, без которых твой язык не стал бы таким, какой он есть. В общем, «Список Самсонова».
– Ну, их слишком много, и этот список медленно, но верно пополняется. Есть влияния прямые, есть опосредованные и, верно, даже неосознаваемые. Набоков определенно. Битов определенно. «Илиада» в переводе Гнедича – абсолютно краеугольная для меня вещь, такая же, как стук колес на стыках рельсов в детстве. Ну и русская классика, по крайней мере, та ее половина, с которой я успел довольно тесно познакомиться.
– Кстати, о классике: Дмитрий Глуховский как-то сказал, что русскую классику он принимал в школе с рыбьим жиром. А как у тебя с ней складывалось?
– Да «как у всех». Какие-то вещи читались из-под палки, то есть, в сущности, и не читались вовсе. «Что делать?» Чернышевского. Ну лютая хрень. Вот просто эталон того, как можно выхолостить язык. Помню, ставили в пары «девочка-мальчик» и мы читали друг другу по пять стихотворений Пушкина наизусть. В школьном коридоре. «Я помню чудное мгновенье» и так далее…
– Ты написал «Аномалию Камлаева», роман необычайно глубокий, когда тебе было двадцать восемь лет. Откуда к тебе пришли все эти слова? Личные впечатления или чистый полет фантазии?
– Ну, «Камлаев» – это был такой вопль о своей исключительности. У меня был некоторый опыт жизни, какие-то полузаемные представления о современной «композиторской» музыке и та степень свободы, какая может быть лишь в двадцать пять лет. Все берется из одного места – из «головы», «нутра» и «гениталий». Из обиды на жизнь и благодарности за жизнь.
– А ты считаешь себя исключительным?
– В пятнадцать – двадцать лет все вопят о своей исключительности: кто кольцо в ноздри вденет, кто на Красную площадь придет без трусов. Мое самоощущение не сильно поменялось с пятого класса: я, как и прежде, трепещу перед условной учительницей русского и жду ее оценок красной пастой в каждой отданной на проверку тетради.
– Долго ли ты писал «Аномалию»? Чувствовал ли, что книга будет принята? Был ли готов к известности, которая пришла к тебе после этого романа?
– Было три или четыре разбросанных во времени попытки. На первом курсе, на третьем… Я, в общем, защищался в институте с этой хренью. В то время она как-то по-другому называлась, но там уже был композитор с божественным слухом и огромными яйцами. И где-то к 2007-му, урывками, я вырастил яйца Камлаева до истинно нечеловеческих размеров. Это были уже и не яйца, а некие всесокрушающие валуны. И в тот момент я точно знал, что – да, это возьмут. Я даже довольно отчетливо представлял себе все, что напишут в рецензиях, как это назовут и с чем это сравнят… Это была такая странная телепатическая связь с читательским пространством, с пустотой, в которую бросаешь камни и точно знаешь: обратно что-то прилетит.
– Первый роман – был ли он тяжелым в психологическом плане? Пока тебя еще не опубликовали, не возникала мысль, что ты все делаешь впустую? Не хотелось все бросить?
– Ну это был такой огромный подростковый прыщ, который наконец созрел и лопнул. Вот я и вертелся перед зеркалом, пытался выдавливать как-то… На тот момент это казалось колоссальной проблемой. Типичное такое нетерпение подростка: ну когда же, когда? Когда же наконец я стану похож на человека? Ну вот и стал. Книжку получил, другую, какие-то регалии. А бросить… А что еще бросить? Пить, есть, курить – жить?.. Мне, если разобраться, удивительно везло. Все формальные регалии я получил довольно рано и по большому счету совершенно ни за что. Писательское отчаяние, как мне кажется, вообще уже не связано с тем, что тебя не публикуют или знают недостаточно. И рукопись, и книжка отправляются в одну и ту же пустоту – примерно туда же, куда летит шестой «айфон», как только выходит «шесть-плюс». «Что я такое и зачем я здесь?» – этот вопрос уже не адресуется литературе и как бы даже вообще не ставится, и поэтому сочинитель не должен надеяться ни на что.
– А сейчас не хочется?
– Ну а чем заниматься-то?
– Как ты пишешь? Есть ли у тебя график, придерживаешься ли ты строгого расписания?
– Сажусь и пишу. Четыре, шесть, восемь, десять часов в сутки… В зависимости от азарта, текущей формы, солнечной активности, атмосферного давления в Московской области и много еще чего. Ну с перерывами, конечно, – на сон после обеда и на сам обед. Это не подчинено какому-то расписанию. У меня был MacBook – он ломался четыре раза и научил меня все время «сохраняться», как раньше сохранялись во всех этих компьютерных игрушках.
– Ты сейчас много читаешь? Если писать по шесть – десять часов в день, остается ли время на чтение?
– Ну, по десять – это в редких состояниях тяжелой исступленности. Времени не остается, но читать приходится. Работаешь в кондитерском цеху – так жри эклеры, даже если уже не лезет.
– Приведу твои же слова: «Если тебя нельзя опознать по одному абзацу, то вас вообще никто никогда не узнает». А Данилкин как-то сказал, что ты пишешь не предложениями, а целыми абзацами. Твои тексты действительно узнаваемы, как ты нашел свой стиль?
– Мне кажется, авторский стиль вынашивается через подражание кому-то, кто тебя изумил, восхитил и так далее, с другой же стороны – наоборот, через отталкивание от каких-то расхожих, обобществленных речевых конструкций, ритмов, интонаций… Я был последовательно влюблен в Набокова, в Битова, в Шишкина, в Иличевского, в Терехова, в Миндадзе и много еще в кого… и делал какие-то вещи «под них», «из-под них», но всякий раз, конечно, получалось криво и по-своему. Кроме того, надо понимать, что всякий стиль – это не что-то раз и навсегда сложившееся. Секвойя, конечно, не становится елью или наоборот, но какие-то частные мутации происходят все время, в каждом новом романе. Всякое «что» диктует несколько иное «как». Тут многое зависит от взваленной темы.
– Да, стиль – живой организм, формируется, меняется. Как изменился ты со времени первого опубликованного текста?
– Мне хотелось меняться и в сторону какой-то большей музыкальности, и в сторону какой-то большей чувственности, что ли, когда слова приобретают осязаемость, весомость, свою температуру, пульс, фактуру тех предметов и явлений, которые они обозначают. Хотя слова «хотел», «стремился» не годятся – ты просто идешь в поводу у языка, тянущего за собой. Из прозы нынешнего поколения – во многом и у многих – куда-то ушла описательность, способность рисовать словами лица, предметы, состояния, явления… Кто может описать собаку, лошадь, человека, женщину, ребенка, деревья, облака, туман и прочая, и прочая? Сколько мы знаем слов вообще? Названий птиц, растений и так далее? Пространство возможностей языка все время сжимается, и это возвращает человека обратно к хрюканью, мычанию.
– Что же сталось с прозой текущего момента? Почему?
– С ней сталось ровно то, что я сказал. Она обеднела. Попала под паровоз, под идею паровоза. Довоплощенные в ХХ веке идеи скорости и доступности понемногу обобрали ее. «Быстро и легко» теперь главные требования человека к реальности. Ну и к чтению тоже. Понятно, что язык пребывает в вечном движении, что неминуемы языковые революции (хотя сущность половины всех культурных революций сводилась к тому, что писательский или композиторский плуг выворачивал именно что архаические, «позабытые всеми» пласты языка, и они черно лоснились жирной новизной). Понятно, что затаскивать в роман о современности какие-то «ендовы» и «елани» – это как бы немного смешно. Но из этого вовсе не следует, что надобно рабски ложиться под реальность. Литература захотела стать немножечко не тем, в чем заключалась ее сила: немного «Фейсбуком», немного рэп-баттлом, немного КВНом, немного «дневником», немного «документом»… и в результате стала наполовину неизвестно чем. Ну и что она может? По мне, так старые возможности утрачены, а новые не приобретены.
– Ты самокритичен? Хемингуэй переписывал последнюю страницу «Прощай, оружие!» сорок семь раз, пока не нашел нужные слова. Много ли ты исправляешь в своих текстах? Когда ты понимаешь, что текст готов?
– По мне, так с правкой как с ремонтом: закончить это невозможно – возможно только остановиться. Всегда будет что-то не так. Вернешься к какому-то старому тексту, посмотришь другими, новыми глазами – там абсолютно все будет не так. Так что в какой-то момент говоришь себе – хватит, если ты не закончишь это сейчас, то не закончишь никогда.
– «Переписывая, вы оправдываете собственное топтание на месте», – считал Джон Стейнбек. Ты согласен с таким подходом к работе?
– Мне кажется, такой подход нельзя признать универсальным. Универсальных рецептов вообще не существует. По мне, так ты просто попадаешь в поток и движешься со скоростью этого потока. Порой необходимые слова находятся и расставляются сразу, порой – наоборот. Пока не найду нужные слова в пределах одного предложения, дальше не двинусь. Если речь идет о подвесном мосте, то представить себе конструкцию с пустотой посередине невозможно.
– Сколько черновиков тебе обычно требуется? Ты пишешь в хронологическом порядке или в произвольном?
– До какого-то времени я вообще не знал, что такое «черновик». Потом стало понятно, что лень слишком дорого мне обходится, а моральные муки, как говорится, сильнее физических. Есть стадия геологоразведки, когда ты еще толком не представляешь, что именно найдешь, но точно знаешь, что бурить надо именно здесь, а не где-то еще, потом идут «добыча», «обогащение», фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки… и все это в пределах двух-трех черновиков, где изначальная история порой изменяется до неузнаваемости. Мне предпочтительнее двигаться подряд, изначально выстраивая текст в том порядке, в каком он и будет прочитан, но так не всегда получается. Иногда проводишь да конца одну сюжетную линию, потом начинаешь вторую, занимаешься одним героем, а второму говоришь: подожди, я пока еще не знаю, кто ты и чем ты занимался в пятом классе…
– Ты «садовник» или «архитектор»?
– Ни то, ни другое, ни третье. В начале всегда есть некий «эйдос», «храм», «Небесный Иерусалим» романа, и надо этот «эйдос» проявить, материализовать, и воплощение всегда оказывается хуже, соотносясь с тем «эйдосом», как сельский Дом культуры с Парфеноном. И там и там античные колонны – на этом-то все сходство и заканчивается. В общем, я не планирую. Я, скорее, такой ходок за три моря – ну вот как дурачки уходили из своих деревень на поиски затерянного града Китежа. Но все-таки при этом надо кое-что уметь: ориентироваться по звездам, пользоваться компасом, держать ноги в сухости… и вообще знать хотя бы примерное направление поисков, а не по принципу «в Крыму тепло, там яблоки». Бывало так, что я предельно четко представлял себе сюжетную конструкцию от точки входа до финала, но это не сильно облегчало задачу наполнить ее горячей кровью.
– Когда нет вдохновения, что ты делаешь? Продолжаешь писать или откладываешь рукопись?
– «Вдохновение» – это шоколад с балериной на обертке. Одно из самых блевотных слов, как я уже говорил. Я бы вообще запретил им пользоваться. Есть подъемная сила и тяга, но они не предшествуют процессу письма – скорее, развиваются уже в самом процессе. Иногда вам приходится долго ворочать ключом зажигания. И вообще залезать под капот. А дооткладываться можно до того, что будет, мягко говоря, поздновато начинать.
– Но все же скажи, пожалуйста, как выглядит у тебя копание в капоте?
– Это, собственно, и есть процесс письма. Просто нужное слово находится не сразу, а скажем, через полчаса, но зато когда найдено, то разом тянет за собой всю свору остальных до какой-то логической точки.
– Ты говорил, что больше всего мешает писать лень. Как ты с ней борешься?
– Я даже не помню, чтобы я это говорил. В общем-то я, конечно, Обломов такой – с той только разницей, что все свои мечтания переношу на разные носители. И вообще есть диктат языка, который превращает из Обломова в Захара: «За-ха-ар! За-ха-а-ар! Подай! Принеси!..»
– Ты ведешь довольно замкнутый образ жизни, в сети почти нет твоих фотографий. Стараешься ограничивать публичность?
– Есть такой анекдот – про неуловимого Джо. Никто не мог его поймать, потому что он был на хрен никому не нужен. Так вот, я не прячусь. Меня можно найти. Я не более и не менее публичен, чем любой, скажем, слесарь. Если кто-то решит наградить меня почетной грамотой, то приду и раскланяюсь. Если кто-то выпить со мной хочет, то я выпью, тем более если меня угощают и если человек не будет мне противен органически. Но все время куда-то ходить да еще и лицом приторговывать в ящике – вот это совершенно не мое.
– Почему в России издается так много плохой литературы?
– А когда и где ее издавалось мало? Однажды у меня возникла совершенно фашистская мысль: если не будет всего этого говна, то на чьем же тогда фоне выделяться?
– Как пробиться? Что ты посоветуешь писателю без имени, который хочет издать написанный роман?
– Тут только одно железное правило: если вам отказали, значит, ваша вещь – говно. Даже если на самом деле это не так и вы пали жертвой масонского заговора в российских издательских и премиальных структурах, вам все равно полезней будет думать, что написанное никуда не годится. «Пробиваться» не надо – лучше сразу идти убивать. Сличить свою хрень хоть с Толстым, хоть с последним лауреатом «Букера» и понять, что твой уровень – это уровень плинтусной плесени. А чисто технологически – адреса всех почтово-мусорных ящиков легко найти в сети.
– Какова судьба твоего первого романа? Как быстро его опубликовали?
– Ну, «первых» было столько… С одним я поступил в Литинститут, с другим защитился… какие-то еще бесформенные полуфабрикаты были. Еще раз скажу: мне и вправду везло. Реальность неправдиво быстро прогибалась под тяжестью слов – хотя бы уже в силу их количества. Я раза три-четыре посылал романчик по уже не действующим электронным адресам, а когда попал в действующий, то из питерской «Амфоры» мне написали: берем. Письмо с таким красным восклицательным знаком. Потом позвонил Бояшов и, зажимая нос от вони, объявил, что текст, вообще-то, дерьмо, но он вынужден в нем ковыряться, коли уж договор со мной уже подписан.
– А текст и правда был дерьмо?
– В общем, да. Текст уровня четырнадцатилетнего.
– Как ты ищешь идеи для новых вещей?
– Я задаю себе один вопрос: «Про кого?» Все начинается с профессии героя. Я как-то посмотрел три минуты «Перл-Харбор», сказал себе – «Да!» и полез в мемуары Покрышкина.
– И как долго ты сидел в них, прежде чем появился Зворыгин?
– Он появился раньше, чем я в них залез. Нужна была «фактура» – какие-то технические вещи: педали, ручка…
– У тебя бывает такое – ты просыпаешься с фразой (или идеей, или образом) в голове?
– Бывает, засыпаю с чем-то и думаю, что хорошо бы это не забыть.
– Почему не записываешь сразу?
– Ну, наверно, потому что под одеялом тепло.
– Кстати, ты вообще делаешь записи? Заносишь ли в блокнот или в смартфон идеи, которые приходят в голову?
– У меня хорошая память. Быть может, все это кого-то и дисциплинирует, но я не педант совершенно. Да и потом, мне кажется, что это такая «игра в писателя»: молескин, столик в кафе, официант приносит рюмку граппы и так далее.
– Хорошо, но есть же наверняка какая-то кучка файлов с рабочим материалом в папке, скажем, «Заметки на полях»?
– А зачем? Текст – это и есть «рабочий материал». Ну и некая стопка электронных «справочников». Могу, конечно, что-то записать от руки, фамилию там или вымышленный топоним, какую-то схему нарисовать – вроде схемы побега героев из лагеря… но это так, по мелочи. Ну надарили мне еженедельников – они красивые такие, пухлые, заманчивые, да и надо же их чем-то заполнять.
– Как ты относишься к уже вышедшим текстам? Перечитываешь или они перестают для тебя существовать?
– Я отношусь к ним с возрастающей брезгливостью. Лучше не ворошить. Хотя если спустя восемь лет их еще поминают, то, видимо, они чего-то стоят.
– Пять опубликованных романов за десять лет. Ты не устаешь писать? А отчаяние тебе знакомо?
– Ну, может, я и испытал бы какое-то отчаяние, когда бы у меня ничего не было опубликовано и приходилось бы работать каким-нибудь офисным «подай-принеси». Да и то вряд ли. Отчаяние – это чувство у печной трубы погорелого дома. Усталость – да. Слесари устают. Путин вон – еще как устает.
– А что происходит в твоей жизни вне литературы? Как ты отдыхаешь? Или ты как тот шахтер, который после смены валится спать, чтобы с утра опять в забой, и даже на Нюрку залезть сил не остается?
– Смею предположить, что вне литературы в моей жизни происходит жизнь. Чего тут «переключаться?» Задолбался на лопате – отдохни на молотке, уж если мы коснулись шахтерского фольклора. Иногда чувство сделанной работы подымает тебя с места, иногда соседи сверху заливают, иногда тебе ласково шепчут – «Да вытряхни ты свою пепельницу, окурки уже сыплются, опять за собой не смыл и побрейся наконец»… Ну и так далее, и так далее.
– Написание романа, как в свое время отметил Елизаров, похоже на сцеживание ведра крови через дырку, проделанную в мизинце ржавым гвоздем. У тебя возникают схожие ощущения, когда ты пишешь? Вот этот мучительный поиск слов, метафор, смыслов… Или тебе пишется легко?
– Метафора красивая и достаточно точная, но это несколько такая «есенинская» поза для девочек. Никакое производство не обходится без пота, никакое деторождение – без крови. Но это же не подвиг – это труд.
– Какой совет ты мог бы дать человеку, который «не может не писать»?
– Никогда не мешать виноградные с зерновыми. Да он и сам это знает.
Сергей Самсонов. 5 советов начинающим писателям
1. Лучше не начинайте. В стране катастрофическая нехватка слесарей, расточников и фрезеровщиков. Но в рабочие никто не хочет, а проза – это то же самое: мозоли, заусенцы и зашлифовка трещин абразивами.
2. Начинайте только в том случае, если это невозможно остановить, как рост волос в подмышках и паху здорового подростка. Если нигде не чешется, то можно не чесать.
3. Купите пиджак с платочком в нагрудном кармане. Писатель без пиджака – как проститутка не на шпильках. Купив пиджак, начинайте раскармливать свое самомнение до чудовищных размеров. Отсутствие бреда величия – это писательская форма дезертирства с поля боя.
4. Никогда не называйте лицо покойника «восковым» и не укладывайте труп в «неестественной позе». Толстой и 115 миллионов пациентов «Прозы.ру» проделали это до вас. Если вас нельзя опознать по одному абзацу, то вас вообще никто никогда не узнает.
5. Пишите только то, о чем не могут написать другие и о чем вообще нельзя написать.
Сергей Самсонов – писатель. Родился в 1980 году в Подольске. Окончил Литературный институт им. Горького в 2003 году. Автор пяти романов – от «Аномалии Камлаева» (шорт-лист премии «Большая книга» в 2009 году) до «Соколиного рубежа» (премия «Дебют» за 2016 год, шорт-лист «Национального бестселлера» в 2017 году).
Алексей Сальников «Писатель – первый читатель еще не написанного произведения»
Писатель Алексей Сальников – о сомнениях, самозванстве и успехе «Петровых в гриппе и вокруг него».
– Кажется, Томас Манн сказал, что писатель – это тот, кому писать тяжелее, чем остальным. А у вас так?
– Беда в том, что тяжесть-то эту никак не измерить. Совершенно не представляю, как приходится другим, насколько другим тяжело. И да, все же Манн несколько лукавит. За вычетом всяких трудных мест в тексте, когда персонажей порой невозможно разговорить, или когда не можешь вглядеться в ту картинку, что перед глазами, или когда вглядываешься, но не находишь нужных слов, писать – чистое удовольствие, мало с чем сравнимое. Это просто описание действа, разыгрывающегося почти самостоятельно. А вот когда не пишется, то есть вроде и пишется, но чувствуешь, что пишется не то, – вот тогда тяжелее, наверно. Имеется томление совести по этому поводу.
– И сразу же цитата Ричарда Баха: «Профессиональный писатель – это любитель, который не бросил». Почему не бросили вы?
– Потому что не бросили меня. Всегда находились люди, которым было интересно то, что я пишу. Смешно говорить, но еще в начальной школе со мной так или иначе стали хороводиться учителя. Ну и на Урале у нас все же очень дружественная литературная тусовка, едва ли из нее можно как-то вывалиться, даже если очень захочешь. Вот вам пример. У меня жена в семнадцать, что ли, лет, была опубликована в журнале «Урал», жила она тогда в Нижнем Тагиле. Так ее ведь тагильские литераторы нашли и приперлись прямо к ней домой с предложениями дружбы и сотрудничества. Мне кажется, мало где такое имеется. Ну и благодаря всяким семейным неприятностям я понял, что жизнь одна, что не выйдет, грубо говоря, вот тут вот пожить для себя, а вот тут вот написать пару книг, когда придет время. Время никогда не приходит, оно только исчезает. Второй жизни не будет – это совершенно точно. Миллионы покойников вам это подтвердят. Этот взгляд подталкивает к такому упорству определенному.
– Райнер Мария Рильке был уверен, что советы бессмысленны: «Есть только один способ. Двигаться вглубь себя». Как вы учились писать? Расскажите о своем пути – от первых попыток до короткого списка «Большой книги».
– Цитата Рильке – это ведь совет молодому поэту. И очень ценный совет на самом деле. Так оно и работает в стихах, такая медитация. Но вас же проза интересует? Если брать вот прямо самое-самое начало, то первые попытки я сделал лет в семь-восемь. И попытки эти не прекращались никогда. Хорошо, что учителям в то время хватало ума давать какие-то советы по стилистике, книжки подсовывать и при этом глядеть юмористически на эти попытки. К счастью, не возникло идеи поучаствовать в каком-нибудь литературном конкурсе, – да и не факт, что эти литературные конкурсы были в мое школьное время. Это большая удача. Потому что детские литературные конкурсы со взрослым литературным опытом не пересекаются никоим образом, но притом портят детей в том плане, что дети начинают думать, будто они что-то представляют собой в литературе. Детские литературные конкурсы – это, наверное, самый калечащий вид спорта. Прекрасно себя зная, совершенно точно могу сказать, что подобие диплома победителя изуродовало бы меня тогда до неузнаваемости… В подростковом возрасте, в юности уже, возник, конечно, некий план. Думалось, что литературные вершины берутся таким образом: сначала автор публикуется в малотиражке, какой-нибудь местной газете, затем областной газете, затем штурмом берется местный толстый журнал, затем идут публикации в московских газетах, а затем уже толстые московские журналы. Я решил следовать этому плану. Скажем так, для семнадцати-восемнадцати лет это простительно – иметь такой план. Проблема была в том, что первые его пункты были невыполнимы, никто не брал стишков моих в местные газеты, посылал я их в пустоту. Местные газеты были заняты теми авторами, которые публиковались там, в этих газетах, годами. Так я не любил этих авторов, что некоторые фамилии помню до сих пор (и вот сейчас сижу, пишу и смеюсь над своей злопамятностью). Знаковая перемена случилась, когда я познакомился с Евгением Владимировичем Туренко. Во-первых, оказалось, что все, написанное мной до этого, – совершенная дичь. Во-вторых, пришло осознание того, что, возможно, я и не прекращаю писать эту дичь, просто сейчас это дичь другого сорта, несколько более востребованная другими людьми. Туренко сделал несколько прекрасных вещей лично для меня. Научил писать, убрал из-под меня подростковый пьедестал, на который я сам себя водрузил как-то незаметно, показал, что текст – свободная живая штука, которую не нужно из себя выковыривать, нужно ее в себя впустить. Что не важен автор, важен текст, что в него нужно вслушиваться. Такие вот штуки. Но это, опять же, стихи. Что до прозы, то все более-менее серьезное началось не с письма, а скорее с чтения. Почему-то с Набокова, а конкретнее, с «Защиты Лужина». Восхищал и булгаковский «плащ с кровавым подбоем». Затем уже понимаешь, что тот же «Театральный роман» гораздо глубже, а сам роман Мастера – такой кич, такой образец красивенького текста, красивость которого может объяснить любая домохозяйка, любой недалекий учитель. Этот кусок теста прямо как пейзаж в рамочке, из тех, что продают в хозяйственном магазине. Однако этому, конечно, хотелось подражать. В юности был мил сердцу взгляд Набокова, конечно, – будто пишущий, сам в пробковом шлеме, всегда находится среди аборигенов, где бы он ни был, хоть в Берлине. Этому хотелось подражать, потому что казалось, будто подражать этому очень легко. Затем произошло заражение «Бесами» Достоевского, тоже ушло в подражание. Легко было экспериментировать, потому что мы с другом, с Виталием Булдаковым, еще в Горноуральске написали вдвоем пару прозаических вещей. Нам тогда казалось, что опубликовать это все мешает отсутствие пишущей машинки. Возможно, это и было главным препятствием, кто знает. Ну а потом как-то все двигалось, двигалось, сейчас даже и не сказать точно, каким образом все это происходило и правильно ли, но вот так вот, после двух поэтических антологий и нескольких книг стихов, написалась проза, затем еще одна. Это не объяснить: просто садишься однажды за компьютер, составляешь план и тут же начинаешь писать книгу. Затем не знаешь, куда эту книгу девать. Горюешь, что ее не опубликуют, затем роман публикуют, затем публикуют еще один. Затем он попадает в шорт-лист. В данный момент я и сам пока слегка контужен происходящим.
– Ирвин Шоу однажды заметил, что писать ему все тяжелее: «Чем старше и опытнее я становлюсь, тем отчетливее понимаю, что там, где был только один вариант, теперь таких вариантов тридцать». А как у вас? Изменилось ли отношение к собственному тексту после двух изданных романов?
– Опасаюсь, когда текст пишется сам собой. Это приятно, но и невероятно опасно. В тех же «Петровых» было описание похода в цирк шапито страниц на пять, такое вдохновенное, написанное одним махом. С впечатлениями от огромной цветной палатки – снаружи и внутри, от запахов зверей, так и не увиденных, потому что все внимание Петрова было отвлечено оркестром. Та-дам! Петрову в детстве незачем было посещать шапито, в Екатеринбурге стационарный цирк – несколько остановок на трамвае, и он был бы уже там. Просто голова отвлеклась на воспоминание о походе в цирк в Тарту – и готово! Но вообще всегда есть замысел, отодвигающий все остальные замыслы. И думаешь: «Господи, какая нелепая книга сейчас получается!» И при этом отвлечься от нее уже не можешь, она постоянно с тобой. Или ты ее пишешь, или страдаешь, что не пишешь, а занят чем-то другим. А пишется почти всегда трудно, постоянно отметаются варианты, непрерывно, только потом и помнишь, как отметал, отметал без конца ненужное, удалял целыми страницами, а потом присылают правку, и ты уже читаешь свое как чужое. Натыкаешься на некоторые моменты и чувствуешь зависть к самому себе, что тебе такого уже не придумать. Смеешься над неожиданной шуткой. Думаю, и сейчас ничего не изменилось. Так все и останется, если проза будет востребованной. Есть еще как минимум пара идей, над которыми будет забавно посидеть, помучить их.
– Вопрос о «Петровых». Как появилась задумка романа и вообще потребность написать этот текст?
– Да вот просто появилась – и все. Сначала Петровы творили свои безумства в вакууме, и я не знал, что с ними делать. Затем все состыковалось в голове – а там было уже трудно остановить эту машину. Как получилось с «Петровыми»? Несколько лет у меня было начало первой главы, название первой главы, больше ничего. Каждый из Петровых имел свою небольшую историю с заморочками, я думал про них и задавался вопросом – ну и что? Мне нравилось, что они ничего друг про друга не знают, хотя вот же, живут вместе всю жизнь. Мне нравилось почему-то, что Петров не знает ничего про Игоря, кроме имени, а читатель будет знать и фамилию Игоря, и отчество. Писатель – это ведь просто первый читатель несуществующего еще произведения. Вот так вот я и смотрел на эту книгу, а когда мозг выдал мне главу про Снегурочку, я совершенно так же, как и некоторые читатели, был рад. Это смещение фокуса с одних персонажей на других мне как читателю очень понравилось. Захотелось передать это ощущение.
– В одном из интервью вы сказали, что первая задумка «Петровых» возникла еще в школе. А Лев Толстой советовал не садиться писать сразу: «Только тогда, когда невмоготу уже терпеть, когда вы, что называется, готовы лопнуть, – садитесь и пишите. Наверное, напишете что-нибудь хорошее». То есть ваш текст появился не спонтанно, а когда стало «невмоготу терпеть»?
– В школе была скорее не задумка романа, а первый к нему звоночек. Вместе с рассказом Борхеса. А вот слова Льва Толстого… не знаю, возможно, это просто такая шутка. Или можно сделать поправку на то время, когда они были сказаны. Если терпеть, можно терпеть бесконечно, а потом уже на смертном одре сожалеть (хотя на смертном одре вряд ли будешь сожалеть именно об этом), что мог, мол, написать, а вот не стал. Жизнь проходит очень быстро. Буквально вот тут ты думаешь, что писать еще рано, а вот тут оказывается, что уже поздно. Так мне кажется. Сейчас так много пишущих людей, так много площадок для чтения, что пока сдерживаешь себя, человек семь уже могут так или иначе написать что-то подобное, если говорить о жанровой литературе. Некий элемент спонтанности имеется в любом деле, литература – не исключение. Не нужно бояться неожиданного. Возможно, у меня низкий порог того, где я могу сдерживаться, где не могу, но стоило только вспыхнуть некоей искре, как история тут же полезла на бумагу. При этом усилия – физические и умственные – все же приходилось прилагать. Писать большой текст местами довольно трудно, так что не всегда стоит бросать писать, если нет этого толстовского «невмоготу». Но я все же не Лев Толстой.
•••
Петровы полезли в аптечку и стали искать аспирин, ожидая, что в коробке, оставшейся с древних времен еще от родителей Петрова, что-то может еще остаться. В коробке были горчичники, зеленка, марганцовка, лежавшая там с той поры, когда Петрова-младшего нужно было купать в ванночке с разбавленным марганцем, лежал оставленный родителями йод, которым никто не пользовался, был там левомицетин, купленный Петровым, когда он был еще школьником и заболела дворовая собака (собака, кстати, не дала дать себе таблетку, такая веселая и приветливая во все остальные дни, она нехорошо косилась и скалила зубы, когда ей пытались раскрыть пасть), лежал рулон ваты – распушенный снаружи и твердый внутри, как дерево. Были там три вида пластыря – бактерицидный, с зеленой полоской лечебного слоя, чья клейкая сторона была покрыта пластиковым листиком, и два пластыря свернутых, как изолента – узкий и широкий пластыри. В том, что пластырями нельзя пользоваться как изолентой, Петров убедился еще в раннем детстве, когда вместо рукоятки обмотал остаток отвертки пластырем и полез разбирать сломанный утюг, включенный в розетку.
Было в аптечке два градусника, один в старом пожелтевшем футляре, а второй – новый. Новый градусник купили, когда думали, что потеряли старый, а он просто завалился в щель между диванными подушками. Было средство от кашля, которое Петров пил всего два раза, но в первый раз ему так не понравился вкус этого средства, что Петров предпочитал кашлять, нежели его пить, а второй раз был пару дней назад, когда он отправлялся на работу и когда выпил это средство, понял, что за руль ему нельзя – такой у лекарства был выхлоп, что первый же гаишник выписал бы штраф, даже не замеряя промилле трубочкой. Были капли от насморка, но Петров прочитал на упаковке, что они вызывают привыкание, и это Петрова отпугнуло. В аптечке было несколько металлических упаковок бальзама «Звездочка», похожих на красные таблетки, только одна из этих упаковок была почти полная, а остальные были почти пустые, но их не выбрасывали, потому что мазь там все же какая-то оставалась. Только когда у Петрова появился ребенок, он познал это безобидное садистское удовольствие – намазать «Звездочкой» у болеющего сына под носом и наблюдать, что тот не может открыть глаз, слезящихся от ментоловых паров. Ни у кого в семье вроде бы не было пока таких уж проблем с нервами и сердцем, и все равно на дне аптечки нашлись и корвалол, и валокордин, и валерьянка. Перекиси водорода у Петровых в аптечке было две разновидности – в виде раствора и в виде таблеток.
В аптечке нашлись даже такие диковинки, как клофелин и ампулы глюкозы, два вида витаминов для Петрова-младшего – белые пластмассовые бутылочки с крупными оранжевыми и мелкими желтыми драже. Аспирина же не было. Петров предложил сходить в аптеку. «Я знаю, как ты ходишь, опять тебя два часа ждать», – ответила Петрова, трогая лоб спящему сыну и недовольно морщась. «Ну давай ты сходишь», – предложил Петров. «Сейчас ночь вообще-то, – сказала Петрова будто даже с удовольствием. – Не боишься меня одну отпускать?» «Ну давай вместе сходим», – нашелся Петров. «А вдруг что-нибудь случится?» – спросила Петрова. «И что делать тогда предложишь?» – Петров перешел на шепот и этим шепотом изобразил, что повышает голос. «Ну, может, я не знаю, – вторя Петрову, зашептала жена. – Я вчера твои джинсы стирала, там таблетка лежала. Это не аспирин случайно? Я на кухне его куда-то в стол убрала».
А. Сальников «Петровы в гриппе и вокруг него»[384]•••
– Вы планировали сюжет – или история сама себя рассказала?
– Речь тут идет скорее о синтезе того и другого. План нужен хотя бы для того, чтобы мозг ощущал – хотя бы примерно – конечный объем будущей работы.
– Как вы работали над этим романом? Как проходили трудные сюжетные повороты? По плану?
– Роман сидел в голове несколько лет. Наверно, разум его укладывал там как-то, что-то прикидывал. Часть работы всегда скрыта от самого автора. Никаких схем не рисовал, если вы об этом. План был, но совершенно грубый план, с такими примерно пунктами… сейчас точно не скажу, но что-то вроде: «Петров просыпается», «Петрова едет на двадцать первом автобусе».
– Сложно ли шел текст? Сколько заняла работа?
– Месяца два с лишним. Текст писался довольно-таки сложно. Меня позже поразил контраст – что я сам помнил о тексте и что обнаружил в нем, когда прислали правку. Оказалось, что там местами очень смешные вещи творятся. К моменту, когда прислали правку, только несколько моментов были в памяти из тех, что было приятно делать: описание семейной аптечки, новогодний спектакль, елка. Все остальное было сделано с несколькими смешками, а большей частью с угрюмым выражением лица.
– Как и сколько вы пишете? Каждый ли день? Есть ли график?
– Да, пишу несколько тысяч знаков в день. (Обычно – пять). Но у этой регулярности имеются слабые стороны. Иногда просто удаляешь готовую главу, потому что она оказалась не такой, как нужно, и заново начинаешь. Или половину романа. В этом огромный плюс цифровой эпохи. Просто берешь и безвозвратно стираешь текст, не трясешься потом над старыми записями, пытаясь найти в них что-то приличное. Не чувствуешь себя Гоголем, потому что рукопись ведь бумажная, на ней, наверно, какие-то заметки на полях были, рисуночки, номера телефонов друзей, знакомых, бог знает что еще, какие-нибудь пятна от упавшего на страницу бутерброда. А тут просто текст и текст.
– Близкие не отвлекают от творчества? Скажем, Агата Кристи жаловалась, что у нее никогда не было собственного кабинета. А как у вас?
– То, что близкие могут отвлечь от романа, – это самое неинтересное самооправдание из списка самооправданий. Нет, бывают, конечно, крайние случаи, форс-мажор, но не может такое длиться годами – люди вон в застенках писали. Вокруг меня никто не ходит на цыпочках, да это и глупо, наверно. Раньше, когда сын еще не переехал в отдельную квартиру, было еще веселее, творческий процесс (смешное словосочетание) проходил в духе того, как в «Трое из Простоквашино» писалось письмо родителям, только вместо Шарика, Матроскина и Дяди Федора был один я. Всегда что-то нужно кошкам, собаке, жене, мне, сыну, но это почти всегда весело. Тяжело смотреть на людей, которые убили свою жизнь литературой, остались одни, пока выстраивали как бы литературную карьеру. Тяжелее этого зрелища мало что можно придумать. Есть, конечно, зрелища и побеспросветнее, но и в картине жизни, которая могла бы быть светлее, а вместо этого была убита амбициями, тоже мало радостного. Одно дело, когда это происходит случайно, когда человек просто робок и семья не получается у него по этой причине. Другое дело, когда человек отказывается от этого сознательно. Это не передать как ужасно. Об этом даже говорить страшно, но страшнее, наверно, оказаться в такой «ситуевине».
– Поначалу ваш роман не был даже издан отдельной книгой, а вышел в журнале «Волга». И все же попал на «Большую книгу». Как так вышло?
– «Петровы» должны были быть изданы отдельной книгой. Лена Сунцова хотела издать роман в своем издательстве «Айлурос», но затем прочитала его и передумала. В конце концов, это ее издательство, она вполне имеет на это право. Роман показался ей очень телесным. Вообще удивительно, что после Сорокина можно кого-то шокировать чем-то телесным, какой-то физиологией. Сам я эту физиологию не приметил, но люди говорят о «мерзких деталях». Мне на ум приходит только отхаркивание Петрова в сугроб – заранее извиняюсь перед теми, кого оно застигло во время чтения за перекусом. Еще фраза Петровой, сказанная матери, могла показаться кому-то провокационной. Но Петрова не была бы Петровой без этой фразы! Больше на ум ничего не приходит. Ну да ладно. Когда Лена отказалась публиковать роман, я тут же разослал его по толстым журналам. Дал каждому журналу по полгода. Это смешно и глупо было с моей стороны, потому что очередь в каждый журнал довольно большая. В «Волгу» я «Петровых» не посылал, потому что до этого они опубликовали «Отдел», Анна Сафронова билась с моими запятыми и обособлением прямой речи, и мне было жаль еще раз ее в это втягивать. Но затем полгода прошли, и я послал «Петровых» в «Волгу». Анна Сафронова, как и моя жена, сказала: «Я ничего не поняла». А там, действительно, в ранней редакции, читатель должен был догадываться, что Аид – Аид по названию первой главы. Он нигде не заявлял об этом прямо, там были раскиданы только некоторые намеки. Кроме того, в первой главе персонажи общались исключительно матом, это, возможно, отвлекало. Ну, поправил кое-что, отправил еще раз. «Волга» послала «Петровых» на «Большую книгу». Эксперты ее взяли в шорт. Как хорошо было, тяпнув водки, поблагодарить их за это лично.
– Почему вы решили пойти таким путем – отправили роман в журнал «Волга», а не в издательство? Ведь после публикации в «Волге» текст стал доступен бесплатно на Bookmate.
– Мне, видимо, не хватает некоей деловой жилки. Я не решал идти этим путем. Все, что я сделал, – это отправил роман в «Волгу». Все. Остальное сделали читатели и сам текст. Я не ожидал от него такой витальности. Текст оказался умнее меня, живее. Он мне чем-то напоминает героиню Умы Турман из «Убить Билла».
– Вы как-то продвигали текст?
– Нет, совершенно не продвигал. Но и сам текст без читателей невозможно продвинуть. Хоть ты утыкай баннерами центральные улицы всех городов. Читатель и только читатель все это сделал. Любой – критик, не критик, и неважно, положительно ли он оценил роман или даже не дочитал до пересаживания Петрова в катафалк. Это удивительная работа множества людей, преодолевших свое предубеждение перед неизвестным автором, отодвинувших на время что-то другое ради чтения сомнительного текста, который неизвестно чем кончится. Мне кажется, такое счастье мало кому достается из пишущих, если брать процентное отношение всех, кто занимается стихами, прозой. Люди подарили мне эту радость. Надеюсь, что многих я тоже чем-то порадовал, что радость этой сюжетной придумки передалась многим из них. Такие песочные часы благодарности получились.
– Ваши слова: «Дискомфорт естественен, но именно с ним мне и хотелось оставить читателя». И еще: «История творится волей тех, у кого получается манипулировать толпами». Как у вас получилось манипулировать? Как вы объясните успех произведения?
– Подчас литература – это не манипуляция, а, скорее, престидижитация. Манипуляция – это если агитка. У меня, надеюсь, не агитка. И это не у меня получилось, а, скорее, у текста. Понимаете, когда видишь текст целиком, то есть видишь некий замысел, чувство от него, хочется просто передать его весь сразу другому человеку. Но это невозможно сделать без рутины. Если бы имелась такая возможность, так бы и поступал. Текст отчасти сам возник в голове, сам написался и пошел гулять по окрестностям. Я, писавший этот текст, и я, уже написавший, – это разные люди. Более того, даже в момент написания сам автор не более чем человек, пересказывающий в силу своих возможностей те картинки, что имеются перед его внутренним взором. Такая пифия, что ли. Совершенно нет мыслей о премиях, о том, как это все будет продвигаться дальше. Эта вот булгаковская коробочка с говорящими фигурами и снегопадом, изразцовой печкой и выстрелами полностью захватывает: пытаешься прислушаться к говорящим и двигающимся фигуркам. Просто нужно все равно очертить некие контуры этой коробки, кукольного дома без передней стенки. Успех же объясняется постфактум. Всегда. Многим кажется, что так и должно было быть, – вот ваши вопросы как раз об этом. Сейчас, наверно, могу предположить, что читателя захватила именно интимность – не эротическая, а какая-то бытовая. Эти мысли, которые думает каждый, и каждый о них забывает тут же. Может, потому что этого многим не хватало – возможности сверить свои мимолетные мысли с мыслями других. Вот этих мыслей, вроде «ну и хрен с тобой», когда берешь раскрывшегося ребенка за ногу, проверяя, замерз он или нет, а он не замерз. Не знаю, правда.
– Я знаю, что Умберто Эко советовал писателям не отвечать на этот вопрос, но все же его задам. В чем идея этого произведения?
– Будучи просто тем, кто «перекладывает» движущиеся картинки в текст, не могу точно сказать. Мне просто понравилось, что девушка, которая думает, что в жизни ее все кончено, просто не знает своего будущего, собственной силы не осознает. На это, конечно, наложились истории двух моих сестер – родной и двоюродной. Одна пережила самоубийство мужа, вырастила дочь, пережила смерть второго ребенка, растит третьего, притом – одна. Преподает математику. А двоюродная сестра, в четырнадцать или пятнадцать лет заболевшая лейкемией, пробралась однажды в помещение, где хранятся истории болезни, узнала, что умрет, но никому не сказала об этом. Об этом все прочитали в ее дневнике, уже после ее смерти. Она никому не дала знать, что совершенно точно знает, что с ней будет. И для сравнения – история моего друга, который застрелился, потому что любимый преподаватель поставил тройку по физике. Несопоставимые какие-то величины духа, понимаете? Жизнь против амбиций.
– Еще раз процитирую Умберто Эко – об интерпретации художественных текстов: «Читатели зачастую используют текст как проводник для собственных чувств, зародившихся вне текста или текстом случайно навеянных». Судя по отзывам, «Петровы» с этой задачей справляются крайне успешно. Так и было задумано? Или же все эти дополнительные смыслы появляются в тексте без участия автора и не по его воле?
– Дело еще и в восприятии русского романа и зарубежного. Зарубежного читатель принимает за чистую монету. Сразу и безоговорочно. Русский – как в анекдоте про Андропова: «И подтекст на стол». Если бы «Петровы» были английским романом про английскую глушь, его бы восприняли именно фабульно, именно по тексту. Русского автора всегда рассматривают с двух-трех точек зрения: что автор написал, что имелось в виду, что имелось в виду на самом деле. Из такого понимания очень трудно выбраться, да и нужно ли? Такая возникла традиция, не нам ее и отменять. Но, не скрою, был удивлен трактовкой, что все, переживаемое героями, – гриппозный бред. Радует трактовка, что у Петрова нет семьи, что он все это выдумал. Теперь, оглядываясь на текст, могу предложить свою. Роман – это мысли Петрова-младшего, его фантазии на тему, чем заняты его родители, пока он находится дома. Тоже забавно. Отчасти трактовки объяснимы. В конце концов, писатель просто пересказывает то, что наблюдает в этаких своих видениях, и эти пророчества можно объяснять по-разному. Необязательно мнение автора – единственно верное.
– Теперь, когда прошло время, не кажется ли вам, что ретроспекции, вставленные в роман, несколько замедляют повествование? Я понимаю, что это намеренный шаг, но все же: как вы сейчас оцениваете композиционные решения романа?
– Разумеется, все можно было сделать лучше. Но если оглянуться – то нет, не кажется, что замедляет: у меня ощущение, что получился довольно легкий текст, не игривый, конечно, не порхающий, но довольно объемный и цветной.
– Впрочем, цитируя вас же: «Достоевский иногда очень спешил к концу». Стало быть, вы намеренно замедляете повествование, чтобы… что?
– Намеренно повествование не замедлял. Более того, я человек ленивый, не могу заставить себя написать больше, чем требуется. Не было специального затягивания, совершенно никакого. Текст уложен именно в те рамки, каких требовал изначально. Некоторые главы слегка сокращены.
– О вашем романе «Отдел» слышали немногие, даже после «Петровых». Расскажите, пожалуйста, о нем.
– Ну, это такая фантастическая штука, довольно самостоятельная. Почти сразу вывалившаяся из плана. Написанная из хулиганских побуждений. Возникшая из фантазии: что было бы, если бы «Людей в черном» снял Тарковский. Сейчас я роман этот основательно порезал в конце – при этом, кажется, сокращения пошли ему на пользу. Немного подрихтовал идейную составляющую. Посмотрим, что из этого всего выйдет.
– Расхожее мнение: писать учишься, читая хороших писателей. Кто ваши учителя в литературе?
– Строго говоря, любой текст – этакий учебник: как нужно делать и как не нужно. Все, от русской и зарубежной литературы до фанфиков и рекламных слоганов – все это учит. Но, кажется, набор имен довольно одинаков для всех. Всегда имеется как минимум Федор Михайлович, а далее чтение разветвляется на множество жанров, иногда очень легких. Опять же, нельзя прийти к Достоевскому, не осилив других, более легких книг в детстве. Скажем, Кинга. Конечно, Платонов, конечно, Зощенко, конечно, Гоголь. Разумеется, Ильф и Петров. Но и Бабаевского читал с удовольствием, только не помню что. Про путешествие двух пожилых братьев по Кубани, один из этих братьев – бывший партийный работник, не знающий, куда себя деть на пенсии. Он решает ездить по округе и читать лекции о Ленине. Это просто великолепно. Смотреть на это современным взглядом – как читать что-то абстрактное. Причем этот текст ведь и в советское время наверняка представлялся чистой абстракцией, просто имел под собой надежную идеологическую опору. Я всеяден совершенно. С удовольствием заглядываю иногда в раздел /izd на «Дваче». Мне кажется, ни от кого не нужно отмахиваться и заранее ставить крест. У любого можно почерпнуть что-нибудь интересное или увидеть пример того, как делать не нужно (или что произойдет, если ты попробуешь писать так-то). Увидеть, грубо говоря, чужие косяки, чтобы не творить их самому.
– Можно ли научиться быть писателем? Или это врожденный дар?
– Этот вопрос нужно задавать уже умершим писателям во время спиритического сеанса. Спрашивать у тех, кто оставил после себя то, что помнят хотя бы спустя лет двадцать. Это пока не ко мне. Но мне кажется, что некая практика все же требуется: и читательская, и практика письма. Любой вид искусства постигается через многократно повторяемые упражнения. Литература – явно не исключение из этого. Только, наверное, не нужно упражняться ради самих упражнений. Пускай каждое из упражнений будет законченным текстом, чтобы посмотреть развитие истории, прикинуть – удалось ли ее рассказать именно так, как хотелось.
– Где грань между писательством и графоманией?
– Во фразе: «И так сойдет».
– Многие писатели страдают от так называемого синдрома самозванца. А вы считаете себя самозванцем?
– Да, особенно сейчас. Когда видишь, сколько людей пришло на встречу, невольно ужасаешься этому самозванству, ужасаешься, что сдвинул людей с места, оторвал от каких-то других дел, – а что я им могу сказать? Навык публичной речи у меня довольно слабый. Тем более что литературная известность – это отчасти дело случая, одномоментное совпадение вкусов множества читателей, это не спортивный успех, когда в определенном месте собираются люди и смотрят, кто победит… Отсюда наверняка и происходит подобное чувство. И потом, ты буквально только что занимался делом, которое интересовало лишь тех, кого ты знал в лицо и даже по именам, – вот буквально вчера это было так. Да и делал-то все, как и остальные, – то же самое, не лучше, а порой и хуже остальных, и внезапно на твой текст обращают внимание. Конечно, имеется опасение, что люди ошиблись.
– Чего боитесь вы как писатель?
– Что перестанут появляться новые идеи для текстов, что это просто уйдет.
– Снова процитирую Чарльза Буковски: «Я в каком-то смысле подделка – вроде как пишу из нутра отвращения, едва ли не полностью». А «откуда» пишете вы?
– Ой, ну Буковски наверняка просто еще не опохмелился, когда отвечал на этот вопрос. Или у него сигареты кончились. Мне порой кажется, что пишу вовсе не я, а, например, мой спинной мозг себя развлекает, потому что ему скучно в организме.
– Бывают ли у вас сомнения?
– Только они и бывают.
– Как вы боретесь с «писательским блоком», ступором?
– Пытаюсь понять, почему он возник, – не зря же письмо внезапно прекратило радовать, значит, с текстом что-то не так. Но это мало помогает, поэтому грущу и страдаю, как красна девица. К счастью, потом это заканчивается, и в один прекрасный день садишься и пишешь, удивляясь, что раньше не начал ставить вот эти самые слова на их места. Удивляешься и не понимаешь, что тебя останавливало до этого. Но, видимо, что-то все же останавливает.
– Какой главный совет вы можете дать начинающим писателям?
– Вот прямо сейчас садитесь и пишите. А затем завтра садитесь и пишите, а потом послезавтра, и так далее. По-другому это не работает.
Алексей Сальников – поэт и прозаик. Родился в 1978 году в Тарту, с 2005 года живет в Екатеринбурге. Автор книг стихов и прозы. Автор трех романов – «Отдел», «Петровы в гриппе и вокруг него» (короткий список «Большой книги» за 2017 год, премия «Национальный бестселлер» за 2018 год) и «Опосредованно».
Яна Вагнер «Достойные тексты не теряются»
Яна Вагнер – о стечении обстоятельств, литературных агентах и писательском пути.
– Начнем с вашей цитаты: «Если ты все время чувствуешь сопротивление, скорее всего, ты просто двигаешься в неправильном направлении». Но ведь освоение любой профессии требует преодоления трудностей, разве не так?
– Помню это интервью. Я дала его в 2012 году, сразу после выхода первого романа, но, как ни странно, по-прежнему уверена в том, что тогда сказала. Сейчас попробую объяснить: дело не в легкости. Писать тяжело и неприятно, мало есть занятий на свете таких же мучительных, как это. Если вам вдруг легко и сладко пишется – перечитайте, очень возможно, вы пишете ерунду и как раз поэтому годами бьетесь головой в стену и сердитесь на мир, не способный оценить вас по достоинству. А это всего лишь означает, что вы неправильно выбрали дорогу. Острое желание писать (рисовать, петь или строить дома) не равно таланту и само по себе никакого успеха нам не гарантирует, конечно. И лучший способ проверить себя – не трудности, а именно время. Отсутствие результата. Если ваши тексты (песни, картины или дома) за десять лет никто не заметил – ну, скорее всего, это просто плохие тексты, песни, картины и дома. И, может быть, пора сворачивать в другую сторону. Вот я о чем.
– Вы апеллируете к тому, что талант и есть индикатор «предрасположенности» писателя к писательству?
– Господи, да нет же. Я просто уверена, что без таланта не будет и мастерства. То есть, конечно, это чудесная теория: старайся и будешь вознагражден. Сиди за столом по десять часов в день, и рано или поздно напишешь «Войну и мир». Но равные возможности – это миф, человеку без музыкального слуха не стать оперным певцом, учись он хоть тридцать лет. Словом, мечты бывают бесплодными, и важно уметь это вовремя признать.
– Что вы думаете о теории? На что опираетесь в своем творчестве?
– О теории я не думаю совсем. Где-то очень далеко, совершенно отдельно от меня существует гигантская сложная наука – литературоведение. Текстология, поэтика, стилистика, литературная критика, наконец. Всеми этими важными вещами занимаются серьезные, специально обученные люди, а я сижу за кухонным столом и просто пишу. Опираться при этом я могу только на собственный читательский опыт, на внутреннее ощущение – «так правильно». Других инструментов у меня нет.
– Могу уверенно предположить: вы запоем читали в детстве. Иначе никак. Не сложилась бы иначе в сознании та самая система координат, что сделала вас писателем. Признавайтесь, читали под одеялом с включенным фонариком тайком от родителей?
– Ну конечно. Я и до сих пор читаю запоем. Жадно, все время. А когда не получается читать книги, я их слушаю. Пока мою посуду, сижу за рулем или хожу за грибами. Тут вот что важно: литературоведом писателю быть совершенно не обязательно. Но если ты не читатель, хорошим писателем стать нельзя.
– Были ли у вас сомнения, когда вы начинали писать? Да, я понимаю, что текст сам «запросился» на бумагу. Но все же: как велась работа над первым романом?
– Честно говоря, с первым романом все вышло случайно. Мы просто посмотрели очередной фильм об эпидемии и за ужином немножко порассуждали о том, как поступили бы, случись это с нами. А потом я написала небольшой рассказ от первого лица и выложила в «Живом журнале» – тогда все туда что-то писали. Ничего серьезного, просто текст в ЖЖ, который неожиданно зацепил несколько тысяч читателей, – такое иногда случается. Люди пришли и стали со мной разговаривать, и тогда я написала еще немного, а потом еще. Это, конечно, диковатый способ писать роман – линейно, без четкого плана, без возможности вернуться и что-то исправить или дополнить. Будь я настоящим писателем, вряд ли на такое отважилась бы, но я-то была самозванец, который не знал, что надо бояться. Чаще всего я понятия не имела даже о том, что случится в следующей главе, не говоря уже о финале, и со всеми ловушками, подстерегающими неопытного автора, приходилось разбираться на бегу… словом, по всему выходило, что получится ерунда. Как ни странно, когда роман был закончен (еще и неприлично быстро, меньше, чем за год), его захотели сразу три хороших московских издателя, и через несколько месяцев он вышел в «Эксмо», а потом его еще и перевели на 11 языков. По нему вот-вот выйдет сериал, и недавно мы продали права на экранизацию в Америке. Но сегодня я бы, конечно, все сделала иначе. Это в самом полном смысле слова дебютный роман, и у меня теперешней очень много к нему претензий. Когда я вижу человека с «Вонгозером» в руках, мне всегда хочется подбежать, вырвать книжку и сказать – подождите, не читайте, я сейчас быстро все перепишу! Хотя быстро как раз не получится уже.
– Что изменилось сейчас? Страхи и сомнения остались?
– Ну еще бы. Все изменилось. Я бы даже сказала, страхов и сомнений теперь гораздо больше, в разы. Свой второй роман, «Живые люди», я писала два года, а «Кто не спрятался» – четыре с половиной. Есть хорошие шансы, что на следующую книгу я убью лет десять, я просто разучилась относиться к этому легко.
– А есть наметки? О чем пишете и что готовите сейчас?
– Завидую людям, способным начать следующую книгу сразу же, как только закончена предыдущая. Как будто у них в голове очередь из готовых историй, желающих быть рассказанными. Я так не умею, мне нужно дождаться, пока недавно законченный текст оторвется и отпустит меня, и только после этого появляется место для следующего. Не сразу причем, все равно еще долго надо ходить, ходить с ним, думать о нем, крутить так и эдак. Пока могу сказать только, что задумала одну вещь, но пока не знаю, как к ней подступиться. Времени мало, и я страшно корю себя за эти проволочки, но это как с талантом, помните, мы говорили вначале? Я в границах своих возможностей и давно знаю, что думаю медленно, так что стараюсь смириться с этим. По-другому у меня все равно не выйдет.
– Что для вас писательство? Профессия или увлечение?
– Профессия, конечно. Теперь – точно. Я много разного делала раньше: когда-то была переводчиком, например, потом очень долго занималась транспортной логистикой, а писать начала довольно поздно и, как мы выяснили раньше, совершенно случайно. Но вот уже восемь лет я только пишу, и все. Это занимает все время, все мысли и все силы. И это единственное меня кормит. Кстати, тоже критерий, отличающий профессию от хобби.
– Вы – ну, скажем так, редкое исключение: вас писательство кормит. У нас же в России как: писатель пишет, потому что не может не писать. А деньги зарабатывает где-то еще.
– Да я не очень верю в «если можешь не писать – не пиши». Не писать легко, гораздо легче, чем наоборот. Поднял руки от стола и не пишешь, просто живешь свою единственную жизнь, разбираешься с ней не через тексты, а в лоб. Потребность отойти в сторону и все это зачем-то записывать – такая девиация, невроз. Определенно в ущерб этой самой реальной жизни, как алкоголизм, например. То есть это скорее зависимость. Но если подсядешь – пропал, все, без нее гораздо меньше радости. Что же до исключений – да бросьте. Профессия кормит не только меня.
– В чем, на ваш взгляд, кроется секрет писательского успеха?
– Ох, хотела бы я знать. Он потому и «кроется», что никому доподлинно не известен, нет универсального рецепта. У всякого успеха может быть тысяча причин: талант, само собой. Удача играет не последнюю роль. Упорство, тяжелая долгая работа (хотя и это не гарантия). Или, например, чтобы кто-то в тебя поверил. Сначала я, конечно, хотела ответить просто – хороший текст, но даже это неправда. Плохие тексты тоже нередко становятся успешными, востребованными и расходятся миллионами просто потому, что попали в какой-то нерв, случайно среагировали на какой-то актуальный читательский запрос и оказались нужны, утешили или развлекли. Когда не можешь придумать однозначного ответа, хороший способ выкрутиться – поставить под сомнение сам вопрос: а определите успех. Писательский. Это что, по-вашему? Многотысячные тиражи сегодня или длинное трудное превращение в классика, который останется в хрестоматиях? Наивные читательские отзывы, полные восторга и слез, или скупое уважение цеха, критиков и коллег? Все сразу выпадает только самым оглушительно везучим и талантливым, а остальные разбираются с этой своей жаждой успеха как могут и никогда не счастливы, ни единой секунды собой не довольны.
– Что такое писательский успех? Перевод романа на одиннадцать языков – это успех. Вы хоть и не полностью довольны собой, но все же тексты вас кормят. Это успех – ну, в моем понимании. Что характерно, я говорю не столько о материальной составляющей, сколько о востребованности текста. Одиннадцать языков! Не просто же так перевели…
– Я не понимаю, какого ответа вы от меня ждете. Судя по тому, что вы сказали, по вашим меркам, я писатель успешный. По собственным – мне до этого очень еще далеко.
– У вас здорово получается описывать взаимоотношения и, что важно, конфликты людей. Откуда такие знания человеческой психологии? Ваши слова: «Писатель не вытаскивает идеи из эфира – он перемалывает действительность, которая его окружает, трансформирует». Что именно вы «трансформируете» в своих романах?
– Самые живые тексты, персонажи и диалоги вырастают из неловкого, болезненного личного опыта. Я мало в чем уверена вообще и не знаю, какого мнения на этот счет придерживается «взрослое» литературоведение, но тут готова спорить до крови: нельзя сочинять, нужно рассказывать правду. Чтобы тебе поверили, каждому тексту придется скормить кусок собственного мяса, что-то свое, уязвимое. Ничего нельзя оставить себе, все придется проговорить вслух и отдать: самые глубокие свои страхи, самые хрупкие моменты счастья, самые гадкие мысли и стыдные воспоминания, детство, первую любовь, разочарование в родителях, смерть близкого человека – да все. Отдавать, конечно, не хочется, в этом нет радости, но по-другому не получится. А когда этого недостаточно, ты начинаешь забирать у других. У всех, до кого можешь дотянуться. У близких, у друзей, у случайных знакомых. Чья-то семейная трагедия, рассказанная по секрету история, сцена на чужих похоронах, подслушанный разговор – все летит в ту же топку. Кажется, Дина Рубина как-то сказала: вот, вы дружите с писателем, а он вас ест. Я бы дополнила: он ест вас, себя, вообще все. Писатель – неэтичная профессия и даже немножко проклятие.
– Тут я задам совершенно неожиданный вопрос: вы используете букву «ё», возвращение которой, как однажды сказал Прилепин, изменит «пластику языка». Значит ли это, что условная «ё» – это своего рода психотерапия?
– Какое неожиданное предположение. Я использую букву «ё» потому, что мне нравится буква «ё».
– Чехов писал: у великих или вечных писателей «каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели» и что «кроме жизни, какая есть», они еще чувствуют «ту жизнь, какая должна быть». Где этот «сок» ищете вы?
– Мне больше нравится начало этой фразы: «Лучшие из них реальны и пишут жизнь такою, какая она есть». В моем представлении, писатель, даже великий – не воспитатель и не наставник, не пастырь. И уж точно не нравственный ориентир. Это обычный смертный человек (чаще всего довольно неприятный и точно не очень счастливый), и единственное, что его отличает, – особая оптика, какой-то дополнительный инструмент, с помощью которого он умеет показать вам то, что видит сам: и жизнь, которая есть, во всем ее сложном многообразии, и жизнь, какой она, по его мнению, могла бы быть. Не изменить, не научить. Просто показать, чтобы вы тоже увидели, а дальше делайте с этим что хотите.
– Снова Чехов – на этот раз об идее своего творчества: «Правдиво нарисовать жизнь и кстати показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы…» Ваши тексты ведь тоже об этом? Или нет?
– Только если бы я взяла на себя смелость судить, что является нормой. Такого права нет ни у меня, ни даже у Чехова. Все, что я могу, – увидеть, попытаться понять и потом описать так, чтобы меня услышали. И даже в этом не всегда преуспеть.
– Чехов, полагаю, говорил о своих критериях «нормы». А каковы ваши критерии, в вашей системе координат?
– Тогда отвечу еще раз: у меня нет таких критериев. Я не судья, не наставник и не воспитатель. Я просто свидетель, и к тому же довольно пристрастный.
– Одна из распространенных точек зрения: задача литературы – воздействовать на читателя. Как вам кажется, воздействуют на аудиторию ваши книги?
– «Задача литературы» для меня все-таки очень громкая фраза. Мы с читателем находимся в одной плоскости, это разговор на равных, а не сверху вниз. Я предлагаю ему историю, он берет ее себе, и только. Я не отвечаю за его работу и не знаю, каковы должны быть ее результаты. Думаю, мне будет достаточно, если мы вместе сможем подивиться сложности мира. Ну и, конечно, я бы хотела, чтобы он при этом получил удовольствие.
– Вам не нравится вопрос о «задаче»? Тогда давайте сформулируем иначе: зачем вы начали писать и продолжаете это дело?
– Очень просто: наступил момент, когда у меня под языком накопилась уйма тем, на которые очень захотелось поговорить. А пишу я гораздо лучше, чем разговариваю.
– А воздействуют ли ваши книги на вас? Вы изменились, написав эти романы?
– Хочется верить, я стала терпимее. Чтобы сделать своих придуманных людей живыми, их нужно понять, это отдельная работа. А стоит начать понимать, жалеть их становится гораздо легче.
– Воннегут говорил: если попытаетесь понравиться всем – ваш роман подхватит воспаление легких. Для кого пишете вы?
– Для себя, конечно. Хотя себе-то как раз понравиться, по-моему, сложнее всего.
– Вы начинали в «Живом журнале», а теперь издаетесь у Елены Шубиной. Это заслуга качества текста – или помогли заведенные по ходу дела знакомства? Я вот к чему веду: нужно ли современному автору себя продвигать или тексты сами себя продвигают?
– Если текст достоин внимания, он его получит, кто-то обязательно заметит его. Иногда это издатель или литературный агент, иногда – тысяча (или десять тысяч) человек в интернете, а потом уже издатель или агент, маршруты разные. Это не значит, разумеется, что помощь совсем не нужна, и удача не играет роли, – еще как играет. Я только хочу сказать, что годные тексты не теряются. И случай выяснить, на что годится твой, непременно представится.
– Вы верите в предопределенность событий?
– Нет. И в карму, к сожалению, не верю тоже, хотя это здорово бы все упростило. Зато я очень верю в счастливое и несчастливое стечение обстоятельств.
– А стечение обстоятельств и «карма» – это разве не синонимы?
– Нет, конечно. Карма – это возмездие и вознаграждение, и стечение обстоятельств тут совершенно ни при чем.
– А в писательский талант? Что делает писателя писателем?
– Писателем человека делает первая же написанная им книга. Написал – всё, ты писатель. Другое дело, что книга эта чаще всего плоха, и значит, ты – плохой писатель. А дальше можно или бросить писать совсем, или простить себе это несовершенство и остаться плохим, или продолжить попытки стать хорошим. Безо всякой причем гарантии, что получится.
– А ваш первый роман – давайте начистоту – он был плох? Или хорош?
– Ну конечно, плох. Или, если угодно, хорош недостаточно. Но что-то такое со мной случилось, когда я его писала, что-то очень важное для меня, и поэтому я пишу дальше. Стараюсь, чтобы каждая следующая книга была лучше.
– Где грань между писателем и графоманом?
– Не знаю. Может быть, в наличии таланта как раз. Или в том, что графоман доволен собой, а писатель – нет. Меня скорее волнует грань между плохим писателем и хорошим.
– И где же она?
– Честно? Не имею ни малейшего понятия.
– Как вы по прошествии времени смотрите на этот пассаж: «Андрей спал и ничего не видел, а она не сразу поняла, что происходит – сначала они проехали короткий мост через какую-то небольшую речку, где было тихо и пусто, и она вообще не обратила на него внимания – мост и мост, тем более что сразу за ним дорога была замечательная – несколько километров чудесного, безлюдного леса, они тоже ужасно устали от напряжения, от которого невозможно было отделаться, проезжая населенные пункты, и так же, как мы, радовались всякой передышке; а как только лес закончился, начались поля – деревень здесь не было (были, вмешался Андрей, просто чуть в стороне от трассы – не важно, закричала она тут же, ты вообще спал, дорога была пустая, и было темно, просто поле, и все – хорошо, просто поле, согласился он, там километр от силы до моста, он освещен, ты могла увидеть – не могла, до моста еще было далеко, дорога была темная, и потом, я подумала, может, она больная, она шла прямо по дороге, посередине, я чуть ее не сбила!) – и посреди этих полей свет фар вдруг выхватил из темноты человеческую фигуру; Наташа резко ударила по тормозам, из-за тяжелого прицепа пикап занесло, но она справилась и не вылетела с дороги». Не кажется вам ли оно чрезмерно перегруженным? Чехов призывал к простоте…
– Вы как будто всерьез решили рассорить меня с Чеховым, не выйдет. Знаете, я страшно не люблю, когда фразы вырезают из контекста и кладут на стол под лампу, это всегда делает художественный текст беззащитным. При этом я понимаю, о чем вы. В свое время мне здорово вломили за эти длинноты и отсутствие точек, так что при переиздании «Вонгозера» я даже добавила их немножко – точек, не длиннот. И все же эта книга написана как монолог, внутренний монолог очень испуганной женщины. Поток сознания, если хотите. К этому приему можно относиться по-разному, но временами он вполне оправданная альтернатива простоте: пойдемте у Фолкнера спросим, например, или у Джойса. А лучше пускай они с Чеховым спорят напрямую, нам с вами в споре великих делать нечего.
– С Чеховым я вас рассорить не хочу. Сформулирую иначе: вы сейчас стали бы так писать?
– Чем мне нравится писательская профессия – правил нет. Ты волен выбирать любые средства, любые приемы. Нет, серьезно, абсолютно любые. Так что если мне когда-нибудь это понадобится, я напишу предложение длиной в целую страницу. Или в две. А может, наоборот, после каждого слова буду ставить точку. Сделаю на полях рисунки, начну с конца и закончу началом, заставлю героев говорить на несуществующем языке и не дам читателю словаря, позволю себе переврать любые реальные события, буду приукрашивать, передергивать, выбирать самые дикие метафоры, нарушу правила орфографии и пунктуации или даже придумаю новые слова. Вы цитировали Воннегута, и я с ним согласна: нет смысла стараться ублажить всех читателей сразу, не думай об этом вообще, просто сядь и пиши.
– Как роман «Вонгозеро» вышел на международный рынок?
– Очень просто, мне повезло. Мы все время говорим про удачу, да? Про стечение обстоятельств. Мои сложились вот как: прежде издателя у меня появился литературный агент. Я только-только закончила дебютный роман, который в сети прочитали те самые две тысячи человек, получила первое издательское предложение на сумму, которую зарабатывала за три дня, удивилась и отправила рукопись в литературное агентство «Банке, Гумен & Смирнова». А они вдруг ответили: привет, Яна, не отдавайте пока никому, сейчас все сделаем. И делают до сих пор. Наташа Банке и Юля Гумен давно уже не просто агенты, они друзья, которые на моей стороне всегда, хорошо у нас дела или плохо, а бывало всякое. Может, другой маршрут рано или поздно привел бы в ту же точку, но по дороге я точно потеряла бы втрое больше крови. Агенты берут на себя то, что автору неловко и трудно делать самому: они его продают. Для человека, которому сильнее всего хочется тихо сидеть дома и писать, это бесценно.
– Опять вы о стечении обстоятельств. Ну, стало быть, вам суждено было стать «международным писателем»?
– Вы опять путаете карму и стечение обстоятельств. Я не понимаю, что значит «суждено», речь вообще не об этом. Я написала несовершенный, но все же довольно яркий дебютный роман, и мне посчастливилось встретить людей, которые поверили в него, и потому судьба его сложилась удачнее, чем могла бы.
– И сразу такой вопрос вдогонку: а молодые авторы могут надеяться на поддержку агентства, которое вас так классно раскрутило?
– А я, по-вашему, каким была автором? Литературных агентов в России единицы, и в портфеле у «Банке, Гумен & Смирновой» не только признанные мэтры вроде Шишкина, Петрушевской, Водолазкина и Степновой, он то и дело пополняется новыми именами. Но возьмут вас, конечно, только если вы сами по себе чего-то стоите.
– Почему «Кто не спрятался» вышел во Франции раньше, чем в России?
– Странно, правда? Но в каждой стране дела у книг в самом деле складываются по-своему. Не знаю, от чего это зависит: от совпадения текста с читателем, от переводчика, от издателя. Я три романа написала всего, мне трудно пока судить. В Швеции, например, на «Вонгозеро» вышло примерно пять рецензий, три из которых были про Путина. В Чехии был ужасный перевод, а в Словакии – отличный (я прочла оба). В Литве роман стал бестселлером, а на английском «Амазоне» уже полгода пылится один экземпляр, и я скоро сама его куплю, наверное. Дома, в России, мы с каждой книгой начинали сначала, с разными издателями, и то, что «Кто не спрятался» вышел у Елены Шубиной – в общем-то, чудо и большая удача. Русская литература строга, и жанровому писателю надо здорово поднажать, чтобы к нему отнеслись всерьез. А во Франции как-то сразу все легко получилось. Критики оказались добры, читатели – великодушны. Мой французский издатель выпустил все три моих романа подряд, пулеметом, с интервалом в год, и «Кто не спрятался» начали переводить на следующий день после того, как я закончила рукопись. Справедливости ради надо сказать, что французы вообще любят русские книги, много переводят и читают. Мы хорошо совместимы, у нас какая-то взаимная химия. Ну, и переводчица у меня потрясающая. Кто знает, вдруг ее перевод просто лучше оригинала.
– И опять звучит некий… фатализм, что ли. И я с чистой совестью еще раз спрошу: вам суждено было «зацепить» сердца миллионов людей?
– Поверить не могу, что мы опять говорим про «суждено». Давайте уже вместе заглянем в «Википедию» и почитаем про карму и фатализм – и чем они отличаются от удачи. Это противоположные понятия, честное слово. С миллионами вы тоже, к слову, погорячились, миллионы я точно пока не зацепила. Но я еще поднажму, конечно.
– Что вас вдохновило на создание «Кто не спрятался»? В тексте чувствуется незримое присутствие Агаты Кристи…
– Всякий герметический детектив – это поклон Агате Кристи. Невозможно не кланяться корифеям жанра, и глупо делать вид, что их не было. Я поклонилась всем, кого люблю, – и «Десяти негритятам», и «Отелю “У Погибшего Альпиниста”», и «Дому Эшеров», «Сиянию» и «Нечто». Причем с большим удовольствием поклонилась и совершенно открыто, они даже в тексте все упомянуты.
– Вы пишете согласно поэтапному плану работы? Или – как и в случае с «Вонгозером» – следуя за вдохновением?
– Я мучительно пишу, медленно и сразу набело, могу сидеть над абзацем неделю. Несколько раз случалось, что я за ночь писала целую главу целиком, не задумываясь и не выбирая слов, – но это редкие восхитительные моменты. Обычно получается ненадолго – на два предложения, например, или на десять минут. Я так и живу, собственно, урывками, и очень страдаю, пока штурмую это состояние, которое не умею вызывать и не умею удерживать, а только фиксировать – «вот, началось» или «все, закончилось». И при этом все время же помнишь, что Набоков писал на библиотечных карточках, кусок из первой главы, кусок – из середины, кусок из последней… как будто ему и не надо было прислушиваться, как будто он видел весь роман целиком. Что есть писатели, которые правда способны выдавать по большому хорошему тексту в год. Помнишь и смиряешься с этим. А план работы – ну что план? С планами тоже смешно выходит, как правило. Ты можешь его придумать, но история почти никогда к нему не выведет. У историй, к счастью, собственная воля, они часто умнее авторов.
– Очень, на мой взгляд, точная мысль: у текстов собственная воля. А писатель – он в таком случае кто?
– Приемник, может? Или передатчик. Посредник, словом. Пожалуй, это самое точное определение: посредник.
– Много приходится переписывать?
– Да все приходится переписывать, раз уж ты не Набоков.
– Каким будет следующий текст?
– Надеюсь, лучше предыдущего. Пока каждый твой следующий текст хоть немного лучше предыдущего, есть смысл.
– Какой главный совет вы можете дать начинающим писателям?
– Читайте как можно больше. Чтобы строже относиться к себе-писателю, придется сначала стать читателем, без этого нельзя обойтись. И не надо бояться, что, читая Толстого, Фолкнера, Булгакова или Пратчетта, вы станете писать, как Толстой, Фолкнер, Булгаков или Пратчетт. Не бойтесь, вам это не грозит, зато вы увидите, как можно писать. Высокая планка необходима: сравнивая себя с теми, кто лучше нас, мы неизбежно или стараемся сильнее, или бросаем писать вообще. И то и другое литературе только на пользу.
Яна Вагнер – писатель. Родилась в 1973 году в Москве, в двуязычной семье (ее мать приехала из Чехословакии). Окончила РГГУ. Дебютный роман «Вонгозеро» переведен на одиннадцать языков и был номинирован на две крупных литературных премии – «Национальный бестселлер» и «НОС», готовится экранизация. Роман «Живые люди», вышедший в 2014 году, был номинирован на премию «Национальный бестселлер». В 2017 году вышел третий роман – «Кто не спрятался».
Кристина Гептинг «Быть носителем идеалов – хорошо, главное, чтобы без фанатизма»
Кристина Гептинг – о сомнениях, ярком литературном дебюте и влиянии литературы на писателя.
– После победы в «Лицее» и выдвижении на «Нацбест» оказалось, что – далее цитирую – «…внимание к себе, как позитивное, так и негативное, людям моего склада переносить безболезненно для психики очень сложно». К чему ты оказалась не готова?
– Да я вообще, как выяснилось, не очень люблю внимание. В какой-то момент стало казаться, что и хвалят книгу не за то, и ругают не совсем справедливо. Сейчас хочется поменьше слышать, что там пишут и говорят о моей книге, потому что она мне самой немного надоела. Хочется идти дальше.
– И, продолжая вопрос: как твои тексты и твой главный на текущий момент текст повлияли на твою жизнь?
– «Плюс жизнь», конечно, сильно изменила и мою жизнь. Я давно пишу прозу, но в основном это были неудачные попытки, и я не скажу, что я даже предпринимала какие-то упорные попытки опубликоваться. С «Плюс жизнью» же было не так. Я верила в этот текст и знала, что он должен найти своего читателя. Собственно, главное, что изменилось, – то, что у меня теперь есть читатели. Наверное, их не очень много, но, учитывая, что раньше не было совсем, думаю, конверсия у меня очень хорошая. Теперь я знаю, что работаю не впустую. Впрочем, сейчас дебютный текст меня не вполне устраивает.
– Тебя не испугал успех?
– Если то, что со мной происходит, можно назвать успехом, то да, в какой-то степени испугал. Может, потому, что я никогда к нему особенно не стремилась.
– Не было ощущения, что ты получила некий аванс от мироздания? Теперь от тебя ждут новых ярких вещей, а это ответственность. Не страшно?
– Страшновато. Но куда я уже денусь с подводной лодки? Прекрасно знаю, что для части людей я как была самозванкой, так и останусь, что бы я ни написала. Кого-то новыми текстами, возможно, разочарую, а кого-то – порадую… Все это – пена дней. Для меня главное, чтобы мне самой было ценно то, что я пишу. По совпадению, обычно это все же ценно и кому-то еще. И это здорово.
– Ты сказала слово «киги» (то есть книги) в семь месяцев. Твоя семья – библиофилы. По-твоему, путь писателя для человека предопределяет среда? Или же это своего рода зерно, которое со временем все равно прорастет вне зависимости от среды?
– Думаю, играет роль и то и другое. Хотя «зерно» важнее. В более или менее интеллигентных семьях многие растут, но далеко не все занимаются творчеством. Абсолютно согласна с Ольгой Славниковой: звезда на макушку падает, вот и пишешь. Другой вопрос, что с этой звездой дальше делать.
– «С детства у меня существует такая потребность: художественно фиксировать то, что я вижу, что меня волнует и кажется мне важным». Это твои слова. Как ты думаешь, откуда в человеке возникает такая потребность?
– Неужели я это сказала когда-то? Ужас. Просто с художественностью-то у меня, конечно, не все гладко… Ну да ладно. Почему возникает такая потребность? От желания быть услышанным, увиденным, «почувствованным». Но от того, что звезда-то уже на макушку упала, просто рассказать что-то семье или друзьям – мало. Вот и пишут люди. Наверное, так.
– То есть тебе на макушку она упала, да?
– Ну, не в смысле звездной болезни, конечно. А в том смысле, что, публикуя художественный текст, считаешь себя вправе публично высказаться, да еще и не в формате поста в своем блоге, а в таком формате, который вроде бы претендует на вечность. Последние три слова читать с иронией, конечно.
– Сначала я подумал, что журналистика – ты же училась на журналиста – была таким компромиссом на пути к писательству. Но ты говоришь, что у тебя «не совсем журналистский склад ума». Почему же ты пошла учиться на журналиста?
– Ничего не умела делать, кроме как писать связные тексты. Поэтому действительно это был некий компромисс. Но умения написать удобоваримый текст для журналиста, конечно, мало… Я больше скажу – я на журналиста не только училась, я им с некоторых пор еще и работаю. И, конечно, мне приходится немного через себя переступать. Но все-таки – банальность – это очень интересная профессия, и именно это меня в журналистике привлекает. Она позволяет мне бесконечно удивляться людям и окружающему безумию. Осторожно радуюсь первым журналистским удачам.
– Передаю предупреждение от Хемингуэя: он считал, что на определенном уровне журналистика становится ежедневным саморазрушением для серьезного писателя. Впрочем, сам Хемингуэй тоже начинал в газете – это помогло ему отточить слог и упростить тексты. Чему учит журналистика тебя?
– Конечно, не хочется писать прозу «по-журналистски». Хочется развить тот участок мозга, который все же за литературу ответственен. Каждый мой журналистский день учит меня, что в минимум слов нужно вкладывать максимум смысла (передаю привет своему редактору!). Полезно ли это и для литературы? Все же склоняюсь к тому, что да. А вообще – время покажет. Если журналистика начнет убивать то скромное литературное начало, которое во мне есть, то, наверное, в этом случае два СМИ, в которых я тружусь, будут вынуждены искать мне замену.
– Максим Кантор, с которым я беседовал, сказал, что гуманист – это не профессия и что этому научить нельзя. Так он объяснял, ради чего занимается литературой. Ты, судя по всему, тоже задумываешься о гуманистической роли писателя в этом мире?
– Специально – не задумываюсь. Я просто надеюсь, что я – человечный человек. И как-то совершенно естественно для меня и прозу писать человечную.
– «Нашему автору – о чем бы он ни писал – совершенно ясно, что дело идет о величайшей переделке людей, о ломке старого мира. И, о чем бы он ни повествовал, он будет говорить именно об этом. А об этом нельзя говорить пошло, что у нас, к сожалению, часто бывает». Ты хочешь изменить мир?
– Ну, я же еще не сошла с ума. И мне не девять лет, а двадцать девять. Я не то что не верю в свою способность изменить мир, я уже вижу – я не могу изменить то, что меня беспокоит в собственном ребенке. Что уж про мир говорить? Ты не первый, кто задает мне этот вопрос. И мне странно, что я, значит, написала такую книгу, автора которой можно заподозрить в желании «изменить мир». Вот видишь, я даже это словосочетание не могу написать без кавычек. Невозможно изменить мир. Менять можно только самого себя. Впрочем, я и в этом не вполне уверена.
– Стоп. Но разве тексты не меняют мир? Разве ты не изменилась, читая любимых писателей?
– Разумеется, многое во мне изменилось с годами, но тут причудливо сплетались как книги, так и жизненный опыт. Знаешь, когда я была совсем-совсем юной, я верила в то, что, например, стоит прочитать Евангелие от Марка, и все, ты уже не будешь прежним. Но жизнь показывает, что нет, все не так просто. Я очень люблю читать, это действительно мое любимое занятие. Но я не могу сказать, что я жду от книги, как она возьмет и сделает меня другой…
– Ты признавалась, что очень любишь тех, кому сейчас восемнадцать – двадцать лет. Как ты узнаешь это поколение? Где ты пересекаешься с этими людьми?
– Моей племяннице семнадцать. На работе есть молодые ребята, которым чуть за двадцать. Да и раньше периодически сталкивалась с теми, кто младше меня на пять – десять лет: хоть на различных мероприятиях, хоть в сети, хоть в роддоме…
– Ты описала «идейных ребят». Какие они, идейные ребята XXI века? Чего мы не знаем о них? Чему можем у них научиться? Чему ты у них научилась?
– Мне кажется, это уже менее «материальное» поколение. Помнишь, в фильме «Курьер» главный герой отдает своему другу пальто – он мечтал о пальто – на, мол, и мечтай о чем-то другом? Так вот, это поколение однозначно оно «о чем-то другом». Быть носителем каких-то идеалов – это хорошо, главное, чтобы без фанатизма. Но через юношеский максимализм тоже нужно пройти. И лучше, конечно, лет в шестнадцать – двадцать. Потому что люди моего возраста, мыслящие ригористическими категориями, честно говоря, вызывают замешательство.
– «Ригористическими категориями»? Почему именно это словосочетание? Что такое «человек, мыслящий ригористическими категориями»? Почему тебя это смущает?
– Я даже залезла в словарь и еще раз проверила, а не перепутала ли чего. Нет, действительно, ригоризм – это строгость проведения какой-либо нормы в жизнь. Если вспомнить мой текст, там есть несколько ребят, которые так себя ведут. Мне это не близко, потому что это противоречит принципам свободы – и своей собственной, и других. И сам, короче, не живешь, и другим не даешь.
– Ты называешь себя въедливым читателем современной молодежной прозы. Как ты можешь охарактеризовать молодежную прозу XXI века? Можно без имен, чтобы никого не обижать, а можно и с именами.
– Я никак не систематизирую это чтение. Оно для меня – некий поток. Отдельных авторов охарактеризовать могу, систематизировать – нет. Всегда радует свежая интонация. Или неожиданный ракурс традиционной темы. Мне важно, чтобы текст был актуален, но не в «журналистском», если можно так сказать, смысле. Например, роман Оли Брейнингер «В Советском Союзе не было аддерола» актуален потому, что никто у нас еще не писал о детях глобализации. Цикл Жени Некрасовой «Несчастливая Москва» – там тексты сумасшедше метафорические, и, кажется, разве там есть что-то про нашу жизнь? А на самом деле он как раз о том безумии, что вокруг нас и внутри нас прямо сейчас, вот буквально последние годы. Или роман Сережи Кубрина «День матери»: с моей точки зрения, он о современном, неминуемо подступающем кризисе семьи.
– Я не устану тебя цитировать: «Текст не состоялся, когда ты его читаешь и тебе, образно говоря, не хочется надевать обувь главного героя, не хочется идти по его пути». Чья обувь тебе сейчас удобнее всего?
– Женская обувь. Честно говоря, она тесная, неудобная, почти до кровавых мозолей. Если родится новый текст, в нем будет женская повестка. Наверное, вновь обвинят в «следовании трендам», в том, что взялась за «горячую тему», но что поделать. Карма у меня, наверное, такая.
– Я не совсем точно сформулировал вопрос. Уточню: я имел в виду, какие писатели – или тексты – вызвали у тебя желание примерить обувь героя?
– Если текст хорошо написан, в эту обувь впрыгиваешь по определению. Сейчас почему-то вспомнился главный герой повести Зюскинда «Голубка». Каждый раз, когда перечитываю, хожу в его обуви, работаю в его банке и вместе с ним прихожу в ужас от кляксы голубиного помета на полу.
– О следовании трендам: а что, тебя уже в этом обвиняли?
– Да, говорили, мол, что «Плюс жизнь» выезжает лишь на актуальной теме ВИЧ. К тому же там у меня и геи, и феминистки, и даже кормящие грудью в ресторане матери… Я, признаться, не могу понять, почему это плохо – писать о том, что сейчас актуально, даже если представить, что я действительно с холодным расчетом составила список трендов и четко ему следовала (конечно, это не так). Я просто попыталась рассказать о жизни и о современных мне людях, которых я встречаю, сделав это с помощью different voice моего героя.
– А что насчет отчаяния?
– Периодически охватывает, конечно. Я иной раз и вовсе не верю, что могу три слова связать. Тем не менее мне кажется, что такое отчаяние – хороший признак. Не сомневаются в себе только идиоты. Другой вопрос, что вылечить отчаяние такого рода можно только работой.
– Ты все так же пишешь по ночам?
– Да. И даже на вопросы этого интервью я отвечаю прекрасной апрельской ночью с пятницы на субботу. Троица соседей-алкоголиков, видимо, по случаю наступившего тепла, открыла сезон и теперь выпивает прямо под окнами, перекрикивая мои мысли. Троица считает, что скоро война: двое злобно радуются, третий печально вспоминает погибшего в Афганистане племянника.
– Почему бы об этом не написать? Ты вообще черпаешь идеи из окружающей среды? Прислушиваешься? Присматриваешься к тому, что вокруг?
– Может, и напишу. Конечно, у меня ухо всегда востро, а близорукие глаза стараются быть наблюдательными. Пишущему человеку иначе никак, мне кажется.
– Как ты пишешь? Планируешь, строишь сюжет, а потом начинаешь писать? Или пишешь, не зная, куда придешь?
– Сначала пишу синопсис, некий общий план будущего текста. Но это не значит, что по ходу работы ничего не изменится.
– Ты много писала, прежде чем появилась «Плюс жизнь»?
– Немало. И почти все эти слова ныне в мусорной корзине. Я вообще не помню, чтобы я особенно довольна была написанным – разве что в первые месяцы после «Плюс жизни» была от текста в восторге. Потом прошло. У меня, кстати, бывали довольно большие перерывы, и один – чуть ли не в несколько лет. Наверное, если бы «Плюс жизни» предшествовало еще меньше слов, результат был бы хуже. Но даже когда не писала, соответствующее мироощущение меня не покидало ни на минуту.
– Продолжая тему: Хемингуэй говорил, что у него на девяносто страниц дерьма одна страница шедевра. А как у тебя? Много приходится переписывать?
– Довольно много. И руки постоянно чешутся все к чертовой матери переписать.
– И как ты себя сдерживаешь?
– А я и не сдерживаю.
– Для кого ты пишешь?
– Ну, какого-то сформированного портрета читателя у меня нет. Вот Галина Юзефович и некоторые другие рецензенты считают, что вроде как для молодежи. Может, это и так, но я знаю точно, что читают меня не только двадцатилетние. Это разные люди, если судить по отзывам от читателей, которые я получаю в соцсетях. У них разный возраст, разные профессии, разные убеждения. Вот для этих совершенно не похожих друг на друга людей, выходит, и пишу. Хотя, когда пишу, я не думаю о потенциальных читателях совсем.
– Не могу не задать вопрос о «Плюс жизни». Мне вспомнился роман «Над пропастью во ржи»: там тоже Сэлинджер показывает главного героя не через внутренний монолог, который, казалось бы, должен раскрывать его характер, а через взаимодействия Холдена с миром. Сначала ты становишься свидетелем того, как Холден общается с людьми, а уж потом через внутренний монолог героя ты узнаешь его интерпретацию происходящего. В «Плюс жизни» ты ведь использовала похожий прием?
– Пожалуй. Но, если я правильно помню, и внутренних монологов Лео читателю предлагает достаточно. Однако ты прав – ведущим приемом для собственной прозы я считаю как раз взаимодействие героя с тем и теми, кто его окружает.
– А ведь «Над пропастью во ржи» твоя любимая книга. За что ты ее полюбила?
– За особую интонацию. Для меня это самое важное в прозе. И тут невозможно объяснить, почему одна книга завораживает, а другая – нет. Ведь иной раз вроде все в тексте прекрасно: и метафоры удивительные, и язык живой, и мысль автора в тебе отзывается… Но что-то не то. Так вот, в «Над пропастью…» для меня все – именно то. Книга написана с той интонацией, которая меня не отпускает уже много лет. И стоит ли говорить, что это бунтарский текст. Но ведь бунт для Холдена – это только первый шаг. А дальше – будет сатори, обязательно будет.
– Кстати, ты в каком возрасте прочла эту книгу?
– Впервые попыталась прочитать лет в пятнадцать, и мне не понравилось. Мне показалось, что это нудятина какая-то. К тому же роман показался вопиюще несовременным. А потом, мне было лет двадцать или чуть больше, и Сэлинджер – ну, так уж случилось – умер… Я прочитала, и с тех пор книгу очень люблю.
– Возвращаясь к тому, что мы уже обсуждали: эта книга разве тебя не изменила?
– Я стала несколько по-иному ощущать жизнь, да. Тут я готова согласиться.
– Раз уж мы о книгах: какие писатели отбрасывают тень на твой ноутбук, пока ты пишешь?
– Ну, что Сэлинджер порядочно теней наотбрасывал, только ленивый не заметил. Я не знаю, о каких еще авторах можно сказать, что они на меня повлияли, поэтому просто несколько любимых имен назову. Например, Чехов. После Чехова я влюбилась на всю жизнь в Довлатова – ну, тут параллель, по-моему, легко провести. Еще я большая поклонница Буковски – могу читать с любого места и злиться, плакать, хохотать… Ну и есть писатели, у которых я нежно люблю отдельные вещи. У Короленко, к примеру, «Историю моего современника». Удивлена, что об этой книге широкий читатель и не знает. И, скажем, у Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть» – прекрасный хрустальный роман о юности.
– Результатом всего стала повесть «Плюс жизнь» – а что будет дальше?
– Муравьиными шажками двигаюсь к следующему тексту, но уж очень муравьиными, иногда прерываясь на маленькие рассказы. Я ведь уже дала небольшой спойлер. Вновь хочется сказать то, что важно именно мне, именно здесь и именно сейчас. И, надеюсь, сказать так, как могу только я. И, конечно, хочется, чтобы это был роман. Надеюсь, осилю.
Кристина Гептинг – журналист, писатель. Родилась в 1989 году в Новгородской области, живет в Великом Новгороде. Автор повести «Плюс жизнь», лауреат литературной премии «Лицей» за 2017 год.
Максим Кантор «До тридцати лет люди, как правило, не умеют думать»
Максим Кантор – о мудрости писателя, равнодушию к литературным премиям и симбиозе живописи и литературы.
– Чехов говорил: «Медицина – моя законная жена, а литература – любовница». У вас, видимо, наоборот: литература – «жена», живопись – «любовница»? Или у вас гарем?
– Я не женат на литературе, что вы. И на живописи не женат. Я женат на женщине, у нас дети. Поскольку Чехов не знал, что такое собственная семья, его посещали мелодраматические фантазии. Все устроено иначе.
– Вы говорите, что вы прежде всего писатель, а потом уже художник. Но у меня сложилось впечатление (возможно, ошибочное), что вас воспринимают как «художника, который время от времени становится писателем». Вас такое восприятие не задевает?
– Мне безразлично.
– В медицине есть очень редкий диагноз – человек-«химера». Суть в том, что у такого человека две ДНК. Организм, состоящий из разнородных клеток. У вас не возникает порой ощущения, что внутри вас – два разных человека, которые уживаются в творчестве?
– Нет.
– Что движет сюжет вашей жизни?
– Любовь.
– Мне хочется понять, как в вас уживаются две стихии. Они конфликтуют? Дополняют друг друга? Искусство требует серьезного эмоционального включения – как вы соблюдаете баланс внутренних ресурсов, чтобы не халтурить ни там, ни там?
– Думаю, вы во власти неверного представления о том, как совмещаются занятия и эмоции. Поверьте, речь не идет о разделении натуры, наоборот – о цельности. Как отцу удается любить одновременно нескольких детей? Разве родитель разделяет эмоции – или, напротив, отец именно потому способен любить одновременно нескольких, что он цельный человек? У меня трое сыновей, и каждого из них я люблю особенной любовью, но чувства не вступают в противоречия. То, что люди, как правило, выражают себя лишь через один вид деятельности, мне представляется не вполне нормальным. Нормой в моих глазах является совмещение разных занятий – это позволяет видеть и понимать мир полнее. И примеров такого рода – достаточно. Это и есть норма. Прочее скорее аномалия.
– Как вам удалось достичь высоких результатов в обеих сферах? Ваша живопись признана на мировом уровне: картины выставлены в двадцати четырех музеях. Книги удостаиваются премий…
– Живопись я выставлял уже в молодости и успел прославиться годам к тридцати. Романы стал публиковать позже, лет в сорок пять. Лишь в этом году книги стали переводить на иностранные языки. Полагаю, книги будут известны в мире так же широко, как картины. Но, право, это ничего не значит. Без всякого уважения отношусь к премиям, выставкам и музеям. Поверьте, это ровно ничего не добавляет ни мыслям, ни душе. Видите ли, я был довольно тщеславным (или честолюбивым) человеком. Вы же откуда-то взяли эту цифру – двадцать четыре музея. Возможно, это я сам когда-то пересчитал. Я этим гордился. А теперь мне стыдно за пустое тщеславие.
– Чем вы объясняете свой успех в живописи? И как живопись помогает писательству?
– Никогда не думал про успех социальный. Когда таковой приходил, радовался. А теперь и вовсе все равно. В работе важно совсем другое. И в том, что действительно важно, у меня нет никакого успеха.
– А что для вас действительно важно?
– Изменить мир искусством. Именно от искусства зависит, каким будет мир – злым или добрым. Мне бы не хотелось, чтобы эти слова «хочу изменить мир» прозвучали слишком патетически и претенциозно. Конечно, претензия и патетика в них присутствует. Но совсем не та, какую можно предположить в амбициозном авторе. Такого рода амбиции во мне – это стыдно, но это правда – были; я был высокого мнения о значении своего высказывания. Хочу надеяться, что от таких амбиций избавился навсегда. Видите ли, я совсем не хочу стать «властителем дум». Само это выражение «властитель дум» представляется мне исключительно глупым. Во-первых, потому, что, при моих весьма скромных знаниях, кому-то навязывать свои мысли нелепо: я и сам мало что знаю. Я бы хотел знать больше – и прихожу в отчаяние от того, что жизнь уходит, а я так мало о ней узнал. И, во-вторых, самое замечательное, что могло бы произойти с миром, это то, что люди будут думать самостоятельно, без подсказки, сами будут любить и сами будут принимать решения. Нет, ни «властителем дум», ни «знаменитостью» я быть не хочу. В этой жизни самое важное – скромно уйти, по возможности не навредив. Я и так совершил много скверного и множить это не хочу. Когда я говорю «изменить мир», то имею в виду следующее. Искусство, вообще говоря, вещь паразитическая. Другие люди, которые пекут хлеб, шьют одежду и строят дома, содержат художника за то, что он сочиняет слова, рисует картины, – и большой вопрос: приносит это кому-то пользу или нет. Отвлекает от тяжести обыденной жизни? Да, но путешествие к морю и здоровая пища – важнее. Есть несомненная функция искусства, которую Лев Толстой определил словом «заражать»; искусство внушает нечто, подвигает на что-то. В огромной массе своей продукт искусства провоцирует людей на массовые действия – на войну, праздник, энтузиазм в общих делах. Не обязательно пропагандистское, но вообще все монументальное, декоративное, абстрактное, патриотическое, сентиментальное, мелодраматическое, детективное так или иначе взывает к таким началам в человеке, которые объединяют людей общей – и, как правило, не продуманной до конца эмоцией. Иными словами, искусство большей частью – манипулятивно. В этом нет ни плохого, ни хорошего, просто это так. И есть крайне небольшой сегмент искусства, в котором произведение обращено к одному-единственному читателю/зрителю/слушателю. Этот тип искусства можно назвать гуманистическим. Такое искусство не сможет ни звать на войну, ни декорировать митинг, ни декларировать ценности, пригодные к манипуляциям толпой. Это одинокий диалог – один на один. Так вот, мне представляется, что именно тогда, когда автор не следует моде, не участвует в рынке, не хочет нравиться – когда он действительно старается очистить свою речь от чужих и ненужных интонаций, голос его становится важен. Изменить мир – это ведь не значит направить толпу на войну. Это всего лишь значит – поговорить с одним человеком. Но для этого надо найти свои слова.
– «Даже свои картины я строю как книги». Расскажите, пожалуйста, о принципе. Вам, судя по тому, что вы говорите, лучше других художников подходит определение «писать картину».
– Я люблю осмысленное, продуманное искусство. Интересны картины, которые можно долго читать как сложные книги. Картины Брейгеля, ван дер Вейдена, Гойи, Мантеньи невозможно понять, не разобравшись в сказанном. К сожалению, мне потребовалось прожить много лет, прежде чем я научился это видеть и понимать, что нарисовано. Подобно большинству «современных» художников, я слишком много внимания и слишком много лет отдал так называемому самовыражению, то есть жесту. Это были пустые, экспрессионистические годы. Мне стыдно, что так бездарно прошло много лет. Но исправить этого я уже не могу. Да, и картину, и книгу надо строить, продумывая каждый поворот сюжета и отвечая за смысл сделанного.
– Ваши тексты – и вы об этом говорили – объединены и становятся продолжением один другого. А ваша живопись – продолжение ваших книг. О чем вы пишете?
– Это верно. И мои картины, и мои книги объединены одной темой. Это история моей семьи. То, что я делаю (и в картинах, и в книгах) – это создание семейной саги. В определенный момент я захотел увидеть большую историю через историю своей семьи. Впрочем, это лишь сюжет; существует много иных аспектов работы.
– У вас есть картина, на которой изображены ваш отец Карл Кантор и его друг Александр Зиновьев. Они в каком-то смысле изображены как близнецы. Быть может, вы подсознательно писали автопортрет? Как говорил ваш отец: «Каждый человек состоит из других людей».
– Мне кажется, мой отец никогда не говорил такой фразы; это не его интонация. Папа сказал бы, что человек состоит из собственного осознания истории, из общего прошлого, из памяти, из культуры мира, которую он сумел сделать своей. Я где-то написал, насколько помню, что «человек состоит из других людей», впрочем, это не моя, а довольно расхожая мысль. В то время, когда я эту фразу произносил, она мне казалась проникновенной. Сегодня думаю, что в этой фразе нет ничего потрясающего. Двойной портрет – Карла Кантора и Александра Зиновьева – я писал отнюдь не как изображения близнецов, но как антиподов. Картина называется «Пьеро и Арлекин», персонажи одеты соответственно: Карл Кантор в белой рубахе, Зиновьев в красной рубахе в черную клетку. Интроверт и экстраверт, противоположные темпераменты. Уместно сказать, что картина является своего рода ответом на картину Сезанна «Пьеро и Арлекин». Вообще это распространенный сюжет. Отец был упорным, твердым, но не склонным к эскападам и бурлеску. Зиновьев был эксцентриком, человеком активного действия, часто независимым от процесса мышления. Это были друзья, и оба – натуры яркие, но несхожие ни в чем. Возможно, вы правы в том отношении, что этот двойной портрет демонстрирует две черты моего характера. Тут самое время спросить, состою ли я «из Карла Кантора и Александра Зиновьева». Конечно же, нет. Отец – мой учитель почти во всем. Любовь к нему – основа моего сознания. Зиновьев – дорогой друг, я обязан ему определенным опытом. Он мне очень нравится. Но степени их влияния на мое сознание несопоставимы. Конечно, во мне (как и в любом человеке) сосуществуют несколько страстей или, лучше сказать, несколько начал, сформированных деятельностью определенных личностей. Одновременно с Карлом Кантором в моем сознании живут и Питер Брейгель, и Франсуа Рабле, и Гойя… И не только знаменитости. Во мне живут любимые люди: мои дети, мой брат, мои жены – первая и вторая. Безусловно, и Зиновьев тоже присутствует, но его место намного скромнее.
– А вот Кормак Маккарти как-то сказал, что все книги сделаны из других книг. В этом мире, получается, все состоит из всего?
– Мне кажется, Маккарти повторил (думаю, он о ней слышал) знаменитую фразу Пикассо: «Я начинаю картину с того, что стараюсь повторить ту картину из истории искусств, которая мне нравится, а потом уже получается свое». Отчасти это правда. Непрерывная традиция – хребет творчества. В мире не так много тем, есть классические архетипы конфликтов. Шекспир берет сюжеты у Плутарха, а Куросава – у Шекспира. Но, помимо скелета, в творчестве существуют уникальные сердце и душа. Если у художника нет потребности сказать то, что никто никогда не говорил, не нужно браться за работу.
– Верите ли вы в предопределенность и в то, что писательство – это врожденное отклонение?
– Нет.
– Это дар?
– Скорее потребность.
– Вы многократно повторяли, что писательство – это не профессия. Что же это – в вашем понимании?
– Профессиональное занятие литературой, разумеется, существует. Есть мастера детективного жанра, любовного романа, идеологического заказа. Есть кружки и группы, где занятия определенной литературой, с характерной интонацией – становятся профессией и даже стилем жизни. Например, есть кружок последователей Бродского или группа приверженцев патриотической прозы. Литераторы такого толка становятся участниками своего рода корпораций, с внутренними правилами, иерархией. Да, они профессионалы. Но мне это не близко. То, что мне интересно в литературе, называется studia humanitus, и этот род занятий профессией назвать нельзя. Гуманист – это не профессия. Понимаете, это такого рода занятия, которым научиться никогда нельзя. В них слово выступает связующим звеном между разными дисциплинами. Словом закрепляешь понятое. И всегда понимаешь, как мало знаешь. И я вовсе не хочу, чтобы моя реплика прозвучала горделиво: вот, мол, какой я особенный, как Эразм Роттердамский. Вовсе нет. Напротив, я осознал тщету своих усилий и только хотел бы двигаться в верном направлении. Вот только времени осталось мало. И знаний совсем немного.
– Куда вы теперь идете?
– Возможно, я неточно выразился. Я никогда не менял направления. Моей заслуги в этом нет – меня так учил отец. Просто с годами я научился видеть дорогу сам. Раньше шел на ощупь.
– «Ни на писателя, ни на художника научить не могут» – это ваши слова. А вот сказанное вами в другом интервью: «На писателя уж точно выучиться нельзя, а чтобы стать художником, надо овладеть некой суммой знаний, приемов – тем, что называется “ремесло”». Где истина?
– Можно обучить ораторскому мастерству, но нельзя обучить страсти трибуна. Можно обучить приемам, необходимым для занятий рисованием; но научить быть художником невозможно. Искусству вообще научить нельзя. Но, в отличие от занятий литературой, занятия изобразительным искусством включают в себя очевидный сегмент технического ремесла. Надо уметь грунтовать холст, делать подрамник, смешивать краски. Подобных навыков много, треть времени, необходимого на создание картины, уходит на сугубо техническую сторону дела. С годами понимаешь, что во время этих как бы нетворческих процедур ты уже работаешь над образами картины. Однако это ремесленные навыки, которыми надо овладеть так же свободно, как хирург владеет скальпелем или скрипач смычком. Понимаете, владение смычком и скальпелем – не гарантия того, что операция будет удачной, а концерт великим. Последнее зависит от гения исполнителя. От его понимания задачи. Но обращаться с инструментом надо уметь. Вы можете поспорить: вы скажете, что надо научиться владеть словом, чтобы стать писателем. С этим я согласен и не согласен; причем несогласия в данном случае больше. Если ваша речь изначально, по причине вашей душевной организации, не стала особенной, присущей только вам – то вы писателем не являетесь. И обучение здесь не поможет. Чему можно научить, так это прилежанию в обращении со своей речью и требовательности в обращении со своими эмоциями и мыслями. То есть надо не «владеть словом» вообще, неким абстрактным словом – но требуется владеть своим, изначально присущим вам словом. Это совсем иной случай, нежели владение скальпелем или умение грунтовать холст. Хирург учится владеть анонимным скальпелем, и лишь гений врача превращает анонимный скальпель в уникальный инструмент, присущий только ему. Но Литинститут не может сделать анонимное ремесло компоновки слов вашим личным. Я не знаю ни одного выпускника Литинститута, который стал бы большим писателем.
– Хорошо, тогда задам такой вопрос. Вы сказали однажды, что «именно это отличает искусство: частный опыт отливается во что-то, что можно разделить со всеми». Но разве живопись не делит частный опыт художника с аудиторией?
– Я имел в виду иное. Искусство тогда является таковым, когда говорит о вещах, важных для каждого. Но художник ведь пишет только то, что знает и переживает сам. Другого он просто не знает. Частное переживание требуется возвысить до общезначимого. Это редко получается.
– Но ведь и с литературой так же – она выражает частный опыт писателя.
– Безусловно. И про художника, и про писателя это одинаково верно. Частный опыт – это наш материал. Впрочем, важно понимать, что для разных людей понятие «частного опыта» различно. Для одного это участие в колониальной войне, для другого – это понимание Августина, для третьего – сопряжение того и другого. Все опыты разные.
– Кто такой писатель? И в какой момент пишущий художественные тексты человек становится писателем?
– Писатель – это человек, способный переживать за других и осознать то, что именно он чувствует. И способный словами выразить оригинальные мысли. Но важно, думаю, уточнить, что речь идет о гуманистических мыслях. Я не склонен считать призывы к войне достойным писателя занятием.
– Где грань между писательством и графоманией?
– Любой писатель – графоман. Не любой графоман – писатель. В среде «профессиональных» писателей графомания становится ремеслом. Еще в большей степени определение «графоман» касается литературных критиков, несостоявшихся писателей, которые тем не менее считают, что Провидение наделило их способностью трактовать литературу и писать фразы. Потребность сообщать свои эмоции окружающим – неизбывна. Если собрать воедино бесчисленные колонки газетных зоилов, то у каждого журналиста возникнет собрание сочинений претенциозной назидательной макулатуры. Это графомания в чистом виде.
– Каким качеством нужно обладать, чтобы иметь право зваться писателем?
– Независимым умом.
– Вы однажды заметили, что писатель не должен работать ради денег. Как вы для себя определяете – что такое писательская независимость? От чего и от кого писатель должен сохранять независимость?
– Надо быть независимым от всего. Прежде всего – от мнения моды и кружков.
– Вы стали художником из прагматических соображений, а писателем… По зову сердца?
– С чего вы взяли, что я стал художником из прагматических соображений? Это неправда и полная ерунда. Из прагматических соображений становятся модным авангардистом. С самого начала я противопоставил себя моде и кружкам. Прагматической цели это не способствовало. Моя биография художника и писателя абсолютно идентичны. И то и другое делает один и тот же человек. Повторяю: вы зря придумали феномен двойственной натуры. Такого нет.
– Не хотел вас задеть. Я просто вспомнил ваше интервью 2008 года: «Другое дело, что рисование сделалось моей профессией по вполне прагматичным соображениям: я понимал, что писательство невозможно сделать профессией, писательство – это вещь, которая не должна быть ничем ангажирована».
– В моей реплике десятилетней давности все сказано предельно ясно. Прагматикой в данном контексте является ремесло, образование, социальная профессия, то есть то, что в быту именуют «дипломом университета». Я равно был предан живописи и литературе, равно занимался сочинением романов и писанием картин, но дипломированный писатель – это нонсенс, а профессия графика – обычная реальность. Профессия графика не имела никакого отношения к моим ежедневным занятиям живописью. И к писательству отношения не имела. Просто она давала возможность заработка. Если бы не случилось перестройки и я не прославился картинами (которые я писал вопреки занятиям в институте), я бы так и работал графиком в каком-нибудь проектном бюро. И был готов к такой жизни. Картины и романы писал «для себя».
– Вы заметили: «Главным препятствием созидательного развития является оголтелое, пещерное невежество». Но сейчас сеть переполнена графоманами-невеждами. Как вы можете прокомментировать такое обилие дилетантизма в литературе?
– Поскольку я не считаю писательство профессией, то не вижу разницы между «дилетантами» и «профессионалами».
– Но как тогда прочертить границу между истинным творчеством и литературным кривлянием, эксгибиционизмом, бумагомаранием?
– Границы нет. И не должно существовать. В творчестве нет законов, помимо тех, которые автор устанавливает для себя сам. Можно брать пример с Рабле, а можно стремиться превзойти соседа по литкружку. Зависит от человека.
– Расскажите о своих первых шагах в писательстве. Сколько лет вы писали «в стол»?
– Я пишу романы с шести лет. В школе писал романы из школьной жизни. Первый «взрослый» роман пробовал писать в шестнадцать лет. Второй – в двадцать два. К счастью, не сохранились. До тридцати лет люди, как правило, не умеют думать. В моем случае все еще хуже: я научился следить за мыслями в сорок пять лет. И то не вполне.
– Первое, что говорил своим студентам преподаватель Литинститута Николай Борисович Томашевский: «Рассказать вам, как писать, я не могу, потому что иначе я бы написал “Войну и мир” и послал вас к черту. Но я могу рассказать, как не надо писать, – это не менее важно». Кто рассказал вам, как не надо писать? Кто учил вас литмастерству?
– У меня нет никакого «мастерства». Ни в рисовании, ни в записывании слов. Когда пишу, то стараюсь записать с максимальной точностью именно то, что думаю я, а не кто-то иной, и именно такими словами, которыми думаю я.
– Отец сыграл значительную роль в вашем формировании как писателя и художника, если я правильно почувствовал. Расскажите о нем, пожалуйста.
– Мой папа был великим человеком. Я эти слова произношу совершенно спокойно, без пафоса, поскольку знаю, что это именно так. Он был мудрец – сопоставимый (в моем понимании) по своему значению с величайшими умами человечества. Папа был безразличен к социальному успеху и редко издавал то, что записывал; к тому же он редко записывал то, что говорил. Его ежедневные беседы были сокровищем мудрости, неспящего ума, а также уроком независимости и благородства. Мы с моим старшим сыном собрали перед самой папиной смертью одну большую книгу «Двойная спираль истории». Но, повторяю, какой бы прекрасной ни получилась книга – это лишь малая часть папиной души и малая часть из созданного им. Сказать, что он сформировал меня, – значит сказать очень мало. Как сказал однажды Вергилий: все, что я сделал, – это крохи с пиршественного стола Гомера. Но, пожалуй, главное, чему я научился у отца, это равнодушию к карьере.
– Напоминает Фому Аквинского. Под конец жизни он перестал писать, и когда его спросили, почему, он ответил: «Я видел то, перед чем все мои слова как солома». Вы идете по тому же пути?
– Ну что вы! Зачем такие сравнения? И потом, я люблю рисовать и люблю сочинять.
– Как вы работаете над романами? Детально планируете или следуете за полетом мысли? Есть ли у вас незыблемые правила?
– Есть правила, есть привычки. О них рассказывать не стану. Главное в писании романа – поймать его поступь, ритм движения фраз. Это мало кому удается. Но без этого нет романа.
– Писатель создает тексты или они приходят к нему сами?
– Создает.
– Вы отслеживаете реакцию на свои книги?
– Лет десять назад, когда я издал «Учебник рисования», у меня было тщеславное желание следить за рецензиями. То же касалось и статей о картинах, когда я был молод. Уже много лет как мне абсолютно все равно. Предпочитаю не знать.
– Как вы отличаете истинную литературу от лингвистической симуляции?
– По любому предложению. Когда я жил в России, то, заходя в книжный магазин, открывал книги современных авторов наугад и читал один абзац.
– Спасибо вам большое за потраченное время и ваше творчество.
– Что вы! Это вам спасибо.
Максим Кантор – российский художник, писатель, историк искусства, эссеист. Родился в 1957 году в Москве. Живопись выставлена в 24 музеях мира. Автор четырех романов. Роман «Учебник рисования» вошел в список финалистов премии «Большая книга» (2006) и в длинный список премии «Русский Букер» (2006). Роман «Красный свет» в 2013 году вошел в шорт-лист литературной премии «Национальный бестселлер» и в короткий список премии «Большая книга».
Сергей Лукьяненко «Мне нечего было читать»
Сергей Лукьяненко – об истоках своего творчества, графоманах и светлой грусти.
– Как отличить гениального писателя от талантливого?
– Если с гарантией – то только по прошествии времени. Только время расставляет всех писателей на правильных полках… да и то не всегда. Но если попытаться сделать это при жизни… Ну, можно сказать так – талантливый писатель способен написать все, что угодно читателю. Гениальный писатель пишет то, что хочет он сам. К сожалению, точно так же поступают и графоманы, что несколько усложняет картину.
– Существуют ли хорошие курсы для начинающих русскоязычных писателей-фантастов?
– Нет. На данный момент – нет. Существует немало коротких, в один день, курсов, конкурсов, занятий, которые могут принести начинающему автору пользу. Но полноценные курсы, тем более нацеленные на фантастику, сейчас отсутствуют. Они были в советское время – «Малеевка», потом «Дубулты». Мне посчастливилось участвовать в одном из последних. Кстати, помимо многих активно пишущих и ныне фантастов там занимался и Алексей Иванов, начинавший в литературе именно как фантаст. Проблема в том, что подобные курсы занимают время. Авторы должны оторваться от обычной жизни на неделю-две, то есть нужно оплачивать проживание в пансионате или доме творчества, питание, проезд. В советское время такие мероприятия спонсировал Союз писателей, финансы на это были. Сейчас у нас много союзов, а денег нет ни у одного. Если же попытаться собрать начинающих авторов за их счет, то не попадут многие безусловно талантливые и нуждающиеся в семинаре, зато приедут многочисленные графоманы, которых что учи, что не учи… В «Дубултах» такие тоже были, но обычно приезжали авторы из национальных окраин, которым выдали направление в местных союзах «по разнарядке» или по блату.
– Как вы начали писать? Что подтолкнуло написать первый текст? Что вы тогда чувствовали?
– Мне нечего было читать. Мне было восемнадцать с небольшим лет, я учился в мединституте, вечера часто проводил один, на съемной квартире. Интернета не было, даже видеосалонов еще не было, по ТВ и в кинотеатрах тоже было мало что смотреть. Хороших книг тоже было не найти – для молодежи повторно напоминаю, что интернета не было. Каменный век! Очень неустроенны мы были в бытовом отношении. Поэтому когда я понял, что хочется прочитать какую-нибудь фантастику, а ее нет, то я взял тетрадку и начал писать рассказы, которые сам хотел бы прочитать. Потом показал друзьям – и те вдруг пришли в восторг. Что я чувствовал? Восторг. Оказалось, что писать – так же интересно, как и читать. Даже немного лучше.
– Откуда это фантастическое вдохновение? Что помогает творить?
– Мне кажется, что главное – жить в своем произведении, поверить в придуманный мир, в живущих там людей (ну, или не-людей). Понимать их. Даже не самых приятных. Относиться к созданному миру не как к игре ума или кукольному театру. Разумеется – на то время, пока пишешь. Иначе психика не выдержит. Писатели-фантасты, всерьез верящие в придуманные ими миры, – это редкий случай, но когда уж случается, то это очень печально выглядит. Когда меня спрашивают что-нибудь вроде «Верите ли вы в вампиров?», я всегда отвечаю: «Верю ровно до того момента, пока не встаю от компьютера».
– Что для вас приятная грусть? И не в таком ли состоянии вы пишете книги?
– Ну… сложный вопрос. Лучше бы все-таки совсем без грусти… Я писал «Осенние визиты», четко понимая, что книга для меня слишком сложная: до этого я не вел одновременно столько сюжетных линий, не брался за сюжет из нашего мира. И понял, что вытянуть книгу могу только на эмоциях. Можно сказать, искусственно вогнал себя в депрессию, в эту самую «светлую», а иногда и не очень «светлую», грусть. Это достаточно тяжело. Вот когда завершаешь историю, дописываешь книгу и понимаешь, что это конец, что продолжения не будет, – вот тогда, наверное, эту светлую грусть испытываешь. Будто прощаешься с друзьями и понимаешь, что с ними все хорошо, что будешь с ними видеться – но никогда не будет каких-то совместных дел, проектов, историй…
– Вопрос об идее. Как понять, что она – та самая? Что это будет книга, а не зря потраченное время?
– Это заранее не понять. Порой чувствуешь, что тема удачная, что книжка будет нужна, – но не факт, что угадаешь. Для меня критерий один – если мне интересно писать, если в процессе интересно рассказывать друзьям о том, что пишу, выкладывать в сеть фрагменты – значит, книга правильная, идея живая. Но иногда мнение автора с мнением читателей расходится.
– Если человек пишет о том, что сейчас популярно, а не о том, что ему нравится, это все еще называется творчеством? Или это уже просто способ заработать и оставаться на слуху?
– Популярность – это лишь оболочка, форма подачи. Можно писать о вампирах, можно писать о живых мертвецах, но это все равно будет книга о людях и это будет творчество. А можно выбрать «непопулярную» тему и старательно написать Большую Литературу – а результат все равно окажется жалким. Главная опасность именно в погоне за трендом, в попытках сделать что-то на волне чужого успеха. У популярного писателя маги в городе? И я напишу про магов в городе! У писателя про компьютеры и виртуальность? И я напишу про компьютеры. Вот когда идет именно копирование чужих ходов, доходящая до смешного (у Роулинг мальчик-маг в волшебной школе, а я напишу про девочку-мага в волшебной школе), вот тогда это не творчество, а заработок. В общем-то, ничего плохого в этом нет, все лучше, чем ничего не делать.
– Каковы шансы абсолютно обычного человека стать знаменитым писателем? Это лотерея? Или достойное произведение найдет своих читателей в любом случае?
– Наверное, все-таки не «обычного человека», а человека с задатками писателя. Ибо если совсем нет к этому способностей – такое бывает – то, сколько ни старайся, а ничего не выйдет. А вот у рядового начинающего автора… да, тут лотерея. Можно стать хорошим писателем, известным, популярным. Но чтобы шагнуть на следующую ступеньку – «знаменитый», – нужна удача. Случайность. Гигантский всплеск популярности. Это может быть удачная экранизация, неожиданная шумная слава какого-то романа, интересная личность автора (воевал в горячих точках, возил контрабанду из Африки, сам себе ампутировал ногу, попав в капкан, нырнул в батискафе на дно океана). То есть по большому счету – должен быть уже внелитературный фактор.
– Когда нет вдохновения, то можно (и нужно ли) писать, ожидая, что оно появится в процессе? Или лучше отложить рукопись до лучших времен?
– Можно сделать передышку на несколько дней – но это если чувствуешь, что где-то в глубине сознания книга продолжает вариться, пишется. Можно на время заняться другим текстом. Но тут всегда будет опасность потерять интерес к тому, что сейчас делаешь. Мысленно дописать книгу, к примеру, – и не захотеть ее писать в бумаге. По большому счету – надо писать. Даже если не идет – хотя бы по чуть-чуть. Это как с изучением иностранных языков – если не будешь каждый день учить понемногу, то не выучишь никогда.
– Бывали ли у вас периоды прокрастинации? Как вы с ними боролись?
– Конечно, бывали. Но, собственно говоря, я уже ответил: самый лучший способ борьбы с откладыванием – это прекратить откладывать и заняться делом. Паузу взять можно, но короткую. И лучше не бездумную паузу, а другую работу. В конце концов, по дому что-то можно сделать. Гвоздь забить. Посуду вымыть. С ребенком поиграть.
– Как поймать идею? Откуда берется этот «скелет», который обрастают плотью и становится потом готовой работой с композицией, персонажами и сюжетом?
– В начале бывает слово. Нет, на самом деле, в начале бывает какая-то мелочь. «Линию грез» я начал с фразы «Больше всего Кей Дач не любил детей», не зная, кто такой Кей, почему он не любит детей и в каком мире живет. Поскольку персонаж мне активно не понравился, то я его тут же убил. Поскольку персонаж явно был интересен, я его воскресил. Раз он воскрес, а это не фэнтези, то это очень технически развитый мир, где, по сути, побеждена смерть. Подобное общество несет в себе множество конфликтов, интриг, совершенно иное отношение к жизни и смерти. И вот – из странной фразы вырос целый мир и его герои. Иногда роман возникает из названия. Иногда из идеи. Но всегда в начале что-то очень маленькое. Песчинка, которая попала в моллюска, обрастает перламутром и становится жемчужиной. Идея, которая попала в мозг писателя, обрастает словами и становится книгой. И в том и в другом случае происходит одно и то же – живое существо избавляется от беспокоящего чужеродного агента, обволакивая его чем может – моллюск перламутром, писатель словами.
– Как вы пишете? Разрабатываете ли план повествования до начала работы над текстом или полагаетесь на вдохновение и «отпускаете» историю?
– Всегда отпускаю. План нужен только в случае совместной работы. Вот тогда действительно нельзя текст пускать на самотек…
– Какой главный совет вы можете дать начинающему писателю?
– Процитирую формулу из старой книжки советского фантаста Георгия Гуревича – ТРОЯ. Эти четыре буквы обозначают то, что нужно для писателя.
Т – талант. Если нет изначальных способностей, то ничего не поделаешь.
Р – работа. На таланте можно выезжать первое время, но если не работать, то развиваться не будешь. А если работаешь – то и маленький талант можно развить.
О – опыт. Все, что создал, остается с тобой. И рано или поздно начинает помогать. Ты знаешь какие-то хитрости. Умеешь справляться с проблемами (да хоть бы и с прокрастинацией). Делаешь ту или иную работу с меньшими усилиями.
Я – ярость. Когда не хватает таланта, работы, опыта – можно восполнить это за счет эмоций. За счет ярости, страсти, нетерпения, тщеславия, зависти (а почему бы и нет?), даже жадности и злобности. Любая эмоция идет в топку писательского паровоза. И это тоже надо уметь использовать.
Помните эту волшебную формулу – и писать будет легче.
Сергей Лукьяненко – писатель. Родился в 1968 году в Каратау Казахской ССР. По образованию врач-психиатр. Первые рассказы Лукьяненко были опубликованы в 1988 году. С 1996 года живет в Москве. Автор множества романов, среди которых серия «Дозоры», «Лабиринт отражений» (и его продолжение «Фальшивые зеркала»), «Спектр». Был неоднократно номинирован более чем на 25 различных литературных премий в различных номинациях и стал лауреатом каждой из них хотя бы один раз.
Вместо послесловия
Помните мантру: писатель всегда одинок? Психотерапевт Кирилл Кошкин сказал мне: «На горизонтальном поле личности действуют до восьми персонажей». Звучит страшно? Но ведь для писателя это большая удача! Только вдумайтесь – внутри вас не один автор, а как минимум восемь. Полноценный консилиум.
Книгу «Пиши рьяно, редактируй резво» написали восемь авторов, с которыми я еще ближе познакомился в процессе работы над рукописью. Я их изучил, и теперь мы семья – я и мои альтер эго. Для удобства я мысленно объединил внутренних персонажей в «группу поддержки» и назвал «альтер-Егоры». Всякий раз, когда на пути встречались острые углы, спорные вопросы или меня одолевали сомнения, в игру вступал «альтер-Егор»:
● прокурор;
● защитник;
● критик;
● ребенок;
● перфекционист;
● неудачник;
● самозванец;
● лидер.
Думаете, у вас нет соавторов? Как бы не так. Вы просто их усыпили. Разбудите своих альтер эго, и вы получите самую крепкую команду. Альтер эго не хотят вам зла. Они ваши друзья, вы сможете поладить. Нормальные ребята, если найти с ними общий язык. Хотите закончить рукопись – вот совет: слушайте подсознание. Ответы внутри вас, а не вовне.
Избавьтесь от сомнений, страхов, самоуничижения – и вы поймете, почему многие захвачены этим странным и загадочным занятием – писательством. И помните: «Все то, что я говорю сейчас, можно, конечно, принять к сведению, а работать каждый должен по-своему». Так сказал Исаак Бабель. Так говорю и я. Главное, что следует помнить, – чтобы стать писателем, нужно писать. Пишите. Не спотыкайтесь о сомнения. Шаг за шагом, день за днем идите к мечте.
Делая – делай.
P. S. «Внезапно я чувствую оглушительное одиночество. Я думаю, так себя проявляет страх. Он каждый раз приходит ближе к окончанию книги. Страх, что ты не справился с задачей, которую поставил в начале. Этот страх так же естественен, как и дыхание. Скоро книга будет закончена и перестанет мне принадлежать. Другие люди овладеют ею. Книгу унесет от меня течением жизни, как если бы я ее никогда не писал. Я боюсь этого момента, потому что это прощание навсегда. Как будто ты прощаешься с человеком в отъезжающем автобусе, но слов не разобрать из-за рева мотора.
Я никогда не понимал, что такое конкуренция между писателями. Писательство для меня – вещь сугубо личная. Секретная функция. Когда ты отрезаешь пуповину романа, ты больше не чувствуешь себя к нему причастным. Вот почему я никак не реагирую на критику. С точки зрения улучшения текста она приходит слишком поздно. И вы ведь знаете это лучше других – книга не идет от писателя к читателю. Ее бросают сначала на растерзание львам – редакторам, издателям, критикам, корректорам, маркетологам. Книгу пинают и рвут на куски. А окровавленный отец выступает ее адвокатом»[385].
Джон СтейнбекБлагодарности
Эта книга стала итогом путешествия в другие книги, которое я совершил. Дорога заняла пять лет, и, оглядываясь назад, я понимаю, что не завершил бы начатое без чужой помощи. Прежде всего спасибо моей жене Ане, которая поддерживала словом и делом, критиковала, когда было необходимо, ободряла, когда я в этом нуждался, и всегда была рядом, даже когда меня накрывало отчаяние.
Спасибо родителям, что привили любовь к литературе. Спасибо друзьям, которые, кто-то не осознавая этого, а кто-то и вполне осознанно, подтолкнули меня к написанию книги. Спасибо Вильяму Цветкову, автору Telegram-канала Writer’s Digest, который в марте 2017 года призвал меня создать свой канал о писательстве. Так появился проект «Хемингуэй позвонит», промежуточным итогом которого и стала книга «Пиши рьяно, редактируй резво».
Спасибо главному редактору Forbes Life Андрею Золотову, который призвал меня начать работу над книгой. Спасибо персидскому писателю и поэту Мирсаиду Берке (пишет под псевдонимом Аристарх Ромашин), автору литературного Telegram-канала «В гостях у Волшебника»: Саид помог собрать первый черновик этой книги. Спасибо редактору и другу Ольге Черномыс, автору Telegram-канала «Большая перемена» – без ее помощи и вдумчивой редактуры книга не стала бы такой, какой стала. Спасибо писателям – каждому, кто согласился на беседы о ремесле. Спасибо издателям, которых заинтересовал мой труд. Спасибо литературному обозревателю Meduza Галине Юзефович, которая прочла книгу до выхода, написала свой отзыв и помогла советами по оформлению. Спасибо каждому, кого я встретил на этом пути. Вы все помогли мне довести дело до финальной точки.
И, наконец, спасибо вам, читатели. Без вас эта книга не имела бы никакого смысла. Меня вдохновляют ваши отзывы, ваши благодарности, ваша поддержка.
Спасибо каждому, кто помогал мне в этом путешествии.
Об авторе
Егор Апполонов – журналист с 20-летним стажем, руководил Forbes Style и проектами в ИД «Коммерсантъ». В настоящий момент – издатель и главный редактор онлайн-журнала Elite Life. С 2016 года ведет Telegram-канал «Хемингуэй позвонит» для всех, кто неравнодушен к литературе. На одноименном сайте () – интервью с ведущими российскими и зарубежными писателями, статьи о литпроцессе и рецензии на книги.
Сноски
1
Чехов А. П. Правила для начинающих авторов // Чехов А. П. Полное собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 3. – М.: Наука, 1975. – 624 с.
(обратно)2
Из интервью Telegram-каналу «Хемингуэй позвонит».
(обратно)3
Sloane Crosley, “Mariel Hemingway”, Interview Magazine, 3 July 2013, -hemingway. Приведено в пер. Е. Апполонова.
(обратно)4
De Vries P. Reuben, Reuben. Boston, Little, Brown & Co, 1964, 435 p. Приведено в пер. Е. Апполонова.
(обратно)5
Из интервью Telegram-каналу «Хемингуэй позвонит».
(обратно)6
The Art of Fiction No. 12. William Faulkner interviewed by Jean Stein. The Paris Review, Spring 1956 (12), -faulkner-the-art-of-fiction-no-12-william-faulkner.
(обратно)7
Scott Berg A. Max Perkins: Editor of Genius. Berkley, 2016. 512 p. Приведено в пер. Е. Апполонова.
(обратно)8
Эко У. Откровения молодого романиста / Пер. А. Климин. – М: АСТ, 2013. – 320 с.
(обратно)9
Людмила Улицкая, ответы на вопросы читателей. Портал «Сноб», 17 декабря 2010 г., .
(обратно)10
Мураками Х. О чем я говорю, когда говорю о беге / Пер. А. Кунин. – М.: Эксмо, 2010. – 208 с.
(обратно)11
Карри М. Режим гения: Распорядок дня великих людей / Пер. Л. Сумм. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 302 с.
(обратно)12
The Art of Fiction No. 45. John Steinbeck interviewed by Nathaniel Benchley. The Paris Review, Fall 1969 (48), -steinbeck-the-art-of-fiction-no-45-john-steinbeck. Приведено в пер. С. Звонова.
(обратно)13
Воглер К. Путешествие писателя: Мифологические структуры в литературе и кино / Пер. М. Николенко. – М.: Альпина нон-фикшн, 2018. – 480 с.
(обратно)14
Бах Р. Ангелы на полставки / Пер. Н. Лебедева. – М.: София, 2016. – 288 с.
(обратно)15
Кумыш С. «Джонатан Франзен: русская литература – это самая прекрасная вещь на свете», Афиша Daily, 16 сентября 2016 г., -russkaya-literatura-eto-samaya-prekrasnaya-vesch-na-svete/.
(обратно)16
Из интервью Telegram-каналу «Хемингуэй позвонит».
(обратно)17
«Сожалею, что так и не занял достойного места во французской литературе». Жюль Верн о себе и ремесле. Портал «Горький», 8 февраля 2018 г., -chto-tak-i-ne-zanyal-dostojnogo-mesta-vo-frantsuzskoj-literature/.
(обратно)18
Воглер К. Путешествие писателя.
(обратно)19
Мураками Х. О чем я говорю, когда говорю о беге.
(обратно)20
Макки Р. История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только / Пер. Е. Виноградова. – М.: Альпина нон-фикшн, 2013. – 456 с.
(обратно)21
Там же.
(обратно)22
Egri L. The Art of Dramatic Writing: Its Basis in the Creative Interpretation of Human Motives. Touchstone, 1972. 320 p. Независимый сетевой перевод.
(обратно)23
Из интервью Telegram-каналу «Хемингуэй позвонит».
(обратно)24
Поляринов А. «Садовник Макьюэн». Портал «Горький», 2 июня 2017 г., -makyuen/.
(обратно)25
The Art of Fiction No. 12. William Faulkner interviewed by Jean Stein. The Paris Review, Spring 1956 (12).
(обратно)26
Swain D. V. The Techniques of the Selling Writer. University of Oklahoma Press, 1981. 342 p. Приведено в пер. А. Киселика.
(обратно)27
Litt T. What makes bad writing bad? The Guardian, 20 May 2016, -makes-bad-writing-bad-toby-litt. Приведено в пер. А. Авагяна.
(обратно)28
Гришэм Дж. Остров Камино / Пер. В. Антонов. – М.: АСТ, 2018. – 384 с.
(обратно)29
Хёг П. Hommage a Bournonville // Хёг П. Ночные рассказы / Пер. Е. Краснова. – СПб.: Симпозиум, 2010. – 432 с.
(обратно)30
Эстетика американского романтизма. – М.: Искусство, 1977. – 463 с.
(обратно)31
The Art of Fiction No. 45. John Steinbeck interviewed by Nathaniel Benchley. The Paris Review, Fall 1969 (48).
(обратно)32
Дебютный роман, написанный в 1988 году. – Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, прим. ред.
(обратно)33
Pilkington Ed. Interview with Jonathan Franzen, “I must be near the end of my career – people are starting to approve”. The Guardian, 24 September 2010, -franzen-interview. Приведено в пер. Е. Апполонова.
(обратно)34
Цит. по: Иванова М. Терпение и труд: известные литераторы о борьбе с писательским ступором. Портал «Теории и практики», 2 июля 2015 г., -sindrom-belogo-lista.
(обратно)35
См.: -span-statistics.
(обратно)36
Yale Writers’ Workshop, Agent Interview: Jess Dallow, Brower Literary Management, 9 March 2018. Приведено в пер. Е. Апполонова.
(обратно)37
Гришэм Дж. Остров Камино.
(обратно)38
Диккер Ж. Правда о деле Гарри Квеберта / Пер. И. Стаф. – М.: Corpus (АСТ), 2017. – 720 с.
(обратно)39
Щукин С. Н. Из воспоминаний об А. П. Чехове // А. П. Чехов в воспоминаниях современников (Серия литературных мемуаров). – М.: Художественная литература, 1986. – 735 с.
(обратно)40
Труби Дж. Анатомия истории. 22 шага к созданию успешного сценария / Пер. Н. Мезин, А. Шураева. – М.: Альпина нон-фикшн, 2016. – 426 с.
(обратно)41
Макки Р. История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только.
(обратно)42
Диккер Ж. Правда о деле Гарри Квеберта.
(обратно)43
Семь советов, как стать хорошим писателем (цитаты из книги: Семків Р. Як писали класики: поради, перевірені часом. – Киев: Pabulum, 2016. – 240 с.). Портал «Новое Время», 8 декабря 2017 г., -sovetov-kak-stat-horoshim-pisatelem-2338022.html.
(обратно)44
Джордж Мартин дал советы молодым писателям на встрече с поклонниками. РИА «Новости», 18 августа 2017 г., .
(обратно)45
Имеется в виду рассказ «Хорошо ловится рыбка-бананка».
(обратно)46
Из интервью Telegram-каналу «Хемингуэй позвонит».
(обратно)47
Эко У. Откровения молодого романиста.
(обратно)48
Буковски Ч. Письма о письме / Пер. М. Немцов. – М.: Эксмо-Пресс, 2017. – 288 с.
(обратно)49
Lovecraft H. P. Collected Essays, Volume 2: Literary Criticism. NY, Hippocampus Press, 2004. 252 p. Приведено в пер. А. Черепанова.
(обратно)50
Miller H., Moore T. H. (Editor). Henry Miller on Writing. New Directions, 1964. 217 p.
(обратно)51
. Steinbeck: A Life in Letters. Penguin, 1989. 928 p. Приведено в пер. С. Звонова.
(обратно)52
Горький М. О литературе. Литературно-критические статьи. – М.: Советский писатель, 1955. – 904 с.
(обратно)53
Из интервью Telegram-каналу «Хемингуэй позвонит».
(обратно)54
Джордж Мартин дал советы молодым писателям на встрече с поклонниками. РИА «Новости», 18 августа 2017 г.
(обратно)55
Из интервью Telegram-каналу «Хемингуэй позвонит».
(обратно)56
Pilkington Ed. Interview with Jonathan Franzen, “I must be near the end of my career – people are starting to approve”. The Guardian, 24 September 2010, -franzen-interview. Приведено в пер. Е. Апполонова.
(обратно)57
Из интервью Telegram-каналу «Хемингуэй позвонит».
(обратно)58
Фрэнсис Скотт Фицджеральд Эрнесту Хемингуэю (Балтимор, 1 июня 1934 г.) // Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Портрет в документах. Письма. Из записных книжек. Воспоминания / Пер. А. Зверева. – М.: Прогресс, 1984. – 360 с.
(обратно)59
Виртуальная конференция с Виктором Пелевиным. Zhurnal.Ru, Литературная газета, 11 февраля 1997 г., .
(обратно)60
Eliot T. S. The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism. Martino Fine Books, 2015. 176 p.
(обратно)61
Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 20. – М.: Художественная литература, 1984. – 878 с.
(обратно)62
Возделывай свой собственный сад. Письма Скотта Фицджеральда // Вопросы литературы. 1966. № 2.
(обратно)63
Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 6. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1962. – 508 с.
(обратно)64
Winfrey Oprah. Interview with Cormac McCarthy, 5 June 2007, -exclusive-interview-with-cormac-mccarthy-video.
(обратно)65
Возделывай свой собственный сад. Письма Скотта Фицджеральда // Вопросы литературы. 1966. № 2.
(обратно)66
The Star Copy Style. The Kansas City Star. Опубликовано на . Приведено в пер. А. Киселика.
(обратно)67
Горький М. О прозе // Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 24. – М.: Гослитиздат, 1953. – 462 с.
(обратно)68
Там же.
(обратно)69
Цит. по: Анисимов Г., Емцев М. Этот хранитель древностей // Домбровский Ю. О. Факультет ненужных вещей. – М.: Советский писатель, 1989. – 720 с.
(обратно)70
Федорова Н. Игорь Алюков: «Современная русская литература кажется мне нарциссичной и попросту неинтересной». Реальное время, 21 февраля 2019 г., -intervyu-glavnogo-redaktora-fantom-press-igorya-alyukova.
(обратно)71
Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 12 т. Т. 1. – М.: Художественная литература, 1939. – 507 с.
(обратно)72
Балабанович Е. З. Дом в Кудрине. – М.: Московский рабочий, 1961. – 269 с.
(обратно)73
Горький М. Открытое письмо А. С. Серафимовичу // Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 27. – М.: Гослитиздат, 1953. – 590 с.
(обратно)74
Горький М. Письма начинающим литераторам // Горький М. О литературе. – М.: Советский писатель, 1955. – 902 с.
(обратно)75
Там же.
(обратно)76
Vonnegut K. Bagombo Snuff Box: Uncollected Short Fiction. NY, G. P. Putnam’s Sons, 1999. 384 p.
(обратно)77
Из интервью Telegram-каналу «Хемингуэй позвонит».
(обратно)78
Толстой А. Н. Видение предмета // Мастерство писателя. Антология журнала Литературная учеба. 1930–2005. – М.: Луч, 2005. – 466 с.
(обратно)79
Цейтлин А. Г. Труд писателя. – М.: Советский писатель, 1962. – 591 с.
(обратно)80
Там же.
(обратно)81
Там же.
(обратно)82
Из интервью Telegram-каналу «Хемингуэй позвонит».
(обратно)83
Толстой А. Н. Видение предмета.
(обратно)84
Kafka F., Rice A. (Foreword). Metamorphosis, in the Penal Colony, and Other Stories. NY, Schocken Books, 1995. 317 p.
(обратно)85
Возделывай свой собственный сад. Письма Скотта Фицджеральда // Вопросы литературы. 1966. № 2.
(обратно)86
Popova Maria. Hemingway on Writing, Knowledge, and the Dangers of Ego – All bad writers are in love with the epic. Опубликовано 19 апреля 2013 г., -on-writing. Приведено в пер. Е. Апполонова.
(обратно)87
Воннегут К. Времетрясение / Пер. Т. Покидаева. – М.: АСТ, 2010. – 224 с.
(обратно)88
Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 21. – М.: Художественная литература, 1984. – 574 с.
(обратно)89
Голдберг Н. Человек, который съел машину / Пер. М. Кульнева. – М.: Альпина Паблишер, 2019. – 250 с.
(обратно)90
. Conversations with Ernest Hemingway. Edited by Matthew J. Bruccoli. University Press of Mississippi, 1986. 204 p.
(обратно)91
Кинг С. Как писать книги / Пер. М. Левин. – М.: АСТ, 2018. – 320 с.
(обратно)92
Виктор Пелевин: когда я живу, я двигаюсь на ощупь. Семинар писателя в Токийском университете, 26 октября 2001 г., .
(обратно)93
Кумыш С. Джонатан Франзен: русская литература – это самая прекрасная вещь на свете. Афиша Daily, 16 сентября 2016 г., -russkaya-literatura-eto-samaya-prekrasnaya-vesch-na-svete/.
(обратно)94
Виктор Пелевин: когда я живу, я двигаюсь на ощупь. Семинар писателя в Токийском университете, 26 октября 2001 г., .
(обратно)95
Возделывай свой собственный сад. Письма Скотта Фицджеральда // Вопросы литературы. 1966. № 2.
(обратно)96
Там же.
(обратно)97
«Сожалею, что так и не занял достойного места во французской литературе». Жюль Верн о себе и ремесле. Портал «Горький», 8 февраля 2018 г.
(обратно)98
Чехов А. П. Письмо Григоровичу Д. В., 28 марта 1886 г. Москва // Чехов А. П. Полное собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 1. – М.: Наука, 1974. – 584 c.
(обратно)99
Цит. по: Балабанович Е. З. Дом в Кудрине.
(обратно)100
Там же.
(обратно)101
The Art of Fiction No. 51. Joseph Heller interviewed by George Plimpton. The Paris Review, Winter 1974 (60), -heller-the-art-of-fiction-no-51-joseph-heller. Приведено в пер. Е. Апполонова.
(обратно)102
Эппле Н. Как читать «Гарри Поттера». Портал Arzamas, 14 марта 2018 г., -potter.
(обратно)103
Из интервью Telegram-каналу «Хемингуэй позвонит».
(обратно)104
Цит. по: Horwitz S. Book Architecture: How to Plot and Outline Without Using a Formula. Book Architecture, 1995. 156 p.
(обратно)105
Ефремов И. А. Лезвие бритвы. – СПб.: Азбука-Аттикус, 2017. – 736 с.
(обратно)106
Голдберг Н. Человек, который съел машину.
(обратно)107
Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 20. – М.: Художественная литература, 1984. – 878 с.
(обратно)108
Буковски Ч. Письма о письме.
(обратно)109
11 уроков Джорджа Мартина. Опубликовано на -from-Stephen-King.html.
(обратно)110
Мартин С. Публикация на личной странице в Facebook от 23 августа 2011 г.
(обратно)111
В. П. Буренин (1841–1926) – русский литературный критик, публицист, член редакции и фельетонист газеты «Новое время».
(обратно)112
Чехов А. П. Письмо Суворину А. С., 23 декабря 1888 г. Москва // Чехов А. П. Полное собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 3. – М.: Наука, 1976. – 575 c.
(обратно)113
Цейтлин А. Г. Труд писателя.
(обратно)114
Из интервью Telegram-каналу «Хемингуэй позвонит».
(обратно)115
Clark R. P. Writing Tools: 50 Essential Strategies for Every Writer. Boston, Little, Brown & Co, 2008. 288 p.
(обратно)116
Popova Maria. Neil Gaiman’s Advice to Aspiring Writers. Опубликовано 11 сентября 2013 г., -gaiman-advice-to-writers/.
(обратно)117
Этвуд М. Публикация на личной странице в Facebook от 5 мая 2014 г.
(обратно)118
Мэнсон М. Тонкое искусство пофигизма / Пер. Г. Ястребов. – М.: Альпина Паблишер, 2019. – 191 с.
(обратно)119
Соллогуб В. А. Воспоминания. – Л.: Художественная литература, 1988. – 720 с.
(обратно)120
Из интервью Telegram-каналу «Хемингуэй позвонит».
(обратно)121
Цит. по: Аллен М., Фишер М. Учитесь мыслить подобно миллионеру / Пер. П. Самсонов. – Мн.: Попурри, 2002. – 128 с.
(обратно)122
Мэнсон М. Тонкое искусство пофигизма.
(обратно)123
Гейман Н. Публикация на личной странице в Tumblr от 6 марта 2012 г., .
(обратно)124
Из интервью Telegram-каналу «Хемингуэй позвонит».
(обратно)125
The Art of Fiction No. 45. John Steinbeck interviewed by Nathaniel Benchley. The Paris Review, Fall 1969 (48).
(обратно)126
Чехов А. П. Письмо Григоровичу Д. В., 28 марта 1886 г. Москва // Чехов А. П. Полное собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 1.
(обратно)127
Ahlin Charlotte. 15 JK Rowling Quotes That Will Inspire You To Get Writing. Опубликовано 22 декабря 2016 г., –15-jk-rowling-quotes-that-will-inspire-you-to-get-writing.
(обратно)128
Цит. по: Карри М. Режим гения.
(обратно)129
Чехов А. П. Письмо Лейкину Н. А., между 21 и 24 августа 1883 г. Москва // Чехов А. П. Полное собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 1.
(обратно)130
Цит. по: Балабанович Е. З. Дом в Кудрине.
(обратно)131
Бабель И. Э. Работа над рассказом // Бабель И. Э. Собр. соч. в 4 т. Т. 3. – М.: Время, 2006. – 496 с.
(обратно)132
Стругацкий Б. Выступление и беседа в Красной гостиной ленинградского Дома писателя им. В. В. Маяковского 13 апреля 1987 г., .
(обратно)133
Brad R. Torgersen: On Not Quitting. Опубликовано 27 февраля 2012 г. на Fistorians, -not-quitting/.
(обратно)134
Роулинг Дж. К. Публикация на личной странице в Twitter, 30 января 2018 г.
(обратно)135
William Faulkner Nobel Prize Banquet speech at the City Hall in Stockholm, 10 декабря 1950 г. Опубликовано на The Nobel Prize, /.
(обратно)136
Все комментарии написаны авторами специально для книги. – Прим. авт.
(обратно)137
Hemingway E., Baker C. (Editor). Ernest Hemingway Selected Letters 1917–1961. Scribner, 2003. 976 p.
(обратно)138
Использованы цитаты из материалов: Oprah Winfrey’s Interview with Cormac McCarthy, 5 June 2007; Woodward R. B. Cormac Country. Vanity Fair, August 2005; John Jurgensen Interviews Cormac McCarth, “Hollywood’s Favorite Cowboy”. Wall Street Journal, November 2009.
(обратно)139
Митта А. Н. Кино между адом и раем. – М.: АСТ, 2016. – 496 с.
(обратно)140
Там же.
(обратно)141
Сай Оливер (наст. имя Мелвин Джеймс Оливер) – американский трубач, аранжировщик, выдающийся музыкант эпохи свинга; Трамми Янг (наст. имя Джеймс Осборн) – американский джазовый тромбонист.
(обратно)142
Речь о пьесе английского поэта, переводчика и драматурга Кристофера Марло (1564–1593) “Трагическая история доктора Фауста”.
(обратно)143
Синклер Льюис (1885–1951) – знаменитый американский писатель, нобелевский лауреат.
(обратно)144
Томас Клэйтон Вулф (1900–1938) – американский писатель, представитель «потерянного поколения».
(обратно)145
Томас Харди (1840–1928) – английский романист, новеллист и поэт.
(обратно)146
Зейн Грей (1872–1939) – американский писатель, автор вестернов.
(обратно)147
Томас Кид (1558–1594) – английский драматург елизаветинской эпохи.
(обратно)148
Kerouac Jack. Are Writers Made or Born? Writer’s Digest, January, 1962.
(обратно)149
Цит. по: Livermore A. Artists and Aesthetics in Spain. Tamesis Books, 1988. 168 p.
(обратно)150
Макки Р. История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только.
(обратно)151
Цит. по: Каплунов Д. Контент, маркетинг и рок-н-ролл. – М.: Манн, Иванов и Фебер, 2015. – 496 с.
(обратно)152
Том Спанбауэр (род. 1946) – американский писатель, автор концепции «опасного письма».
(обратно)153
Palahniuk C. 36 Writing Essays. Опубликовано 17 сентября 2011 г. на LitReactor -writing-essays-by-chuck-palahniuk. Приведено в пер. С. Торонто.
(обратно)154
Цит. по: Производство смыслов: Хемингуэй, Брэдбери и Паустовский о том, как писать книги. Портал «Теории и практики», 13 августа 2012 г., -andpractice.ru/posts/5199-proizvodstvo-smyslov-kheminguey-bredberi-i-paustovskiy-o-tom-kak-pisat-knigi.
(обратно)155
Толстая С. А. Дневники: В 2 т. Т. 1. – М.: Художественная литература, 1978. – 608 с.
(обратно)156
Rand A. The Art of Fiction: A Guide for Writers and Readers. NAL, 2000. 192 p.
(обратно)157
Из интервью Telegram-каналу «Хемингуэй позвонит».
(обратно)158
Из интервью Telegram-каналу «Хемингуэй позвонит».
(обратно)159
Из интервью Telegram-каналу «Хемингуэй позвонит».
(обратно)160
Из интервью Telegram-каналу «Хемингуэй позвонит».
(обратно)161
Правила жизни Джорджа Мартина. Esquire, № 105, 19 ноября 2014 г., -george-r-r-martin/.
(обратно)162
Эко У. Откровения молодого романиста.
(обратно)163
Короленко В. Г. Антон Павлович Чехов // А. П. Чехов в воспоминаниях современников (Серия литературных мемуаров).
(обратно)164
Там же.
(обратно)165
James Patterson teaches writing. Опубликовано на masterclass.com.
(обратно)166
Там же.
(обратно)167
Там же.
(обратно)168
Непременное условие (лат.).
(обратно)169
Чехов А. П. Письмо Суворину А. С., 3 ноября 1888 г., Москва // Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 3.
(обратно)170
Подписчики Telegram-канала «Хемингуэй позвонит» спрашивают – писатели отвечают. – Прим. авт.
(обратно)171
Lovecraft H. P. Literary Composition // Collected Essays, Volume 2: Literary Criticism.
(обратно)172
James Pattinson teaches writing. Опубликовано на masterclass.com
(обратно)173
Эко У. Откровения молодого романиста.
(обратно)174
Шкловский В. Б. Техника писательского ремесла // Шкловский В. Б. Самое шкловское. – М.: АСТ, 2017. – 624 с.
(обратно)175
Steinbeck J. In Awe of Words. The Exonian. Exeter Unibversity, 1930.
(обратно)176
Hemingway E. Old Newsman writes. A letter from Cuba. Esquire, December 1934, -newsman-writes.
(обратно)177
Толстой А. Н. Видение предмета.
(обратно)178
Цит. по: Цейтлин А. Г. Труд писателя.
(обратно)179
Чехов – Суворину А. С., 31 марта 1892. – 1977, Москва // Чехов А. П. Полное собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 5. – М.: Наука, 1977. – 679 с.
(обратно)180
Толстой Л. Н. Дневник. 14 октября. [Покровское.] // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 21.
(обратно)181
Хемингуэй – Скотту Фицджеральду, 28 мая 1934 г, Ки-Уэст // Хемингуэй Э. «Оставаться самим собой…» (Избранные письма 1918–1961 гг.). – М.: Правда, 1983. – 64 с.
(обратно)182
Горький М. О прозе // Горький М. О литературе.
(обратно)183
Чехов А. П. Правила для начинающих авторов // Чехов А. П. Полное собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 3.
(обратно)184
Чехов – Леонтьеву (Щеглову) И. Л., 12 апреля 1889 // Чехов А. П. Полное собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 3.
(обратно)185
Бабель И. Э. Работа над рассказом.
(обратно)186
Буковски Ч. Письма о письме.
(обратно)187
Из интервью Telegram-каналу «Хемингуэй позвонит».
(обратно)188
Горький М. О прозе // Горький М. О литературе.
(обратно)189
Цейтлин А. Г. Труд писателя.
(обратно)190
Записные книжки / Пер. О. Гринберг. Камю А. Творчество и свобода. М.: Радуга, 1990. – 608 с.
(обратно)191
Ральф Уолдо Эмерсон (1803–1882) – американский писатель, поэт и философ.
(обратно)192
Стилистическая фигура, обозначающая нарочитое преуменьшение или смягчение.
(обратно)193
Эко У. Как научиться хорошо писать // Эко У. Картонки Минервы. Заметки на спичечных коробках / Пер. М. Визель, А. Миролюбова. – М.: Симпозиум, 2010. – 416 с.
(обратно)194
Кундера М. Невыносимая легкость бытия / Пер. Н. Шульгина. – М.: АСТ, 2008. – 384 с.
(обратно)195
Степанов С. С. Популярная психологическая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2005. – 672 с.
(обратно)196
Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: понимание структуры личности в клиническом процессе / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2001. – 480 с.
(обратно)197
Аристотель. Поэтика. Риторика / Пер. В. Аппельрот, Н. Платонова. – М.: Азбука-классика, 2007. – 352 с.
(обратно)198
«Напиши свою историю на миллион»: семинары Роберта Макки, Москва, 24–27 мая.
(обратно)199
Там же.
(обратно)200
Там же.
(обратно)201
Кинг С. Как писать книги.
(обратно)202
Воннегут К. Времетрясение.
(обратно)203
Толстой А. Н. Видение предмета.
(обратно)204
Из интервью Telegram-каналу «Хемингуэй позвонит».
(обратно)205
Steinbeck J. In Awe of Words.
(обратно)206
Замятин Е. И. Современная русская литература // Литературная учеба. 1988. № 5.
(обратно)207
Брэдбери Р. Дзен в искусстве написания книг / Пер. Т. Покидаева. – М.: Эксмо, 2017. – 192 с.
(обратно)208
«Напиши свою историю на миллион»: семинары Роберта Макки, Москва, 24–27 мая.
(обратно)209
Воглер К. Путешествие писателя.
(обратно)210
Возделывай свой собственный сад. Письма Скотта Фицджеральда // Вопросы литературы. 1966. № 2.
(обратно)211
Зельда Сейр Фицджеральд (1900–1948) – американская писательница, танцовщица, художница, жена Ф. С. Фицджеральда.
(обратно)212
Там же.
(обратно)213
Воттс Н. Как написать повесть / Пер. С. Демиденко. Опубликовано на zhurnal.lib.ru.
(обратно)214
Митта А. Н. Кино между адом и раем.
(обратно)215
Там же.
(обратно)216
Ломыкина Н. Писатель Филипп Майер: «Американская мечта потеряла смысл». РБК Стиль, 10 ноября 2017 г., .
(обратно)217
Схема «Алмаз героя» приводится в формулировке портала psysovet.ru.
(обратно)218
Труби Дж. Анатомия истории. 22 шага к созданию успешного сценария / Пер. Н. Мезин, А. Шураева. – М.: Альпина нон-фикшн, 2018. – 428 с.
(обратно)219
Индик У. Психология для сценаристов. Построение конфликта в сюжете. – М.: Альпина нон-фикшн, 2019. – 348 с.
(обратно)220
Там же.
(обратно)221
Gerke J. Plot Versus Character: A Balanced Approach to Writing Great Fiction. Writer’s Digest Books, 2010. 272 p.
(обратно)222
Макки Р. История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только.
(обратно)223
Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой / Пер. О. Чекчурина. – СПб.: Питер, 2018. – 352 с.
(обратно)224
Макки Р. История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только.
(обратно)225
Воглер К. Путешествие писателя.
(обратно)226
Митта А. Н. Кино между адом и раем.
(обратно)227
Воглер К. Путешествие писателя.
(обратно)228
Там же.
(обратно)229
Vonnegut K. Bagombo Snuff Box: Uncollected Short Fiction.
(обратно)230
Воглер К. Путешествие писателя.
(обратно)231
Блейк Снайдер (1957–2009) – американский сценарист, продюсер, преподаватель сценарного мастерства, автор бестселлера «Спасите котика» (М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018).
(обратно)232
Текст написан специально для Telegram-канала «Хемингуэй позвонит». – Прим. ред.
(обратно)233
Russell A. The Brendan Behan Quotations Book. Somerville Press, 2015. 96 p. Приведено в пер. Е. Апполонова.
(обратно)234
Burgess A. Literary Lives Ernest Hemingway. Thames & Hudson, 1999. 144 p.
(обратно)235
Цит. по: Gillespie D., Warren M. How To Be Interesting: Simple Ways to Increase Your Personal Appeal. Capstone, 2013. 192 p.
(обратно)236
Sutherland J. ‘It scorches me to think of the depraved things I did’: The truth about life as a lapsed alcoholic. The Telegraph, 9 April 2017, -fitness/body/scorches-think-depraved-things-did-truth-life-lapsed-alcoholic/. Приведено в пер. Е. Апполонова.
(обратно)237
Fitzgerald F. S. On Booze (New Directions Pearls). New Directions, 2011. 96 p. Приведено в пер. Е. Апполонова.
(обратно)238
Рингголд Уилмер Ларднер (1885–1930) – американский журналист и писатель, друг Ф. С. Фицджеральда.
(обратно)239
Возделывай свой собственный сад. Письма Скотта Фицджеральда // Вопросы литературы. 1966. № 2.
(обратно)240
Thomas D., Jackson D. K. The Poe Log: A Documentary Life of Edgar Allan Poe 1809–1849. G K Hall, 1987. 919 p. Приведено в пер. Е. Апполонова.
(обратно)241
Cameron J. An Invitation and Initiation into the Writing Life (Artist’s Way). TarcherPerigee, 1998. 236 p. Приведено в пер. Е. Апполонова.
(обратно)242
Довлатов С. Д. Чемодан. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 160 с.
(обратно)243
Цит. по: Tartakovsky J. A muse in the bottle. Los Angeles Times, February 27, 2008, -me-fw-archives-hollywood-bowl-muse-of-music-dance-drama-20181211-htmlstory.html. Приведено в пер. Е. Апполонова.
(обратно)244
Томпсон Х. С. Публикация на личной странице в Facebook от 15 июля 2014 г. Приведено в пер. Е. Апполонова.
(обратно)245
. The Paris Review Book: of Heartbreak, Madness, Sex, Love, Betrayal, Outsiders, Intoxication, War, Whimsy, Horrors, God, Death, Dinner, Baseball, …and Everything Else in the World Since 1953. Picador, 2004. 928 p. Приведено в пер. Е. Апполонова.
(обратно)246
Буковски Ч. Женщины / Пер. М. Немцов. – М.: Эксмо-Пресс, 2017. – 472 с.
(обратно)247
Буковски Ч. Письма о письме.
(обратно)248
Palmer Brian. “Does Alcohol Improve Your Writing?”. Slate, December 16, 2011, -and-politics/2011/12/christoper-hitchens-claimed-drinking-helped-his-writing-is-that-true.html.
(обратно)249
Наринская А. Виктор Пелевин: миром правит явная лажа. Эксперт, 22 марта 1999 г.
(обратно)250
Правила жизни Виктора Пелевина. Esquire, 18 января 2010 г.
(обратно)251
Цит. по: Одиннадцать бесед о современной русской прозе / под ред. А. Юнггрен и К. Роткирх. – М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 160 с.
(обратно)252
Кочеркова Н. Виктор Пелевин: Олигархи работают героями моих книг // Известия 2008. 20 октября.
(обратно)253
Виктор Пелевин, ответы на вопросы читателей. Портал «Сноб», 28 июня 2010 г., .
(обратно)254
Мураками Х. О чем я говорю, когда говорю о беге.
(обратно)255
The Art of Fiction No. 93. John Irving interviewed by Ron Hansen. The Paris Review, Summer-Fall 1986 (100), -irving-the-art-of-fiction-no-93-john-irving.
(обратно)256
Woodward R. Cormac McCarthy’s Venomous Fiction. The New York Times, April 19, 1992, -mccarthy-s-venomous-fiction.html.
(обратно)257
Награда, учрежденная в честь Эдгара Аллана По.
(обратно)258
James Pattinson teaches writing. Опубликовано на masterclass.com.
(обратно)259
. “World’s Highest-Paid Authors 2018: Michael Wolff Joins List Thanks To ‘Fire And Fury’”, Forbes, December 11, 2018, -highest-paid-authors-2018-michael-wolff/#6ac1d0e52517.
(обратно)260
Palahniuk C. 36 Writing Essays.
(обратно)261
Чехов А. П. Вишневый сад // Полное собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 13. – М.: Наука, 1978. – 527 с.
(обратно)262
Воттс Н. Как написать повесть.
(обратно)263
Trollope A. (Author), Shrimpton N. (Editor). An Autobiography: and Other Writings (Oxford World’s Classics). Oxford University Press, 2016. 386 p.
(обратно)264
Чуковская Л. К. В лаборатории редактора. – СПб.: Азбука-классика, 2017. – 448 с.
(обратно)265
Иванов А. В. Ненастье. – М.: АСТ, 2018. – 640 с.
(обратно)266
Из интервью Telegram-каналу «Хемингуэй позвонит».
(обратно)267
Рубанов А. В. Финист – ясный сокол. – М.: ACT, Редакция Елены Шубиной, 2019. – 576 с.
(обратно)268
Толстой А. Н. Видение предмета.
(обратно)269
Swain D. V. Techniques of the Selling Writer.
(обратно)270
Palahniuk C. 36 Writing Essays.
(обратно)271
Там же.
(обратно)272
Там же.
(обратно)273
Кинг С. Как писать книги.
(обратно)274
Воттс Н. Как написать повесть.
(обратно)275
Palahniuk C. 36 Writing Essays.
(обратно)276
Опубликовано на litschool.pro.
(обратно)277
Цит. по: Бейти К. Литературный марафон. Как написать книгу за 30 дней / Пер. А. Коробейников. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 208 с.
(обратно)278
Зинсер У. Как писать хорошо. Классическое руководство по созданию нехудожественных текстов / Пер. В. Бабков. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 292 с.
(обратно)279
«Сожалею, что так и не занял достойного места во французской литературе». Жюль Верн о себе и ремесле. Портал «Горький», 8 февраля 2018 г.
(обратно)280
Кириенков И. Дмитрий Глуховский о технозависимости, 228-й статье и экранизации «Метро 2033». Афиша Daily, 8 августа 2017 г., -o-tehnozavisimosti-228-y-state-i-ekranizacii-metro-2033/.
(обратно)281
Маран М. Зачем мы пишем: известные писатели о своей профессии / Пер. Е. Козлова. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 272 с.
(обратно)282
«Сожалею, что так и не занял достойного места во французской литературе». Жюль Верн о себе и ремесле. Портал «Горький», 8 февраля 2018 г.
(обратно)283
Safire W. The Fumblerules of Grammar. The New York Times, November 4, 1979.
(обратно)284
Бабель И. Э. Работа над рассказом.
(обратно)285
The Art of Fiction No. 21. Ernest Hemingway interviewed by George Plimpton. The Paris Review, Spring 1958 (18).
(обратно)286
Мураками Х. О чем я говорю, когда говорю о беге.
(обратно)287
Возделывай свой собственный сад. Письма Скотта Фицджеральда // Вопросы литературы. 1966. № 2.
(обратно)288
Там же.
(обратно)289
Чехов А. П. Письмо Чехову Ал. П., начало августа 1887 г., Бабкино / Чехов А. П. Полное собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т.2. – М.: Наука, 1975. – 584 c.
(обратно)290
Zadie Smith’s rules for writers. The Guardian, February 22, 2010, -smith-rules-for-writers. Приведено в пер. Е. Апполонова.
(обратно)291
Щукин С. Н. Из воспоминаний об А. П. Чехове // А. П. Чехов в воспоминаниях современников (Серия литературных мемуаров).
(обратно)292
Макки Р. История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только.
(обратно)293
Там же.
(обратно)294
Clark R. P. Writing Tools: 50 Essential Strategies for Every Writer.
(обратно)295
Воглер К. Путешествие писателя.
(обратно)296
The Art of Fiction No. 21. Ernest Hemingway interviewed by George Plimpton. The Paris Review, Spring 1958 (18).
(обратно)297
Хемингуэй Э. Смерть после полудня / Пер. И. Кашкин // Хемингуэй Э. Победитель не получает ничего. Мужчины без женщин. – М.: АСТ, 2016. – 320 с.
(обратно)298
The Art of Fiction. Ernest Hemingway. The Paris Review, 1958, No. 21
(обратно)299
Хемингуэй Э. Кредо человека / Пер. В. Стоянов // Иностранная литература. – № 2, 2000.
(обратно)300
Кастанеда К. Активная сторона бесконечности. – М.: София, 2014. – 288 с.
(обратно)301
Уильям Вордсворт (1770–1850) – английский поэт-романтик.
(обратно)302
Genius (film). Directed by Michael Grandage, written by John Logan. Movie script. Опубликовано на springfieldspringfield.co.uk.
(обратно)303
Strunk W., White E. B. The Elements of Style. Allyn & Bacon, 1995. 85 p.
(обратно)304
Из интервью Telegram-каналу «Хемингуэй позвонит».
(обратно)305
Чехов А. П. Правила для начинающих авторов.
(обратно)306
Чехов А. П. Письмо Авиловой Л. А., 3 (15) ноября 1897 г., Ницца // Чехов А. П. Полное собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 7. – М.: Наука, 1979. – 816 с.
(обратно)307
Речь о романе «Великий Гэтсби».
(обратно)308
Возделывай свой собственный сад. Письма Скотта Фицджеральда // Вопросы литературы. 1966. № 2.
(обратно)309
The Art of Fiction No. 4. Irwin Shaw interviewed by George Plimpton and John Phillips. The Paris Review, Winter 1953 (4), -shaw-the-art-of-fiction-no-4-irwin-shaw.
(обратно)310
Chilton M. Ernest Hemingway wrote 47 endings to A Farewell To Arms. The New York Times, July 5, 2012, /a-farewell-to-arms-with-hemingways-alternate-endings.html.
(обратно)311
Скотт Фицджеральд Эрнесту Хемингуэю (Балтимор, 1 июня 1934 г.) // Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Портрет в документах. Письма. Из записных книжек. Воспоминания.
(обратно)312
Hemingway E. A Farewell to Arms: The Hemingway Library Edition. Scribner, 2012. 352 p.
(обратно)313
Хемингуэй Э. Прощай, оружие! – М.: АСТ, 2016. – 352 с.
(обратно)314
Барнетт С. Занимательное дождеведение: дождь в истории, науке и искусстве. – М.: Livebook / Гаятри, 2017. – 376 с.
(обратно)315
Толстой А. Н. Видение предмета.
(обратно)316
Fish S. How to Write a Sentence: And How to Read One. Harper, 2011. 176 p.
(обратно)317
Цит. по: Быков Д. Л. Время потрясений. 1900–1950 гг. – М.: Эксмо, 2018. – 544 с.
(обратно)318
Использованы материалы: Кинг С. Как писать книги; Матвиишина Л. Инструкция от Стивена Кинга: как писать хорошо. Опубликовано 27 марта 2017 г., на портале «Нетология», -king.
(обратно)319
А. М. Пешкову (М. Горькому), 3 сентября 1899 г., Ялта // А. П. Чехов. Полное собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т.8. – М.: Наука, 1980. – 712 c.
(обратно)320
Brandon Sanderson’s 321 Class. Lecture 2, 2 октября 2014 г. Видеолекция. Приведено в пер. А. Киселика.
(обратно)321
Брендон Сандерсон (род. 1975) – американский писатель, специализирующийся на жанре фэнтези.
(обратно)322
Ridero составил портрет современного автора. Опубликовано 29 июля 2016 г. на Ridero, .
(обратно)323
Ответы подготовлены экспертами Ridero и «ЛитРес: Самиздат» специально для Telegram-канала «Хемингуэй позвонит». – Прим. авт.
(обратно)324
Кириенков И. Дмитрий Глуховский о технозависимости, 228-й статье и экранизации «Метро 2033». Афиша Daily, 8 августа 2017 г.
(обратно)325
«ЛитРес» на момент сдачи книги в печать прямой договор с Amazon пока не заключил, но сотрудники компании нас заверили, что они «идут к этому». – Прим. авт.
(обратно)326
Кроме того, вы всегда можете воспользоваться расширенной шпаргалкой из главы «Объемный герой». – Прим. авт.
(обратно)327
Цит. по: Wyatt J. High Concept. Movies and Marketing in Hollywood. Austin, University of Texas Press, 1994. 249 pp.
(обратно)328
Материал подготовлен специально для Telegram-канала «Хемингуэй позвонит». – Прим. авт.
(обратно)329
Мильчин К. Двойной рост и сытый писатель. Портал «Горький», 2 февраля 2018 г., -rost-i-sytyj-pisatel/.
(обратно)330
Margaret Atwood’s Top 5 Writing Tips, National Centre for Writing, 5 декабря 2018 г. Видеолекция.
(обратно)331
The Star Copy Style: The Kansas City Star. Опубликовано на kansascity.com.
(обратно)332
Цит. по: Брод М. О Франце Кафке. – СПб.: Академический проект, 2000. – 502 с.
(обратно)333
Цит. по: Душенко К. В. Большая книга афоризмов. – М.: Эксмо, 2010. – 1056 с.
(обратно)334
Блок А. А. Душа писателя (заметки современника) // Блок А. А. Поэзия, драмы, проза. – М.: ОЛМА-Пресс, 2001. – 799 с.
(обратно)335
Бегбедер Ф. Лучшие книги XX века. Последняя опись перед распродажей / Пер. И. Волевич. – М.: Флюид ФриФлай, 2008. – 192 с.
(обратно)336
Из интервью Telegram-каналу «Хемингуэй позвонит».
(обратно)337
Возделывай свой собственный сад. Письма Скотта Фицджеральда // Вопросы литературы. 1966. № 2.
(обратно)338
The Art of Fiction No. 45. John Steinbeck interviewed by Nathaniel Benchley. The Paris Review, Fall 1969 (48).
(обратно)339
Буковски Ч. Голливуд / Пер. Н. Цыркун. – М.: Эксмо, 2007. – 255 с.
(обратно)340
Рыбаков А. Н. Роман-воспоминание. – М.: Вагриус, 1997. – 384 с.
(обратно)341
The Art of Fiction No. 21. Ernest Hemingway interviewed by George Plimpton. The Paris Review, Spring 1958 (18).
(обратно)342
Толстой А. Н. Видение предмета.
(обратно)343
Горький М. Письма начинающим литераторам.
(обратно)344
Чехов А. П. Письмо Суворину А. С., 25 ноября 1892 г. Мелихово // Чехов А. П. Полное собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 5.
(обратно)345
Толстой Л. Н. Дневники и записные книжки, 1890/Толстой Л. Н. Полное собр. соч.: В 90 т. Т. 51. – М.: Художественная литература, 1952.
(обратно)346
Цит. по: Writers on Writing: Overcoming Writer’s Block. Опубликовано на thoughtco.com.
(обратно)347
Цит. по: Воттс Н. Как написать повесть.
(обратно)348
Кинг С. Как писать книги.
(обратно)349
The Art of Fiction No. 12. William Faulkner interviewed by Jean Stein. The Paris Review, Spring 1956 (12).
(обратно)350
Хармс Д. Горло бредит бритвою: случаи, рассказы, дневниковые записи. – М.: Глагол, 1991. – 236 с.
(обратно)351
Буковски Ч. Письма о письме.
(обратно)352
Памук О. Новая жизнь / Пер. А. Аврутина. – М.: Амфора, 2009. – 350 с.
(обратно)353
Цит. по: Балабанович Е. З. Дом в Кудрине.
(обратно)354
Кадди Э. Присутствие [духа]. Как направить силы своей личности на достижение успеха / Пер. Т. Самсонова. – СПб.: Азбука-Аттикус, 2016. – 320 с.
(обратно)355
Байрон Дж. Г. Дневники. Письма / Пер. З. Александрова. – М.: Наука, 1963. – 440 с.
(обратно)356
The Art of Fiction No. 12. William Faulkner interviewed by Jean Stein. The Paris Review, Spring 1956.
(обратно)357
Чехов А. П. Правила для начинающих авторов.
(обратно)358
Кучерская М. Евгений Водолазкин: С точки зрения вечности. Ведомости, 7 декабря 2012 г., .
(обратно)359
Конрад Дж. Предисловие к роману «Негр с «Нарцисса» / Пер. М. Соколянский, Э. Цибульская // Писатели Англии о литературе. XIX–XX вв. Сборник статей. – М.: Прогресс, 1981. – 416 с.
(обратно)360
Эко У. Откровения молодого романиста.
(обратно)361
Цит. по: Коэн Р. Писать как Толстой: Техники, приемы и уловки великих писателей / Пер. К. Артамонова. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 380 с.
(обратно)362
«Я пишу для самого вдумчивого и глубокого читателя. Таких немало». Евгений Водолазкин, интервью А. Натитник. Harvard Business Review Россия, 28 марта 2018 г., https://hbr-russia.ru/liderstvo/delo-zhizni/a26441.
(обратно)363
Герой романа «Маятник Фуко». – Прим. ред.
(обратно)364
Эко У. Откровения молодого романиста.
(обратно)365
Виртуальная конференция с Виктором Пелевиным. Zhurnal.Ru, Литературная газета, 11 февраля 1997 г.
(обратно)366
Кинг С. Как писать книги.
(обратно)367
Твен М. На небесах юмора нет. Афоризмы, цитаты, высказывания. – М.: Центрполиграф, 2017. – 159 с.
(обратно)368
Буковски Ч. Солнце, вот он я. – СПб.: Азбука, 2010. – 384 с.
(обратно)369
Буковски Ч. Письма о письме.
(обратно)370
An interview with William Faulkner. By Lavon Rascoe. The Western Review, 1951, No. 15.
(обратно)371
Критика легка, искусство трудно (франц.).
(обратно)372
Карамзин Н. М. Письмо к издателю // Карамзин Н. М. Избранные соч.: В 2 т. – М.: Художественная литература, 1964. – 591 с. – Т. 2.
(обратно)373
Острое словечко, острота (франц.).
(обратно)374
Водолазкин Е. Авиатор. – М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018. – 416 с.
(обратно)375
Водолазкин Е. Лавр. – М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2015. – 448 с.
(обратно)376
Михаил Шишкин (род. 1961) – русский писатель, лауреат литературных премий «Русский Букер», «Большая книга» и «Национальный бестселлер».
(обратно)377
Брет Истон Эллис (род. 1964) – современный американский писатель.
(обратно)378
Отрошенко В. Язык народа йон // Отрошенко В. Языки Нимродовой башни. Портал «Лиterraтура», -vladislav-otroshenko-yazyki-nimrodovoy-bashni.html.
(обратно)379
Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert… (нем.) (Первая колонна марширует, вторая колонна марширует…) – цитата из романа «Война и мир» Л. Н. Толстого (т. I, ч. 3, гл. 12), слова немецкого генерала на русской службе, составляющего план кампании 1812 г.
(обратно)380
Жена Андрея Рубанова – кинорежиссер Аглая Курносенко.
(обратно)381
Фильм 2016 года выпуска с Данилой Козловским в роли князя Владимира.
(обратно)382
В 1996 году Андрея Рубанова обвинили в мошенничестве, в 1999 году полностью оправдали.
(обратно)383
Геласимов А. Жажда. – М.: ОГИ-проза, 2015. – 112 с.
(обратно)384
Сальников А. Петровы в гриппе и вокруг него. – М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018. – 416 с.
(обратно)385
The Art of Fiction No. 45. John Steinbeck interviewed by Nathaniel Benchley. The Paris Review, Fall 1969 (48).
(обратно)386
Thompson H. S. The Great Shark Hunt: Strange Tales from a Strange Time (Gonzo Papers, Volume 1). Simon & Schuster, 2003, 602 p. Приведено в пер. Е. Апполонова.
(обратно)387
Horwitz S. Book Architecture: How to Plot and Outline Without Using a Formula.
(обратно)
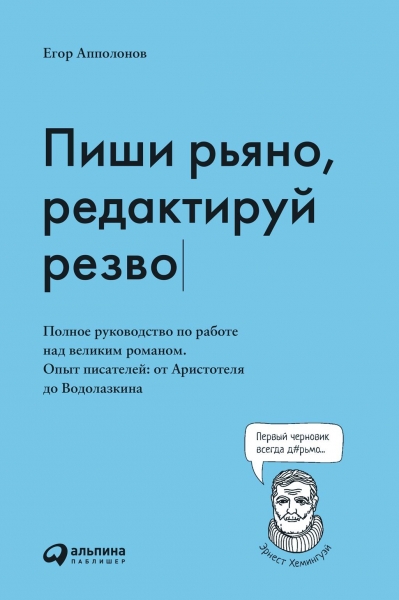
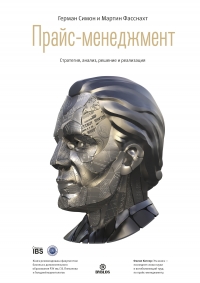



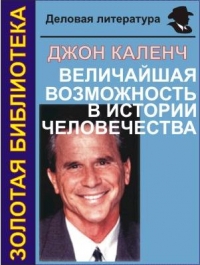
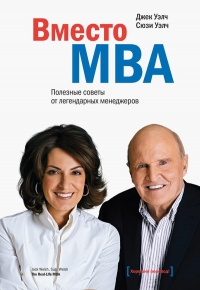




Комментарии к книге «Пиши рьяно, редактируй резво», Егор Апполонов
Всего 0 комментариев