Мойзес Наим Конец власти. От залов заседаний до полей сражений, от церкви до государства. Почему управлять сегодня нужно иначе
Публикуется с разрешения издательства BASIC BOOKS, an imprint of PERSEUS BOOKS LLC. (США) при содействии Агентства Александра Корженевского (Россия).
© 2013 by Moises Naim
© Н. Мезин, перевод на русский язык (главы 10–11), 2016
© Ю. Полещук, перевод на русский язык (главы 1–6), 2016
© А. Саган, перевод на русский язык (главы 7–9), 2016
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2016
© ООО “Издательство АСТ”, 2016
Издательство CORPUS ®
* * *
Сюзане, Адриане, Клаудии, Андресу, Джонатану и Эндрю
Предисловие Как появилась эта книга
Может показаться, что власть – понятие абстрактное, однако те, кто к ней приспособлен лучше других, то есть сильные мира сего, инстинктивно чувствуют ее взлеты и падения. Те, кто обладает наибольшей властью, острее прочих ощущают, до какой степени ограничена свобода их деятельности, и испытывают чувство бессилия из-за того, что их ожидания от власти, которую обеспечивает занимаемое ими положение, расходятся с тем, что они имеют на самом деле. В феврале 1989 года мне тоже довелось пережить подобное разочарование, пусть и не такое масштабное. Мне было тридцать шесть лет, и меня выбрали министром экономического развития в тогда еще демократическом правительстве Венесуэлы, моей родной страны. Вскоре после того, как мы в результате безоговорочной победы на выборах пришли к власти, в Каракасе начались волнения, вызванные нашими планами урезать субсидии и поднять цены на топливо. Город погрузился в хаос, повсюду царили насилие и страх. И программа экономических реформ, которую мы отстаивали, вдруг обрела совершенно иное значение, несмотря на нашу победу и очевидные полномочия. Если раньше она олицетворяла благополучие и надежду, то теперь стала источником уличных беспорядков, роста бедности и неравенства.
Именно тогда я впервые столкнулся с явлением, полностью осмыслить которое смог лишь много лет спустя. А именно – с пропастью между восприятием и подлинной сущностью власти. Будучи одним из главных министров в сфере экономики, теоретически я обладал огромной властью. На деле же я имел весьма ограниченную возможность распоряжаться ресурсами, привлекать к работе организации и отдельных лиц, ну и в целом делать что-либо. То же чувствовали мои коллеги и даже президент, хотя нам и не хотелось признаваться в том, что наше правительство – колосс на глиняных ногах. Я склонен был отнести эту слабость на счет общего положения дел в Венесуэле: наверняка же преследовавшее нас ощущение собственного бессилия связано с печально известными своей слабостью и неудовлетворительной работой венесуэльскими государственными институтами. Не может быть, чтобы во всем мире тоже было так.
Однако впоследствии я понял, что это практически универсальное ощущение, свойственное всем, кто когда-либо побывал у власти. Фернанду Энрики Кардозу, бывший президент Бразилии, благодаря которому государство добилось успеха, объяснил мне: “Меня всегда удивляло, что меня считают влиятельным лицом, – признался он, когда я брал у него интервью для этой книги. – Даже хорошо информированные и сведущие в политике люди не раз обращались ко мне с просьбами, из которых ясно следовало, что они приписывают мне куда больше власти, чем у меня есть на самом деле. И я всегда думал: «Знали бы они, до какой степени в наши дни ограниченна власть президента». На встречах с главами других государств мы часто об этом рассуждали. Пропасть между нашей реальной властью и тем, что от нас ждут, – причина самого серьезного давления, с которым приходится сталкиваться главе любого государства”.
Нечто похожее я слышал от Йошки Фишера, одного из самых популярных немецких политиков, бывшего канцлера Германии и министра иностранных дел. “Я был молод, и власть меня зачаровывала и манила, – рассказывал Фишер. – И я испытал большое потрясение, узнав, что все эти величественные правительственные резиденции и прочие атрибуты власти суть пустое место. Имперская архитектура правительственных дворцов скрывает, до чего на самом деле ограниченна власть тех, кто в них работает”.
Схожие рассуждения я слышал не только от министров и глав государств, но и от руководителей крупных компаний, глав фондов и больших организаций в самых разных сферах деятельности. Вскоре мне стало ясно, что происходит нечто более серьезное: дело не только в том, что сильные мира сего жалуются на пропасть между предполагаемой и реальной властью. Сама власть испытывает беспрецедентное давление. Начиная с 1990 года я каждый год посещал Всемирный экономический форум в Давосе, где собирались самые влиятельные персоны из сфер бизнеса, государственного управления, политики, СМИ, неправительственных организаций, науки, религии и культуры. Мне посчастливилось присутствовать и выступать практически на всех самых привилегированных встречах сильных мира сего, в том числе на конференции Бильдербергского клуба, ежегодном собрании магнатов индустрии СМИ и развлечений в Сан-Валли и ежегодных собраниях Международного валютного фонда. Каждый год я беседовал с разными участниками, и наши разговоры подтверждали мою догадку: сильные мира сего в наши дни сталкиваются со все более серьезными ограничениями власти. И реакция на мои расспросы свидетельствовала об одном: власть становится слабее, неустойчивее и несвободнее в своих проявлениях.
Я вовсе не призываю пожалеть тех, кто облечен властью. Жалобы правителей на собственное бессилие – еще не повод для паники в нашем мире, где “победитель получает все”. Я лишь хочу описать влияние упадка власти. Далее я подробно разберу процесс упадка, его причины, проявления и последствия с точки зрения способов, которыми он влияет не только на 1 % избранных, но, что важнее, на большой и растущий средний класс, а также на тех, кто вынужден каждый день бороться за выживание.
Мойзес Наим Март 2013 годаГлава 1 Упадок власти
Это книга о власти.
В частности, о том, как власть – то есть способность заставить других делать или не делать что-либо – претерпевает историческую и геополитическую трансформацию.
Власть расширяется, меняет границы, и у авторитетных крупных игроков появляются новые, более слабые соперники. У тех же, кто обладает властью, оказывается все меньше способов ее применить.
Мы зачастую недопонимаем, а то и вовсе упускаем из виду масштаб, сущность и последствия этой трансформации. Слишком уж заманчиво сконцентрироваться исключительно на влиянии интернета и прочих новых технологий, на том, как власть переходит от одного к другому, или же на вопросе, вытесняет ли мягкая сила культуры жесткую силу оружия. Но для полноты картины этого недостаточно. Более того, эти аспекты лишь мешают понять основные силы, меняющие методы, с помощью которых можно получить, употребить, сохранить или утратить власть.
Как известно, власть переходит от мускулов к интеллекту, с севера на юг и с запада на восток, от гигантских старых корпораций к расторопным стартапам, от закоснелых диктаторов к обычным людям на площадях и в виртуальном пространстве. Но недостаточно сказать, что власть переходит от одной части света или страны к другой или распределяется между множеством новых игроков. Власть претерпевает куда более серьезные изменения, которые пока что не до конца осмыслены и признаны. Государства, компании, политические партии, общественные движения и организации, отдельные лидеры по-прежнему соперничают друг с другом, как раньше, но власть, сам предмет борьбы, который они так отчаянно стараются завоевать и удержать, ускользает.
Власть переживает упадок.
Проще говоря, она уже не приносит таких дивидендов, как раньше. В XXI веке власть куда проще обрести (и утратить), а вот пользоваться ею стало гораздо труднее. Бои за власть остаются столь же напряженными – и в зонах боевых действий, и за столами переговоров, и в киберпространстве, – однако отдача от них все меньше. Их ожесточенность маскирует изменчивую природу власти как таковой. Понять, как власть теряет ценность, и мужественно встретить испытания и трудности, которые влечет за собой этот процесс, жизненно необходимо для того, чтобы разобраться в одной из ключевых тенденций, меняющих мир в XXI веке.
Это не означает, что власть исчезает как таковая, равно как и облеченные ею. Президенты Китая и США, руководители компаний J. P Morgan и Shell Oil, главный редактор New York Times, глава Международного валютного фонда и папа римский по-прежнему обладают огромным влиянием. Но все же в меньшей степени, нежели их предшественники. Те, кто ранее занимал эти посты, не только не сталкивались с таким количеством трудностей и соперников: у них было куда меньше ограничений, будь то гражданская активность, глобальные рынки или пристальное внимание СМИ. Они были вольны пользоваться властью так, как считали нужным. В наши дни сильным мира сего приходится расплачиваться за ошибки быстрее и серьезнее, чем их предшественникам. Их отношение к этой новой реальности, в свою очередь, влияет на поведение тех, над кем они властвуют, запуская цепную реакцию, которая затрагивает все аспекты человеческого взаимодействия.
Упадок власти меняет мир.
Цель данной книги – доказать эти смелые утверждения.
Слышали ли вы о Джеймсе Блэке-младшем?
На упадок власти влияют множество самых разных беспрецедентных сил. Чтобы это понять, давайте на время забудем о Клаузевице[1], крупнейших компаниях, входящих в рейтинг Fortune Global 500, и том единственном проценте населения США, на который приходится непропорционально большая доля государственного дохода, и обратимся к примеру Джеймса Блэка-младшего, шахматиста из семьи рабочих, родом из района Бедфорд-Стайвесант, Бруклин, Нью-Йорк.
К двенадцати годам Блэк стал мастером спорта по шахматам: это звание имеют менее двух процентов из 77 тысяч членов Американской шахматной федерации, и только 13 мастеров спорта тогда были моложе 14 лет{1}. Случилось это в 2011 году, и у Блэка были все шансы стать гроссмейстером (звание, которое присуждает Международная шахматная федерация на основе побед претендента в турнирах с титулованными игроками. Гроссмейстер – самое высокое звание, которое может получить шахматист, сохраняется пожизненно){2}.
До Блэка самым юным гроссмейстером в истории Америки был Рэй Робсон из Флориды: он получил это звание в октябре 2009 года, за две недели до пятнадцатилетия{3}.
Играть Блэк выучился самостоятельно с помощью дешевых пластмассовых шахмат, купленных в магазине Kmart, и вскоре переключился на книги о шахматах и компьютерные программы. Кумир Блэка – Михаил Таль, чемпион мира 1960-х годов. Помимо удовольствия от игры, Блэком движет жажда власти. Как он признался в одном из интервью: “Мне нравится диктовать сопернику, что ему нужно делать” – более четкую декларацию врожденной жажды власти трудно себе представить{4}.
Однако успехи Джеймса Блэка и Рэя Робсона уже не диво. Это часть общемировой тенденции, новый феномен, охвативший мир профессиональных шахмат, который долгое время оставался закрытым. Новое поколение учится играть и достигает мастерства в куда более юном возрасте. Гроссмейстеров сейчас больше, чем когда бы то ни было: более 1200 против 88 в 1972 году. Новички все чаще побеждают признанных мастеров, и средний срок чемпионства стремительно сокращается. Гроссмейстерами в наши дни становятся люди самого разного происхождения. Писатель и журналист Д. Т. Макс заметил: “В 1991-м, в год распада Советского Союза, все девять самых авторитетных шахматистов мира были родом из СССР. Воспитанники советских шахматных школ становились чемпионами мира на протяжении последних 43 лет (и только три года это звание принадлежало гражданину другой страны)”{5}.
Теперь ситуация изменилась. Все больше игроков разных национальностей и разного происхождения способны добраться до вершин шахматного Олимпа. А вот удержаться там непросто. Шахматный блогер Миг Грингард заметил: “На планете наберется две сотни игроков, которые, если повезет, смогут победить чемпиона мира”{6}. Иными словами, власть нынешних гроссмейстеров уже не та, что раньше.
Чем объясняются перемены в мировой шахматной иерархии? Отчасти (но лишь отчасти) цифровой революцией.
Нынешние шахматисты пользуются компьютерными программами, которые позволяют воссоздать миллионы партий, сыгранных лучшими гроссмейстерами мира. С помощью специальных программ можно спрогнозировать последствия каждого хода. Соперники могут переиграть любую партию, рассмотреть ходы при всех возможных сценариях, изучить манеру игры любого шахматиста. Интернет расширил кругозор шахматистов всего мира и, как показывает пример Джеймса Блэка, открыл новые возможности игрокам любого возраста и социоэкономического статуса. Каждый, у кого есть доступ в интернет, может найти на многочисленных шахматных сайтах интересующую информацию и достойного соперника{7}.
И дело тут не только в технологиях. Возьмем, например, другого шахматного гения, норвежца Магнуса Карлсена, который в 2010 году в возрасте девятнадцати лет стал первым в рейтинге ФИДЕ. По словам Д. Т. Макса, который опубликовал о шахматисте статью в журнале New Yorker, успех Карлсена объясняется скорее оригинальной и неожиданной стратегией (которой тот отчасти обязан своей феноменальной памяти), чем компьютерным обучением: “Карлсен меньше, нежели его соперники, тренировался с помощью компьютера, а значит, и манера его игры отличается от остальных. Он рассчитывает на собственную способность оценивать ситуацию. Это делает его опасным противником для тех, кто привык полагаться на компьютерные программы и базы данных”{8}.
Разрушение иерархии власти в мире шахмат обусловлено также переменами в глобальной экономике, политике, демографической и миграционной моделях. Многие границы открылись, путешествия стали доступнее, и большее число игроков смогло попробовать свои силы на турнирах по всему миру. Благодаря более высоким стандартам образования, распространению грамотности и умению считать, а также здравоохранению число потенциальных гроссмейстеров увеличилось. В начале XXI века впервые в истории городское население превысило сельское, что вкупе с продолжительным периодом экономического роста, начавшегося в 1990-х годах во многих бедных странах, открыло новые возможности перед миллионами семей, для которых прежде шахматы были непозволительной, а то и вовсе неизвестной роскошью. Разумеется, тому, кто живет на далекой ферме в бедных краях, без электричества и компьютера, или каждый день вынужден тратить много времени на то, чтобы добывать пропитание или носить домой воду, стать шахматистом мирового уровня нелегко. Прежде чем интернет сотворит чудо, нужно, чтобы совпало множество условий.
От шахматной доски – ко всему, что нас окружает
Шахматы – классическая метафора власти. Но в шахматах разрушились, а в некоторых случаях вовсе исчезли барьеры, прежде ограничивавшие крохотный, тесный и стабильный мир чемпионства. Препятствия, мешавшие понять тактику и в совершенстве овладеть искусством игры, равно как и прочие преграды, которые ограничивали доступ на вершину, стали менее серьезными.
То, что случилось в мире шахмат, происходит и с властью в целом. Разрушение барьеров меняет как внутреннюю политику отдельных государств, так и геополитику, битву за клиентов и паству между религиями, соперничество между неправительственными организациями, интеллектуальными институтами, идеологиями, философскими и научными школами. Везде, где власть важна, виден ее упадок.
Одни приметы этого упадка заметны невооруженным глазом, другие становятся понятны благодаря экспертному анализу и научным исследованиям.
Начнем с геополитики. С 1940-х годов число независимых государств выросло в четыре раза. Более того, теперь они соперничают, враждуют или сотрудничают не только друг с другом, но и со всевозможными транснациональными и негосударственными организациями. Появлению Южного Судана (а произошло это в 2011 году), самого молодого государства на планете, активно способствовали десятки неправительственных организаций, в особенности группы евангельских христиан, такие как “Мошна самаритянина” под руководством Франклина Грэма, одного из сыновей Билли Грэма, известного американского религиозного и общественного деятеля, служителя баптистской церкви.
Если государство в наши дни вступает в войну, то военная мощь играет куда меньшую роль, нежели раньше. Боевые действия стали асимметричными: целые армии воюют против малочисленных отрядов повстанцев, сепаратистов, боевиков, причем все чаще побеждает более слабая в военном отношении сторона. Согласно исследованию, проведенному учеными Гарвардского университета, в асимметричных войнах с 1800 по 1849 год слабая (в плане численности войск и вооружения) сторона достигала стратегических целей в 12 % случаев. В тех же войнах, которые происходили в период между 1950 и 1998 годами, слабые побеждали чаще – в 55 % случаев. По целому ряду причин исход современных асимметричных боевых действий скорее зависит от взаимосвязи противодействующих политических и военных стратегий, чем от вооруженных сил. Таким образом, многочисленная, хорошо вооруженная армия уже не гарантирует того, что государству удастся достичь своих стратегических целей. И один из важных факторов такой перемены – растущая способность слабой стороны наносить противнику тяжелый урон в живой силе с незначительным ущербом для себя. Использование самодельных взрывных устройств (СВУ) в Афганистане и Ираке – лучшее тому доказательство. Один из генералов морской пехоты в Афганистане подсчитал, что на долю СВУ приходится 80 % потерь в его подразделении, а в годы войны в Ираке – две трети потерь, понесенных войсками коалиции, стали СВУ. И такой уровень поражающего действия сохраняется, несмотря на значительные средства, которые Пентагон выделяет на меры противодействия, включая 17 миллиардов долларов на покупку 50 тысяч приспособлений для радиоэлектронного подавления: предполагалось, что они нейтрализуют примитивные взрывные устройства на дистанционном управлении (мобильные телефоны, пульты дистанционного управления воротами гаража), приводившие бомбы в действие{9}.
Также сокращается власть диктаторов и лидеров политических партий, равно как и их число. В 1977 году 89 государствами руководили автократы; к 2011 году их количество уменьшилось до 22-х{10}. В наши дни более половины населения планеты живет в демократических государствах. События “арабской весны” вызвали отклик в каждом уголке мира, где не проводятся честные выборы и власть целиком и полностью принадлежит диктатору или правящей верхушке. В странах с недемократическим строем, где разрешены различные политические партии, количество оппозиционных партий выросло в три раза по сравнению с 1980-ми годами. И главы крупных партий соперничают с кандидатами и лидерами, которые вышли из пресловутых политических кулуаров. Примерно половина крупных политических партий в государствах с демократическим правлением в наши дни устраивает праймериз или же прибегает к иным репрезентативным методам, чтобы дать рядовым членам организации больше свободы в выборе единого кандидата. От Чикаго до Милана, от Нью-Дели до Бразилии политические боссы охотно признаются в том, что утратили возможность обеспечивать себе голоса избирателей и свободу решений, которую их предшественники воспринимали как должное.
Эта тенденция затронула и деловой мир. Доходы растут, богатые накапливают огромные состояния, и некоторые пытаются купить политическую власть. Но это явление, столь же тревожное, сколь и неприемлемое, не единственное, что определяет механизмы власти президентов корпораций и состоятельных инвесторов.
Даже элита, составляющая 1 % от всего населения США, не защищена от внезапных изменений в том, что касается богатства, власти и статуса. Несмотря на растущее имущественное расслоение, Великая рецессия имела и корректирующее действие: сильнее всего она сказалась на доходах богачей. Как пишет Эммануэль Саэз, профессор экономики из Университета Беркли, доходы 1 % наиболее обеспеченных граждан США, получающих зарплату, сократились на 36,3 %, а у оставшихся 99 % граждан – всего на 11,6 %{11}. Стивен Каплан из Школы бизнеса им. Бута при Чикагском университете подсчитал, что доля дохода, приходящегося на 1 % населения США, составляющий элиту, сократилась с максимального показателя в 23,5 % в 2007 году до 17,6 % в 2009 году и, как свидетельствуют данные Саэза, в последующие годы продолжала падать. Как писал Роберт Франк в газете Wall Street Journal: “Самые высокооплачиваемые специалисты несут сокрушительные потери. Число американцев, зарабатывающих миллион долларов и более, с 2007 по 2009 год сократилось на 40 % и составило 236 883 человек, в то время как их общие доходы упали почти на 50 % – куда больше, нежели у тех, кто получает 50 тысяч долларов: по данным Федеральной налоговой службы, они лишились менее 2 % своего дохода”{12}. Разумеется, из сказанного вовсе не следует, что концентрация доходов и крупных состояний в большинстве передовых демократических государств, и в особенности в США, не увеличилась. Увеличилась, причем весьма существенно. Но это не отменяет того факта, что экономический кризис затронул отдельных состоятельных людей и целые семьи, в результате чего их богатство и влияние существенно сократились.
Разумеется, личный доход и богатство – не единственные источники власти. Главы крупных корпораций зачастую обладают большей властью, чем “обычные” богатые. В наши дни топ-менеджеры зарабатывают больше, чем раньше, но вот положение у них так же шатко, как и у чемпионов по шахматам. И если в 1992 году президент корпорации из рейтинга Fortune 500 с вероятностью 36 % мог и следующие пять лет занимать тот же пост, то в 1998-м вероятность этого сократилась до 25 %. К 2005 году средний срок пребывания в должности для американского руководителя компании сократился до шести лет. И это общемировая тенденция. В 2011 году 14,4 % президентов 2500 крупнейших мировых корпораций покинули занимаемые посты. Даже в Японии, известной относительной статичностью корпоративной структуры, в 2008 году число вынужденных случаев смены глав крупных компаний выросло в четыре раза{13}.
То же происходит и с самими компаниями. В 1980 году для американской корпорации, входящей в пятерку лидеров отрасли, риск в ближайшие пять лет утратить это положение составлял всего лишь 10 %. Двадцать лет спустя такая вероятность возросла до 25 %. В наши дни один лишь список из пятисот крупнейших американских и международных компаний, которых десять лет назад не было и в помине, показывает, что новички вытесняют традиционные гигантские корпорации. Что касается финансовой сферы, то банки уступают в силе и влиянии более молодым и ловким хедж-фондам: во второй половине 2010 года, в самый разгар резкого экономического спада, десять крупнейших хедж-фондов, большинство из которых неизвестно широкой публике, заработали больше, чем шесть самых солидных банков мира вместе взятых. Причем даже в самых крупных фондах, оперирующих огромными капиталами и получающих значительную прибыль, работает лишь несколько сотен человек.
Гигантские корпорации в наши дни стали куда более уязвимы с точки зрения “ошибок бренда”, которые ставят под угрозу их репутацию, доходы и оценочную стоимость. В одном исследовании было доказано, что для компаний – владельцев самых престижных мировых брендов риск совершить такую ошибку в течение пяти лет за последние два десятилетия увеличился с 20 до 82 %. Состояние BP, Tiger Woods и News Corporation Руперта Мердока сократилось практически мгновенно из-за событий, повредивших репутации компаний.
Словно в доказательство диффузии власти в бизнесе, транснациональные корпорации из бедных стран вытеснили или перекупили некоторые из крупнейших мировых компаний. Инвестиции из развивающихся стран выросли с 12 миллиардов долларов в 1991 году до 210 миллиардов в 2010-м. Крупнейшая сталелитейная корпорация в мире ArcelorMittal выросла из Mittal Steel, индийской компании, которая была основана всего лишь в 1989 году{14}. И когда американцы потягивают свой легендарный Budweiser, они пьют пиво, которое производит компания, образованная в 2004 году путем слияния бразильской и бельгийской пивоварен и в 2008 году взявшая на себя управление Anheuser-Busch, сформировав тем самым крупнейшую пивоваренную компанию в мире. Кстати, ее президент, Карлос Брито, родом из Бразилии.
Подобные тенденции просматриваются не только в традиционных сферах применения власти – военных действиях, политике, бизнесе, но характерны и для благотворительности, религии, культуры и способности граждан влиять на события. В 2010 году число новых миллиардеров достигло рекордных высот. Каждый год одни имена исчезают из этого списка, а другие, ранее неизвестные, появляются, причем это уроженцы самых разных стран.
Благотворительность также перестала быть областью деятельности всего нескольких крупных фондов и международных организаций: возникло множество мелких фондов, появились новые способы жертвования, которые в большинстве случаев позволяют напрямую передать средства от спонсора получателю в обход классической схемы. В 1990-е годы число международных пожертвований, которые совершали в США как отдельные граждане, так и организации, увеличилось в четыре раза, а в период с 1998 по 2007 год еще в два и достигло 39,6 миллиарда долларов – сумма, более чем вполовину превышающая ежегодные отчисления Всемирного банка. Количество благотворительных фондов в США выросло с 40 тысяч в 1975 году до 76 тысяч с лишним в 2012-м. Актеры, спортсмены и прочие знаменитости – от Опры Уинфри и Билла Клинтона до Анджелины Джоли и Боно – популяризовали благотворительность среди элиты. И, разумеется, новые крупнейшие фонды, которые спонсируют Билл и Мелинда Гейтс, Уоррен Баффет и Джордж Сорос, в корне изменили традиционные методы работы такого рода организаций. Тысячи недавно разбогатевших магнатов в научно-технической сфере и руководителей хедж-фондов начинают активнее, чем прежде, заниматься благотворительностью и тратят на это куда большие суммы, нежели это было принято ранее. “Венчурная филантропия” способствовала возникновению новой сферы деятельности, направленной на использование стратегий управления бизнесом в области благотворительности. Агентство США по международному развитию (USAID), Всемирный банк и Фонд Форда столкнулись не только с множеством соперников, которые используют интернет и прочие технологии, но и с более пристальным вниманием общественности и с ограничениями со стороны активистов, получателей и правительств принимающих пожертвования стран.
Стремительно сокращается и традиционная власть главных мировых религий. Так, в государствах, некогда бывших оплотом Ватикана и основных протестантских церквей, все большее распространение приобретают общины пятидесятников. В Бразилии пятидесятники и харизматы в 1960 году составляли лишь 5 % населения – по сравнению с 49 % в 2006 году. (В Южной Корее их 11 %, в США – 23 %, в Нигерии – 26 %, в Чили – 30 %, в Южной Африке – 34 %, на Филиппинах – 44 %, в Кении – 56 %, а в Гватемале – 60 %.) Общины пятидесятников обычно небольшие и ориентируются на местных прихожан, однако некоторые распространяют деятельность и на другие страны. К таким относится, например, бразильская Всемирная церковь “Царство Божие” (Igreja Universal do Reino de Deus, сокращенно IURD), общее число прихожан которой составляет четыре миллиона человек, и нигерийская Искупленная христианская церковь Божья (RCCG). У одного нигерийского пастора сорокатысячный приход в Киеве. Церкви, которые эксперты называют “органическими” или “простыми”, – то есть стихийные, домашние, неиерархические собрания верующих в общинах – разрушают католицизм и англиканскую церковь изнутри. В исламе же (кстати, изначально нецентрализованном) появляются все новые и новые направления, поскольку разные богословы и имамы, выступая по телевидению, излагают противоречащие друг другу интерпретации тех или иных догматов.
Добавьте к этому схожие тенденции в сфере труда, образования, искусства, науки, даже в профессиональном спорте и получите полную картину. Власть разделяется между растущим числом новых мелких игроков самого разного и неожиданного происхождения, в общем, происходит то же, что мы наблюдаем в шахматах. И эти игроки руководствуются совершенно иными, нетрадиционными схемами и правилами.
Я понимаю, что утверждение, будто власть становится слабее и уязвимее, противоречит широко распространенному мнению: мол, в наше время сильные мира сего обладают большей властью, чем когда бы то ни было, они могущественнее прежнего, и позиции их прочны, как никогда. Действительно, многие полагают, что власть – как деньги: если она есть, значит, будет еще больше. С этой точки зрения бесконечный цикл концентрации власти и богатства можно считать основной движущей силой в истории человечества. Разумеется, в мире существует множество организаций и людей, которые обладают властью и едва ли ее утратят. Но, как будет сказано далее, такой подход скрывает из виду очень важные аспекты того, как меняется жизнь.
Как мы увидим далее, в мире происходят гораздо более сложные процессы, нежели переход власти от одной группы влиятельных игроков, связанных общими интересами, к другой. Трансформация власти масштабнее и сложнее. Власть сама по себе становится все более доступной: в наши дни ею обладает куда большее число людей. При этом пределы ее ограничены, и пользоваться ею труднее. И вот почему.
Что изменилось?
Власть укрепляется благодаря барьерам, которые отделяют лидеров от конкурентов. Эти барьеры не только мешают новым претендентам стать серьезными соперниками, но и обеспечивают господствующее положение сильных игроков. Барьеры присутствуют везде – когда речь идет о правилах проведения выборов, о вооружении армий и полицейских формирований, а также о капитале, ограниченном доступе к ресурсам, рекламных бюджетах, запатентованных технологиях, брендах, привлекающих потребителей, и даже моральном авторитете религиозных лидеров или харизме некоторых политиков.
Однако за последние тридцать лет барьеры, окружающие власть, стали не такими прочными. Теперь их куда проще разрушить, преодолеть или обойти. Как покажет наша дискуссия о внутренней и внешней политике, бизнесе, войне, религии и прочих сферах деятельности, причины, лежащие в основе этого явления, связаны не только с демографическими и экономическими трансформациями и распространением информационных технологий, но и с изменениями в политике, а также с существенными сдвигами во всем, что касается ожиданий, ценностей и социальных норм. Так, информационные технологии (в том числе интернет, но и не только он) существенно меняют доступ к власти и ее использование. Но есть и более фундаментальное объяснение того, почему барьеры, окружающие власть, стали слабее – это связано с различными факторами: быстрый экономический рост во многих бедных странах, миграционные модели, медицина и здравоохранение, образование и даже взгляды на жизнь и культурные нормы, – в общем, началась трансформация целей и задач, устройства и возможностей человеческой жизни.
В конце концов, жизнь наших современников от жизни предков отличается не инструментами, которыми мы пользуемся, и не законами, управляющими обществом. Дело в том, что людей на планете стало куда больше, мы дольше живем, лучше себя чувствуем, мы грамотнее и образованнее предков; все больше людей не испытывают недостатка в пище и могут себе позволить тратить больше времени и денег на иные цели, а если нас не устраивает место жительства, нам проще и легче, чем раньше, переехать куда-то еще. Плотность населения увеличилась: теперь люди живут в более тесном соседстве. Выросли благосостояние и продолжительность жизни. Мы чаще контактируем друг с другом, а это, в свою очередь, увеличивает наши ожидания и возможности. Разумеется, далеко не каждый в наши дни может похвастаться хорошим здоровьем, образованием и достатком. Бедность, неравенство, войны, болезни, социальные и экономические проблемы никуда не делись. Но статистические данные, учитывающие продолжительность жизни, грамотность, детскую смертность, питание, уровень дохода, уровень образования, свидетельствуют о том, что мир существенно изменился, равно как изменились человеческое восприятие и отношение к чему бы то ни было, а это, в свою очередь, влияет на условия обретения, сохранения и утраты власти.
В следующих трех главах мы подробно обсудим эту мысль. Во второй главе представлены практические рассуждения о власти, применимые к любой сфере человеческой деятельности. Мы рассмотрим различные способы применения власти, найдем отличия между такими аспектами власти, как влияние, убеждение, принуждение и авторитет, а также продемонстрируем, как власть прячется за барьерами, которые позволяют ей расти и концентрироваться, пока эти же самые преграды не разрушаются и не теряют способность сдерживать натиск. В третьей главе объясняется, как увеличивается власть в самых разных сферах жизни. Почему на практике власть тем больше, чем крупнее организация, которая ею обладает? Почему крупные, иерархически упорядоченные, централизованные организации стали основными инструментами, посредством которых применялась и по сей день применяется власть? Причем эта взаимозависимость между уровнем власти и размерами организации, которая ею обладает, достигла апогея в XX веке. И представление о том, что чем крупнее институт, тем большей властью он обладает, по сей день влияет на обсуждения и споры несмотря на то, что факты свидетельствуют об обратном.
В четвертой главе подробно рассматривается вопрос о том, как большие перемены в жизни ставят перед нами новые сложные задачи, из-за которых труднее воздвигать и защищать барьеры власти, сдерживающие натиск конкурентов. В основе этих перемен – три революционные трансформации, определившие наше время: революция множества, характеризующаяся ростом во всем, начиная с количества стран до численности населения, уровня жизни, уровня грамотности и количества товаров на рынке; революция мобильности, в результате которой люди, товары, деньги, идеи и ценности перемещаются по всему миру (даже в самые отдаленные и ранее недоступные уголки планеты) в невиданных прежде объемах; революция ментальности, отображающая существенные сдвиги в мировоззрении, ожиданиях и надеждах, которые сопровождают подобные трансформации.
Отдельные аспекты этих трех трансформаций наверняка знакомы читателям, однако вопрос о том, как в результате каждой из них власть становится проще обрести и труднее использовать или удержать, ранее в таком объеме не исследовался. В четвертой главе рассматривается, как именно эти серьезные перемены сдвигают барьеры власти и усложняют ее эффективное использование. Результат этих перемен существенно затруднил деятельность крупных централизованных организаций, чьи солидные активы уже не гарантируют лидерства, а в некоторых случаях и вовсе являются недостатком. Обстоятельства, при которых применяются различные виды власти, в том числе подавление, принуждение, убеждение и побуждение, изменились таким образом, который до определенной степени ограничивает, а то и вовсе нивелирует преимущества масштаба.
Упадок власти – новое явление? Он есть? Что делать?
Перемены, которые мы рассмотрим подробно, оказались на руку многим новаторам и новичкам в разных сферах, в том числе, увы, пиратам, террористам, мятежникам, хакерам, торговцам людьми, фальшивомонетчикам и киберпреступникам{15}. Однако эти перемены также открыли новые возможности для продемократических активистов (равно как и для мелких политических партий узкой и экстремистской направленности) и альтернативные пути к политическому влиянию, которые позволяют обойти или вовсе сломать формальную и жесткую внутреннюю структуру политической номенклатуры, причем как в демократических странах, так и в странах с репрессивным режимом. Когда горстка малайзийских активистов летом 2011 года решила “оккупировать” площадь Независимости в Куала-Лумпуре, подвигнув тем самым “индигнадос” (от испанского in-dignados – “возмущенные”) разбить палатки на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде, мало кто мог предвидеть, что это выльется в “Захвати Уолл-стрит” и акции протеста в 2600 городах по всему миру.
И хотя эти и подобные им протестные движения так и не привели к существенным политическим переменам, их влияние достойно внимания. Известный историк 1960-х годов Тодд Гитлин заметил: “Кардинальные перемены в общественных дискуссиях, на которые в давно минувшие шестидесятые ушло немало времени – потребовалось три года, чтобы люди заговорили о кровопролитной войне, недостаточном благополучии, ущербной политике и невыполнении демократических обещаний, – в 2011-м совершились за три недели”{16}. С точки зрения скорости, степени воздействия и новых форм горизонтальной организации движения “Оккупай” обнажили ослабление некогда принадлежавшей традиционным политическим партиям монополии на средства, с помощью которых члены общества выражают свои надежды, претензии и требования. “Арабская весна”, начавшаяся в 2010 году на Ближнем Востоке, и не думает заканчиваться: более того, она продолжает распространяться на новые страны, причем отголоски этих волнений ощущают авторитарные режимы по всему миру.
Как было сказано выше, практически то же самое происходит и в мире бизнеса. Мелкие, никому не известные компании из стран, рынки которых только-только стали свободными, умудряются обскакать, а то и вовсе перекупить крупные мировые корпорации и престижные бренды, которые лидеры отрасли создавали десятилетиями.
В геополитике мелкие игроки – будь то “маленькие” государства или негосударственные образования – получили новые возможности: налагать вето, вмешиваться, менять направление и препятствовать объединенным усилиям крупных держав и многосторонних организаций, таких как, например, Международный валютный фонд. Вот лишь несколько примеров: Польша наложила вето на планы государств-участников ЕС по сокращению выбросов парниковых газов, Турция и Бразилия пытались сорвать переговоры крупных держав с Ираном о ядерной программе, дипломатические секреты США были опубликованы на сайте WikiLeaks, фонд Билла Гейтса перехватил у Всемирной организации здравоохранения лидерство в борьбе с малярией, а содержание переговоров по вопросам торговли, климатических изменений и многим другим быстро становится достоянием общественности.
Эти новые и обретающие все большее влияние “мелкие игроки” существенно отличаются друг от друга – как и сферы, в которых они соперничают. Общее у них одно: чтобы добиться известности, уже не важен размер, масштаб деятельности, история и сложившаяся традиция. Они знаменуют собой появление нового типа власти (назовем ее “микровластью”), у которого прежде было мало шансов на успех. В наши дни, как будет показано далее, факторы, влияющие на перемены в мире, в гораздо меньшей степени связаны с соперничеством между суперигроками: скорее, эти факторы зависят от возвышения тех, кто обладает микровластью, и от их способности бросить вызов суперигрокам.
Упадок власти не свидетельствует о том, что суперигроки вымирают. Влиятельные правительства, крупные армии, большой бизнес и престижные университеты столкнутся с небывалыми ограничениями, но своего значения не утратят, и их действия и решения по-прежнему будут иметь вес. Но не тот, что раньше. И не в той степени, в какой им хотелось бы. И уж точно не так, как они ожидают. Может показаться, что утрата сильными прежней власти – сплошное благо (ведь власть развращает, не так ли, однако их ослабление может спровоцировать нестабильность, беспорядки и неспособность решать сложные задачи.
В следующих главах мы рассмотрим, как усиливается упадок власти, несмотря на тенденции, которые, на первый взгляд, свидетельствуют об обратном: “возвращение гигантов” и спасение “стратегически важных компаний” в конце прошлого десятилетия, постоянное увеличение военного бюджета Соединенных Штатов и Китая, а также все увеличивающееся различие в доходах и материальное неравенство. Упадок власти – куда более важное и масштабное явление, нежели поверхностные тенденции и изменения, о которых в настоящее время спорят аналитики и высокопоставленные чиновники, определяющие государственную политику.
Цель этой книги в том числе и в том, чтобы развенчать два главных стереотипа относительно власти. Сторонники первого объясняют перемены во власти, в особенности в политике и бизнесе, воздействием интернета. Приверженцы второго одержимы сменой авторитетов в геополитике, вследствие которой влияние одних государств (в особенности США) уменьшается, а других (в частности, Китая) растет, и это считается главной тенденцией, меняющей мир.
Власть приходит в упадок не под воздействием информационных технологий в целом и интернета в частности. Интернет и прочие средства коммуникации, безусловно, меняют политику, массовую политическую активность, бизнес и, разумеется, власть. Но их роль зачастую преувеличивают и недопонимают. Новые информационные технологии лишь инструменты: чтобы они оказали воздействие, необходимы пользователи, которым, в свою очередь, нужны цели, направленность и мотивация. Фейсбук, Твиттер, смс очень помогли участникам акций протеста во время “арабской весны”. Но обстоятельства, побудившие людей выйти на улицы, обусловлены ситуацией в стране и за рубежом, которая не имеет никакого отношения к новым средствам информации, оказавшимся в распоряжении у протестующих. В египетских демонстрациях, в результате которых Хосни Мубарак ушел в отставку, принимали участие миллионы человек – но в самый разгар событий у страницы на Фейсбуке, которая, как утверждают, и побуждала к протестным действиям, было всего 350 тысяч подписчиков. Более того, недавнее исследование трафика в Твиттере во время волнений в Египте и Ливии показало, что 75 % пользователей, переходивших по ссылкам, связанным с протестным движением, жили за пределами арабского мира{17}. Другое исследование, которое проводил американский Институт мира, тоже посвященное роли Твиттера в событиях “арабской весны”, показало, что новые средства информации “не сыграли существенной роли в организации коллективных действий внутри страны или в распространении протеста на другие государства региона”{18}.
Первым и основным побудительным мотивом протеста оказалась демографическая ситуация в таких странах, как Тунис, Египет и Сирия: в наши дни молодежь там здоровее и образованнее, чем когда бы то ни было, но при этом не имеет работы и вследствие этого испытывает фрустрацию. Кстати, те же самые информационные технологии, которые увеличили возможности обычных граждан, породили и новые способы слежки, подавления и корпоративного контроля: например, так в Иране вычислили и посадили в тюрьму участников несостоявшейся “зеленой революции”. Было бы неверно отрицать важную роль информационных технологий, в особенности социальных сетей, в переменах, свидетелями которых мы являемся, равно как и объяснять эти перемены исключительно следствием широкого распространения технологий.
Упадок власти также не следует путать с любой из “модных” смен власти, которые аналитики и комментаторы исследуют с тех пор, как ослабление Америки и усиление Китая было безоговорочно признано ключевой геополитической трансформацией нашей эпохи: одни радовались, другие порицали, третьи предупреждали о ее недопустимости, с разными нюансами – в зависимости от точки зрения автора. Профессиональные и доморощенные политологи развлекаются вовсю, предрекая грядущий закат Европы и возвышение стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) и “прочих”. Но поскольку соперничество между государствами всегда находится в состоянии изменения, чрезмерная сосредоточенность на том, кто слабеет, а кто входит в силу, большое и опасное заблуждение. Это пустая трата времени. Каждую новую группу победителей ждет неприятное открытие: в будущем свобода и эффективность действий властей предержащих окажется ограничена, причем так, как они даже не подозревают, поскольку их предшественники ни с чем подобным не сталкивались.
Кроме того, суммарный эффект этих перемен ускорил разрушение морального авторитета и законности в общем.
Одно из проявлений этой тенденции – утрата веры в профессии и государственные организации, о которой писалось не раз. И дело не только в том, что общественные лидеры теперь кажутся более уязвимыми: те, над кем они некогда властвовали безраздельно, осознали многообразие возможностей и больше прежнего нацелены на то, чтобы реализовать себя в профессии. Сегодня мы не спрашиваем себя, что мы можем сделать для страны: мы спрашиваем, что наша страна, работодатель, поставщик быстрого питания или любимая авиакомпания могут нам предложить.
Неспособность отвлечься от текущих битв и осознать упадок власти в целом обходится дорого. Она вызывает растерянность, мешает осознать важные и сложные проблемы, которые требуют нашего внимания, – от эпидемии финансовых кризисов, безработицы и бедности до истощения ресурсов и климатических изменений. Как бы парадоксально это ни звучало, сейчас мы куда острее осознаем и лучше, чем когда-либо, понимаем эти явления, но при этом совершенно неспособны пойти на решительные действия, чтобы исправить ситуацию. А виной всему упадок власти.
Что же такое власть?
В книге о власти без определения власти не обойтись – равно как и без причины, которая побудила автора взяться за эту старую как мир, но в каком-то смысле самую сложную для понимания тему.
Власть диктовала образ действий и порождала соперничество с тех самых пор, как возникло общество. Аристотель считал власть, богатство и дружбу тремя составляющими счастья. Практически все философы согласны с тем, что человеку свойственно добиваться власти на личном уровне, а правители стремятся укрепить и расширить сферу своего влияния. В XVI веке Никколо Макиавелли в трактате “Государь”, посвященном искусству управления государством, писал о том, что приобретение территорий и политический контроль “поистине… дело естественное и обычное: и тех, кто учитывает свои возможности, все одобрят или же никто не осудит[2]”{19}. Английский философ XVII века Томас Гоббс в “Левиафане”, классическом трактате о природе человека и общества, заходит еще дальше: “.на первое место я ставлю как общую склонность всего человеческого рода вечное и беспрестанное желание все большей и большей власти, желание, прекращающееся лишь со смертью[3]”{20}. Два с половиной столетия спустя, в 1885 году, Фридрих Ницше скажет устами героя “Так говорил Заратустра”: “Везде, где находил я живое, находил я и волю к власти; и даже в воле служащего находил я волю быть господином[4]”{21}.
Это вовсе не означает, что все человеческие устремления сводятся исключительно к жажде власти. Разумеется, любовь, секс, вера и прочие потребности и чувства играют немаловажную роль в жизни человека. Но погоня за властью служила и служит побудительной причиной. Власть формирует общественную структуру, помогает управлять взаимоотношениями как между людьми, так и между членами общества и между государствами. Власть пронизывает все сферы, в которых существует борьба, соперничество или организация: международную политику, войны, внутреннюю политику, бизнес, научные исследования, религию, социальные действия, такие как благотворительность и гражданская активность, социальные и культурные связи всех видов. Даже в нашей личной и семейной жизни власть играет не последнюю роль, равно как и в речи, и даже во снах. Последние две сферы мы затрагивать не будем, но это вовсе не значит, что для них не характерны тенденции, которые я стараюсь объяснить.
Подойдем к вопросу с практической точки зрения. Наша цель – понять, что нужно для того, чтобы обрести, сохранить и утратить власть. Следовательно, необходимо рабочее определение – например, такое: “Власть – это способность направлять настоящие или будущие действия других групп людей и отдельных лиц или препятствовать им”. Иными словами, власть – то, что позволяет нам влиять на поведение других людей, в результате чего они совершают действия, которые в противном случае не совершили бы.
Такой практический взгляд на власть не является ни новым, ни спорным. Несмотря на то, что власть – тема сложная, большинство определений, которыми пользуются социологи, похожи на приведенное выше. Так, мой подход перекликается с изложенным в классическом труде политолога Роберта Даля “Концепция власти” (написан в 1957 году), на который часто ссылаются. По словам Даля, “А обладает властью над Б в той степени, в которой может заставить Б сделать то, что в противном случае тот бы не сделал”. Разные способы применения власти и различные ее выражения, такие как влияние, убеждение, принуждение и авторитет – о них будет сказано в следующей главе, – существуют в этом контексте: одна сторона может (или не может) заставить другую поступать определенным образом{22}.
Но даже если власть – тот побудительный мотив, который движет каждым из нас, как утверждают философы, как сила действия она все же относительна. Чтобы измерить власть, недостаточно обычных показателей, например, чья армия больше, казна богаче, население многочисленнее или ресурсы обильнее. Власть не является неизменной, ее невозможно измерить количественно, поскольку в жизни влияние того или иного лица или организации меняется от случая к случаю. Поскольку власть, дающая возможность управлять, требует взаимодействия или обмена между двумя и более сторонами: слугой и господином, правителем и гражданином, начальником и подчиненным, родителем и ребенком, учителем и учеником – или сложной комбинацией лиц, партий, армий, компаний, институций, даже наций. И с каждой новой ситуацией меняется и способность игроков направлять действия других или препятствовать им – иными словами, их власть. Чем меньше меняются игроки и их характеристики, тем стабильнее становится распределение власти. Но когда количество, отличительные черты, мотивы, способности и характеристики игроков меняются, изменяется и соотношение сил.
И это не абстрактное утверждение. Я настаиваю на том, что власть выполняет социальную функцию. Ее задача не в том, чтобы усилить господство или создать победителей и побежденных: она упорядочивает сообщества (как малые, так и большие), рыночные отношения и весь мир. И Гоббс объяснил это очень хорошо. Поскольку человеку свойственно стремление к власти, писал Гоббс, люди по природе своей агрессивны и склонны к соперничеству. И если власть не обуздает и не направит эти их склонности, они будут воевать до последнего. Но если люди подчиняются “общей власти”, они могут направить усилия на создание общества, а не на его уничтожение. “…Пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной, – писал Гоббс, – и именно в состоянии войны всех против всех[5]”{23}.
Упадок власти: что поставлено на карту?
Разрушение преград на пути к власти открывает дорогу новым игрокам вроде тех, что изменили мир шахмат и, как мы подробно разберем в следующих главах, продолжают трансформировать другие важные сферы конкуренции.
Эти новые игроки и есть микровласть, о которой мы упоминали ранее. Это власть нового типа: не та масштабная, сокрушительная, зачастую подавляющая власть крупных экспертных организаций, но сила противодействия, проистекающая из способности противостоять большим игрокам и ограничивать их возможности.
Власть эта обусловлена не только нововведениями и инициативностью, но и расширенным спектром таких методов воздействия, как вето, проволочки, диверсии и помехи. Классические тактики повстанцев в условиях военного времени теперь с успехом применяются во многих сферах деятельности. А это значит, что они открывают новые перспективы не только прогрессивным новаторам, но и экстремистам, сепаратистам и прочим людям, чьи намерения сложно назвать благими. Этих игроков, как уже ясно, с каждым днем становится все больше, что вызывает серьезные опасения по поводу того, что произойдет, если упадок власти будут по-прежнему игнорировать, не принимая никаких мер.
Мы все знаем, что чрезмерная концентрация власти наносит вред обществу, в том числе и в тех сферах, которые изначально ориентированы на то, чтобы делать добро: вспомните хотя бы скандалы, сотрясавшие католическую церковь. А что происходит, если власть полностью рассредоточивается или находится в упадке? Философы знают ответ: воцаряется хаос и анархия. Война всех против всех, о которой писал Гоббс, это антитеза социального благополучия. Если власть приходит в упадок, возникает риск именно такого развития событий. В мире, где игроки обладают достаточной властью, чтобы блокировать начинания других, и при этом ни у кого нет возможности осуществить собственный план действий, решения либо не принимаются вовсе, либо принимаются слишком поздно или в таком ограниченном виде, что оказываются неэффективными. Без предсказуемости и стабильности, обусловленных общепризнанными правилами и авторитетами, даже самым беззаботным художникам, композиторам, писателям и поэтам не удастся жить полной жизнью: так, без защиты интеллектуальной собственности они не смогут существовать исключительно за счет творчества. Знания и опыт, которые политические партии, корпорации, церкви, вооруженные силы и культурные организации накапливали десятилетиями, окажутся под угрозой исчезновения. И чем менее надежной будет власть, тем больше наша жизнь будет подчинена краткосрочным стремлениям и опасениям, тем меньше мы сможем планировать будущее.
Совокупность подобных рисков может привести к отчуждению. Влиятельные общественные институты так прочно вошли в нашу жизнь, а барьеры, окружавшие власть, традиционно были так высоки, что мы привыкли строить свою жизнь (решать, что делать, с чем мириться, а с чем нет), руководствуясь параметрами, заданными этими институтами. И в случае отхода от прежних норм упадок власти окажется разрушительным.
Нам жизненно необходимо понять природу и последствия упадка власти, равно как и принять необходимые меры. И хоть вышеупомянутых рисков для воцарения полной анархии недостаточно, они уже влияют на нашу способность справляться со многими серьезными задачами, которые ставит перед нами современность: от изменения климата до распространения ядерного оружия, экономических кризисов, истощения природных ресурсов, пандемий, неискоренимой нищеты “беднейшего миллиарда”, терроризма, торговли людьми, киберпреступности и прочего. Мир сталкивается с целым рядом сложных проблем, для решения которых требуется участие самых разных сторон и игроков. Однако упадок власти также стимулирует развитие: он открыл путь новым предприятиям и компаниям по всему миру, дал слово новым лидерам, создал новые возможности. Но с точки зрения стабильности его последствия чреваты опасностью. Можно ли приветствовать новые мнения, инновации и инициативы, не переживая при этом разрушительный кризис, который стремительно сводит на нет результаты этого прогресса? Понять сущность упадка власти – значит сделать первый шаг к тому, чтобы найти свой путь в новом мире.
Глава 2 Что такое власть Как она функционирует и как ее сохранить
Будильник звенит без пятнадцати семь, на полчаса раньше обычного: начальник настоял, чтобы вы непременно были на совещании, хотя вы уверены, что оно совершенно бессмысленно. Вы бы, конечно, поспорили, но на следующей неделе состоится ежегодная оценка результатов вашей работы, а рисковать повышением не хочется. По радио рекламируют новый Toyota Prius: “Самый экономичный расход бензина среди всех автомобилей в Америке”. Вам до смерти надоело каждую неделю тратить кучу денег на бензин. У ваших соседей Джонсов Prius, почему бы и вам не купить такой же? Но не хватает на первый взнос. За завтраком вы замечаете, что дочка несмотря на то, что на прошлой неделе вы разрешили ей слушать музыку в наушниках при единственном условии: если она вместо шоколадных шариков будет есть мюсли, сидит за столом в наушниках и ест… шоколадные шарики. Вы спорите с женой, чья очередь отпрашиваться пораньше с работы и забирать дочь из школы. Победа остается за вами. Но вас мучит совесть, и чтобы как-то сгладить неловкость, вы соглашаетесь выгулять собаку. Выходите на улицу. Льет дождь. А собака уперлась, и сдвинуть ее с места совершенно невозможно.
Каждый день мы принимаем множество решений, как важных, так и незначительных, выступая в роли граждан, сотрудников, потребителей, инвесторов, членов семьи. При этом нам приходится постоянно помнить о масштабах и пределах собственной власти. Какие бы задачи перед нами ни стояли: получить повышение или прибавку к зарплате, заставить избранного чиновника проголосовать за законопроект, который мы поддерживаем, сделать свою работу так, а не иначе, распланировать отпуск с супругом или уговорить ребенка питаться правильно, – мы каждый раз, сознательно или нет, проверяем пределы собственной власти, то есть способности заставить других поступать так, как нужно нам. Нас раздражает, когда кто-то другой, будь то начальство, правительство, полиция, банк или поставщик телефонных услуг, пытается диктовать нам условия, вынуждает поступать определенным образом или чего-либо не делать. И все-таки мы часто ищем власти, хотя порой и смущаемся этого.
Иногда власть применяют настолько сурово и бесцеремонно, что это запоминается надолго. Несмотря на то, что Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи уже нет в живых, их жертвы наверняка до сих пор вздрагивают при упоминании их имен – впрочем, те же чувства испытывают все жертвы жестоких преступлений, даже если виновных давным-давно поймали. Мы ощущаем власть, и неважно, прошлую или нынешнюю, даже если ею пользовались умело или просто продемонстрировали силу.
Однако степень, в которой власть влияет на нашу повседневную жизнь и образ мыслей, определить трудно. За исключением случаев применения грубой силы, когда нас принуждают к чему-либо с помощью наручников, штрафов, понижения в должности, унижения, побоев и любых других наказаний, власть для нас – скорее эмоциональное давление, нежели физическое насилие. И поскольку с проявлениями власти мы сталкиваемся всю жизнь, мы, как правило, не задумываемся о ней, не анализируем, где она сосредоточивается, как функционирует, как далеко простираются ее пределы и как ее можно ограничить.
Впрочем, это вполне объяснимо: власть трудно измерить. Строго говоря, вообще невозможно. Власть нельзя подсчитать или выстроить по ранжиру. Оценить можно лишь ее субъекты, факторы, средства и проявления. У кого больше денег в банке? Какая из компаний может купить другую или у какой из них самые крупные активы? В какой армии больше солдат, танков или истребителей? Какая политическая партия набрала наибольшее число голосов на прошлых выборах или получила больше мест в парламенте? Все это можно измерить и зафиксировать. Но это еще не власть. Это лишь ее показатели. И, как всякие средства измерения, они ненадежны: подсчеты не дают исчерпывающего представления о том, каким влиянием обладает тот или иной человек или явление.
Власть охватывает все сферы жизни, от государственной системы до рынков сбыта и политики: словом, она присутствует в любой ситуации, когда люди или организации соревнуются или взаимодействуют друг с другом. Соперничество тесно связано с распределением власти, и это неотъемлемая часть человеческого опыта. Борьба за власть – не единственная движущая сила в данном случае, но все же одна из самых важных.
Так как же продуктивно говорить о власти? Чтобы понять, как обрести, применить или утратить власть, необходимо найти доступный, простой и недвусмысленный способ обсуждения. К сожалению, большинство разговоров о власти натыкаются на эти подводные камни и так никуда и не приводят.
Как рассуждать о власти
О власти можно рассуждать продуктивно. Действительно, власть отчасти принадлежит к материальной сфере, отчасти к сфере психологии: она одновременно и вполне осязаема, и существует в нашем воображении. Власть трудно определить и измерить как продукт или явление. Но как движущую силу той или иной ситуации власть можно оценить, равно как ее границы и масштаб.
Возьмем, например, групповой портрет глав государств и правительств, который по традиции делается на саммите “большой восьмерки”, в которую входят наиболее влиятельные государства. Вот президент США, канцлер Германии, президент Франции, премьер-министр Японии, премьер-министр Италии и другие высокопоставленные лица. Все они облечены властью. И с этой точки зрения равны. Действительно, каждый из них обладает гигантской властью. Но чем определяется эта власть? Авторитетом ли занимаемой ими должности, ее истории и связанных с этим традиций? Победой на выборах? Тем ли, что у них в подчинении многочисленный аппарат чиновников и военных? Или тем, что одним росчерком пера они указывают, куда потратить миллиарды долларов налогов на трудовую и коммерческую деятельность граждан? Видимо, всем этим и многими другими факторами. Такова власть как сила: ее можно ощутить, но трудно разделить на составляющие и количественно измерить.
А теперь, держа в уме все ту же фотографию, попробуем представить, насколько лидеры этих государств свободны (или несвободны) в своих действиях. Что происходит во время встреч на высшем уровне? Какие вопросы обсуждают, какие заключают соглашения, чье слово оказывается последним? Неужели каждый раз одерживает верх президент США, которого часто называют “самым влиятельным человеком на планете”? Какие образуются коалиции, кому приходится идти на уступки и на какие именно? Представим, как каждый из лидеров после саммита возвращается к себе на родину и рассматривает накопившиеся вопросы – сокращение бюджета, трудовые конфликты, преступность, иммиграцию, коррупционные скандалы, передислокацию войск и прочие проблемы, актуальные для данного региона. Одни лидеры руководят сильными партиями парламентского большинства, другие опираются на недолговечные коалиции. Одним занимаемый пост позволяет издавать больше распоряжений и указов, другим – нет. У одних рейтинг и авторитет выше, другие замешаны в скандалах, или же их политическое положение непрочно. Эффективность их власти – то, какие действия позволяет предпринимать занимаемая ими должность, – зависит от всех этих обстоятельств и варьируется от ситуации к ситуации.
Несмотря на то, что мы не можем дать количественную оценку власти, мы четко представляем себе, как именно она функционирует. Власть действует в отношении других. Чем точнее мы определим ставки и игроков, тем лучше мы поймем, что же такое власть: из расплывчатого явления она превратится в решающую силу, которая позволяет выбрать конкретное действие, возможность повлиять на ситуацию (или в корне ее изменить), с четким масштабом и реальными границами. Если же мы разберемся в том, как функционирует власть, то поймем, благодаря чему она становится эффективной, укрепляется и растет, поймем, что ослабляет власть, рассеивает, приводит в упадок и вовсе убивает. Насколько власть скована или ограничена в какой-то конкретной ситуации? Какими возможностями обладает каждый из игроков, чтобы изменить положение дел? Рассматривая конкурентную борьбу или конфликт, оперируя практическими понятиями, мы поймем, как будут развиваться события.
В наши дни, как мы увидим далее, накопление и применение власти непредсказуемы.
Как функционирует власть
В первой главе я предложил рабочее определение: “Власть – это способность направлять настоящие или будущие действия других групп людей и отдельных лиц или препятствовать им”. Мне оно представляется удачным в силу своей прозрачности, а также потому, что не использует никаких параметров объема, ресурсов, вооружения и числа сторонников, которые только сбивали бы с толку. Однако это определение необходимо дополнить. Ведь действия других можно направлять и пресекать самыми разными способами. На практике власть проявляется с помощью четырех конкретных средств. Назовем их каналами власти.
• Сила. Первый канал власти, самый известный и очевидный. Сила (или угроза применения силы) – грубое орудие, с помощью которого применяют власть в ряде крайних случаев. Сила – это и побеждающая армия противника, и полицейские с наручниками и камерами, и хулиган на школьном дворе, и нож у горла, и ядерный арсенал для сдерживания агрессии, и чья-либо возможность обанкротить вашу компанию, уволить вас с работы или отлучить от церкви. Проявляется она и в монопольном контроле над каким-нибудь важным ресурсом, который можно как дать, так и отнять (деньги, нефть, голоса избирателей). Наличие силы – это не всегда плохо. Мы радуемся, когда полицейские ловят преступника, даже если для этого им приходится применить силу. Законное применение силы – это право, которое граждане предоставляют государству в обмен на стабильность и защиту. Но на службе и тиранов, и просвещенных правителей сила в конечном счете основывается на принуждении. Вы повинуетесь ей, поскольку последствия сопротивления будут куда хуже.
• Свод норм и правил. Почему католики ходят к мессе, иудеи соблюдают шаббат, а мусульмане пять раз в день совершают намаз? Почему во многих обществах в качестве посредников в конфликтах призывают старейшин и их решения считаются мудрыми и справедливыми? Что заставляет людей следовать золотому правилу и не причинять вред другим, когда ни закон, ни наказание их от этого не удерживают? Ответы кроются в сфере морали, традиций, культурных норм, социальных соглашений, религиозных верований и ценностей, которые передаются из поколения в поколение или которым учат в школе. Мы живем в мире норм и правил. В одних случаях мы им следуем, в других нет. Мы позволяем другим руководить нашими поступками посредством этих норм. Этот канал власти не требует принуждения, он основывается на моральном долге. Пожалуй, лучшим примером служат десять заповедей: посредством их высшая безусловная власть недвусмысленно диктует нам, что делать.
• Реклама. О влиянии рекламы сказано много. Если вместо McDonald's люди начинают покупать бургеры в Burger King или продажи у Honda растут, а у Volkswagen падают, все это заслуги рекламы. Миллиарды долларов тратятся на рекламу на радио и телевидении, на уличных щитах и веб-сайтах, в журналах, видеоиграх и на прочих самых разных носителях, которые способны заставить потребителя сделать то, что он в противном случае не сделал бы: приобрести товар. Рекламе не нужны ни сила, ни моральный кодекс. Она заставляет нас изменить образ мыслей, восприятие: реклама доказывает, что тот или иной продукт или услуга лучше прочих. Реклама – это способность убедить других взглянуть на ситуацию под нужным для убеждающего углом зрения. Торговцы недвижимостью, в красках расписывающие потенциальным покупателям преимущества жилья в том или ином районе, не применяют силу, не давят авторитетом и не меняют структуру ситуации (например, снижая цену). Они воздействуют на поведение клиентов, меняя их восприятие ситуации.
• Вознаграждение. Сколько раз вы слышали эту фразу: “Да я в жизни этого делать не стану, даже за деньги”? Но обычно справедливо обратное: людям платят за то, что они в противном случае не стали бы делать. У любого, кто может обеспечить желаемое вознаграждение, куда больше шансов заставить других поступать так, как ему надо. Он способен изменить структуру ситуации. Будь то предложение жидкого топлива Северной Корее в обмен на разрешение провести инспекцию ядерных реакторов, дополнительные сотни миллионов долларов в бюджете, выделенном на помощь иностранным государствам, чтобы заручиться их поддержкой, или конкуренция между несколькими работодателями за опытного банковского работника, известного певца, профессора или хирурга: в данном канале власти, чтобы повлиять на чье-либо поведение, чаще всего прибегают к материальным благам.
Эти четыре канала – сила, свод норм и правил, реклама и вознаграждение – суть то, что социологи называют идеальными типами: это четко сформулированные, крайние проявления категории, которую они представляют. Но на деле (или, точнее, в случаях применения власти в различных ситуациях) они обычно смешиваются, объединяются друг с другом и редко бывают однозначными. Возьмем, например, власть религии, которая проявляется через множество каналов. Догматы, моральный кодекс (представленный как в священных текстах, так и в проповедях современных священников и гуру) – важная часть вероучения, которая помогает организованной религии вербовать адептов, то бишь получать их время, веру, присутствие на службах, труды и пожертвования. Соревнуясь за потенциальных прихожан, церкви, храмы и мечети прибегают к рекламе. Многие религиозные организации проводят целые рекламные кампании, которые специально для них разрабатывают агентства. Причем вознаграждение они предлагают вполне материальное – не обещание грядущего спасения, а осязаемую выгоду: скажем, доступ к приходскому банку вакансий или к базе данных по прихожанам, которые занимают высокие посты, по детским дошкольным учреждениям, по встречам холостяков. В некоторых обществах причастность к религии не обходится без применения силы: так, например, законы отдельных стран устанавливают определенные формы поведения и виды наказаний, они регулируют длину платья у женщин и бороды у мужчин или предают анафеме врачей, которые делают аборты.
При этом каждый из этих четырех каналов – сила, свод норм и правил, реклама и вознаграждение – функционирует по-своему. Понимание различий между ними позволяет осознать атомарную структуру власти.
Приведенная мной классификация каналов власти восходит к основополагающему труду выдающегося южноафриканского исследователя бизнеса и управления Йена Макмиллана из Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете (см. таблицу 2.1). В книге “Формулировка стратегии: политические концепции”, опубликованной в 1978 году, Макмиллан рассказывает всем, кто изучает бизнес, о сложностях власти и ведения переговоров. Он подметил, что во всех случаях, когда речь идет о власти, одна сторона манипулирует ситуацией, чтобы повлиять на действия другой стороны{24}. Виды манипуляций могут быть различными в зависимости от ответов на два вопроса:
Во-первых, меняет ли манипуляция структуру сложившейся ситуации или только оценку ситуации второй стороной?
Во-вторых, предлагает ли манипуляция улучшение или же подводит вторую сторону к тому, чтобы та приняла результат, который не является улучшением?
Роль силы (принуждение), свода норм и правил (долг), рекламы (убеждение) и вознаграждения (поощрение) определяет ответы на эти вопросы в любой конкретной ситуации.
Таблица 2.1. Классификация власти по Макмиллану
Источник: по материалам книги Йена Макмиллана “Формулировка стратегии: политические концепции” (1978).
Подход профессора Макмиллана отличают три больших преимущества. Во-первых, он связан непосредственно с практической стороной власти, с ее воздействием на реальные ситуации, решения и поведение. Макмиллана не ослепляет образ лидеров, которые позируют на красном ковре фотографу, олицетворяя собой мощь своих должностей. Исследователь задается вопросами: а) какими средствами располагает каждый из лидеров (равно как его противники и союзники), чтобы справиться с конкретной задачей, б) каковы масштаб и пределы, в которых возможно изменить ситуацию.
Во-вторых, подход Макмиллана стратегический и рассматривает власть в динамике, а следовательно, применим (помимо геополитики, анализа военных проблем и конкуренции между корпорациями) практически к любой сфере деятельности. Поскольку Макмиллан исследует бизнес, то и теорию разработал на основе своих научных интересов, а именно бизнеса и управления, изучая динамику власти внутри компаний. Однако этот же подход можно применить к любой другой области, что я и делаю в этой книге.
Третье существенное преимущество такого взгляда на власть в том, что он позволяет разграничить такие понятия, как власть, могущество, сила, авторитет и влияние. И в этом очень помогает концептуальная схема Макмиллана. И власть, и влияние могут менять поведение других или, точнее, заставить других делать или не делать что-либо. Но влияние меняет восприятие ситуации, а не саму ситуацию{25}. Таким образом, классификация Макмиллана помогает продемонстрировать, что влияние – разновидность власти в том смысле, что власть включает в себя не только действия, которые меняют ситуацию, но и действия, которые меняют способ восприятия ситуации. Влияние – форма власти, но, разумеется, власть можно применять и другими способами.
Например, красочный рассказ о преимуществах того или иного района, направленный на то, чтобы заключить сделку, изменив восприятие покупателем стоимости жилья, отличается от другого способа продажи – снижения цены дома. Агент по продаже недвижимости, который меняет восприятие покупателя, обладает влиянием для того, чтобы это сделать, а владелец, который снижает цену, чтобы продать дом, обладает властью изменить структуру сделки.
Почему власть меняется (или не меняется)
Поговорим о власти с точки зрения способности различных игроков влиять на исход сделки. Любая конкуренция или конфликт, будь то война, битва за долю на рынке, дипломатические переговоры, привлечение верующих общинами соперничающих конфессий, даже спор о том, кому после ужина мыть посуду, связаны с распределением власти. Это распределение отражает способность соревнующихся сторон заставить других поступать так, как им надо, с помощью комбинации силы, свода норм и правил, рекламы и вознаграждения. Иногда соотношение сил не меняется в течение длительного времени. Примером может служить классический “баланс сил” в Европе XIX века: континент избежал масштабных войн, границы государств и империй менялись незначительно и только по договору. Так же было и в разгар холодной войны: СССР и США с помощью значительного количества силы и вознаграждений выстраивали и поддерживали глобальные сферы влияния, которые, несмотря на эпизодические локальные конфликты, практически не менялись.
Структура рынков колы (как Coca, так и Pepsi), операционных систем (PC и Mac) и пассажирских самолетов для перелетов на дальние расстояния (Boeing и Airbus), на каждом из которых представлены два главных игрока плюс несколько аутсайдеров, – еще один пример стабильного (или, по крайней мере, не очень изменчивого) соотношения сил. Но как только новая сторона обретает способность более действенно применять силу, убедительнее апеллирует к традициям и моральному кодексу, выдвигает более заманчивое торговое предложение или обещает большее вознаграждение, власть меняется и преобразует всю перспективу, причем зачастую кардинальным образом. И тут начинается самое интересное: возникают новые возможности, трансформируются сферы деятельности, меняется государственный строй, развивается культура. Если же такие сдвиги происходят более-менее одновременно, меняется повседневная жизнь каждого.
Но из-за чего меняется соотношение сил? Например, из-за появления нового талантливого игрока, подрывающего устои, такого как Александр Македонский или Стив Джобс, или революционного изобретения вроде стремени, книгопечатного станка, интегральной схемы или YouTube. Разумеется, распределение власти может меняться из-за войн и стихийных бедствий: так, последствия урагана Катрина привели к маргинализации некогда могущественных школьных советов Нового Орлеана и росту влияния чартерных школ. Нельзя сбрасывать со счетов случайности и слепое везение: тот, кто прежде прочно сидел в своем кресле, может допустить стратегическую ошибку или промах и лишиться должности. Вспомните хотя бы Тайгера Вудса или Дэвида Петреуса. А иногда годы и болезнь берут свое и меняют расстановку сил в руководстве компании, в правительстве, армии или спорте.
С другой стороны, не каждое изобретение становится популярным. Не каждый хорошо управляемый бизнес с востребованным продуктом и тщательно разработанным планом получает финансирование или возможность сбыта, необходимые для того, чтобы получить место под солнцем. Одни гигантские корпорации и организации оказываются беззащитными перед новыми ловкими соперниками, другие же отгоняют их, как назойливых мух. Перемены во власти непредсказуемы. Распад Советского Союза, “арабская весна”, спад популярности крупных газет вроде Washington Post, появление Twitter в качестве источника информации – все это говорит о том, что невозможно предугадать, какие перемены во власти ожидают нас в ближайшее время.
Значение барьеров для достижения власти
Пытаться предсказать перемены во власти – пустая затея, однако понять тенденции, которые влияют на расстановку сил или меняют саму природу власти, необходимо. А для этого нужно определить, какие существуют барьеры для достижения власти в данной конкретной сфере. Из-за каких технологий, законов, оружия или уникальных ресурсов новичкам трудно добиться власти, которой обладают старожилы? Как только возникают барьеры, те, кто наделен властью, укрепляют свое положение и контроль. Когда же барьеры разрушаются, новые игроки получают конкурентное преимущество и могут бросить вызов существующей структуре власти. И чем сильнее разрушен данный барьер власти, тем необычнее и неожиданнее оказываются новые игроки и тем быстрее добиваются успеха. Определите барьеры власти и то, укрепляются они или слабеют, и вы разгадаете бо́льшую часть загадки власти.
Монополии, однопартийные системы, военные диктатуры, общества, где предпочтение официально отдается какой-то одной нации или религии, рынки, переполненные рекламой одного-единственного продукта, картели наподобие ОПЕК, политические системы вроде американской, когда две партии эффективно контролируют весь избирательный процесс, так что у мелких партий нет никаких шансов, – все это ситуации, когда барьеры, окружающие власть, высоки, по крайней мере пока что. Однако некоторые крепости можно взять штурмом – либо потому, что их оборона не так сильна, как кажется, или же они не готовы к новым типам нападающих, либо, если уж на то пошло, потому что ценности, которые они защищают, утратили смысл. Но в этом случае торговые пути их обходят, да и для противников они не представляют никакого интереса.
Например, основатели Google не ставили себе целью ослабить влияние New York Times или любой другой крупной медиакомпании, однако именно этого они и добились. Афганские повстанцы, использующие самодельные взрывные устройства, банды сомалийских пиратов, которые на утлых суденышках, вооруженные АК-47, захватывают крупные корабли в Аденском заливе, обходят барьеры, которые обеспечивали господство армий и флотов, оснащенных по последнему слову техники. Это приводит не столько к переменам во власти этих армий и флотов, сколько бросает вызов власти как таковой.
Из-за барьеров, окружающих власть, разнятся ситуации, которые на первый взгляд кажутся похожими. Небольшая группа компаний может контролировать большую долю рынка в определенной сфере, потому что располагает необходимыми ресурсами, предлагает востребованный продукт или уникальную технологию. Или же она может попытаться воздействовать на политиков (а то и просто подкупить их), чтобы те разработали свод правил, в силу которых конкурентам будет труднее выйти на рынок. Запатентованные технологии, доступ к ресурсам, нормативные ограничения и коррупция – четыре очень разных вида преимуществ. Передел власти происходит, когда растет необходимость контроля над определенными ограниченными ресурсами для обеспечения конкурентных преимуществ на рынке: появляются либо альтернативы, которые помогают другим игрокам обойти барьер, либо новые технологии, благодаря которым новые игроки могут выйти на рынок.
И если в мире бизнеса подобные перемены – обычное дело, то политику и соперничество между государствами, церквями и благотворительными организациями куда реже рассматривают с этой точки зрения. Возьмем, например, парламентскую систему, при которой у мелких партий есть места и они могут участвовать в создании правящей коалиции. Существует ли, как в Германии, порог в 5 % от общего числа голосов, чтобы партия могла войти в парламент? Или же есть правило, согласно которому партия должна набрать минимальное количество голосов в нескольких регионах? Или возьмем конкуренцию между самыми престижными университетами. Трудно ли пройти аккредитацию, или же работодателям и магистратурам нет дела до аккредитации учебных заведений, выпускников которых они принимают?
Барьеры, окружающие власть, могут принимать формы норм и правил, которые легко или трудно изменить или обойти. Они также могут выражаться в стоимости – основных фондов, ресурсов, труда, маркетинга, – которая растет или понижается. Существуют они и в виде доступа к возможностям роста – к новым клиентам, работникам, источникам капитала, верующим. В каждой сфере своя специфика. Но, как показывает опыт, чем больше норм и чем они строже, тем выше стоимость преимуществ, которыми располагают те, кто занимает определенную должность; чем ограниченнее основные фонды, тем выше барьеры, мешающие новым игрокам закрепиться в выбранной сфере, не говоря уже о том, чтобы обогнать лидеров и обеспечить себе долговременное преимущество.
Позиция на рынке: детальный разбор
Концепция барьеров, окружающих власть, берет начало в экономике. В частности, я адаптировал идею рыночного барьера (аналитическое понятие, которым пользуются экономисты, чтобы оценить дистрибуцию, поведение и перспективы компаний в данной отрасли) к распределению власти. Подобное допущение представляется уместным: ведь понятие рыночных барьеров в экономике используется для того, чтобы исследовать определенный тип власти – позицию на рынке.
Как известно, идеальное положение дел в экономике – это свободная конкуренция. В условиях свободной конкуренции разные компании производят взаимозаменяемые товары, а покупатели заинтересованы в том, чтобы купить все, что производят фирмы. Трансакционных издержек не существует, есть только стоимость материальных затрат, и всем компаниям доступна одна и та же информация. Свободная конкуренция описывает ситуацию, при которой ни одна фирма не может повлиять на стоимость товаров на рынке.
Разумеется, в действительности все совсем иначе. Две компании, Airbus и Boeing, контролируют рынок производства больших самолетов для дальних перелетов, а несколько менее крупных фирм производят самолеты меньших размеров. А вот носки или рубашки делает бесчисленное количество компаний. Новой авиастроительной фирме невероятно сложно выйти на рынок. Но стоит открыть мастерскую с несколькими портными или швеями – и можно шить рубашки. Причем новый мелкий производитель в состоянии конкурировать с известными брендами или по крайней мере найти прибыльную нишу. У новой авиастроительной компании шансы на успех куда ниже.
Отрасли со стабильной и ограниченной структурой, которые целиком и полностью контролируются действующими игроками, из-за чего новичкам приходится бороться за место под солнцем, обладают большой властью на рынке. Говоря простым языком, им удается получать прибыль, невзирая на конкуренцию. В идеальных условиях рыночной конкуренции, если вы продаете товар выше предельной себестоимости (то есть стоимости производства какого-либо продукта, одинаковой для всех производителей в данной отрасли), никто у вас ничего не купит, поскольку у конкурентов будет дешевле. И чем большей властью на рынке обладает компания, тем больше у нее возможностей устанавливать цены без оглядки на конкурентов. Чем больше власти сконцентрировано у компаний в данном секторе или на рынке в целом, тем крепче неофициальная иерархия. Различия в корпоративном рейтинге между такими секторами, как производство средств личной гигиены (положение Procter and Gamble, Colgate-Palmolive и других крупнейших компаний остается стабильным уже несколько десятков лет) и компьютерная промышленность, где ситуация постоянно меняется, часто тесно связаны с властью на рынке.
Власть на рынке дает исключительное право, а следовательно, антиконкурентна. Но даже тем компаниям, которые уже занимают прочное положение в иерархии и защищены барьерами, ограничивающими выход на рынок новичков, не гарантированы ни легкая жизнь, ни выживание. Имеющиеся конкуренты могут получить больше власти и выступить против давних игроков, чтобы пошатнуть их лидирующее положение, перекупить или довести до банкротства. Ценовые сговоры и вытеснение конкурентов широко распространены среди компаний, которые работают в секторах рынка или в государствах, где подавляется свободная конкуренция и все зависит от положения на рынке. Владельцы предприятий выступают за конкуренцию, но глава фирмы, занимающей ведущее положение в отрасли, куда больше озабочен тем, как сохранить власть на рынке.
Все эти соображения зачастую применимы к расстановке сил среди конкурирующих сторон в других сферах, то есть не только к фирмам, чья цель – максимальная прибыль. Далее мы рассмотрим, что происходит с эквивалентами “власти на рынке” в сфере военных конфликтов, в партийной политике и прочих видах деятельности.
Барьеры входа: ключ к власти на рынке
Каковы же источники власти на рынке? Что помогает компаниям занять лидирующее положение в сфере бизнеса и удерживать его в течение длительного времени? Почему в одних секторах появляются монополии, дуополии или небольшое количество фирм, которые совместно устанавливают цены или согласовывают способы применения норм и правил, тогда как в других процветает множество мелких компаний, которые активно конкурируют друг с другом? Почему структура фирм в отдельных отраслях с течением времени остается более-менее стабильной, а в других постоянно меняется?
Для специалистов по организации производства, которые стремятся понять, каким образом компании получают преимущество перед конкурентами, очень важны факторы, затрудняющие новым игрокам выход на рынок и мешающие успешной конкуренции. Мы же с их помощью продемонстрируем, как можно получить, удержать, использовать и потерять власть, будь то в экономике или в какой-то другой сфере.
Некоторые барьеры связаны с условиями выхода на рынок и связаны с техническими требованиями отрасли: так, для производства алюминия необходимы крупные, дорогостоящие, энергоемкие металлургические комбинаты. Условия определяются также тем, насколько данная отрасль привязана к определенному географическому положению. Например, нужны ли для нее природные ресурсы, которые есть лишь в нескольких местах? Непременно ли нужно производить и упаковывать продукт рядом с местом продажи, как в случае с цементом, или же его можно заморозить, как, например, китайские креветки, новозеландскую баранину или мексиканские овощи, и отправлять в разные страны? Требуются ли специальные навыки, например кандидатская степень по физике или знание определенного компьютерного языка? Все эти вопросы указывают на требования, которые объясняют, почему проще, скажем, открыть ресторан, фирму по стрижке газонов или уборке офисных помещений, чем основать сталелитейный бизнес, для которого необходим не только капитал и дорогостоящее оборудование, огромный завод и прочие дорогие специфические вложения, но и, возможно, серьезные транспортные затраты.
Другие барьеры входа зависят от законов, юридических прав на ведение определенного вида деятельности и торговых марок: это относится, например, к членству в коллегии адвокатов, лицензии на право заниматься врачебной деятельностью, установлению зональных тарифов и цен, инспекциям производства, разрешению на продажу спиртных напитков и так далее. Такие барьеры (вне зависимости от того, обусловлены они шкалой ставок, доступом к ключевым ресурсам, специализированным технологиям или проистекают из требований законов и норм) называются структурными: с ними сталкивается любая фирма, которая хочет занять конкурентоспособное положение на рынке. Изменить эти барьеры не под силу даже уже существующим компаниям, хотя крупные фирмы часто способны повлиять на нормативную базу.
Помимо более-менее постоянных структурных барьеров, существуют также барьеры стратегические. Уже существующие игроки создают их для того, чтобы помешать появлению новых конкурентов и возвышению имеющихся. Среди примеров – эксклюзивные маркетинговые соглашения (наподобие того, что заключили AT&T и Apple, когда впервые появился айфон), долгосрочные контракты, связывающие поставщиков с продавцами (например, нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании), тайные и картельные сговоры (вроде печально известной попытки агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland в 1990-е годы зафиксировать стоимость кормовых добавок для животных), а также лоббирование нужных законопроектов через политиков, чтобы получить уникальные преимущества (скажем, лицензию на открытие казино в определенном районе). Сюда же относится реклама, специальные промоакции, продакт-плейсмент, скидки постоянным покупателям и прочие средства маркетинга, осложняющие потенциальным конкурентам выход на рынок. Действительно, пробиться нелегко, даже с самым актуальным и замечательным товаром, если на то, чтобы рассказать о себе потенциальным покупателям, требуются гигантские затраты на рекламу, а чтобы попытаться убедить клиентов попробовать продукт – и того больше{26}.
От барьеров входа к барьерам власти
Неудивительно, что конкуренты прикладывают значительные усилия, причем не только в бизнесе, но и в прочих сферах деятельности, для того чтобы выстроить или разрушить барьеры власти – то есть повлиять на исход игры, изменяя ее правила. В особенности это справедливо для политики, где партии и кандидаты часто тратят немало сил в борьбе за избирательные округа (неприглядные махинации, известные в США как фальсификация результатов выборов) или на то, чтобы пролоббировать определенное соотношение мужчин и женщин в парламенте и в списках кандидатов, как в Аргентине и Бангладеш, где в парламенте предусмотрена квота на количество мест для женщин. В Индии, где за далитами (ранее – “каста неприкасаемых”) закреплено определенное количество мест в парламенте и региональных ассамблеях, не стихают напряженные политические и юридические бои за то, чтобы подобное преимущество распространялось также и на другие касты. Во многих странах лидеры, склонные к диктатуре, стараются вывести политических соперников из игры, сохраняя при этом видимость демократии: они принимают поправки к избирательным законам, которые позволяют по формальным причинам не допустить конкурентов к выборам. Вокруг вклада корпораций в политику и политическую рекламу, а также вокруг разоблачений и доступа к эфиру часто разворачиваются куда более ожесточенные сражения, нежели собственно политические. Партии, которые принципиально расходятся в главных политических вопросах, подчас дружно защищают правила, обеспечивающие им в совокупности львиную долю мест. Выборы можно один раз проиграть, а в другой раз выиграть, новые же правила меняют всю игру{27}.
Таким образом, барьеры власти – это препятствия, которые не дают новым игрокам прибегнуть к силе, своду норм и правил, рекламе и вознаграждению (или же их комбинации), чтобы занять положение, при котором они способны конкурировать; и, наоборот, которые позволяют уже существующим компаниям, партиям, армиям, церквям, фондам, университетам, газетам и профсоюзам (или любым другим организациям) сохранить господство.
На протяжении многих десятилетий, даже столетий, барьеры власти охраняли большие армии, корпорации, правительства, партии, социальные и культурные организации. Теперь же эти барьеры разрушаются, ослабевают и теряют прежнее значение. Чтобы оценить глубину этой трансформации и ее влияние на исторический процесс, сначала необходимо проанализировать, как и почему власть приобрела такое значение. В следующей главе мы рассмотрим, каким образом к XX веку мир пришел к выводу о том, что, согласно общепринятому мнению, для власти необходим размах и нет лучшего, более эффективного и надежного способа использовать власть, чем с помощью крупных централизованных иерархических организаций.
Глава 3 Власть больших: история вопроса Возвышение, не требующее доказательств
Так когда же начинается эта история? Выбирайте. Быть может, в 1648 году, когда с Вестфальским миром на смену традиционным послесредневековым городам-государствам и княжествам пришло государство современного типа? Или в 1745 году, когда французский аристократ и коммерсант Венсан де Гурнэ, как утверждают, ввел термин “бюрократия”? А может, это случилось в 1882 году, когда несколько небольших нефтяных компаний в Соединенных Штатах объединились в гигантскую монополию Standard Oil в разгар становления новых крупных предприятий, предвосхитив случившуюся на десятилетие позже волну слияний, которая положила конец расцвету капитализма мелких семейных фирм и установила новый порядок, ориентированный на гигантские корпорации?
Как бы то ни было, к началу XX века эти и прочие великие достижения, которыми мы обязаны прогрессу, науке и человеческой изобретательности, укрепили всеобщее мнение о том, как накапливать, удерживать и применять власть. Примерно на середину столетия пришелся триумф “больших”: отныне отдельным лицам, ремесленникам, семейным фирмам, городам-государствам и разрозненным группам единомышленников уже было не выстоять против крупных организаций с их преимуществами. Власть потребовала масштаба, размаха и сильной, централизованной, иерархической системы.
Ответ на практический вопрос о том, каким образом выстроить организацию, будь то General Motors, католическая церковь или Красная армия, чтобы обрести и удержать максимальную власть, оказался очевиден: нужно увеличивать размер.
Чтобы проследить, как идея больших масштабов захватила умы, начнем с какой-нибудь головокружительной истории успеха. В частности, рассмотрим примеры, которые приводят специалист по истории бизнеса, немецкий основатель современной социологии и британский экономист, получивший Нобелевскую премию за доказательство того, почему в бизнесе чем больше, тем лучше. Их труды объясняют не только то, как появление современной бюрократии позволило эффективно использовать власть, но и то, как самые успешные мировые корпорации (а с ними и благотворительные организации, церкви, армии, политические партии и университеты) прибегали к бюрократическому применению власти, чтобы одолеть конкурентов и отстоять собственные интересы.
Зачатки современной бюрократии историки отыскали в системах управления Древнего Китая, Египта и Рима. Так, римляне и в военной, и в административной деятельности рассчитывали преимущественно на широкомасштабные, сложные централизованные организации. Спустя много веков Наполеон Бонапарт и прочие европейские деятели, усвоив уроки Просвещения, пришли к пониманию того, что централизованное специализированное ведомство – прогрессивная и рациональная организация, позволяющая управлять государством. На основе этой модели и с учетом американских и европейских примеров Япония эпохи Мэйдзи создала профессиональную бюрократию (в том числе и министерство промышленности, созданное в 1870 году), чтобы реорганизовать общество и догнать Запад. К началу Первой мировой войны идеальной моделью для всего мира (включая колонии) стало государство с единым правительством и государственной службой. Например, в Индии британские правители учредили государственную гражданскую службу, которая и после обретения страной независимости продолжала существовать в качестве Административной службы Индии, причем многие представители образованной верхушки общества мечтали сделать там карьеру. Социалистические государства и страны со свободной торговлей, с однопартийным управлением или же с демократическим строем, – везде в XX веке имелся большой и разветвленный государственный аппарат, то бишь процветала бюрократия.
То же происходило и в экономике. Из-за все более сложных технологий, требований крупной промышленности и новых нормативно-правовых актов мелкие компании уступали место крупным, многосоставным иерархическим компаниям с администрацией, которых до 1840-х годов попросту не существовало. В тот период, который ученые называют первой большой волной слияний в Америке, то есть с 1895 до 1904 года, в результате консолидаций исчезли не менее 1800 мелких фирм. Знакомые названия многих крупных брендов появились в это же время. Корпорация General Electric возникла в результате слияния в 1892 году. В том же году была основана Coca-Cola, а Pepsi в 1902-м. American Telephone and Telegraph Company (предшественница AT&T) появилась в 1885 году, Westinghouse – в 1886-м, General Motors – в 1908-м и так далее. К 1904 году 78 корпораций контролировали более половины производства в своей отрасли и двадцать восемь компаний – более четырех пятых{28}. О перевороте, который совершили эти новые организации, с досадой писал Генри Адамс: “Тресты и корпорации стояли, как правило, за новую силу, рвущуюся к власти с 1840 года, и внушали отвращение своей неуемной и беззастенчивой энергией. Они круто ломали прежнее, круша все вековые устои и ценности[6]”{29}.
Эта “управленческая революция”, как назвал ее великий историк бизнеса Альфред Чандлер, распространялась с американской “почвы”, как писал Чандлер, на весь остальной капиталистический мир. В германской промышленности приобретали все большее значение крупные фирмы, такие как AEG, Bayer, BASF, Siemens и Krupp (большинство из них возникло в середине XIX столетия), объединявшиеся в официальные и неофициальные тресты. В Японии при поддержке правительства монополии-дзайбацу разрастались в новые промышленные предприятия – текстильные, сталелитейные, судостроительные и железнодорожные. Чандлер убедительно доказал, что в XIX веке усовершенствованное использование паровой энергии на производстве совместно с широким распространением электричества и нововведениями в сфере управления привели ко второй промышленной революции, породившей куда больше компаний, чем появилось во время промышленной революции в предыдущем столетии. На этих новых промышленных предприятиях было задействовано значительно больше капитала, рабочей силы и управляющих. В результате увеличение масштабов деятельности стало непременным условием успеха в бизнесе, а “большой” превратился в синоним “влиятельного”. В своем фундаментальном труде (под удачным названием “Видимая рука”) Чандлер настаивал на том, что видимая рука влиятельных управляющих заменила невидимую руку рыночных сил в качестве главного двигателя современного бизнеса{30}. Власть и решения профессиональных руководителей, которые возглавляли гигантские корпорации или подразделения компаний, определяли экономическую деятельность и результаты в той же, если не в большей, степени, в какой биржа устанавливает цены.
На основе возвышения и господства этих крупных промышленных компаний Чандлер описал три модели капитализма, каждая из которых связана с одним из трех основных оплотов капитализма времен второй промышленной революции: а) “персональный капитализм”, как в Великобритании; б) “конкурентный (управленческий) капитализм”, как в Соединенных Штатах, и в) германский “кооперативный капитализм”{31}. Чандлер полагал, что семейственность вредит даже успешным крупным промышленным фирмам в Великобритании, каждой из которых владеет и управляет одна и та же династия: им не хватает энергии, динамики и амбиций их американских собратьев. Разделение же владения и управления, которое Чандлер назвал “управленческим капитализмом”, позволило американским компаниям выбрать новые организационные формы – в частности, многофилиальную структуру (М-форма), которая позволяла гораздо эффективнее привлекать и распределять капитал, нанимать способных работников, внедрять новшества и инвестировать в производство и систему сбыта. М-форма, которая подразумевала объединение полуавтономных товарных или территориальных подразделений под руководством центральной штаб-квартиры, позволяла эффективнее осуществлять широкомасштабные операции и создавать быстрорастущие корпорации. В свою очередь, стремление немецких компаний сотрудничать с профсоюзами привело к возникновению системы, которую Чандлер назвал “кооперативным капитализмом”, впоследствии известным как “кодетерминация”. Немецкие фирмы старались включать как можно больше заинтересованных лиц, помимо акционеров и руководителей высшего звена, в управление компанией.
И хотя эти три системы во многом различались, в одном они все же были похожи: в каждой из них корпоративная власть принадлежала крупным компаниям. Размеры компании обусловливали власть, и наоборот.
Будь то большой бизнес, большое правительство или большой профсоюз, триумф крупных централизованных организаций укреплял и поддерживал распространенное мнение о том, что большие размеры – это хорошо и добиться власти в любой важной сфере значительно проще современной рациональной организации, деятельность которой эффективнее в том случае, если организация эта большая и централизованная. Это мнение стало общепринятым в первую очередь потому, что ему нашлись веские интеллектуальные доказательства в экономике, социологии и политологии. А подтверждалось оно главным образом положениями из фундаментального труда замечательного немецкого социолога Макса Вебера.
Макс Вебер, или Почему размеры имеют значение
Макс Вебер был больше чем социолог. Он был одним из выдающихся интеллектуалов своего времени, изучал экономику, историю, религию, культуры разных народов и прочее. Он писал книги по экономике западных стран и истории права, религии Индии, Китая, а также об иудаизме, государственном управлении, жизни города. Через два года после его смерти, в 1922 году, вышел массивный том его работ “Хозяйство и общество”. Также, по словам политолога и социолога Алана Вольфа, Вебер был “ведущим исследователем XX столетия по вопросам власти и авторитета”{32}, именно поэтому мы и обратились к его трудам. Теории Вебера о бюрократии проясняют, как можно на деле использовать власть.
Вебер родился в 1864 году. Юность его пришлась на время объединения Германии из разрозненных земель в единое государство. Германия превращалась в современное промышленное государство. Вебер, хоть и занимался преимущественно научной работой, тоже принимал участие в модернизации, причем в самых разных ипостасях: не только как ученый, но и как советник Берлинской фондовой биржи, консультант групп политических реформаторов и офицер запаса германской армии{33}. Впервые внимание общественности он привлек своим вызвавшим споры исследованием положения немецких сельскохозяйственных рабочих, которых вытесняли мигранты из Польши: Вебер утверждал, что крупные немецкие землевладения следует разделить на наделы и раздать рабочим, чтобы убедить их остаться в родных краях. Впоследствии, когда Вебер занял должность преподавателя экономики во Фрайбургском университете, его рассуждения на тему того, что Германии следует пойти по пути “либерального империализма”, чтобы выстроить политические и институциональные структуры, необходимые современному государству, снова вызвали неоднозначную реакцию публики{34}.
В 1898 году после тяжелой семейной ссоры, ускорившей смерть его отца, у Вебера случился срыв и, как следствие, началось нервное истощение, из-за которого он не всегда мог преподавать. Во время очередной ремиссии, в 1903 году, Гуго Мюнстерберг, профессор прикладной психологии из Гарвардского университета, пригласил Вебера поучаствовать в международном Конгрессе искусств и наук в Сент-Луисе, штат Миссури. Вебер охотно согласился: его живо интересовали Соединенные Штаты с их возможностями и, как полагал Вебер, относительно неразвитой экономикой и политической системой, а также привлекали возможность глубже изучить протестантизм (вскоре вышла его самая авторитетная работа, “Протестантская этика и дух капитализма”) и щедрый гонорар. Как писал впоследствии немецкий историк Вольфганг Моммзен, поездка оказала “решающее влияние на политические и социальные идеи Вебера”{35}.
Во время поездки в Соединенные Штаты в 1904 году Вебер не только выступил с лекциями, но и совершил грандиозное турне: он объехал почти всю страну для наблюдения и сбора данных, за три месяца провел более 180 часов в поездах, посетил Нью-Йорк, Сент-Луис, Чикаго, Маскоги в Оклахоме (чтобы увидеть территории индейцев), Маунт-Эйри в Северной Каролине (где жили его родственники) и множество других мест (например, встретился с Уильямом Джеймсом[7] в Кембридже, штат Массачусетс). Из современного государства Вебер попал в еще более современное. Америка, по словам Вебера, представляла собой “последний случай в многовековой истории человечества, когда сложились настолько благоприятные условия для свободного и великого развития”{36}. Америка оказалась самым ярко выраженным капиталистическим обществом из всех, которые Веберу довелось видеть, и он признал, что страна предвосхитила будущее. Небоскребы Чикаго и Нью-Йорка показались Веберу “цитаделями капитала”, он восхищался Бруклинским мостом и поездами, трамваями и лифтами в обоих мегаполисах.
Однако многое в США вызвало критику Вебера. Его шокировали условия труда, недостаточная безопасность на рабочих местах, поголовная коррупция городских властей и профсоюзных лидеров, недостаточная в условиях динамично развивающейся экономики способность чиновников разобраться с проблемами. В Чикаго, который Вебер назвал “одним из самых невероятных городов”, он посещал скотобойни, многоквартирные дома, гулял по улицам, наблюдал за горожанами в часы работы и досуга, подмечал особенности этнической иерархии (немцы служили официантами, итальянцы копали канавы, ирландцы были политиками) и местные традиции. Город напомнил Веберу “человека с содранной кожей и выставленными на обозрение внутренностями”{37}. Капитализм стремительно развивался, писал далее Вебер, и все, что “противоречило культуре капитализма, уничтожалось с непреодолимой силой”{38}.
Все, что Вебер увидел в Америке, подтвердило и укрепило его представления об организации, власти и авторитете. В дальнейшем он написал корпус текстов, принесших ученому славу “отца современной социологии”. Теория власти, изложенная Вебером в “Хозяйстве и обществе”, начиналась с авторитета – основы, на которую опирается и благодаря которой проявляется “господство”. Обращаясь к примерам всемирной истории, Вебер утверждал, что в прошлом авторитет, как правило, был “традиционным”, то есть наследовался его обладателями и принимался их подданными. Второй тип авторитета – “харизматический”: в данном случае был некий лидер, которого последователи считали носителем особого дара. Третий тип авторитета (применимый и к современным условиям) – “бюрократический” или “рациональный” – базировался на законности и обладал административной структурой, способной установить ясные и логичные правила. Вебер писал, что этот тип авторитета опирается на “веру в легальность установленного порядка и законность на основе рационально созданных правил”.
Таким образом, Вебер полагал, что для получения власти в современном обществе необходима бюрократическая организация. Слово “бюрократия” для Вебера не имело того негативного значения, которое оно приобрело в наши дни. Оно обозначало самую совершенную форму организации, созданную человечеством, которая лучше всего подходит для достижения прогресса в капиталистическом обществе. Вебер перечислял основные характеристики бюрократической организации: определенные должности с четко прописанными правами, обязанностями и ответственностью, объем полномочий, прозрачная система контроля, субординация и единоначалие. Такие организации широко используют письменную форму коммуникации и документации, а также обучают персонал в соответствии с должностными требованиями и навыками, которые необходимы для выполнения работы. Важно отметить, что внутреннее устройство бюрократической организации основывается на применении логичных универсальных правил для всех вне зависимости от общественно-экономического статуса или семейных, религиозных и политических связей. Таким образом, подбор кадров, круг обязанностей и повышение в должности зависели от компетентности и опыта, а не от семейных связей или же личных отношений, как раньше{39}.
Германия одной из первых в Европе попыталась создать современную систему государственной службы: началось все еще в Пруссии в XVII–XVIII веках. Во времена Вебера этот процесс активизировался и в других странах. Примеры этого явления – учрежденная в 1855 году в Великобритании Комиссия по делам гражданских служащих и созданная в 1883 году в США Комиссия гражданской службы для контроля поступления на государственную службу. В 1874 году с образованием Всемирного почтового союза был сделан первый шаг к созданию международных гражданских служб.
Во время путешествия по Америке Вебер также стал свидетелем революции в методах и бюрократической организации среди пионеров бизнеса. На мясохладобойнях Чикаго, где полным ходом шла автоматизация процесса и специализация задач, что позволяло руководству заменить неквалифицированных рабочих высококвалифицированными, Вебера поразила “невероятная интенсивность труда”{40}. И даже посреди “массовой резни и моря крови” он продолжал вести наблюдения:
С того самого момента, когда ничего не подозревающая скотина попадает в помещение для забоя, получает по голове молотом и падает, оглушенная, после чего ее тут же хватают железной клешней, подвешивают за задние ноги и отправляют дальше, она все время движется – мимо постоянно сменяющихся рабочих, которые свежуют тушу и т. д., но неизменно (в ритме работы) привязаны к машине, которая везет мимо них животных… Здесь можно проследить за свиньей от свинарника до банки с сосисками{41}.
С точки зрения управляющих, массовое промышленное производство на мировом рынке, где каждый день появляются представители все новых и новых стран, остро нуждалось в преимуществах бюрократической специализации и иерархии, как их обозначил Вебер: “Точность, скорость, однозначность, знание материалов, непрерывность, осмотрительность, строгая субординация, сокращение разногласий, а также материальных и персональных затрат”{42}. Все, что хорошо для передового правительства, хорошо и для коммерции. “Обычно, – писал Вебер, – очень крупные современные капиталистические предприятия сами по себе являются моделями строгой бюрократической организации”{43}.
На основе многих примеров Вебер демонстрирует, что рациональные, специализированные иерархичные централизованные структуры преобладают в любой сфере деятельности, от успешных политических партий до профсоюзов, “церковных структур” и известных университетов. “Для типа бюрократии неважно, называется ли ее влияние «частным» или «общественным», – писал Вебер. – Там, где произошла полная бюрократизация управления, – заключает он, – устанавливается практически несокрушимая форма соотношения сил”{44}.
Как идеи Вебера нашли подтверждение в окружающем мире
Одним из катализаторов распространения бюрократизации стало начало Первой мировой войны, которую Вебер поначалу поддержал, о чем впоследствии горько сожалел. Массовая мобилизация миллионов мужчин и необходимость поставлять миллионы тонн продукции военного назначения требовали инноваций в сфере управления – как на поле битвы, так и в тылу. Учитывая позиционный характер окопной войны, перебои с поставками боеприпасов стали едва ли не самым серьезным ограничением для ведения боевых действий. В качестве примера одной из подобных организационных проблем возьмем 75-миллиметровые артиллерийские снаряды, которые изготавливали во Франции. Согласно довоенному плану, необходимо было производить двенадцать тысяч снарядов в день. Вскоре после начала военных действий план подняли до ста тысяч в день, и все равно это была лишь половина от необходимого количества продукции. К 1918 году только на военных заводах Франции работало более 1,7 миллиона мужчин, женщин и подростков (а также военнопленных, инвалидов войны и мобилизованных иностранцев). Историк Уильям Макнилл отметил: “Бесчисленные бюрократические структуры, прежде функционировавшие более-менее независимо друг от друга в условиях рыночных взаимоотношений, объединились в единую государственную компанию для ведения войны”{45}.
Вебер скончался от легочной инфекции через два года после окончания войны. Но все, что происходило на протяжении десятилетий после его смерти, лишь подтвердило мнение ученого о существенном преимуществе крупномасштабных бюрократических систем. Вебер стремился продемонстрировать эффективность подобных систем не только в военных и коммерческих организациях, и его выводы оказались справедливыми. Вскоре такая управленческая модель была принята, например, в благотворительности, поскольку те же промышленные магнаты, которые стояли у истоков большинства современных деловых предприятий, основали благотворительные фонды, в течение всего XX века игравшие главную роль в этой сфере. К 1916 году в США насчитывалось свыше сорока тысяч миллионеров (в 1870-е годы их было всего сто). Магнаты вроде Джона Д. Рокфеллера и Эндрю Карнеги жертвовали капиталы на содержание университетов и создавали частные институты: Рокфеллеровский институт медицинских исследований стал образцом таких заведений. К 1915 году в США появилось двадцать семь благотворительных фондов общего назначения (уникальное американское нововведение). В них работали эксперты, которые проводили независимые исследования по целому ряду социальных проблем и предлагали программы решения. К 1930 году фондов было свыше двухсот. Появление независимых благотворительных фондов сопровождалось возникновением массовой благотворительности, в особенности в таких сферах, как здравоохранение, где реформаторы использовали общественные жертвования для решения широкого круга социальных задач. Так, например, в 1905 году на борьбу с туберкулезом, причиной почти 11 % от общей смертности в США, тратили время и деньги не более пяти тысяч человек. К 1915 году под руководством таких организаций, как Национальная ассоциация по предотвращению туберкулеза (основана в 1904 году), жертвователей было пятьсот тысяч. Многие из них участвовали в кампании “Рождественская печать”, которая была придумана в Дании, а в США стала популярной благодаря реформатору Якобу Риису{46}.
Какое же отношение это имеет к власти? Самое прямое. Недостаточно контролировать крупномасштабные средства, обеспечивающие власть, будь то деньги, оружие или последователи. Все эти ресурсы являются необходимой предпосылкой власти, но ими нужно эффективно распоряжаться, в противном случае власть, которую они дают, окажется менее действенной или непрочной. Основная мысль Вебера заключалась в том, что без надежной отлаженной организации, или, если использовать его термин, без бюрократии, невозможно эффективно применять власть.
Вебер объяснил нам смысл и механизм работы бюрократии в использовании власти, а британский экономист Рональд Коуз помог осознать ее экономические преимущества для компаний. В 1937 году Коуз совершил важное научное открытие, объяснявшее, почему крупные организации не только целесообразны в соответствии с теорией поведения, направленного на максимизацию прибыли, но и оказываются эффективнее прочих. Ранее, еще студентом, в 1931–1932 годах Коуз провел в США исследование для своей книги “Природа фирмы”. Еще раньше он увлекался социализмом: его интересовало сходство в организации американских и советских компаний, и в частности вопрос о том, почему крупная промышленность, власть в которой централизована, возникла по обе стороны идеологического водораздела{47}.
Объяснение Коуза, которое несколько десятилетий спустя принесло ему Нобелевскую премию по экономике, было простым и революционным одновременно. Он заметил, что современные компании несут множество издержек, которые оказываются ниже, если определенные операции выполняются внутри фирмы, чем если бы компания поручила их на коммерческой основе третьей стороне. Среди подобных затрат – издержки на составление и исполнение договоров купли-продажи, которые Коуз поначалу назвал “маркетинговыми”, но позже переименовал в “трансакционные”. В частности, трансакционные издержки позволили объяснить, почему некоторые компании росли путем вертикальной интеграции, то есть покупая своих поставщиков и дистрибьюторов, а другим эта вертикальная интеграция ни к чему. Крупные нефтедобывающие компании, например, предпочитают приобретать нефтеперегонные заводы, поскольку это оказывается менее рискованно и более эффективно, чем коммерческие отношения с независимыми нефтеперерабатывающими предприятиями, действия которых нефтяные компании не могут контролировать. А вот крупным компаниям, занимающимся розничной торговлей одеждой (например, Zara), и компьютерным компаниям вроде Dell и Apple необязательно владеть промышленными предприятиями, на которых выпускается их продукция. Они привлекают субподрядчиков (так называемый аутсорсинг), поручают производство другим фирмам, а сами занимаются технологиями, дизайном, маркетингом и розничной продажей. Способность осуществлять деятельность посредством вертикально интегрированной фирмы обусловлена структурой рынка продавцов и покупателей, задействованных на разных этапах производства, и типами инвестиций, необходимых для того, чтобы заняться данным конкретным видом бизнеса. Другими словами, трансакционные издержки определяют структуру и модели развития фирм{48}. Теория Коуза стала основополагающей для экономики в целом, однако наибольшее воздействие она оказала на сферу организации производства, в центре внимания которой факторы, стимулирующие конкуренцию между фирмами или препятствующие ей.
Представление о том, что трансакционные издержки определяют размеры и саму суть организации, применимо ко многим сферам деятельности, помимо промышленности: оно помогает объяснить, почему не только современные корпорации, но и органы власти, армии и церкви стали большими и централизованными. Во всех перечисленных случаях подобное развитие оказалось целесообразным и эффективным. Высокие трансакционные издержки создают мощные предпосылки для перемещения основных видов деятельности, которые ранее контролировала третья сторона, внутрь фирмы, что способствует ее росту. Кроме того, чем больше модель трансакционных издержек побуждает организации развиваться путем вертикальной интеграции, тем более серьезным препятствием это развитие оказывается для новых конкурентов, пытающихся укрепиться в данной сфере. Новой компании куда сложнее соперничать с уже существующей, которая вдобавок контролирует, например, главный источник сырья или самостоятельно наладила основные каналы сбыта или розничную сеть. Это же относится к ситуациям, когда одна армия обладает исключительным правом распоряжаться приобретением оружия и техники, а вторая зависит от военной промышленности другого государства. Таким образом, трансакционные издержки, которые организациям удается минимизировать, осуществляя определенные внутренние процессы, а также контролируя поставщиков или дистрибьюторов, представляют собой еще один барьер для потенциальных конкурентов, а также барьер для обретения власти в целом, а вертикальная интеграция, способствующая развитию компании, помогает выстроить высокий защитный барьер вокруг уже существующих игроков, поскольку у более слабых по сравнению с ними новичков оказывается меньше шансов составить им конкуренцию и добиться успеха. Следует отметить, что до 1980-х годов многие государства также были склонны к “вертикальной интеграции”: они владели и управляли авиакомпаниями, металлургическими предприятиями, цементными заводами и банками. И действительно, за стремлением правительств к эффективности и независимости часто крылись совершенно иные мотивы – например, создание дополнительных рабочих мест в государственном секторе, региональное развитие, возможность раздавать должности и посты “своим” людям, коррупция и так далее.
Трансакционные издержки определяют размеры организации, а часто и ее власть, хотя это не всегда очевидно. А поскольку, как будет показано далее, природа трансакционных издержек меняется и их воздействие уменьшается, то рушатся и барьеры, защищавшие власть имущих от новых претендентов. И происходит это не только в сфере деловой конкуренции.
Властные элиты: миф или реальность?
Ход и результаты Второй мировой войны укрепили отождествление размеров с властью. Благодаря американскому “арсеналу демократии”, обеспечившему победу союзникам, за годы войны практически удвоились объемы экономики США и появились крупные корпорации, которые стали образцами массового производства. Победителями в этой войне, разумеется, стали США и СССР – страны, занимавшие огромные территории, а не островные государства вроде Японии или даже Великобритании, которые из-за военных издержек разорились и утратили былую мощь. После войны благодаря накопившемуся потребительскому спросу, подкрепленному сделанными в военное время сбережениями и новыми щедрыми государственными программами, крупные компании стали еще крупнее. Дальше – больше: когда “война за правое дело” переросла в то, что Джон Ф. Кеннеди впоследствии назвал “долгой битвой в сумерках”, из-за борьбы за господство между капиталистическим Западом и коммунистическим Востоком участники холодной войны с обеих сторон стали расширять службу безопасности: у каждой была собственная идеология, причем бюрократические требования выходили за рамки военной сферы и простирались на науку, образование и культуру. Как отметил историк Дерек Либерт в книге “Полувековая рана” (The Fifty-Year Wound), широкомасштабном исследовании, посвященном издержкам холодной войны: “Напряженность положения соответствовала стремлению к размаху, порожденному ранней индустриализацией, глубокой неуверенностью, которую вселила в мелкие организации Великая депрессия, и общей тягой к гигантизму Второй мировой войны: большие профсоюзы, большие корпорации и большое правительство. Рынку при этом уделялось незначительное внимание”{49}.
Вскоре символическое значение размеров и масштаба (вера в то, что предприятия, у которых больше всего шансов выжить и преуспеть, как правило, самые монументальные) практически повсеместно проникло в массовое сознание. И в 1950–1960-е годы ярчайшим примером этого принципа являлся Пентагон, самое большое, если считать по общей площади помещений, административное здание на планете, построенное в годы войны (1941–1943). Этот же принцип олицетворяла и консервативная корпоративная культура IBM, правила поведения и иерархия которой соответствовали главной цели – разработке передовых технологий. В 1955 году компания General Motors, которая одной из первых освоила М-форму организационной структуры и превратилась в ее хрестоматийный пример, первой из всех американских корпораций получила свыше миллиарда долларов чистой годовой прибыли и стала крупнейшей корпорацией в США по показателю доходов компании как части национального ВВП (около 3 %). Только в Америке на General Motors работали свыше 500 тысяч человек, модельный ряд продукции включал 85 автомобилей, а продажи легковых и грузовых машин составляли около 5 миллионов единиц{50}. Бизнесмены вроде Билла Левитта распространили принципы массового производства на другие сферы деятельности – например, строительство домов. Левитт, в годы войны работавший на судостроительном заводе, стоял у истоков развития пригородов: он построил множество доступных домов для среднего класса.
Но бесспорный триумф гигантских организаций, которые во времена холодной войны производили все это изобилие товаров и услуг, порождал и тревогу. Архитектурные критики, например Льюис Мамфорд, сетовали на то, что эти новые “левиттауны” однообразны, а дома слишком удалены друг от друга, чтобы получился настоящий жилой микрорайон. Ирвинг Хау, литературный критик и автор многих работ на социально-политические темы, назвал послевоенные годы “эпохой конформизма”, а в 1950 году социолог Дэвид Рисмен в своем авторитетном труде “Одинокая толпа” с горечью отмечал утрату индивидуализма под давлением бюрократических организаций{51}.
Были и другие поводы для беспокойства. По мере того как крупные организации укрепляли свое положение в самых разных сферах, оказывая влияние на все аспекты человеческой жизни, социальные критики тревожились, что созданные иерархии станут постоянными, что отделит элиту, контролирующую политику и бизнес, от остальных слоев общества и сосредоточит власть в руках правящей группы или класса, притом что организации, следуя неумолимой логике количества, становятся все больше и больше, при необходимости поглощая друг друга путем слияний или деля капиталы в картелях и синдикатах. Кое-кого, причем не только в “левых” и социалистических кругах, беспокоило распространение государственных программ с военной сферы на сферу социального обеспечения, равно как и рост бюрократических образований, созданных для управления ими. Другие же считали концентрацию власти следствием преимущественно капиталистической экономики.
Все эти опасения так или иначе перекликались с идеями Карла Маркса и Фридриха Энгельса, которые утверждали в “Манифесте коммунистической партии” (1848), что правительство в капиталистическом обществе – не что иное, как политическое продолжение интересов частных предпринимателей. “Современная государственная власть – это только комитет, управляющий общими делами всего класса буржуазии”{52}. В течение последующих десятилетий многие влиятельные сторонники идей Маркса и Энгельса выдвигали различные аргументы, суть которых была общей: марксисты утверждали, что экспансия капитализма влечет за собой усиление классовых различий, кроме того, из-за распространения империализма и финансового капитала по всему миру, эти различия возникали как внутри государств, так и между ними.
Однако усиление крупных иерархических организаций вызывало и очень подробную критику, которая заимствовала тему исследования у Вебера, а аргументы – у Маркса. В 1951 году ученый-социолог Колумбийского университета Ч. Райт Миллс опубликовал труд под названием “Белые воротнички: американский средний класс”{53}. Миллса, как и Рональда Коуза, интересовало возвышение крупных управляющих компаний. Он утверждал, что из-за таких фирм, гонящихся за ростом и производительностью, появилось огромное количество работников, выполняющих монотонные, механические задачи, которые убивают их творческий потенциал, а в конечном счете и способность принимать полноценное участие в жизни общества. Иными словами, Миллс утверждал, что типичный сотрудник корпорации чувствует себя обделенным. Для многих наглядным воплощением этой фрустрации стало предупреждение, которое печатали на перфокартах: благодаря IBM и другим компаниям по обработке данных они стали универсальным символом бюрократизации жизни в 1950–1960-х годах: “Не сгибать, не протыкать и не сминать”.
В 1956 году Миллс развил эту тему в своей самой известной работе “Властвующая элита”. В ней он изложил способы, посредством которых власть в США сосредоточивается в руках правящей “касты”, которая занимает господствующее положение в экономике, промышленности и политической жизни. Миллс писал, что американской политике свойственны демократия и плюрализм, однако, несмотря на это, концентрация политической и экономической власти невероятно укрепила положение элиты, которой стало проще, чем когда-либо, сохранять превосходство{54}. Подобные идеи выдвинули Миллса в ряд социальных критиков, однако для своего времени его взгляды вовсе не были радикальными. Президент Дуайт Эйзенхауэр спустя пять лет в прощальном обращении к народу говорил о том же, предостерегая от неконтролируемой власти и “ненадлежащего влияния” военно-промышленного комплекса{55}.
В 1960-е годы социологи и психологи стали опасаться, что современные экономические организации по сути порождают неравенство и несменяемые элиты. В 1967 году исследователь из Калифорнийского университета (г. Санта-Круз) Дж. Уильям Дамхофф опубликовал книгу под названием “Кто правит Америкой?” (Who Rules America?), где изложил так называемую “теорию четырех сетей”, доказывавшую, что Америкой управляют владельцы и топ-менеджеры крупных корпораций. С каждым новым изданием Дамхофф приводит в книге все новые доказательства своей теории – от войны во Вьетнаме до выборов Барака Обамы{56}.
Образ крепкой устойчивой элиты или господствующей верхушки разочаровал тех, кто надеялся попасть в эти ряды, будь то политики, конкурирующие на выборах с официальным Вашингтоном, или фирмы-новички, стремящиеся обойти более крупного и влиятельного соперника. Примером может служить знаменитая реклама компьютера Apple Macintosh 1984 года: в ролике, вдохновленном оруэлловской антиутопией, женщина, которую преследует группа полицейских, бросает молот в огромный экран, с которого некто вроде Большого брата что-то вещает оцепеневшей толпе людей-автоматов, и освобождает их. Реклама недвусмысленно намекала на IBM, которая на тот момент была главным конкурентом Apple на рынке персональных компьютеров. Сейчас IBM уже ушла с этого рынка, а ее рыночная цена – ничто по сравнению с капитализацией Apple, которую ныне ругают за то, что она не хуже Большого брата контролирует собственные операционные системы, комплектующие, магазины и потребительский опыт. Девизом созданной в 1998 году компании Google, отличавшейся неформальным хакерским духом, стало выражение “Не причиняй зла”; теперь это одна из крупнейших мировых корпораций (с точки зрения рыночной капитализации), и в определенных кругах ее сравнивают с Антихристом, поскольку она единолично уничтожает газеты, конкурентов и нарушает неприкосновенность персональной информации клиентов.
Из-за того, что в США последние двадцать лет увеличивается неравенство в доходах, а в мире усиливается тенденция выплачивать топ-менеджменту корпораций солидные компенсации и премии, создается ощущение, что те, кто достигает высот, там и остаются, далекие и безразличные к нуждам простых смертных. Историк и социальный критик Кристофер Лэш, скончавшийся в 1994 году, назвал западную политику и принципы поведения, породившие эти тенденции (дерегулирование и такие социальные выборы, как частное обучение, частные охранные агентства и т. п.), “восстанием элит”. Лэш описал это явление как выход из общественной системы тех, кто может себе это позволить в силу материального положения. “Они что, перестали быть гражданами Америки?” – спрашивал Лэш в эссе, опубликованном в журнале Harper’s Magazine{57}.
Идея “восстания элит” встретила отклик. Несмотря на неопределенность составляющих самого понятия “элита” (богатство, какие-то другие показатели статуса, определенные профессии?), представление о возрождении элиты, укрепляющей влияние на правительство, очень популярно. В 2008 году, через несколько дней после того, как была объявлена широкомасштабная операция по спасению банков США от банкротства, через несколько недель после краха инвестиционного банка Lehman Brothers и спасения крупнейшей страховой компании American International Group (AIG), критик Наоми Кляйн назвала происходящее “восстанием элит… причем невероятно успешным”. Кляйн утверждала, что финансовое регулирование, которому длительное время не уделяли никакого внимания, и внезапное банкротство олицетворяют контроль элит над политикой. Журналистка предположила, что тенденция концентрации власти объединяет крупные страны с противоположными, на первый взгляд, политическими и экономическими системами. “Я наблюдаю стремление к авторитарному капитализму, общее для Соединенных Штатов, Китая и России, – сказала Кляйн, выступая в Нью-Йорке. – Это не значит, что мы все находимся на одной стадии, но я отчетливо вижу тревожную тенденцию к объединению власти крупных корпораций и крупных государственных органов, которые взаимодействуют в интересах элиты”{58}. С выводами Кляйн соотносится утверждение о том, что глобализация только усилила концентрацию власти в отдельных отраслях и секторах экономики, укрепив господство лидеров рынка.
После событий последних лет вновь возникло опасение, что власть во многих странах, если не в большинстве, принадлежит олигархии, то есть горстке ведущих игроков, получивших слишком большой контроль над материальными благами и ресурсами. Интересы этих игроков, будь то явно или неявно, самым тесным образом переплетаются с политикой правительства. Саймон Джонсон, преподаватель Массачусетского технологического института, бывший ведущий экономист Международного валютного фонда, на основе примеров, с которыми ему довелось столкнуться на личном опыте, утверждал, что всякий раз, когда требовалось вмешательство Фонда, оказывалось, что на самом деле олигархи хотят защитить себя и переложить бремя реформ на других партнеров (или иностранных кредиторов). Олигархия – традиционная примета зарождающихся рынков, писал Джонсон в статье, опубликованной в 2009 году в журнале The Atlantic, но и не только их. США и здесь оказались впереди всех: “Аналогично тому, что у нас самая развитая экономика, армия и технологии, у нас и самая развитая олигархия”. Джонсон упомянул лоббирование, финансовую дерегуляцию и систему перехода сотрудников Белого дома на работу в компании с Уолл-стрит, а также выступил в поддержку разрушения прежней элиты”{59}.
Эти и подобные рассуждения отражают распространенное представление, настолько убедительное, что практически стало общим: “Власть и богатство имеют свойство концентрироваться. Богатые богатеют, а бедные беднеют”. Разумеется, формулировка несколько карикатурная, однако это аксиома, на которой строятся как парламентские обсуждения, так и обычные разговоры за ужином, в университетских аудиториях и на дружеских вечеринках, в умных книгах и популярных телесериалах. Даже некоторые сторонники свободного рынка разделяют марксистские представления о том, что власть и богатство имеют свойство концентрироваться. Последние два десятка лет публика с интересом следит за рассказами СМИ о несметных богатствах российских олигархов, нефтяных шейхов, китайских миллиардеров, интернет-предпринимателей и американских управляющих хедж-фондов. И всякий раз, как кто-то из этих магнатов вмешивается в политику – как Сильвио Берлускони в Италии, Таксин Чинават в Таиланде или Руперт Мердок и Джордж Сорос по всему миру – или когда Билл Гейтс и прочие пытаются повлиять на государственную политику в США и на всей планете, публике снова напоминают о том, что деньги и власть усиливают друг друга, создавая практически непреодолимую преграду для конкурентов.
Расхожее представление о том, что экономическое неравенство никуда не денется, а будет только расти, всех нас делает в некотором смысле марксистами. Но что, если модель организации, которую Вебер и его последователи в экономике и социологии считали наиболее приспособленной для конкуренции и управления, устарела? Что, если власть рассредоточивается, проявляется в новых формах и механизмах в малочисленной группе игроков, которые ранее считались маргинальными, в то время как преимущество крупных, авторитетных и более бюрократических организаций стремительно сокращается? Возвышение микровласти впервые в истории ставит перед нами такие вопросы. Оно открывает возможность того, что в будущем власть утратит связь с размером и масштабом.
Глава 4 Как власть утратила преимущество Революция множества, мобильности и ментальности
Хавьер Солана, министр иностранных дел Испании, который в середине 1990-х годов стал генеральным секретарем НАТО, а потом – верховным представителем Европейского союза по общей внешней политике, как-то сказал мне: “За последнюю четверть века – период, на который пришлись войны на Балканах и в Ираке, переговоры с Ираном, израильскопалестинский конфликт и прочие кризисы, – я заметил, что множество факторов и сил ограничивают власть даже самых богатых и технологически продвинутых сторон. Они – то есть в данном случае мы – уже не вольны поступать так, как заблагорассудится”{60}.
Солана прав. Повстанцы, мелкие политические партии, инновационные стартапы, хакеры, активисты без четкой организации, новомодные альтернативные СМИ, молодые люди без лидера на площадях больших городов и харизматические личности, которые появляются словно из ниоткуда, – все они сотрясают старый порядок. Не каждый из них может похвастаться безупречной репутацией, но каждый отчасти несет ответственность за упадок власти полиции и армии, телевизионных сетей, традиционных политических партий и крупных банков.
Все перечисленные примеры можно назвать “микровластью”: мелкие деятели, которых ранее никто не знал или же не принимал во внимание, сумевшие подорвать, ограничить или разрушить власть гигантов, крупных бюрократических организаций, которые прежде контролировали какую-то конкретную сферу жизни. Согласно прежним принципам, микровласть – не что иное, как отклонение от нормы. Таким игрокам не хватает масштаба, скоординированности, ресурсов, сложившейся репутации. По идее, они вообще не должны были попасть в игру или, по крайней мере, не сумели бы выстоять против сильных соперников, которые неминуемо поглотили бы их или разбили в пух и прах. Однако на деле получается наоборот. Действительно, микровласть лишает авторитетных игроков многих возможностей, которые они прежде принимали как данность. В отдельных случаях микровласть даже ухитряется выиграть у крупнейших игроков.
Но каким же образом новоиспеченным микровластям удается победить: быть может, они выигрывают в конкурентной борьбе и вытесняют крупных игроков из бизнеса? Нет, такое бывает крайне редко. Микровласть не приспособлена для крупных поглощений. Преимущество ее в том, что ее не отягощают размеры, масштаб, портфели активов и ресурсов, централизация и иерархия – словом, весь тот багаж, который так долго и упорно накапливали крупные игроки. И чем больше микровласть уподобляется им, тем больше превращается в тот самый тип организации, которую новые микровласти будут атаковать с таким же успехом. Вместо этого микровласти действуют за счет совершенно иных методов и преимуществ. Они ослабляют, осложняют, подрывают и расстраивают планы крупных игроков таким образом, что те, несмотря на все свои большие возможности, неспособны отразить нападение. Эффективность подобных методов дестабилизации и вытеснения авторитетных крупных противников означает, что власть становится проще подорвать и труднее укрепить. Отсюда следуют самые удивительные и неожиданные выводы. Они свидетельствуют об ослаблении бюрократии, о которой писал Вебер, системы организации, которой мы обязаны как благами, так и трагедиями XX века. Отделение власти от размера, равно как и отделение способности эффективно использовать власть от контроля крупных бюрократий в духе Вебера, меняет мир. И этот процесс отделения наводит на тревожные мысли: если в будущем власть ждут препятствия и дестабилизация, а не укрепление и умелая организация, удастся ли нам когда-нибудь снова оказаться в ситуации стабильности?
Что же изменилось?
Трудно определить, когда же начался упадок и распыление власти, а также закат веберовского идеала бюрократии, и уж тем более невозможно с точностью назвать дату, как, например, сделал это поэт Филип Ларкин{61}, в стихотворении “Чудесный год” определив время наступления сексуальной революции: “Уже разрешен был «Любовник леди», но не было диска «Битлов» на свете”[8].
Взять хотя бы 9 ноября 1989 года, дату падения Берлинской стены: не самое плохое начало. С завершением холодной войны (и сопутствовавшей ему идеологической и экзистенциальной борьбы) половина континента освободилась из тисков тирании, открылись границы и новые рынки, что ликвидировало причину существования разветвленной системы национальной безопасности и отменило необходимость в поддерживавших ее экономических, политических и культурных ресурсах. Целые народы, прежде вынужденно шагавшие в ногу, теперь смогли, образно говоря, сами выбирать себе барабанщиков. Крах привычного миропорядка воплотился в таких событиях, как расстрел четы Чаушеску на Рождество 1989 года в Румынии и штурм штаб-квартиры “Штази” (могущественной службы государственной безопасности ГДР, олицетворявшей собой один из самых ярких и мрачных примеров расцвета послевоенной бюрократии) в январе 1990 года. Ранее закрытые экономические системы открылись для зарубежных инвестиций и торговли при поддержке растущих транснациональных корпораций. Как заметил генерал Уильям Одом, который был при Рональде Рейгане директором Агентства национальной безопасности: “Обеспечив безопасность Европы и Азии, Америка сократила трансакционные издержки в этих регионах. В результате Северная Америка, Западная Европа и Северо-Восточная Азия стали еще богаче”{62}. Теперь появились новые возможности сокращать трансакционные издержки, что в перспективе обещало бо́льшую экономическую свободу.
Через год после того, как тысячи немцев разрушили Берлинскую стену, в декабре 1990 года Тим Бернерс-Ли, британский ученый, сотрудник Европейской организации ядерных исследований, расположенной на франкошвейцарской границе, осуществил первый успешный обмен данными между протоколом передачи гипертекста и сервером посредством интернета, создав таким образом Всемирную паутину. Это изобретение, в свою очередь, положило начало революции в коммуникации, которая затронула все сферы жизни.
Завершение холодной войны и появление интернета, несомненно, стали важными факторами, которые способствовали нынешнему возвышению микровласти, но не только они были важны. Мы часто поддаемся соблазну объяснить наступление эпохи перемен одной-единственной причиной. Взять хотя бы роль текстовых сообщений и социальных сетей вроде Фейсбука и Твиттера в возникновении протестов по всему миру. Однако ожесточенные споры о том, действительно ли социальные сети породили политические движения, или же их влияние преувеличено, так ни к чему и не привели. Как и прочие средства в борьбе за власть, социальные сети помогли демонстрантам скоординировать действия и сообщить всему миру о нарушении прав человека. Однако авторитарные режимы (такие как в Иране и Китае) не растерялись и использовали эти ресурсы для слежки и репрессий. А в крайнем случае правительство могло просто закрыть доступ в интернет (по крайней мере, в значительной степени, как в Египте и Сирии, когда народ потребовал от диктаторов уйти в отставку) или внедрить систему фильтров и контроля, которая ограничивает поток нежелательной информации (как поступил Китай, установив “Золотой щит”). Существует множество аргументов как “за”, так и “против”, которыми изобилуют споры технофутуристов вроде Клэя Ширки[9] и тех, кто видит будущее интернета в оптимистическом свете, со скептиками вроде Евгения Морозова[10] и Малкольма Гладуэлла[11]. Таким образом, чтобы понять, почему барьеры власти стали проницаемыми, необходимо взглянуть на более глубокие изменения – транс формации, которые стали накапливаться и множиться еще до окончания холодной войны и распространения интернета. В наши дни самые серьезные трудности, с которыми приходится сталкиваться власти, обусловлены изменениями в укладе жизни – тем, как мы живем, где мы живем, как долго и насколько хорошо. Изменились сами условия, в которых действует власть.
Это сфера демографии, стандартов жизни, состояния здоровья, уровня образования, моделей миграции, семьи, общества и, наконец, нашего отношения: отправные точки для ожиданий, верований, желаний и понимания себя и других. Чтобы понять, как эти изменения влияют на власть, разобьем их на три категории: революция множества, революция мобильности и революция ментальности. Первая затапливает барьеры власти, вторая обходит их, а третья ослабляет.
Революция множества: подавление средств контроля
Мы живем в эпоху изобилия. Всего стало больше. Больше людей, стран, городов, политических партий, армий, больше товаров и услуг, больше компаний, которые их продают, больше оружия и лекарств, больше студентов и компьютеров, больше священников и больше преступников. С 1950 года мировой объем производства вырос в пять раз, а доход на душу населения – в три с половиной раза. И, что самое важное, людей стало больше – на целых два миллиарда больше, чем всего два десятка лет назад. К 2050 году население планеты увеличится в четыре раза по сравнению с 1950 годом. Чтобы понять, что происходит с властью, необходимо определить численность населения, его возрастной состав, территориальное распределение, продолжительность жизни и состояние здоровья.
Революция множества не ограничивается одним-единственным сектором земного шара или каким-то одним народом. Она прогрессирует, несмотря на все негативные события, которые каждый день попадают в заголовки газет: экономический спад, терроризм, землетрясения, репрессии, гражданские войны, стихийные бедствия и экологические угрозы. Не приуменьшая важности этих событий и их опасности для планеты и людей, мы все-таки можем утверждать, что первое десятилетие XXI века, бесспорно, стало самым благополучным за всю историю человечества: недаром аналитик Чарльз Кенни назвал его “Самое. Лучшее. Десятилетие”{63}. И факты это подтверждают. По данным Всемирного банка, с 2005 по 2008 год на всей планете, от Центральной и Западной Африки до Латинской Америки и от Азии до Восточной Европы, количество людей, живущих за чертой бедности (то есть тех, чей доход ниже 1 доллара 25 центов в день), резко сократилось впервые с тех пор, как стали доступны данные мировой статистики. Учитывая, что на первое десятилетие пришлось начало одного из самых глубоких экономических кризисов со времен Великой депрессии 1929 года, такой прогресс еще более удивителен. И действительно, в разгар кризиса Роберт Зеллик, тогдашний президент Всемирного банка, выразил серьезное опасение по поводу воздействия финансового краха на малоимущие слои населения: эксперты, заявил Зеллик, сообщили ему, что число бедных значительно увеличится. К счастью, они ошиблись. Фактически мир достигнет поставленных ООН в 2000 году целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, намного раньше, чем ожидалось. Одной из этих целей было к 2015 году вполовину снизить количество живущих в условиях крайней нищеты, а случилось это на пять лет раньше.
Объясняется это тем, что, несмотря на кризис, экономики бедных стран продолжают развиваться и создавать рабочие места. И этой тенденции уже три десятка лет: так, начиная с 1981 года 660 миллионов китайцев выбрались из нищеты. В Азии число населения, живущего за чертой бедности, сократилось с 77 % в 1980-х годах до 14 % в 1998 году. И подобные процессы происходят не только в Китае, Индии, Бразилии и на прочих успешно развивающихся рынках, но и в беднейших африканских государствах. Экономисты Максим Пинковский и Хавьер Сала-и-Мартин доказали, что в период с 1970 по 2006 год бедность в Африке сокращалась намного быстрее, чем прогнозировалось. Основываясь на данных скрупулезного статистического анализа, исследователи сделали вывод, что “снижение уровня бедности в Африке наблюдается повсеместно: его нельзя объяснить обширной территорией или некими географическими или историческими преимуществами, которыми обладает то или иное государство по сравнению с другими. Во всех категориях стран, в том числе в тех, которым не повезло с географической или исторической точки зрения, наблюдается сокращение уровня бедности. Этот показатель сокращается как в государствах, расположенных на побережье, так и в тех, где нет выхода к морю; как в богатых полезными ископаемыми, так и в тех, чьи недра скудны; как в странах с благоприятными условиями для сельского хозяйства, так и в тех, где земледелие не развито; во всех государствах, независимо от того, были они когда-то колониями или нет; как в тех странах, где бо́льшая часть дееспособного населения во времена работорговли была угнана в рабство, так и в тех, которым в этом смысле повезло больше. В 1998 году впервые с тех пор, как стали доступны данные статистики, больше африканцев оказалось выше границы прожиточного минимума, чем за чертой бедности”{64}.
Разумеется, миллиарды людей по-прежнему живут в ужасных условиях. И доход в 3 или 5 долларов в день вместо 1 доллара 25 центов, которые Всемирный банк обозначил как черту бедности, означает, что им приходится терпеть лишения и бороться за выживание. Но правда и то, что повысилось качество жизни самого уязвимого “беднейшего миллиарда”. Начиная с 2000 года детская смертность сократилась более чем на 17 %, а количество детских смертей от кори в период между 1999 и 2005 годами снизилось на 60 %. Число жителей развивающихся стран, попадающих в категорию голодающих, сократилось с 34 % в 1970-м до 17 % в 2008 году.
Быстрое экономическое развитие многих бедных стран и обусловленное им снижение уровня бедности способствовало росту “мирового среднего класса”. Всемирный банк подсчитал, что с 2006 года 28 государств, ранее считавшихся “странами с низким уровнем дохода”, перешли в разряд “стран со средним уровнем дохода”. Возможно, представители этих новых средних классов не настолько благополучны, как их собратья из развитых стран, однако уровень их жизни достиг невиданных высот. И это самая динамично развивающаяся демографическая категория в мире. Как сказал мне сотрудник Института Брукингса Хоми Карас, один из самых уважаемых исследователей нового мирового среднего класса: “Мировой средний класс увеличился в два раза – с 1 миллиарда в 1980 году до 2 миллиардов в 2012-м. Этот сегмент общества продолжает стремительно развиваться и к 2020 году может составить 3 миллиарда человек. По моим оценкам, к 2017 году азиатский средний класс обгонит по количеству Северную Америку и Европу вместе взятые. К 2021 году, если эта тенденция будет продолжаться, в Азии будет более 2 миллиардов представителей среднего класса. В одном лишь Китае может оказаться свыше 670 миллионов потребителей со средним достатком”{65}.
Карас указал, что подобное происходит не только в Азии: “Число представителей среднего класса в быстроразвивающихся бедных странах постоянно растет. И я не вижу никаких оснований полагать, что в последующие годы этот процесс не будет продолжаться, разве что в отдельных государствах его могут на некоторое время замедлить случайные препятствия. Но в целом глобальная тенденция очевидна”.
За последние три десятилетия социально-экономические перспективы во всем мире существенно изменились. Список этих изменений, или, лучше сказать, достижений, столь же обширен, сколь примечателен: теперь грамотны 84 % населения планеты, по сравнению с 75 % в 1990 году. Университетское образование переживает подъем, и даже средние коэффициенты в тестах на уровень интеллектуального развития стали выше по всему миру. Смертность в результате боевых действий начиная с 2000 года сократилась более чем на 40 %. Продолжительность жизни в странах, сильнее всего пострадавших от пандемии ВИЧ/СПИД, снова начинает расти. Сельскохозяйственные потребности населения удовлетворяются лучше, чем когда-либо: начиная с 2000 года производство хлебных злаков в развивающихся странах растет в два раза быстрее, чем население. Даже “редкоземельные металлы” (17 редких элементов, которые используются в производстве мобильных телефонов и при очистке топлива) теперь встречаются не так уж редко, поскольку на рынок выходят новые поставщики и производители. Одна из причин такого прогресса, пожалуй, в быстром расширении профессионального научного сообщества: в странах, попавших в исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), число действующих ученых выросло с 4,3 миллиона в 1999 году до 6,3 миллиона в 2009-м{66}. Причем без учета нескольких стран с большими и постоянно растущими научными сообществами, в частности Индии.
Да и люди в целом стали здоровее и живут дольше. Согласно индексу человеческого развития ООН, куда входят показатели долголетия, образованности и дохода, что позволяет оценить общее благополучие того или иного региона, начиная с 1970 года уровень жизни вырос по всему миру. Страны, для которых этот индекс в 2010 году оказался ниже, чем в 1970-м, можно пересчитать по пальцам. И лишь в одной-единственной стране мира, Зимбабве, этот показатель в период между 2000 и 2010 годами снизился. Начиная от бедности и детской смертности до уровня образования и калорийности потребляемой пищи, основные показатели в конце 2012 года оказались лучше, чем в 2000-м. Проще говоря, миллиарды людей, которые до недавнего времени едва сводили концы с концами, получили больше пищи, больше возможностей и живут дольше, чем раньше.
Я вовсе не утверждаю, как доктор Панглосс у Вольтера, что “все идет к лучшему в этом лучшем из миров”. Каждое из вышеупомянутых достижений указывает на очевидные трудности и нештатные ситуации, которые зачастую оборачиваются трагедией. Прогресс в бедных странах резко контрастирует с положением дел в Европе и США, где средний класс после десятилетий роста и благополучия сдает экономические позиции и в результате финансового кризиса стремительно сокращается. Однако чтобы понять сегодняшние перемены и перераспределение власти и в перспективе найти более актуальное объяснение текущих событий, необходимо представлять себе картину в целом: люди живут дольше и стали здоровее, нежели прежде, и их основные потребности удовлетворены в значительно большей степени. Да, “арабская весна” и другие недавние социальные движения наглядно продемонстрировали преимущество современных технологий. Однако они куда больше обусловлены быстрым ростом продолжительности жизни на Ближнем Востоке и в Северной Африке с 1980-х годов, демографическим приоритетом молодежи, то есть миллионов людей до 30 лет, образованных, здоровых, у которых впереди долгая жизнь, но при этом нет ни работы, ни перспектив, и, разумеется, возвышением политически активного среднего класса. Неудивительно, что “арабская весна” началась в Тунисе, североафриканском государстве с лучшими экономическими показателями и самыми быстрыми темпами перехода бедняков в средний класс. Действительно, нетерпеливый, хорошо образованный, знающий, что к чему, средний класс, который хочет, чтобы прогресс шел быстрее, чем это может обеспечить государство, чья нетерпимость к коррупции превращает его в могущественную оппозицию, служит двигателем многих политических изменений этого десятилетия. Одного только роста населения и доходов недостаточно для того, чтобы трансформировать использование власти, если она по-прежнему сосредоточена в руках небольшого числа игроков. Но революция множества связана не только с количеством, но и с качественными улучшениями жизни людей. Когда люди лучше питаются, когда они здоровее, образованнее и теснее общаются друг с другом, многие из факторов, помогавших удерживать власть, утрачивают прежнюю эффективность.
А дело вот в чем: когда людей становится больше и они живут более полноценной жизнью, их труднее разбивать на группы и контролировать.
Для применения власти в любой сфере необходима способность устанавливать и удерживать контроль над страной, рынком, клиентурой или электоратом, группой сторонников, сетью торговых путей и так далее. Когда же численность людей на данной конкретной территории (будь то потенциальные солдаты, избиратели, потребители, рабочие, конкуренты или верующие) растет, они свободнее распоряжаются ресурсами и совершенствуют навыки, их становится труднее координировать и контролировать. Как заметил Збигнев Бжезинский, бывший советник президента США по национальной безопасности, размышляя о кардинальных переменах, произошедших в мире с тех пор, как он появился на политической арене: “В наши дни куда проще убить миллион человек, чем их контролировать”{67}.
Тех, кто обладает властью, революция множества ставит перед непростыми дилеммами: как добиваться своего путем принуждения, если применение силы становится все дороже и рискованнее? Как отстаивать свой авторитет, когда люди живут более полноценной жизнью и чувствуют себя куда менее зависимыми и уязвимыми, чем раньше? Как влиять на массы и вознаграждать их за лояльность в мире, где у человека есть множество выборов? Чтобы управлять, организовывать, мобилизировать, влиять, убеждать, подвергать дисциплинарному взысканию, сдерживать и подавлять большое количество людей с высоким уровнем жизни, необходимы иные методы, нежели те, которые срабатывали в меньших и не таких развитых обществах.
Революция мобильности: исчезновение “зрителей поневоле”
В наши дни все больше людей, которые не только живут более полноценной и здоровой жизнью, но и активнее перемещаются по миру, вследствие чего их сложнее контролировать. Этот факт также меняет распределение власти как внутри страны, так и между странами, будь то из-за укрепления этнических, религиозных и профессиональных диаспор или из-за отдельных векторов развития идей или убеждений, которые могут как дестабилизировать, так и укреплять власть. По оценкам ООН, в мире всего 214 миллионов мигрантов: за последние два десятка лет их число увеличилось на 37 %. За один и тот же период количество мигрантов выросло на 41 % в Европе и на 80 % в Северной Америке. Мы переживаем революцию мобильности: в наши дни по миру перемещается больше людей, чем когда-либо за всю историю человечества.
Возьмем, например, влияние, которое повышенная глобальная мобильность оказала на рабочее движение в США. В 2005 году от Американской федерации труда – Конгресса производственных профсоюзов (АФТ-КПП) отделились полдюжины профсоюзов и образовали конкурирующую федерацию под названием “Перемены для победы” (Change to Win). Среди отколовшихся профсоюзов были Международный профсоюз работников сферы обслуживания (SEIU) и профсоюз сотрудников легкой промышленности “В этом мы едины” (UniteHere); в обоих было много низкооплачиваемых рабочих-иммигрантов, интересы и приоритеты которых существенно отличались от интересов членов других профсоюзов обрабатывающей и прочих сфер промышленности, имеющих богатую историю, – например, таких как профсоюз водителей грузового транспорта. И этот раскол оказал существенное влияние на государственную политику. Как писал Джейсон Депарль, журналист газеты New York Times: “Профсоюзы, входящие в «Перемены для победы», сыграли важную (некоторые утверждают, что решающую) роль на ранних этапах первой предвыборной кампании Барака Обамы”{68}. А во время перевыборов в 2012 году решающими оказались голоса испаноязычных избирателей. Вот таким неожиданным образом международная мобильность определила долгосрочную политику США, и подобное происходит по всему миру.
По условиям суданского закона о референдуме 2009 года, принятого местными законодательными органами, члены суданской диаспоры, в том числе около 150 тысяч человек, проживающих в Соединенных Штатах, имели право голосовать на референдуме 2011 года о независимости Южного Судана. Некоторые члены колумбийского сената, выбранные колумбийцами, живут за рубежом. Кандидаты на пост губернатора штата или даже президента из стран с большим количеством эмигрировавшего населения – например, кандидаты на пост губернатора в Мексике или президента Сенегала – часто приезжают в Чикаго, Нью-Йорк, или Лондон, или в любой другой город, где пустили корни их соотечественники, чтобы обеспечить себе голоса избирателей или собрать средства.
Точно так же иммигранты меняют сферу бизнеса, религии и культуры стран, в которых оседают. Испаноязычное население США выросло с 22 миллионов в 1990-м до 51 миллиона в 2011 году, так что теперь каждый шестой американец – испаноязычный; половина населения, появившаяся в США за последние 10 лет, – выходцы из стран Латинской Америки. В Дирборне, штат Мичиган, где находится штаб-квартира Ford Motor Company, 40 % населения составляют американцы арабского происхождения; мусульмане выстроили здесь самую большую мечеть в Северной Америке. Подобные диаспоры неминуемо меняют как коалиции и характер распределения голосов избирателей, так и стратегии бизнеса и даже борьбу за прихожан. Политические партии, политики, коммерческие предприятия и прочие организации все чаще сталкиваются с конкурентами, которые куда лучше понимают новое население, поскольку сами вышли из этой среды. То же происходит и в Европе, поскольку правительства оказались неспособны остановить поток иммигрантов из Африки, Азии и менее благополучных европейских стран. Вот вам наглядный пример: в 2007 году мэром ирландского городка Порт-Лиише, расположенного к западу от Дублина, стал уроженец Нигерии – первый чернокожий мэр в Ирландии.
Даже попытки ограничить эту новую мобильность могут иметь неожиданно серьезные последствия. Хорхе Г. Кастаньеда, бывший мексиканский министр иностранных дел, и Дуглас С. Мэсси, социолог из Принстонского университета, объясняют, что в ответ на грубое обращение и недоброжелательное отношение к иммигрантам в некоторых американских штатах “многие мексиканцы без гражданства, постоянно проживающие на территории США, делают неожиданный выбор: вместо того чтобы покинуть страну, где чувствуют себя чужими, они принимают гражданство – поведение, известное как «оборонительная натурализация». За десять лет до 1996 года в среднем каждый год гражданами Америки становились 29 тысяч мексиканцев, а с 1996 года – в среднем 125 тысяч в год. Страна получила 2 миллиона новых граждан, которые впоследствии могли перевезти в США близких родственников. В настоящее время почти две трети мексиканцев, на законных основаниях постоянно проживающих на территории Америки, – родственники граждан США”{69}. Разумеется, эти новые граждане обладают избирательным правом – факт, который меняет картину выборов.
Иммигранты переводят на родину миллиарды долларов, стимулируя экономический рост и развитие. В 2010 году во всем мире общая сумма средств, которую иммигранты перевели, а также ввезли в страну лично, составила 449 миллиардов долларов (по сравнению с 37 миллиардами в 1980 году){70}. В наши дни сумма переводов в пять раз превышает объем общей мировой финансовой помощи иностранным государствам: она больше, чем годовая сумма зарубежных инвестиций в экономику бедных стран. Коротко говоря, работники, которые живут за пределами родной страны (и которые зачастую сами очень бедны), посылают на родину больше денег, чем иностранные инвесторы, и больше, чем богатые страны в качестве финансовой помощи{71}. Для многих стран переводы средств стали основным источником твердой валюты и, по сути, крупнейшим сектором экономики, изменив таким образом традиционную экономическую и социальную структуру и сферу бизнеса в целом.
Из всех аспектов революции мобильности, пожалуй, интенсивнее всего действует урбанизация. И без того самый стремительный за всю историю процесс урбанизации набирает дополнительные обороты, особенно в Азии. Все больше людей перебирается из деревень в города, и этот процесс постоянно продолжается. В 2007 году впервые за всю историю городское население обогнало сельское. Ричард Доббс так описывает колоссальные масштабы этой перемены: “Растущий средний класс Китая и Индии осядет в гигантских мегаполисах: так возникнут потребительские рынки, превосходящие современные Японию и Испанию соответственно”{72}. Национальный совет по разведке США подсчитал, что “каждый год городское население мира увеличивается на 65 миллионов человек: это как если бы каждый год появлялись семь городов размером с Чикаго или пять Лондонов”{73}. Последствия этой революции для распределения власти внутри государства не менее серьезны: с каждым годом больше людей тратит деньги и вкладывает средства в двух (и более) странах одновременно. Внутренняя миграция, в особенности переезд населения из деревень в крупные города, оказывает на власть не менее разрушительное воздействие, чем международная миграция.
Общую картину власти меняет и относительно новая форма мобильности, хотя и не такая глобальная, как урбанизация: циркуляция умов. Многие квалифицированные образованные работники переезжают из бедных стран в богатые в надежде на лучшую жизнь. Такая печально известная “утечка мозгов” лишает государства медсестер, инженеров, ученых, предпринимателей и прочих профессионалов, обучение которых обходится достаточно дорого; их отъезд, конечно, уменьшает человеческий капитал страны. Однако в последние годы все большее число таких специалистов возвращается на родину и в корне меняет положение дел в избранной сфере деятельности, будь то промышленность, университетское образование, политика или СМИ. Анна-Ли Саксенян, декан Школы информации Калифорнийского университета в Беркли, заметила, что иммигранты из Тайваня, Индии, Израиля и Китая, которые работали в Силиконовой долине, вернувшись на родину, часто становились “ангелами-инвесторами стартапов” и “венчурными капиталистами”: создавали там компании и в конце концов либо окончательно возвращались, либо перемещались между прежним и новым местом жительства (поэтому Саксенян предпочитает называть это явление “циркуляцией умов”). Таким образом, они привозили на родину культуру, методы и технические способы работы, которые освоили в США. Разумеется, в случае с предпринимателями активная, конкурентная, революционная культура бизнеса, обычная для крупных деловых центров, вступает в противоречие с традиционными монопольными способами ведения бизнеса, зачастую распространенными в развивающихся странах с доминирующими семейными бизнесконгломератами. И это еще один пример того, как неожиданно революция мобильности меняет характер обретения и использования власти в традиционных, но быстро меняющихся обществах{74}.
Перемещение временных и постоянных мигрантов происходит на фоне роста товарооборота, передвижения услуг, денег, информации и идей. Число краткосрочных поездок выросло в 4 раза: в 1980 году число международных туристов составляло всего 3,5 % от населения планеты, тогда как в 2010 году – почти 14 %{75}. Каждый год около 320 миллионов человек летает на деловые заседания, конференции, международные съезды, и число это постоянно растет{76}.
Торговля товарами чуть замедлилась из-за начавшейся в 2008 году рецессии. В 1990 году совокупный объем мирового экспорта и импорта составлял 39 % глобальной экономики, к 2010 году их объем достиг 56 %. По данным ООН, в период между 2000 и 2009 годами общая стоимость товаров, которые продавали за границу, выросла почти в 2 раза – с 6,5 триллиона долларов до 12,5 триллиона (в текущих ценах); общий объем экспорта товаров и услуг в этот период взлетел с 7,9 триллиона долларов до 18,7 триллиона (по данным МВФ).
Деньги тоже обрели небывалую мобильность. Объем прямых иностранных инвестиций в процентном отношении к мировой экономике подскочил с 6,5 % в 1980 году до целых 30 % в 2010-м, в то время как объем ежедневных зарубежных денежных переводов с 1995 до 2010 года вырос в семь раз. В последующие годы за границу каждый день переводили 4 триллиона долларов{77}.
Значительно расширилась и возможность обмениваться информацией. Сколько ваших знакомых не имеют мобильного телефона? Очень немногие. Причем это справедливо даже для самых бедных и неблагополучных государств. “Сомалийские операторы мобильной связи процветают, несмотря на хаос” – именно под таким заголовком агентство Reuters в 2009 году прислало сообщение из этой разоренной страны{78}. Сомали представляет собой “несостоявшееся государство”, граждане которого испытывают нехватку самого необходимого, того, что мы в большинстве своем принимаем как должное. Но даже здесь широко доступна мобильная связь. Она распространялась с удивительной скоростью. В 1990 году в мире на 100 человек приходилось 0,2 абонентских контракта сотовой связи. К 2010 году их число выросло до 78 из 100{79}. По данным Международного союза электросвязи, в 2012 году количество абонентов мобильной связи преодолело отметку в 6 миллиардов и составило 87 % от всего населения Земли{80}.
Ну и разумеется, интернет. Его распространение и удивительные новаторские способы использования (пусть и не всегда во благо) говорят сами за себя. В 1990 году число пользователей интернета было незначительным – всего 0,1 % от населения Земли. В 2010 году их количество уже увеличилось до 30 % (а в развитых странах – до 73 %){81}. К 2012 году количество пользователей Фейсбука составило почти миллиард человек (причем более половины из них выходили в сеть с мобильных телефонов и планшетов), у Твиттера (запущенного в 2006 году) было 140 миллионов активных пользователей, а у Скайпа (созданный в 2003 году голосовой интернет-сервис) – почти 700 миллионов постоянных пользователей{82}.
“Революции Твиттера и Фейсбука” на Ближнем Востоке и влияние социальных сетей на политику вызывало бурные обсуждения; мы рассматривали их, когда обсуждали упадок власти. Но когда мы говорим о революции мобильности, необходимо иметь в виду еще одно средство, о котором часто забывают, но которое изменило мир: телефонную карту с предварительной оплатой. Чтобы выйти в интернет, необходимо электричество, компьютер и услуги провайдера – все то, что мы воспринимаем как само собой разумеющееся, однако для большинства населения планеты это непозволительная роскошь. А вот чтобы воспользоваться телефонной картой, достаточно нескольких центов и телефона-автомата – и вот вы уже на связи с остальным миром, в каком бы отдаленном уголке планеты ни находились. Телефонные карты используются более широко, чем интернет. Телефонные карты с предварительной оплатой ввели в обращение в 1976 году в Италии, чтобы решить проблему нехватки монет и бороться с мошенничеством и вандализмом. Новинка пользовалась бешеным успехом: в 1977 году телефонные карты выпустили в Австрии, Франции, Швеции, Великобритании, а пять лет спустя – в Японии (тоже в связи с нехваткой монет). Но пик популярности предоплаченных телефонных карт пришелся на тот период, когда их стали использовать в бедных странах. Доходы отрасли подскочили с 25 миллионов долларов в 1993 году до 3 миллиардов в 2000-м{83}. В наши дни телефонные карты уступают место предоплаченным мобильным телефонам. Контракты с предоплатой потеснили долгосрочные контракты на обслуживание, которые привязывают пользователя к поставщику услуг мобильной связи{84}. Малоимущие, которые уезжают работать за границу (по крайней мере некоторые из них), уже не стоят перед выбором: быть ближе к семье или же постараться разбогатеть на чужбине.
Все эти технологии, повышающие мобильность, роднят две характеристики: скорость и снижение затрат на перемещение товаров, денег, людей и информации. Лет двадцать-тридцать назад авиабилеты стоили тысячи долларов, теперь же их можно купить во много раз дешевле, а стоимость транспортировки тонны груза за милю ныне в десять раз ниже, чем в 1950-е годы. Комиссия за перевод денег из Калифорнии в Мексику в конце 1990-х составляла 15 % от суммы, теперь же менее 6 %. А мобильные переводы с одного сотового телефона на другой практически бесплатны.
Так что же все эти революционные изменения в мобильности и коммуникациях значат для власти? Революция мобильности оказала на мир такое же значительное воздействие, как и революция множества. Чтобы применять власть, недостаточно контролировать и управлять некой территорией в прямом или переносном смысле: необходимо еще и охранять границы. Это справедливо и для государства, и для корпорации, которая занимает лидирующее положение на рынке, и для политической партии, которая зависит от электората, проживающего в определенной местности, и для отца, который хочет, чтобы его дети были в поле зрения. Власти необходима постоянная аудитория. В ситуациях, когда у граждан, избирателей, инвесторов, сотрудников, прихожан или клиентов нет выбора (или он ограничен), приходится мириться с теми условиями, которые предлагаются. Но если границы становятся проницаемыми и население, которое прежде контролировали и которым управляли, получает возможность свободно передвигаться, то авторитетным организациям становится сложнее сохранить влияние. Самый радикальный пример – миграция, когда люди просто перемещаются из одной ситуации распределения власти в другую, поскольку верят, что там будет лучше.
Таким образом, доступность путешествий, транспортировки грузов и более быстрые и дешевые способы передачи информации, денег или ценностей упрощают жизнь новым игрокам и усложняют старым.
Революция ментальности: ничего не принимать как данность
Во второй половине 1960-х годов Сэмюэл Хантингтон, политолог из Гарварда, утверждал, что основная причина социальной и политической нестабильности в развивающихся странах (которые он называл “быстро меняющимися обществами”) в том, что требования людей растут гораздо быстрее способности правительства их выполнить{85}. Революции множества и мобильности породили новый, многочисленный и стремительно растущий средний класс, представители которого прекрасно осведомлены о том, что у других больше средств, свободы или возможностей для самореализации, чем у них, и, разумеется, надеются с ними сравняться. Эта “революция ожиданий” и порожденное ею непонимание – глобальная тенденция, которая влияет как на бедные, так и на богатые государства. Можно сказать, что в наши дни бо́льшая часть населения Земли живет в так называемых “быстро меняющихся обществах”. А разница вот в чем: если в большинстве развивающихся стран средний класс растет, то в большинстве благополучных сокращается, причем в обоих случаях этот процесс (и сокращение, и развитие) стимулирует политические волнения. Решительно настроенные представители среднего класса из процветающих государств выходят на улицы и борются за то, чтобы защитить свой уровень жизни, в то время как средний класс в развивающихся странах устраивает акции протеста, чтобы товаров и услуг стало больше, а их качество лучше. Например, в Чили студенты бунтуют практически без перерыва с 2009 года, требуя, чтобы обучение в университетах стало дешевле и качественнее. И неважно, что несколько десятков лет назад университетское образование было привилегией горстки элиты и что в университетах сейчас учатся сыновья и дочери представителей нового среднего класса. Одной лишь возможности учиться в университете студентам и их родителям уже недостаточно. Они хотят, чтобы образование было доступнее и лучше. Причем уже сейчас. То же самое происходит и в Китае: повсеместно идут протесты против низкого качества новых домов, больниц и школ. И аргумент, что несколько лет назад этих домов, больниц и школ вообще не существовало, не уменьшает негодования тех, кто добивается повышения качества услуг в сфере медицины и образования. Это новое мировоззрение – изменение ментальности – оказывает глубочайшее воздействие на власть.
Произошел существенный сдвиг в ожиданиях и нормах, причем не только в либеральных обществах, но и в самых что ни на есть косных. Большинство людей смотрит на мир, своих соседей, работодателей, священнослужителей, политиков и правительства совсем другими глазами, чем некогда их родители. В каком-то смысле так было всегда. Но влияние революций множества и мобильности во много раз усилило когнитивное и даже эмоциональное воздействие доступности ресурсов и возможности перемещаться, учиться, общаться и устанавливать связи проще и дешевле, чем раньше. Разумеется, это расширяет пропасть в ментальности и взглядах на мир между поколениями.
Как это происходит?
Возьмем, например, разводы: во многих традиционных сообществах их порицают, но в наши дни они тем не менее становятся все более привычным делом. Проведенное в 2010 году исследование показало, что количество разводов выросло даже в консервативных государствах Персидского залива, до 20 % в Саудовской Аравии, 26 % в ОАЭ и 37 % в Кувейте. И этот показатель напрямую связан с образованием. Все больше женщин, получивших образование, недовольны традиционными браками, это приводит к разногласиям между супругами и быстрым разводам по инициативе мужей. В Кувейте количество разводов в тех случаях, когда оба супруга имеют высшее образование, составило 47 %. “Раньше женщины шли на социальные жертвы, – заметила Мона Аль-Мунаджид, социолог и автор исследований из Саудовской Аравии, сравнивая общество стран Персидского залива тридцать лет назад и сейчас, – но больше они не готовы с этим мириться”{86}.
Не только в мусульманском мире можно найти множество примеров того, как революция ментальности меняет давние традиции, начиная от расцвета индустрии моды и красоты для женщин, которые носят хиджаб, и заканчивая распространением беспроцентных банковских операций в западных странах, где сформировались крупные сообщества иммигрантов-мусульман. Между тем в Индии изменение отношения к разводам распространяется от молодого поколения к старшим: в стране, где некогда развод считался позором (а женщинам и вовсе не рекомендовалось повторно выходить замуж), возникла и с каждым годом набирает обороты индустрия брачной рекламы: пожилые люди, состоящие в разводе (некоторым даже по 80–90 лет), публикуют объявления в газетах и спокойно ищут новых спутников жизни. Люди зрелого возраста разрывают договорные браки, на которые их вынудили согласиться, когда они были еще совсем юными. Став взрослыми, они бунтуют против запрограмированной власти семьи, общины, социума и религии. Их менталитет изменился.
У молодежи (которая в наши дни более многочисленна, чем когда-либо) также меняются отношение к власти и менталитет. По данным Национального совета по разведке США, “…более чем в 80 государствах средний возраст населения 25 и менее лет. В совокупности эти страны оказывают огромное воздействие на мировую политику: начиная с 1970-х годов около 80 % всех вооруженных гражданских и этнических конфликтов. происходили в государствах с преимущественно молодым населением. «Демографическая дуга нестабильности», намеченная этой молодежью, идет от Центральной Америки и Центральных Анд, включает всю Африку к югу от Сахары и тянется через Ближний Восток в Южную и Среднюю Азию”{87}.
Революции множества и мобильности усилили склонность молодежи ставить под сомнение авторитеты и бросать вызов власти. Сейчас не просто больше, чем когда-либо, людей в возрасте до 30 лет: у них всего больше. У них появились предоплаченные телефонные карты, радио, телевидение, мобильные телефоны, компьютеры, доступ в интернет, возможность путешествовать и общаться со сверстниками как на родине, так и во всем мире. Молодежь стала мобильнее. В нескольких индустриально развитых странах стареющее послевоенное поколение, родившееся в эпоху демографического взрыва, довольно многочисленно, однако в остальных странах крупнейшую демографическую группу составляет именно молодежь – дерзкая, жаждущая перемен, непокорная, более образованная и информированная, мобильная, общительная. И как мы заметили на примере стран Северной Африки и Ближнего Востока, влияние ее существенно.
В некоторых развитых обществах эту картину усложняют сопутствующие демографические тенденции, связанные с иммиграцией. В 2010 году перепись населения США показала, что число жителей Америки в возрасте до 18 лет за последние 10 лет снизилось бы, если бы не приток миллионов молодых иммигрантов из стран Азии и Латинской Америки. Именно этим юным иммигрантам США обязаны беспрецедентным фактом: в 2012 году среди новорожденных белые младенцы оказались в меньшинстве{88}. По словам Уильяма Фрея, демографа из Института Брукингса, поскольку в XX веке доля иммигрантов от общего количества населения США была наименьшей в период между 1946 и 1964 годами,
…поколению беби-бума практически не приходилось общаться с людьми из других стран. В наши дни иммигранты составляют 13 % населения, причем среди них встречаются представители самых разных национальностей и религий. Это породило изоляцию, которая не прекращается. Среди американцев старше 50 лет 76 % белых, а черных 10 %, и это самое многочисленное меньшинство. Среди тех, кому меньше 30 лет, белых 55 %. Выходцы из стран Латинской Америки, Азии и прочие цветные (но не черные) меньшинства составляют 31 % в этой возрастной группе. Среди молодежи значительно больше американцев в первом и втором поколении, неевропейского происхождения, знающих как английский, так и другие языки{89}.
Короче говоря, люди старшего возраста не только не понимают новой ситуации, но даже не могут толком высказаться по этому поводу. Однако тем, кто хочет получить, удержать и использовать власть в Соединенных Штатах и Европе, необходимо понимать умонастроения и надежды этих новых групп населения.
Международные исследования общественного мнения дают более ясную картину степени и скорости подобных изменений в отношении. Начиная с 1990 года в “Исследовании жизненных ценностей населения” (WVS) отслеживаются перемены в жизненных позициях людей более чем в 80 странах, где живет 85 % населения планеты. В частности, Рональд Инглхарт, руководитель Лаборатории сравнительных исследований, и несколько его соавторов, в том числе Пиппа Норрис и Кристиан Уэлзел, зафиксировали существенные изменения в отношении к гендерным различиям, религии, правительству и глобализации. Эти данные позволили сделать вывод о растущем глобальном консенсусе о важности автономии личности, равенства полов и нетерпимости к авторитаризму{90}.
Однако немалое число исследований демонстрирует не менее важную, но куда более тревожную мировоззренческую тенденцию: в странах с развитыми демократическими традициями (в Европе, США, Японии) общественное доверие к лидерам и инструментам демократического управления, таким как политические партии, парламенты и органы юстиции, не просто невысоко, но и продолжает падать{91}.
Размышляя об этой тенденции, Джессика Мэтьюз, президент Фонда Карнеги за международный мир, отметила:
Американская группа исследователей выборов в федеральные органы власти примерно раз в два года начиная с 1958 года задавала один и тот же вопрос: “Верите ли вы, что федеральное правительство всегда или в большинстве случаев принимает правильные решения?” До середины 1960-х годов 75 % американцев отвечали “да”. В последующие 15 лет эта уверенность постепенно снижалась, так что к 1980 году “да” отвечали только 25 %. В промежутке, разумеется, были война во Вьетнаме, два убийства по политическим мотивам, Уотергейт, почти объявленный импичмент президенту, эмбарго на поставки нефти из арабских стран. Так что у людей было много причин для недоверия и даже неприятия политики власти. Но самое важное, что доверие так и не вернулось. В последние три десятилетия степень одобрения действий правительства колеблется между 20 и 35 %. Процент доверия снизился более чем наполовину примерно в 1972 году. Это значит, что все, кому еще нет сорока, всю жизнь живут в стране, где большинство населения не верит в правильность решений правительства. И за четыре десятилетия ни одна из существенных перемен в руководстве или в идеологии, за которые голосовали американцы, не оказалась способна на это повлиять. Подумайте, как влияет на нормальное функционирование демократии тот факт, что от двух третей до трех четвертей населения не верит, что правительство в большинстве случаев поступает правильно{92}.
Эту разительную перемену подтверждают и данные Института Гэллапа, который проводит исследования общественного мнения начиная с 1936 года. Так, специалисты выяснили, что в США снижается общественная поддержка профсоюзов, а также доверие к Конгрессу, политическим партиям, крупным компаниям, банкам, газетам, теленовостям и многим другим фундаментальным институтам (военные силы – единственные из немногих, кто сохраняет доверие и поддержку американцев){93}. Даже Верховный суд США, организация, долгое время пользовавшаяся уважением граждан, столкнулся с резким снижением общественной поддержки – с почти 70 % по опросам в 1986 году до 40 % в 2012-м{94}.
Поэтому неудивительно, что снижение доверия правительству и прочим институтам, как подтверждают данные, собранные Центром исследований международного общественного мнения Пью, это процесс, который происходит не только в Америке{95}. В книге “Гражданская критика” (Critical Citizens) исследователь Пиппа Норрис из Гарварда и эксперты из разных стран пришли к заключению, что неудовлетворенность политической системой и ключевыми органами правительства – мировая тенденция{96}. Экономический кризис, разразившийся в 2008 году в Соединенных Штатах и охвативший Европу, лишь усугубил негативное отношение к власть имущим, которых общество винило в кризисе, – правительству, банкам и так далее{97}.
Разумеется, ни одно из этих исследований не является исчерпывающим, но, по крайней мере, они демонстрируют, как вслед за политическими и индивидуальными переменами в жизни людей (а иногда и опережая их) меняются ценности и отношение к ним.
Революция ментальности подразумевает глубокие изменения ценностей, стандартов и норм. Она отражает растущую важность прав собственности и открытости деятельности государственных органов для общественности, а также справедливости, будь то отношение к женщинам, к этническим и прочим меньшинствам и даже к миноритарным акционерам корпораций. У большинства этих стандартов и норм глубокие философские корни. Но показательно, что они пусть и неравномерно, но распространены в наши дни. За изменениями ментальности стоят демографические перемены и политические реформы, рост демократии и благосостояния, рост грамотности и доступности образования и стремительное развитие коммуникаций и СМИ.
Глобализация, урбанизация, изменение структуры семьи, появление новых отраслей промышленности и новых возможностей, распространение английского в качестве языка межнационального общения – все это повлияло на все сферы жизни, но серьезнее всего – на отношение к ним. Наглядное проявление этих перемен – растущее значение устремлений в качестве движущей силы наших действий и поведения. Человеку свойственно желать лучшей жизни, но именно стремление к определенным образцам и представлениям о том, в чем именно жизнь может быть лучше, а не к абстрактному понятию об улучшении, побуждает людей действовать. Экономисты доказали, что такова причина эмиграции: люди эмигрируют не из-за абсолютной, а из-за относительной депривации, не потому что они бедны, но потому что уверены, что может быть и лучше. Чем больше мы общаемся друг с другом, тем больше расширяются наши представления о мире.
Воздействие революции ментальности на власть многогранно и сложно. Комбинация нарождающихся глобальных ценностей и роста амбиций бросает самый серьезный вызов моральной основе власти. Она способствует распространению представлений о том, что перемены возможны и всегда можно что-то сделать лучше. Она рождает скептицизм и сомнение в любых авторитетах, а также нежелание принимать какие бы то ни было проявления власти как данность.
Одним из лучших примеров совокупного влияния всех трех революций служит индийская сфера аутсорсинга. Молодые образованные индийцы, принадлежащие к растущему среднему классу, стремятся работать в городских колл-центрах и прочих компаниях, предоставляющих услуги по осуществлению бизнес-процессов на стороне. Совокупный доход этих фирм в 2011 году составил 59 миллиардов долларов; всего же на них работает (как напрямую, так и через посредников) почти 10 миллионов индийцев{98}. Как заметил Шехзад Надим в книге “Один к одному”, исследовании влияния индийских колл-центров на сотрудников: “Личности и устремления работников сферы коммуникаций и информационных технологий определяются с учетом западных образцов… Сотрудники решительно отказываются от старых ценностей: они создают образ Запада, который в Индии является символом современности и прогресса”{99}. Уровень зарплат в отрасли относительно высок, однако молодые индийцы неизбежно сталкиваются с противоречием: с одной стороны, стремятся добиться успеха в социально-экономическом контексте Индии, с другой – заменяют собственную культурную самобытность чужим языком и чужими именами и сталкиваются с плохим отношением и эксплуатацией со стороны состоятельных клиентов с другого континента.
Молодым индианкам такая работа обеспечивает возможности и экономические преимущества, которых они в противном случае не нашли бы: это приводит к устойчивым изменениям в поведении, трансформирующим культурные нормы. Пусть вас не вводят в заблуждение статьи в желтой прессе, где колл-центры описывают как “часть Индии, где свобода не знает границ, любовь – забава, а секс – вид досуга”. Куда ближе к истине данные исследования Ассоциации торгово-промышленных палат Индии: молодые работающие замужние женщины в индийских городах не торопятся рожать детей, предпочитая заниматься карьерой{100}.
Последствия революций: разрушение барьеров власти
Многие события заставляют предположить, что все не так уж изменилось, что микровласть – это скорее аномалия, а большая власть может и будет всем заправлять. И если в Египте или в Тунисе скинули диктаторов, то органы власти по-прежнему пользуются влиянием. Разве репрессивные меры правительств Китая, Ирана и России, консолидация крупных банков и модель расширения государственной власти, операции по спасению фирм от банкротства и даже национализация больших компаний во многих процветающих и развивающихся странах не демонстрируют, что в конце концов власть следует прежним правилам? Инвестиционный банк Goldman Sachs, армия США, Коммунистическая партия Китая и католическая церковь никуда не делись. Они по-прежнему диктуют свою волю самыми разными способами.
И даже если некоторые гиганты пали, те, кто пришел им на смену, следуют тем же принципам организации и демонстрируют такую же склонность к расширению и консолидации. Имеет ли в таком случае значение, что крупнейшая в мире сталелитейная компания уже не U. S. Steel и не один из европейских гигантов, а ответвление индийской фирмы, некогда бывшей аутсайдером, если ей удалось получить активы, персонал и клиентов давних конкурентов? Справедливо ли утверждать, что появление новых гигантов, работа в которых выстроена точно так же, как в старых, особенно если речь идет о бизнесе, это всего лишь часть обычного для капитализма процесса?
Ответ на оба вопроса – и да и нет. Тенденции, которые мы наблюдаем, можно истолковать – или же просто отвернуться от них – как проявление того, что экономист Йозеф Шумпетер (а до него Карл Маркс) назвал “созидательным разрушением”. Шумпетер писал: “Открытие новых рынков, внутренних или внешних, и совершенствование организационной структуры – от мастерской ремесленника и фабрики к таким концернам, как U. S. Steel, отображает тот же процесс индустриальной трансформации… который непрестанно меняет структуру экономики изнутри, уничтожая старую и создавая новую. Этот процесс созидательного разрушения – основа капитализма. Это то, что составляет суть капитализма, то, с чем каждое капиталистическое предприятие вынуждено мириться”{101}.
Перемены во власти, которые мы наблюдаем (к ним относятся как взлеты и падения коммерческих предприятий, так и многое другое), подтверждают выводы Шумпетера, которые также согласуются с взглядами Клейтона Кристенсена, преподавателя Гарвардской школы бизнеса, введшего в обращение термин “подрывные инновации”, то есть изменения в сфере технологий, товаров или услуг, которые на основе инновационного подхода создают новый рынок. Эффекты подрывных инноваций постепенно распространяются на другие сопутствующие или аналогичные рынки и разрушают их. Хорошим примером может послужить планшет iPad. Или ситуация, когда вы с помощью мобильного телефона оплачиваете покупки или переводите деньги дочери, которая живет на другом континенте.
Шумпетер уделял основное внимание движущим силам перемен внутри капиталистической системы в целом, Кристенсен анализировал конкретные рынки, моя же цель – показать, что те же самые силы стоят за многими людскими начинаниями. И в этой главе я старался объяснить, что революции множества, мобильности и ментальности демонстрируют перемены куда большего размаха и масштаба.
Каждая из трех революций бросает вызов традиционной модели власти. Согласно этой модели крупные, централизованные, скоординированные современные организации, которые располагают огромными ресурсами, специальными активами или способны применить сокрушительную силу, это лучшее средство для достижения и сохранения власти. В течение веков эта модель оказывалась оптимальной не только для принуждения, но и для применения власти более тонкими способами.
Как мы отметили во второй главе, власть действует посредством четырех каналов: силы или принуждения, которые позволяют заставить людей делать то, что они сами не стали бы делать; свода норм и правил, то есть морального долга; рекламы, то есть убеждения; и вознаграждения, то есть соблазна. Два из этих каналов, сила и вознаграждение, меняют побудительные причины и ситуацию, чтобы заставить людей поступать определенным образом, а два других, реклама и свод норм и правил, меняют отношение к ситуации, не меняя при этом побудительных причин. Чтобы сила, свод норм и правил, реклама и вознаграждение сработали, необходимы барьеры власти. А революции множества, мобильности и ментальности эти барьеры подрывают. В таблице 4.1 представлено краткое изложение наших умозаключений.
Таблица 4.1. Власть и три революции
Как видно из таблицы, три революции создают трудности для власти посредством всех четырех каналов – силы, свода норм и правил, рекламы и вознаграждения. Принуждение, разумеется, самая грубая разновидность применения силы, будь то посредством законов, армий, правительства или монополий. Но по мере развития трех революций организациям, которые полагаются на принуждение, оказывается все труднее и дороже даже просто сохранять контроль в своей сфере и охранять границы.
Хорошим примером служит неспособность Соединенных Штатов и Европейского союза пресечь нелегальную иммиграцию и незаконную торговлю. Стены, заборы, пограничный контроль, биометрические паспорта, пенитенциарные учреждения, рейды полиции, рассмотрение заявлений на получение убежища, депортации – все это лишь часть предупредительных и репрессивных мер, которые по факту оказываются чересчур затратными, а то и вовсе бесполезными. Взять хотя бы провалившуюся попытку США ограничить приток наркотиков из Латинской Америки, несмотря на длительную и чрезвычайно дорогостоящую программу по борьбе с наркотиками.
Более того, возросшее благосостояние вместе с распространением глобальных ценностей дает людям возможность, желание и средства ставить под сомнение непререкаемые авторитеты. Гражданские свободы, права человека и экономическая прозрачность ценятся все больше, и появляется все больше адвокатов, экспертов, сторонников и платформ для продвижения этих ценностей. Я не утверждаю, что принуждение отныне невозможно: я лишь хочу сказать, что теперь оно обходится дороже и в долгосрочной перспективе его труднее поддерживать.
Власть, которую применяют посредством свода норм и правил, по мере развития трех революций также сталкивается с трудностями. Долгое время власть имущие опирались на традиции и религию, чтобы обеспечить нравственный порядок и объяснить мир. Действительно, когда люди жили недолго, в нищете и болезнях, традиции, которые закладывались в семье или сплоченной общине, помогали справиться с трудностями, примиряли с суровой действительностью, обеспечивали поддержку. Но по мере улучшения материального положения люди получали доступ к большему числу возможностей, а следовательно, все меньше зависели от унаследованных систем взглядов и готовы были пробовать что-то новое.
В периоды интенсивных материальных и поведенческих перемен обращение к традиции или моральному долгу оказывается менее эффективным, если не отвечает меняющимся условиям жизни. В качестве наглядного и поучительного примера можно привести кризис в католической церкви, которой все труднее находить священников, готовых выдержать обет безбрачия, или соперничать с маленькими евангелическими церквями, которые приспосабливают вероучение к культуре и насущным потребностям местных общин.
Власть также действует посредством убеждения – например, через торговое предложение, сформулированное в рекламной кампании или в рекламе агентства недвижимости, – и поощрения, то есть вознаграждения избирателей, сотрудников и прочих заинтересованных лиц посредством компенсаций, которые обеспечивают их участие и согласие. Три революции также меняют положение дел для рекламы и вознаграждения.
Представьте себе политического кандидата или партию, которая пытается обеспечить себе голоса избирателей на предстоящих выборах посредством информационных сообщений, рекламы и обещания вознаграждения в форме услуг и рабочих мест. Революция множества порождает круг избирателей, которые лучше информированы и образованы, а следовательно, менее склонны пассивно принимать решения правительства, внимательно следят за действиями властей, активно добиваются перемен и отстаивают свои права. Благодаря революции мобильности демографический состав электората становится более разнородным, разрозненным и нестабильным. В некоторых случаях даже возникают новые заинтересованные стороны, способные повлиять на дебаты и избирателей из дальних мест – например, из другой страны. Революция ментальности порождает рост скептицизма по отношению к политической системе в целом.
С похожей дилеммой сталкиваются работодатели, рекламодатели и все, кто хочет получить поддержку или повысить продажи в сообществах, где интересы и предпочтения разрозненны и с каждым днем все более разнородны. Куда проще придумать, с помощью каких преимуществ можно заслужить одобрение маленькой группы, нежели широких слоев населения. Чем сильнее сокращается преимущество размеров и масштабов, тем больше от этого выигрывают нишевые рынки и узкоспециализированные политические кампании. В результате рыночные силы и действия более мелких конкурентов вынуждают крупные корпорации брать на себя роль нишевых игроков, что не всегда оказывается просто для организаций, которые привыкли рассчитывать на безусловную силу своих огромных масштабов.
Падение барьеров: возможности для микровласти
В следующих главах мы рассмотрим эти положения на примерах из практики. Причина, по которой о власти рассуждать не так-то просто (кроме как в общем философском смысле), в том, что мы представляем себе динамику власти по-разному в зависимости от того, идет ли речь о военном конфликте, конкуренции в бизнесе, международной дипломатии, отношениях мужа и жены, отца и сына или о чем-то еще. Однако изменения, вызванные тремя революциями, влияют на все сферы жизни и не исчерпываются текущими тенденциями. В наши дни они куда глубже вплетены в уклад и ожидания общества, нежели несколько лет или десятилетий тому назад, и влияют на общепринятые мнения о том, что нужно для того, чтобы добиться власти, удержать и использовать ее. В следующих главах книги мы постараемся ответить на вопрос, как развивается эта ситуация и как на нее реагируют главные игроки, ставшие лидерами еще в XX веке.
Разумеется, большая власть вовсе не отжила свое: давние крупные игроки сопротивляются, а во многих случаях и выигрывают. Диктаторы, плутократы, гигантские корпорации, лидеры основных религий по-прежнему играют важную роль и определяют жизнь миллиардов людей. Однако теперь крупные игроки куда более ограничены в своих действиях, чем в прошлом, а власть их не так защищена. В следующих главах мы покажем, как микровласть ограничивает возможности крупнейших игроков, а в некоторых случаях и вовсе вынуждает их отступить или отказаться от власти, как во время “арабской весны”.
Революции множества, мобильности и ментальности разрушают модель организации, которую Макс Вебер и его последователи так убедительно отстаивали в социологии, экономике и прочих сферах знания, причем разрушают ее именно в тех аспектах, которые делали ее сильной. Крупные организации оказывались более эффективными, поскольку благодаря своему масштабу могли минимизировать издержки, однако сегодня стоимость контроля и поддержания порядка растет. Крупные организации были более эффективными, поскольку они концентрировали и накапливали дефицитные ресурсы; сегодня такие ресурсы, как предметы потребления, информация, человеческие способности и клиентура, проще получать и обслуживать как на близком, так и далеком расстоянии. Раньше крупные организации могли похвастаться авторитетом, актуальностью, искушенностью, сейчас же главные роли играют новички, которые бросают вызов большой власти. По мере того как сокращаются преимущества масштабной, целесообразной, скоординированной и централизованной модели организации, растут возможности микровласти добиться успеха с помощью совершенно иной модели.
Но до какой степени власть приходит в упадок? И каковы последствия этого упадка? В следующих главах мы обратимся к особенностям того, как этот процесс проявляется во внутренней политике, военных действиях, геополитике, бизнесе и прочих сферах. Какие именно барьеры власти рушатся? Что за новые игроки появились и как власть имущие давали им отпор?
Реорганизация власти после падения барьеров далеко не закончена, однако уже повлекла за собой коренные изменения.
Глава 5 Почему победы на выборах, абсолютное большинство и сильные полномочия оказались под угрозой? Упадок власти в национальной политике
Сущность политики – власть, сущность власти – политика. Начиная с античности классический путь к власти пролегал через политику. Власть для политиков – все равно что солнечный свет для растений. Политики по-разному распоряжаются властью, однако тяга к ней – их общая черта. Как писал почти столетие назад Макс Вебер: “Тот, кто деятельно занимается политикой, стремится к власти либо как к средству для других целей, идеалистических или же эгоистических, либо к «власти ради власти», то есть чтобы наслаждаться ощущением престижа, которое она дает{102}.
Однако это “ощущение престижа” – чувство хрупкое. А в наши дни – еще и преходящее. Возьмем, например, американскую политику последнего десятилетия, которое политолог Рон Браунштейн назвал “эпохой нестабильности”. В 2002 и 2004 годах избиратели передали республиканцам управление Конгрессом и Белым домом, а в 2006 и 2008-м – отобрали, лишь затем, чтобы в 2010 и 2012-м снова вручить им бразды правления палатой представителей. До этого на пяти выборах с 1996 по 2004 год одной политической партии удавалось получить в нижней палате максимум девять мест; в 2006-м республиканцы потеряли тридцать мест, в 2008-м демократы получили двадцать одно место, а в 2010 году они же потеряли шестьдесят три. Американских избирателей, зарегистрированных в качестве независимых, регулярно больше, чем тех, кто поддерживает республиканцев и демократов{103}. В 2012 году стало очевидно, что представители испаноязычного населения играют важную роль.
И это не только американский феномен. Основа политической власти повсеместно становится все более шаткой, и большинство голосов уже не гарантирует возможности принимать решения, поскольку множество представителей “микровласти” могут налагать на них вето или откладывать их. Власть утекает от диктаторов и однопартийных систем вне зависимости от того, поддерживают они реформы или нет. Власть распространяется от крупных авторитетных политических партий к мелким, узкоспециализированным или с ограниченным особым электоратом. Партийные лидеры, которые принимают решения, выбирают кандидатов и разрабатывают за закрытыми дверями политическую платформу, уступают бунтарям и аутсайдерам – новым политикам, которые продвинулись по карьерной лестнице не за счет партийной машины и никогда не присягали ей на верность. Новый путь к власти прокладывают те, кто никогда не состоял ни в какой партии, и те, кто обладает харизмой: одни с помощью состоятельных сторонников, не принадлежащих к классу политиков, другие – на волне поддержки, которую обеспечивают новые средства мобилизации и обмена сообщениями, причем участие партии для этого совершенно не требуется.
Однако политики, какими бы путями они ни попали в правительство, обнаруживают, что срок их службы сокращается, а возможность формировать политику уменьшается. Политика всегда была искусством компромисса, но сейчас она в тупике, так что иногда кажется, будто политика – это искусство не делать вообще ничего. Все чаще встречаются препятствия на всех уровнях принятия решений в политической системе, причем во всех сферах управления и в большинстве стран. Коалиции терпят крах, выборы проводятся все чаще, а “полномочия” оказываются все более расплывчатыми. Децентрализация и переход власти приводят к появлению новых законодательных и исполнительных органов. В свою очередь, из этих более сильных муниципалитетов и региональных ассамблей выходит все больше политиков и выборных или назначенных должностных лиц, которые отбирают часть власти у ведущих столичных политиков. Свою лепту в этот процесс вносят даже судебные органы: судьи все с большим рвением берутся за дела в отношении политических лидеров, препятствуют или дают обратный ход их решениям, привлекают их к расследованиям, касающимся коррупции, и все это мешает политикам заниматься их основной деятельностью. Победа на выборах по-прежнему остается одним из самых значимых и радостных событий, но пользы от нее все меньше. Даже пост главы авторитарного правительства уже не обеспечивает прежней безопасности и власти. Профессор Минсин Пей, один из ведущих мировых специалистов по Китаю, рассказывал мне: “Члены Политбюро теперь открыто рассуждают о старых добрых временах, когда их предшественникам в руководстве Коммунистической партии Китая не приходилось тревожиться из-за блогеров, хакеров, международных преступников, непокорных местных лидеров или активистов, которые каждый год организуют 180 тысяч публичных протестов. У вождей прошлого хватало власти справиться с любыми соперниками. Нынешние лидеры пользуются влиянием, но уже не таким, как их предшественники несколько десятков лет назад, и их власть постоянно уменьшается”{104}.
Что ж, сильные утверждения. Однако разнообразие мировых политических систем по-прежнему поражает воображение. Существуют централизованные, федеральные системы и множество промежуточных вариантов, а некоторые страны являются частью наднациональной политической системы, такой как Европейский союз. В государствах с диктаторскими режимами однопартийная система, хотя формально, пусть и для вида, она многопартийная или внепартийная, диктатуры бывают военные, традиционные, при поддержке этнического или религиозного большинства или меньшинства и так далее. В демократиях все еще разнообразнее. Президентская и парламентская системы делятся на многочисленные подразделения, которые проводят выборы в соответствии с различными планами, включают в себя меньшее или большее количество партий и подчиняются сложным законам, регулирующим совместную работу, представление интересов, финансирование выборов, систему сдержек и противовесов и многое другое. Уклад и традиции политической жизни варьируются в зависимости от региона, даже уважение к политическим деятелям и степень привлекательности политической карьеры зависит от множества меняющихся факторов. Поэтому как можно обобщать и говорить, что политика дезинтегрируется, что политическая власть повсеместно сталкивается с ограничениями и становится все более эфемерной?
Взять хотя бы ответы самих политиков. Каждый политик или глава государства, с которым я беседовал, перечислял силы, которые ограничивают возможности управления: это не только фракции в составе партий и правящих коалиций или несговорчивые законодатели и все более независимые судьи, но и настойчивые владельцы облигаций и прочие представители мировых рынков капитала, международные регулирующие органы и финансовые организации, журналисты, занимающиеся независимыми расследованиями, инициаторы кампаний в социальных сетях и растущее число активистов. Лена Хьельм-Валлен, бывший заместитель премьер-министра Швеции, министр иностранных дел и министр образования, которая на протяжении многих лет была и остается одним из ведущих шведских политиков, рассказывала мне: “Не перестаю удивляться, как сильно и как быстро изменилась политическая власть. В 1970-е и 1980-е мы смогли сделать много такого, что сейчас практически невозможно представить, учитывая множество новых факторов, которые сокращают и замедляют способность правительств и политиков действовать”{105}.
Авторитетные политики также сталкиваются с совершенно новыми действующими лицами в коридорах законодательной власти. Так, на выборах 2010 года в Бразилии максимальное количество голосов по всей стране получил клоун – самый настоящий клоун по имени Тиририка, который и во время предвыборной кампании не снимал клоунского костюма. Программа у Тиририки была совершенно аполитичная. “Я понятия не имею, чем занимается представитель в Конгрессе, – сообщал он избирателям в роликах на YouTube, которые набрали миллионы просмотров, – но если вы меня туда пошлете, я вам расскажу”. Еще он объяснял, что его цель – “помочь беднякам по всей стране, но особенно своей семье”{106}.
Макс Вебер считал, что политика – это “призвание”, ремесло, которое осваивают политики и которое требует дисциплины, определенного склада характера и значительных усилий. Но по мере того как традиционный “класс политиков” теряет доверие общественности все в большем количестве стран, успеха все чаще добиваются аутсайдеры вроде Тиририки. В Италии комик Беппе Грилло, который критикует политиков на чем свет стоит, ведет самый популярный блог в стране и собирает стадионы. “Зовите его комиком, клоуном или шоуменом, но Беппе Грилло – самый интересный деятель в итальянской политике”, – писал Беппе Севернини в 2012 году в статье в Financial Times. На муниципальных выборах в том году движение Грилло набрало около 20 % от общего числа голосов, а члены его партии заняли посты мэров нескольких городов{107}. В Канаде Роб Форд, чьи прошлые прегрешения дали его оппонентам повод написать на плакатах в знак протеста: “Пьяницу, который бьет жену, и расиста – в мэры”, – в 2010 году стал мэром Торонто. В Испании Белен Эстебан, скандальная телезвезда, публично открывавшая свои самые интимные тайны, сколотила группу последователей, от которой не отказались бы многие авторитетные политики.
Возникшее в США Движение чаепития[12] (партия, равно далекая как от стихийного движения, так и от любой традиционной политической организации) привлекло кандидатов вроде Кристин О’Доннелл, которая, как утверждают, занимается колдовством и официально выступает против мастурбации (причем это главный пункт ее программы). Даже когда О’Доннелл и ее коллега по Движению чаепития, республиканка из Невады Шаррон Энгл (она как-то заявила, что единственный способ наладить работу Конгресса – это “воспользоваться правом, которое обеспечивает Вторая поправка”, то есть прибегнуть к вооруженному восстанию{108}), проиграли выборы, их победа в праймериз республиканской партии в 2010 году подчеркнула растущую неспособность традиционных партийных лидеров контролировать процесс выдвижения кандидатов. Традиционные лидеры республиканцев не только не смогли ограничить ожесточенное соперничество среди кандидатов на пост президента от партии, но и не сумели на праймериз 2012 года защитить нескольких действующих сенаторов (например, сенатора от Индианы Ричарда Лугара, который занимал этот пост не один год) и взращенных партией кандидатов в сенат (вице-губернатора Техаса Дэвида Дьюхерста) от выскочек из Движения чаепития, которым удалось одержать верх над соперниками.
Политические кумиры все чаще и чаще выходят за рамки не только партий, но и организованной политики в целом. Они накапливают власть и влияние не обязательно для того, чтобы занять политический пост, но чтобы привлечь внимание к тому, за что они выступают. Таков Алексей Навальный, российский адвокат и блогер, который стал одним из лидеров антипутинской оппозиции, такова Тавакуль Карман, мать троих детей, получившая Нобелевскую премию мира за усилия в деле распространения свободы и демократии в Йемене, таков Ваиль Гоним, лидер египетской революции (и, как и Карман, знаковая фигура “арабской весны” в целом), ранее работавший менеджером среднего звена в египетском подразделении компании Google.
Разумеется, какими бы впечатляющими ни были подобные истории, это всего лишь единичные случаи. Чтобы систематизировать метаморфозы власти в политике (в особенности ее упадок), необходимы дополнительные данные и объективные доказательства. В этой главе я постараюсь доказать, что во многих странах (и с каждым годом их все больше) четко выраженные центры власти прошлого прекратили свое существование. Вместо центров теперь множество различных игроков, каждый из которых обладает властью влиять на политические результаты и действия правительства, однако ни у кого из них нет власти единолично их определять. Может показаться, что это и есть здоровая демократия и система сдержек и противовесов. В каком-то смысле это так. Однако во многих странах раздробленность политической системы порождает ситуацию, при которой невозможность принять окончательное решение, и стремление обходиться полумерами негативно сказывается на качестве государственной политики и способности правительства соответствовать ожиданиям избирателей или решать наболевшие вопросы.
От империй к федерациям: революция множества и рост числа государств
Может ли одна-единственная дата или одно событие изменить историю? Джавахарлал Неру, первый премьер-министр Индии, назвал это “свиданием с судьбой”. И действительно, бой часов в полночь на 15 августа 1947 года ознаменовал не просто начало эры политической свободы для Индии и Пакистана. Он запустил волну деколонизации, которая изменила мировой порядок – от империй к почти двумстам отдельным суверенным государствам. Он определил новый контекст, в котором отныне функционировала политическая власть, – условия, которых мир не знал со времен средневековых княжеств и городов-государств и которые, разумеется, прежде никогда не встречались в подобном масштабе. Если мировая политика в наши дни дробится на части, то в первую очередь потому, что в мире так много стран и каждая из них обладает малой толикой власти. Распад империй на отдельные государства, существование которых мы ныне принимаем как должное, представляет собой первую ступень политического каскада.
До 15 августа 1947 года в мире насчитывалось 67 суверенных государств{109}. Двумя годами ранее была основана ООН, в которую изначально входила 51 страна (см. рис. 5.1). После Индии деколонизация распространилась по Азии, достигла Бирмы, Индонезии и Малайзии, после чего со всей мощью обрушилась на Африку. За пять лет с тех пор, как в 1957 году Гана обрела независимость, свободу получили еще две дюжины африканских стран, которые ранее были британскими и французскими колониями. До начала 1980-х годов почти каждый год по крайней мере одна новая страна в Африке, в Карибском или Тихоокеанском регионе становилась независимой.
Колониальные империи исчезли, однако советская империя (как формальная структура СССР, так и фактическая империя Восточного блока) никуда не делась. Разумеется, вскоре это изменилось благодаря другому “свиданию с судьбой”. 9 ноября 1989 года рухнула Берлинская стена, запустив тем самым распад Советского Союза, Чехословакии и Югославии. За какие-нибудь четыре года, с 1990 до 1994-го, к ООН присоединились 25 новых членов. С тех пор процесс замедлился, но не остановился.
В 2002 году в ООН вступил Восточный Тимор, в 2006-м – Черногория. 9 июля 2011 года самым молодым суверенным государством в мире стал Южный Судан.
Рис. 5.1. С 1945 года количество суверенных государств увеличилось в 4 раза
Источник: по материалам Growth in United Nations Membership, 1945-Present, .
Человеку XXI века подобная череда событий покажется знакомой. Однако изменения, которые мы пережили в течение всего двух-трех поколений, не имеют прецедента. Революция множества, которую мы рассматривали в предыдущей главе, привела к росту числа отдельных государств с собственными столицами, правительствами, валютами, армиями, парламентами и прочими институтами. Этот рост, в свою очередь, сократил расстояние между простыми людьми и тем географическим местом, где расположены органы управления. Решения, которые влияют на жизнь индийцев, теперь принимают не в Лондоне, а в Нью-Дели. Центр власти в Польше – Варшава, а не Москва.
Эта перемена проста, но очень существенна. Столицы теперь находятся в пределах досягаемости, и революция мобильности с ее более доступными и дешевыми путешествиями и более быстрой передачей информации упрощает взаимодействие между правительством и теми, кем оно управляет. Однако возникли и новые политические роли, стало больше выборных объединений и государственных должностей. Политическая деятельность перестала быть чем-то недоступным, а круг лидеров – клубом для избранных. Учитывая, что суверенных государств за последние полвека стало в четыре раза больше, многие барьеры для доступа к значимым постам стали не такими пугающими, как прежде. Не следует приуменьшать масштаб перемен, порожденных первым каскадом власти, лишь потому, что они кажутся нам такими привычными. Но следующий уровень этого каскада, растущая раздробленность и ослабление политики во всех этих суверенных государствах, таит другие неожиданности.
От деспотов к демократам
Во время так называемой “революции гвоздик” солдаты, запрудившие улицы Лиссабона, вставляли в стволы винтовок цветы, чтобы убедить население в своих мирных намерениях. Офицеры, 25 апреля 1974 года свергшие правительство Антонио Салазара (который скончался еще в 1970 году), сдержали слово. Положив конец почти полувековой диктатуре, на следующий же год они провели выборы, после которых в Португалии установилась демократия.
Однако “революция гвоздик” повлияла не только на Португалию. Расцвет демократии начался в основных странах Средиземноморского бассейна, которые ранее из-за послевоенных диктаторских режимов отставали в плане социального и экономического развития от остальных государств Западной Европы. Спустя три месяца после восстания в Лиссабоне пала хунта черных полковников, правившая Грецией. В ноябре 1975 года умер Франсиско Франко, и Испания тоже стала демократическим государством. Между 1981 и 1986 годами все эти три государства вошли в Европейское экономическое сообщество.
Волна распространялась. В 1983 году в Аргентине, в 1985-м в Бразилии, в 1989-м в Чили: во всех этих трех государствах закончился длительный и трудный период военной диктатуры. К тому времени, когда развалился Советский Союз, в Южной Корее, на Филиппинах, на Тайване и Южной Африке демократические реформы были в самом разгаре. Начиная с 1990 года в странах Африки однопартийные системы сменялись многопартийными. Революция гвоздик запустила процесс, который исследователь Сэмюэл Хантингтон назвал “третьей волной демократизации”. Первая началась в XIX веке с расширением избирательного права и появлением современных демократий в США и Западной Европе, но перед Второй мировой войной из-за распространения тоталитарной идеологии потерпела неудачу. Вторая пошла после Второй мировой войны с восстановлением демократии в Европе, но оказалась недолговечной, поскольку в странах Восточного блока и во многих государствах, недавно обретших независимость, утвердилась однопартийная система. Третья волна демократизации более длительная и масштабная. Демократических стран сейчас больше, чем когда бы то ни было. И что самое интересное, даже в оставшихся авторитарных государствах режимы становятся более мягкими, избирательная система укрепляется, а население осваивает новые формы борьбы, которую диктаторы оказываются не в силах подавить. И пусть местами случаются кризисы и спады, однако общемировая тенденция очевидна: власть утекает из рук автократов, рассредоточивается и быстро заканчивается (см. диаграмму на рис. 5.2).
Рис. 5.2. Рост числа демократий и упадок автократий: 1950–2011
Источник: по материалам Monty G. Marshall, Keith Jaggers, and Ted Robert Gurr, “Political Regime Characteristics and Transitions, 1800–2010”, Polity IV Project, .
Факты подтверждают эту трансформацию. 1977 год стал временем расцвета тоталитарного правления: в мире было 90 автократий. По данным исследований Polity Project, к 2008 году в мире насчитывалось 95 демократий, всего 23 тоталитарных государства и 45 стран с промежуточными режимами правления{110}. Другой авторитетный источник, неправительственная организация “Дом свободы” (Freedom House), оценивала степень демократичности государств на основании того, проводятся ли в них регулярные, своевременные, открытые и честные выборы, даже если недостает некоторых других гражданских и политических свобод (тенденции по разным регионам см. в диаграмме на рис. 5.3). В 2011 году 117 из 193 исследованных стран были признаны выборными демократиями. Сравните с 1989 годом, когда этим требованиям отвечали всего 69 из 167 государств. Иными словами, доля демократий в мире увеличилась более чем вполовину всего за двадцать лет.
Рис. 5.3. Региональные тенденции (Freedom House, 2010 г.)
Источник: по материалам Freedom House. Freedom in the World: Political Rights and Civil Liberties 1910–2008 (2010).
Что же стало причиной столь глобальной перемены? Разумеется, повлияли и местные факторы, однако Хантингтон отметил и воздействие крупных сил. Слабое в экономическом отношении руководство многих авторитарных правительств ухудшило их репутацию. Средний класс набирал силу, требовал роста качества бытового обслуживания, более активного участия в жизни страны и в конечном счете большей политической свободы. Западные правительства и активисты поддерживали инакомыслие и предлагали вознаграждение за реформы – например, членство в НАТО или ЕС или доступ к средствам международных финансовых организаций. Католическая церковь при папе Иоанне Павле II поддерживала оппозицию в Польше, Сальвадоре и на Филиппинах. Успех порождал успех, а новая область влияния и скорость реакции СМИ только стимулировали этот процесс.
Известия о триумфах демократии распространялись от страны к стране, а поскольку население становилось все более образованным и все больше людей получало доступ к средствам массовой информации, разумеется, они стремились последовать примеру зарубежных собратьев. И в современной цифровой культуре этот фактор сработал подобно бомбе. Грамотность и образование, достижения, в которых и заключается революция множества, существенно упростили коммуникацию в международной политике и породили новые политические ожидания: революция ментальности выражается в главных ценностях, таких как свобода и самовыражение, и порождает потребность в том, чтобы политики представляли интересы общественности.
Разумеется, были и исключения – не только страны, где демократия пока не установилась, но и те, в которых пошел обратный процесс. Ларри Даймонд, ведущий исследователь в данной области, называет замедление демократического развития, которое в последние годы переживают такие государства, как Россия, Венесуэла или Бангладеш, “демократической рецессией”. Однако все больше фактов свидетельствуют о том, что общественное мнение поменялось и там. Например, в Латинской Америке, несмотря на бедность и неравенство и постоянные коррупционные скандалы, социологические опросы показывают, что население склонно больше доверять гражданскому правительству, чем военным{111}.
Да и сами автократии уже не пользуются такой неограниченной властью, как раньше. Согласно данным одного исследования демократической системы выборов, Бруней, пожалуй, единственная страна, в которой “тактика предвыборной борьбы так и не пустила сколь-нибудь серьезных корней”{112}. Учитывая, что репрессивных режимов в мире стало гораздо меньше, логично было бы предположить, что там, где они сохраняются, ущемляют свободы и преследуют политических оппонентов. Однако на деле оказывается наоборот. Но почему? Потому что выборы, разумеется, говорят о степени демократичности государства, однако это не единственный показатель политической открытости. Свобода печати, гражданские права, система сдержек и противовесов, которая ограничивает власть какого-то одного органа или лица (в том числе и главы государства), и прочие критерии демонстрируют степень давления правительства на общество. Факты свидетельствуют о том, что в среднем, даже несмотря на сокращение числа авторитарных режимов, растет количество демократических государств, которые в политическом отношении остаются закрытыми. Наиболее существенные перемены к лучшему произошли в начале 1990-х годов, поскольку те же силы, которые подтолкнули многие государства к смене прежнего режима на демократический, оказали мощное либерализующее воздействие и на страны, оставшиеся недемократическими.
Это, конечно, слабое утешение для политических активистов и диссидентов, которых за убеждения сажают в тюрьму. От Каира до Москвы, от Каракаса до Туниса на один шаг вперед приходится масса примеров, которые свидетельствуют об обратном, и поучительных историй, способных охладить пыл сторонников демократии. Противодействие, которое влиятельные правительства оказывают новым демократическим методам и средствам, зачастую становится темой для обсуждения в новостях, и неудивительно, что крупнейшие игроки препятствуют процессам, подрывающим их мощь. Однако на данный момент можно с уверенностью утверждать, что демократия все же распространяется по миру, а следовательно, тенденции, свойственные демократическим государствам, рано или поздно проявятся и в тех странах, в которых демократия пока что не одержала абсолютной победы. Более того, цифры и факты говорят о том, что в самих демократиях, в сложном устройстве их избирательных структур, в парламентских обсуждениях, правящих коалициях, децентрализации и региональных ассамблеях, – упадок власти также набирает скорость.
От большинства к меньшинству
Мы стали чаще голосовать. Гораздо чаще. Это основная тенденция в гражданской жизни за последние пятьдесят лет, по крайней мере для людей из стран с традиционной западной демократией. В 18 государствах, где начиная с 1960 года демократический строй устойчив, в том числе в Соединенных Штатах, Канаде, Японии, Австралии, Новой Зеландии и большинстве стран Западной Европы, между 1960 и 2000 годами избирателей стали все чаще приглашать на выборы. Таким образом, граждане этих государств чаще имеют возможность выбирать или отвергать кандидатов, которые представляют их интересы, равно как и посредством референдумов заявлять о своих предпочтениях в том, что касается общественных интересов или национальных приоритетов. Частота выборов вовсе не означает, что избиратели с большей вероятностью примут в них участие: во многих странах Запада за последние годы увеличилось число неявок. Но у тех, кто все-таки приходит на избирательный участок, намного больше шансов проголосовать, а это значит, что политикам все чаще приходится по-новому завоевывать доверие публики. Постоянное пристальное внимание избирателей и бремя регулярно повторяющейся предвыборной борьбы не только сокращает временные интервалы, в которые выборные чиновники могут принимать решения или определять, на какие проекты потратить время и политический капитал, но и существенно ограничивает их право на самоуправление.
Рис. 5.4. Общее число выборов в год на примере разных стран по всему миру, 1960–2001 гг.
Источник: По материалам Russell Dalton and Mark Gray, “Expanding the Electoral Marketplace”. В: Bruce E. Cain et al., eds., Democracy Transformed? Expanding Political Opportunities in Advanced Industrial Democracies. New York, 2003.
Насколько больше мы стали голосовать? Этим вопросом задались исследователи Расселл Далтон и Марк Грей. За пять лет, с 1960 по 1964 год, в изученных ими странах всенародные выборы проводились 62 раза (см. диаграмму на рис. 5.4). А вот за 5 лет с 1995 по 1999 год – уже 81 раз. Почему так? Причина может быть обусловлена изменениями в правилах выборов, растущей популярностью референдумов или же введением выборов для новых региональных ассамблей, которые создали в некоторых государствах. Члены ЕС проводили регулярные выборы в Европейский парламент (ЕП). Исследователи указывают, что данные охватывают дни, когда проводились выборы, но не количество отдельных выборов, которые проводились в каждый из дней. Так что в действительности тенденция может оказаться куда существеннее, чем это следует из показателей, поскольку в нескольких странах проходят общие комплексные выборы (например, президентские и в органы законодательной власти или муниципальные и законодательные) в единый день голосования.
США, где сложилась традиция раз в два года в ноябре проводить общегосударственные выборы, – исключение из этой тенденции, но не потому что американцы реже голосуют. Двухлетний срок, на который избираются члены палаты представителей, короче, чем в любых других традиционных демократиях. Из-за него американцы голосуют чаще, чем граждане многих других стран{113}.
В целом же тенденция чаще проводить выборы наблюдается на всех уровнях власти во всем мире. Мэтт Голдер, преподаватель Пенсильванского университета, исследовал демократические выборы на пост президента и в органы законодательной власти в 199 странах между 1946 (или тем годом, с которого данное конкретное государство получило независимость) и 2000 годом{114}. Голдер выяснил, что за этот период в 199 странах выборы в избирательные органы в общей сложности проводились 867 раз, а президентские – 294 раза. Другими словами, за эти 54 года (на которые пришлось более десяти лет, когда демократия еще не распространилась настолько широко и не набрала силу, как это случилось потом) в мире в среднем два раза за месяц проводились важные выборы.
По словам Билла Суини, президента Международного фонда избирательных систем (IFES), самой крупной некоммерческой организации, которая обеспечивает техническую поддержку лицам, ответственным за организацию и проведение выборов: “Спрос на наши услуги стремительно растет. Практически повсеместно выборы проводятся все чаще, а значит, увеличивается потребность в системах и технических методах, которые обеспечивают более прозрачные выборы без махинаций”{115}.
Частые выборы – лишь один из примеров того, что в наши дни политические деятели все чаще сталкиваются с тем, что свобода их действий ограничена. Другой – существенное сокращение голосующего большинства. В наши дни бал правит меньшинство. В 2012 году из 34 участников “клуба богатых стран”, Организации экономического сотрудничества и развития, только в четырех правящая партия также имела абсолютное большинство мест в парламенте{116}. На выборах 2009 года в Индии места поделили 35 партий, с 1984 года ни одна из них не получала абсолютное большинство голосов. Вообще абсолютное большинство голосов по всему миру сокращается. В выборных демократиях в послевоенный период партии меньшинства в среднем получали более 50 % мест в парламенте, а в 2008 году – в среднем 55 % мест. Но даже в тех государствах, которые нельзя назвать демократическими, партии меньшинства укрепляют влияние: всего три десятилетия назад им принадлежало менее 10 % мест, а теперь в среднем около 30 %{117}.
Так что когда политики в наши дни претендуют на “мандат”, чаще всего им не на что рассчитывать. Слишком редко встречается чистая победа на выборах, которая оправдывает данную терминологию. Политологи указывают на то, что даже в Соединенных Штатах, где благодаря двухпартийной системе обычно четко понятно, кто победил, а кто проиграл, лишь одни из недавних президентских выборов (перевыборы Рональда Рейгана в 1984 году, когда он одержал победу над Уолтером Мондейлом) завершились тем, что можно назвать “полной победой”. Рейган не только одержал полную победу во всех штатах, кроме одного, и в округе Колумбия, но еще и получил солидную долю реальных голосов – 59 % (результат, который после него не удалось ни повторить, ни превзойти ни одному кандидату в президенты США){118}. В системах с тремя, четырьмя, пятью и более крупными партиями и множеством разрозненных мелких такая победа еще менее вероятна.
Таким образом, высокое искусство управления теперь сильнее зависит от куда более грязного практического навыка: умения сформировать и сохранить коалицию. И политическая игра, без которой не обходится ни одна коалиция, дает мелким партиям больше возможностей требовать определенных политических уступок или министерских постов. В условиях политической разрозненности быть мелкой партией выгодно. Партии, которые находятся на периферии политической деятельности (то есть партии экстремистских взглядов или те, чья работа посвящена какой-то одной определенной проблеме, а также партии, которые представляют интересы одного-единственного региона), могут получить больше власти, не тратя силы на то, чтобы привлечь обычных “умеренных” избирателей. Шовинистическая либертарианская “Лига Севера” в Италии, ультраправая партия министра иностранных дел Израиля Авигдора Либермана, потенциальные сепаратисты из бельгийской Фламандской народной партии и различные коммунистические партии в национальном парламенте и региональных ассамблеях Индии обладают очень большим влиянием в коалициях с другими партнерами, которые не согласны с их взглядами, но вынуждены идти на сотрудничество. Так, в декабре 2011 года ожесточенный отпор двух партий в составе коалиции, которую возглавляет партия “Индийский национальный конгресс”, вынудил премьер-министра Манмохана Сингха пойти на унизительную уступку и отказаться от плана позволить иностранным супермаркетам владеть 51 % собственных предприятий.
Споры из-за коалиций отражают компромиссы, на которые “победитель” выборов вынужден соглашаться с самого начала. По результатам выборов в мае 2010 года в Великобритании ни одна из партий не получила большинства в Палате общин, так что консерваторам под руководством Дэвида Кэмерона пришлось формировать коалицию с либеральными демократами, возглавляемыми Николасом Клеггом: тут необходимо заметить, что эти две партии, помимо прочего, совершенно по-разному относятся к вопросам иммиграции и европейской интеграции. Но в итоге обеим партиям пришлось пойти на существенные уступки. Однако иногда создать коалицию не получается. В 2010 году в Нидерландах четыре месяца не было правительства. В Бельгии и того хуже. В 1988 году бельгийские политики установили своеобразный рекорд: им потребовалось 150 дней, чтобы сформировать коалицию. Может показаться, что дальше уже некуда, однако в 2007–2008 годах из-за растущих разногласий между фламандскими регионами Бельгии, где говорят по-голландски, и франкоязычными валлонами страна девять с половиной месяцев жила без правительства, в то время как фракции экстремистов открыто призывали Фландрию выйти из состава федерации. После очередной затянувшейся тупиковой ситуации то правительство ушло в отставку в апреле 2010 года. В феврале 2011 года Бельгия превзошла Камбоджу по продолжительности времени, проведенного без правительства; наконец 6 декабря 2011 года, спустя 541 день безвластия, новый премьер-министр принес присягу и вступил в должность. При этом, что характерно для ослабления власти политиков, экономика и общество, несмотря на сложившуюся абсурдную ситуацию и растущий правительственный кризис, продолжали функционировать как ни в чем не бывало, не хуже, чем в соседних европейских государствах. Так что сформировать коалицию противостоящие друг другу партии вынудило исключительно снижение кредитного рейтинга Бельгии по версии компании Standard & Poor’s{119}.
Недавнее исследование прочих аспектов формирования правительства, срока его деятельности и завершения полномочий также приводит доказательства упадка власти. Любопытные данные удалось получить скандинавским ученым, которые собрали подробную информацию по правительствам 17 европейских демократических государств начиная с конца Второй мировой войны или, в отдельных случаях, с того момента, когда в исследуемых странах (например, в Греции, Испании и Португалии) наконец установился демократический строй. В исследовании приняли участие Германия, Франция, Великобритания и прочие крупнейшие европейские игроки. И даже несмотря на то, что результаты исследования неприменимы, скажем, к Индии, Бразилии или ЮАР, они все-таки убедительно доказывают, что в наше время политика в демократических государствах переживает перелом. Приведем примеры.
Исчезают преимущества, которыми пользовались традиционные игроки
Глобальная тенденция такова, что несмотря на то, что сложившиеся партии и коалиции пользуются такими неотъемлемыми преимуществами, как популярность и финансовая поддержка, они все же могут потерять часть голосов, хотя бы потому, что их сторонники разочаровываются в их деятельности, а их оппоненты находят повод для критики. В последние годы такие прецеденты случаются все чаще: анализ 17 традиционных европейских демократических государств показал, что каждое десятилетие начиная с 1940-х годов действующие игроки при перевыборах теряют все больше голосов. В 1950-е годы они теряли в среднем 1,08 % избирателей; к 1980-м годам эта цифра уже составила 3,44 %, а в 1990-х выросла почти в два раза – до 6,28 %. В 1950-х годах 35 кабинетов министров в странах, участвовавших в исследовании, одержали победу на перевыборах, а 37 – проиграли. В 1990-х годах были переизбраны всего 11 кабинетов министров, а 46 потерпели поражение. Ханне Марте Наруд и Генри Вален, политологи, которые проводили исследование, также отметили, что эта тенденция одинаково сильна как в странах с давними демократическими традициями, таких как Великобритания и Нидерланды, так и в новых демократиях типа Греции или Португалии. Другими словами, тенденция никак не связана со сроком давности и степенью укорененности демократии в стране{120}.
Правительства чаще уходят в отставку
Факты свидетельствуют о том, что со времен Второй мировой войны правящие коалиции или кабинеты министров все чаще уходят в отставку до истечения срока полномочий из-за политической борьбы. Политологи выделяют два типа окончания деятельности кабинета министров. Один – формально-юридический, то есть обусловленный конституционными особенностями конкретной страны или ситуацией, когда по закону необходимо проводить выборы или же премьер-министр неожиданно скончался и ему надо найти замену. Второй тип прекращения деятельности кабинета министров – уход в отставку по собственному усмотрению, то есть обусловленный политической нестабильностью, когда кабинет министров уходит в отставку из-за политических разногласий или утрачивает доверие парламента. Согласно исследованию, основанному на данных из тех же 17 демократических европейских государств начиная с 1945 года, в 1970-х и 1980-х годах кабинеты министров чаще, чем в предыдущие десятилетия, уходили в отставку по собственному усмотрению, нежели по формально-юридическим причинам (72,9 % и 64,7 % соответственно). В 1990-х годах соотношение сбалансировалось, и число случаев прекращения деятельности по формально-юридическим причинам сравнялось с количеством отставок по собственному усмотрению{121}.
Неудивительно, что в первое десятилетие XXI века тенденция к выходу в отставку по собственному усмотрению усилилась. Вследствие разразившегося в 2008 году финансового кризиса правительства теряли авторитет, кабинеты министров терпели неудачи, коалиции распадались, министров увольняли, и ранее неуязвимые партийные лидеры были вынуждены покидать свои посты. По мере того как экономические проблемы в Европе становились все серьезнее, становилось ясно, что власть имущие не в силах справиться с кризисом.
Даже за пределами парламентской системы встречается множество примеров того, что ограничения ослабляют полномочия, которые дает победа на выборах. В США одним из источников растущего разочарования для каждого нового правительства стал срок, в течение которого кандидат вынужден дожидаться одобрения Сената. Исследователь из Университета Нью-Йорка Пол Лайт заметил: “В 19641984 годах растянувшийся на полгода процесс выдвижения и одобрения был делом практически неслыханным”. В те годы только 5 % кандидатов ждали утверждения дольше полугода. Сейчас же, учитывая современную волокиту, это считается невероятно быстро. Между 1984 и 1999 годами, как выяснил Лайт, 30 % кандидатов, получивших назначение, ждали утверждения более шести месяцев. С другой стороны, быстрые утверждения (те, которые занимают от одного до двух месяцев) в 1964–1984 годах составляли 50 % случаев, а в 1984-1999-м – только 15 %. В следующее десятилетие по мере роста политической поляризации эта тенденция усиливалась.
От партий к фракциям
Партийные боссы с сигарами в зубах, щедро осыпающие благодеяниями своих сторонников, формулирующие политические программы и выдвигающие кандидатов, – образ, прочно вошедший в политическую мифологию, однако он очень далек от реальности. И наглядным тому примером служит переменчивая фортуна республиканцев в США. Не так давно Республиканская партия США олицетворяла собой консерватизм в бизнесе и связанную с ним дисциплину. Успех Движения чаепития создал республиканцам ряд организационных проблем. Движение чаепития, по сути, вообще не партия, а свободное объединение различных организаций, фракций, групп единомышленников и отдельных лиц, разделяющих взгляды (довольно изменчивые), которые олицетворяет собой сам замысел и стиль Движения чаепития. Отдельные кандидаты и группы кандидатов от Движения чаепития получают финансирование из солидных деловых кругов, обладающих значительным опытом влияния на американскую политику (например, Дэвид и Чарльз Кохи, миллиардеры, владельцы Koch Industries, второй по величине частной компании в США). Другие же составляющие Движения чаепития представляют собой не более чем массовые стихийные движения общественных деятелей за непосредственную демократию, которые имеют давнюю традицию в американской политической жизни. Все эти разрозненные элементы объединяются в единое целое, чего ни одна традиционная политическая партия с ее комитетами, правилами и узким кругом влиятельных лиц не может себе позволить. Возникшее в 2009 году Движение чаепития спустя всего лишь несколько месяцев уже изменило Республиканскую партию, а с ней и американскую политику в целом, обеспечив победу на первичных выборах совершенно посторонним людям и прочим нежелательным для партийного истеблишмента лицам. На момент выборов 2008 года Движения чаепития еще не существовало, а уже четыре года спустя, в 2012 году, кандидаты в президенты от Республиканской партии старались заручиться его поддержкой.
Движение чаепития – чисто американский феномен: как отражение американского увлечения прямой демократией, как способ вливания денег в политику и как новейшее проявление популизма мелких партий. Однако его стремительное появление из ниоткуда имеет последствия. Европейская Пиратская партия (проникнутое духом хакерства движение за свободу информации и более широкие гражданские права) возникла в 2006 году в Швеции, и вскоре аналогичные организации появились в Австрии, Дании, Финляндии, Германии, Ирландии, Нидерландах, Польше и Испании. Программа партии, так называемая “Упсальская декларация”, сформулированная в 2009 году, основное внимание уделяет реформе авторского и патентного права, быстрому и справедливому судебному разбирательству, свободе слова и привлечению молодых избирателей. На выборах в Европейский парламент в Швеции Пиратской партии удалось набрать 7,1 % голосов и получить два места в Европарламенте от Швеции, а в сентябре 2011 года она выиграла представительство в парламенте Германии, обеспечив себе 9 % голосов. Ей удалось обойти главного партнера в правящей коалиции Ангелы Меркель, авторитетнейшую Свободную демократическую партию, которая даже не преодолела 5-процентный порог, необходимый для того, чтобы получить место в парламенте{122}. В 2012 году Пиратской партии снова удалось добиться значительного успеха: члена ее швейцарского отделения выбрали мэром Айхберга{123}.
Другую революционную кампанию провела в 2007 году Сеголен Руаяль на выборах президента Франции. Она выступала в качестве кандидата от Социалистической партии против Николя Саркози. Руаяль бросила вызов всем традиционным партийным бонзам, которых обычно поддерживали члены партии и высокопоставленные чиновники.
Как же Руаяль удалось стать кандидатом в президенты? Благодаря организации типа Движения чаепития и, как в Америке, посредством праймериз, на которых и определился кандидат. Праймериз – относительно новый инструмент выборов в демократических странах: в Америке, где они получили наибольшее распространение, праймериз появились только в конце 1960-х годов, а в других странах и того позже. Они становятся все более открытыми. Перед выборами 2007 года Социалистическая партия Франции провела праймериз для всех членов партии, и лагерь Руаяль запустил масштабную кампанию, чтобы привлечь новых членов и успеть принять в выборах участие. Благодаря праймериз, а также сайту и политической программе, обособившей Руаяль от партийного аппарата, она победила на праймериз с разгромным счетом – 61 % голосов, хотя на всеобщих выборах проиграла.
Французские социалисты, недовольные этим нововведением, в 2011 году, готовясь к выборам 2012 года, решили пойти дальше. На этот раз они сделали праймериз открытыми для всех голосующих, не только для членов партии. Чтобы принять участие, избирателю нужно было лишь подписать заявление о согласии с основными ценностями левых – мера, которая, в общем-то, ни к чему не обязывала и не принуждала. В праймериз участвовал по меньшей мере один кандидат, который не состоял в партии социалистов. Другими словами, партия социалистов отбирала кандидатов, которые составят конкуренцию действующему президенту, совершенно непартийными методами. Франсуа Олланд, с которым Сеголен Руаяль с 1970-х годов состояла в незарегистрированном браке и родила четверых детей, стал кандидатом от социалистической партии и на президентских выборах выиграл у Николя Саркози. К тому времени Олланд и Руаяль расстались, и новоиспеченный президент переехал в Елисейский дворец с новой спутницей, журналисткой Валери Триервейлер.
Движение чаепития на одном краю политического спектра и Французская социалистическая партия на другом – лишь два примера международной тенденции: во всех передовых демократических государствах увеличивается разница между лидерами, которых выбирают за закрытыми дверями, и теми, кто может мобилизовать избирателей. Учитывая подъем партий меньшинства, традиционным партиям срочно приходится адаптироваться к новым условиям. Во многих странах партии, которые на протяжении десятилетий так или иначе обладали властью, открыли для себя новые способы выборов лидера. С помощью тех или иных методов они расширяют “селекторат” – термин, обозначающий группу лиц, которые имеют право голоса при выборах партийного лидера{124}.
Распространение праймериз – красноречивое доказательство этой перемены. Офер Кениг, глава группы исследования политических партий из Израильского института демократии, в 2009 году проанализировал 50 крупнейших партий из 18 парламентских демократий и пришел к выводу, что 24 партии наделяли своих рядовых членов “значительными правами” для выбора лидера. В остальных же лидера выбирают либо члены парламента, либо специально назначенная комиссия{125}.
Как уже было сказано, праймериз распространяются по всему миру{126}. В Латинской Америке примерно в 40 % президентских выборов, которые проводятся со времен падения военных диктатур в 1980-х годах, принимает участие как минимум один кандидат от крупной партии, выбранный посредством праймериз. Как показало одно из исследований латиноамериканских политических партий, более половины из них к 2000 году прибегали к тому или иному типу праймериз или похожих голосований. Другое исследование показало, что самый низкий уровень доверия политическим партиям в Латинской Америке оказался в тех странах (например, в Боливии и Эквадоре), где ни разу не выбирали кандидата от партии с помощью праймериз. Таким образом, политологи выяснили: даже несмотря на то, что открытые праймериз (те, которые привлекают наибольший “селекторат”) проводятся лишь в ограниченном количестве стран, все-таки в мире прослеживается тенденция к увеличению их количества. А в Калифорнии, которая считается законодателем общенациональных тенденций в США, баланс еще больше сместился в пользу избирателей, а не партийных предпочтений: на общем референдуме 2011 года было решено, что все первичные кандидаты могут принимать участие в выборах с одной баллотировкой, а двое лидеров по числу голосов допускаются к всеобщим выборам вне зависимости от партийной принадлежности.
В 2010 году американские партийные боссы столкнулись с новой проблемой (как будто у них раньше было мало забот по сохранению власти и укреплению порядка): Верховный суд учредил суперкомитеты по политической активности в соответствии с “Законом объединенных граждан”, который устанавливал ограничения размеров пожертвований на избирательные кампании и позволял частным корпорациям выступать в качестве политических субъектов. Этим суперкомитетам по политической активности запрещено согласовывать свои действия с кандидатами, которых они поддерживают, но в ходе кампании 2012 года стало очевидно, что за каждым из кандидатов в президенты (и даже за каждым из претендентов на эту роль от Республиканской партии) стояли один или несколько суперкомитетов, активно спонсирующие мероприятия, которые призваны создать положительный имидж кандидата или направлены против его соперников. Суперкомитеты – одновременно и новая форма крепкой политической власти, которая базируется на доступе к большим суммам денег, и пример раздробленности такой власти. Их сторонники рассматривают суперкомитеты лишь как источник пополнения средств, с помощью которых можно сделать политику более соревновательной. Джоэл М. Гора, профессор права, который поддерживал сопротивление правозащитных организаций требованию раскрывать данные об источниках финансирования, говорит, что многие из норм, предоставляющих доступ к суперкомитетам, всего лишь “меры по защите действующих игроков”. Гора утверждает: “Эти законы ограничивают появление аутсайдеров, будь то либеральных, левых или консервативных, правых”{127}. Так, бизнесмен Лео Линбек III в 2012 году организовал суперкомитет, единственной целью которого было заставить действующих чиновников покинуть свои посты, поскольку Линбек считал, что они уже не откликаются на нужды избирателей. Как писал Пол Кейн в газете Washington Post: “В то время как большинство комитетов по политической активности нацелены на то, чтобы повысить шансы тех кандидатов, которым они оказывают предпочтение, или побороть идеологического противника, у суперкомитетов совершенно другая задача: они призваны сместить должностных лиц с занимаемых ими постов. Причем в обеих партиях. Почему бы и нет? ‹…› [суперкомитет Линбека] помог нанести поражение двум республиканцам со стажем и двум давним демократам, одержав таким образом победу над 65 годами совокупного опыта работы в Конгрессе{128}. И несмотря на то, что средства Линбека были ограничены и у его суперкомитета заканчивались деньги, его представитель торжественно заявил, что «мы доказали: наш замысел работает»”{129}.
Возможно, суперкомитеты по политической активности – исключительно американское явление, но деньги во всем мире становятся столь же важным средством влияния на политические результаты, как некогда идеология. Однако, как показывают примеры Сильвио Берлускони в Италии, Таксина Чинавата в Таиланде, Зина эль-Абидина Бен Али в Тунисе и многих других, в наши дни одних денег далеко не достаточно, чтобы заткнуть множество дыр, сквозь которые утекает власть.
От столиц к регионам
Больше стран. Больше демократий. Больше попыток поделить власть даже в государствах с авторитарными режимами, тогда как демократии предлагают более широкий выбор как внутри политических партий, так и помимо них. Выборы проводятся чаще, как и референдумы, деятельность политиков вызывает все более пристальное внимание общественности, и появляется все больше конкурентов. Все эти тенденции указывают в одном направлении: перераспределение и распыление власти от авторитетных игроков к растущему числу их соперников.
Добавьте к этому еще одну общемировую тенденцию: власть перемещается из столиц и от исполнительных органов к местному самоуправлению{130}.
Возьмем, например, Великобританию. Ее политическая система отличается завидной стабильностью. К власти по очереди приходят консерваторы и либералы, плюс свою долю голосов имеют либеральные демократы. В случае, если ни одной из ведущих партий не удалось набрать большинства голосов и образуется “подвешенный парламент”, как в 2010 году, одна из главных партий формирует коалицию с либеральными демократами и таким образом получает большинство. Этот договор, вполне серьезный, на деле заключить куда проще, чем если бы для большинства в парламенте потребовалось объединить пять или шесть партий.
Эти три партии в целом контролируют большую часть британской Палаты общин, а правила проведения выборов составлены таким образом, что кому-то еще совершенно невозможно попасть в парламент. Так как же тогда объяснить, откуда появилось множество партий, о которых мы не раз слышали за последние годы? Партия независимости Соединенного королевства, Британская национальная партия, Шотландская национальная партия, “Шинн Фейн”, Ольстерская юнионистская партия, Партия Уэльса – британская политика в наши дни куда разнообразнее, чем прежде. Новые партии, региональные ли, экстремистские ли, за последние два десятилетия получили выборные должности, которые привлекают внимание СМИ и вызывают доверие избирателей. Но каким же образом? Посредством новых выборных органов. В 1998 году в результате масштабной политической реформы, известной как “деволюция”, часть законных полномочий британского парламента перешла к законодательным органам Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Членство в ЕС принесло участие в выборах в Европарламент, пропорциональная избирательная система которого открыла двери для партий меньшинства. Партия независимости Соединенного королевства, которая скептически относится к преимуществам членства в ЕС, обязана своим возвышением участию в выборах в Европарламент. А ультраправая ксенофобская Британская национальная партия в 2009 году получила два места в Европейском парламенте: маленькая победа с точки зрения цифр, однако огромный прорыв для репутации организации, которую основные политические силы считали изгоем.
И подобное происходит не только в Великобритании. С 1978 года, когда в Испании установилась демократия, у власти по очереди оказывались две основные партии: Народная партия (Partido Popular) и Испанская социалистическая рабочая партия (Partido Socialista Obrero Espanol). Однако, как и в Великобритании, в Испании есть важные региональные партии, и органам местного самоуправления (в том числе Каталонии и Страны басков) с каждым годом удается получить все больше независимости в ущерб национальному правительству в Мадриде. То же самое и в Италии с “Лигой Севера” и прочими региональными политическими группами.
Парламент ЕС открыл возможности участия для партий меньшинства всех 27 стран – членов союза. С этой точки зрения неважно, обладает ли парламент реальной властью: главное, что он позволяет этим партиям стать легитимными и свободно функционировать на родине. Деволюция – международная тенденция. Италия учредила выборные региональные советы уже в 1970 году. В 1982 году ее примеру последовала Франция, создав региональные ассамблеи. В 1993 году Бельгия превратилась в федеративное государство с региональными ассамблеями. Финляндия, Ирландия, Новая Зеландия и Норвегия в 1970-1990-х годах ввели новые выборные органы субнационального уровня. В некоторых странах увеличилось количество муниципальных образований с избирательной властью: в Боливии в 1994 году число муниципалитетов выросло в два раза, а круг их полномочий существенно расширился.
Демократические латиноамериканские государства также вносят свою лепту в растущий процесс децентрализации. Число стран в Латинской Америке, в которых местных глав исполнительной власти (мэров) выбирает непосредственно население, а не назначает центральная власть, увеличилось с трех в 1980 году до семнадцати в 1995-м{131}. Исследование Межамериканского банка развития показало, что если в 1990 году субнациональные правительства в регионе распоряжались 8 % расходов на государственные нужды, то в следующие 15 лет эта цифра увеличилась до 15 %. Причем в наиболее децентрализованных странах эта пропорция гораздо выше: около 40 % расходов в Аргентине, Бразилии и Колумбии. Масштабные программы децентрализации также разрабатывают на Филиппинах, в Индонезии и Эстонии{132}.
Тем временем некоторые федеративные системы поделили существующие государства надвое, создав новые органы местной исполнительной и законодательной власти. Начиная с 2000 года в Индии добавились штаты Чхаттисгарх, Уттаракханд, Джаркханд и еще один, Телангана, пока находится в процессе выделения в самостоятельный штат. Нигерия увеличила количество штатов почти вдвое, с 19 в 1976 году до 36 в настоящее время. Даже Канада поделила Северо-Западные территории, создав провинцию Нунавут.
Новые площадки для дискуссий подразумевают новые возможности. В Европе ряд левых, правых, экологических, региональных, узкоспециализированных, а в некоторых случаях и вовсе эксцентричных партий вроде международной Пиратской партии выходят на новые политические арены, чтобы завоевать уважение и перехватить голоса избирателей у традиционных игроков. Отданный за эти партии голос уже не считается потерянным зря: маленькие размеры этих партий и обособленное положение не приуменьшает их значимости. Эти “крайние” партии способны сорвать, расстроить планы, заставить крупные партии и коалиции отложить срок принятия решения, а то и вовсе наложить на него вето. Мелкие “пиратские” партии существовали всегда, но теперь их стало больше, и их способность ограничить выбор крупных игроков ощущается в большинстве мировых демократий.
Большее количество власти для местных и региональных органов управления также изменило перспективы и общественный статус мэров и губернаторов: у них либо появилась возможность сделать карьеру на уровне национальной политики, либо возникли какие-то другие варианты, в обход столичных властей. Фактически внешняя политика, которую в наши дни ведут некоторые города и регионы, далеко не ограничивается традиционными торговыми делегациями и церемониями для гостей из городов-побратимов.
Некоторые ученые утверждают, что в наши дни многие мегаполисы и регионы настолько успешно отделились от центрального правительства, что складывается фактически современная разновидность средневековых городов-государств{133}.
От губернаторов к юристам
Модель и игроки знакомые. Более 70 лет Таиландом правила гражданская и военная элита, сперва посредством военного правительства, затем, после 1970 года, с помощью шаткой избирательной системы, при которой периодически происходили перевороты и власть на разный срок получало переходное военное правительство. Несмотря на политическую нестабильность, в 1980-е и 1990-е годы Таиланд переживал период быстрого экономического роста. Банки, принадлежащие военным, промышленники и бизнесмены из гражданского населения благодаря конституции и государственным переворотам достигли процветания. В 2001 году благодаря предвыборной программе, учитывавшей в первую очередь интересы простого народа, премьер-министром стал миллиардер и бывший полицейский Таксин Чинават. В 2005-м его переизбрали на второй срок, однако вскоре обвинили в коррупции и злоупотреблении служебным положением. В стране начался двухлетний политический кризис. На этот период в Таиланде пришлись практически сорванные выборы, государственный переворот, новые выборы в 2007 году, в результате которых новым премьер-министром стала сестра Чинавата.
В разгар этих пертурбаций заявила о себе новая политическая сила: судебная власть. Начиная с 2006 года решения тайских высших судов все активнее задавали направление государственной политики. Суды распустили партию Таксина и несколько других, запретили некоторым лидерам заниматься политикой и однажды даже отправили в отставку премьер-министра за то, что ему платили за участие в кулинарных телепередачах. В декабре 2008 года Конституционный суд распустил правящую партию по довольно-таки веской причине – из-за мошенничества на выборах. Страну три месяца сотрясали народные волнения, после чего было образовано новое коалиционное правительство.
У тайских судов был предшественник. Первым в 2006 году вмешался в политическую жизнь страны трибунал, который создали тайские военные. А незадолго до этого король Таиланда (который пользуется у подданных значительным авторитетом) произнес речь, в которой призвал суды действовать мудро и осмотрительно. Участие судов в политической жизни изменило устоявшиеся традиции и предоставило протестующим и активистам новую площадку для борьбы. Верховный суд Индии вмешался в тупиковую ситуацию, которую породили действия некомпетентной и недееспособной коалиции, созданной премьер-министром Манмоханом Сингхом, и принялся расследовать дела о нелегальной добыче полезных ископаемых, отменять ранее достигнутые договоренности, даже определил, в каком возрасте имеет право выходить в отставку главнокомандующий. Как заметил один индийский обозреватель, “Индия стала банановой республикой, в которой этот банан чистит Верховный суд”{134}.
Нормально функционирующая судебная власть – это одно. А суды, которые решают политические задачи или вмешиваются в политическую жизнь страны и отправляют в отставку правительство, – совсем другое. Даже в тех государствах, где судебная система пользуется уважением, такие прецеденты – редкость. Но те случаи, которые имеют место, примечательны. Как, например, процесс 2000 года в суде Флориды и в Верховном суде США, в результате которого на основе правовых норм президентом стал Джордж У. Буш. Другой яркий пример – расследование под названием “Чистые руки” (Mani Pulite), которое началось в 1992 году в Италии. Проводила его судейская комиссия под руководством Антонио ди Пьетро. В ходе расследования была выявлена такая разветвленная система коррупции, что ее прозвали “городом взяток” (tangentopoli). За несколько месяцев были привлечены к ответственности главы партий, бывшие министры, главы региональных органов управления, многие промышленники и предприниматели.
В деле оказалось замешано столько представителей главных итальянских партий, в том числе христианских демократов и социалистов, что на следующих выборах эти партии практически не получили поддержки избирателей. В 1994 году Христианско-демократическая партия, члены которой начиная со Второй мировой войны чаще других становились премьер-министрами Италии, прекратила существование, расколовшись на несколько партий. В том же году Итальянская социалистическая партия, лидер которой Беттино Кракси в 1980-е годы был премьер-министром, однако оказался одной из центральных фигур расследования, объявила о своем роспуске спустя 102 года существования. Разумеется, операция “Чистые руки” не избавила Италию от коррупции. Но она в корне изменила политическую картину, сломала старую партийную систему и подготовила почву для появления новых партий правого (“Вперед, Италия” Сильвио Берлускони) и левого (демократы) толка, а также региональных и многих других. Судьи снова стали одной из главных политических сил во время длительного правления Сильвио Берлускони, который оказался замешан в массе скандалов, из-за чего то и дело попадал в поле зрения судов в качестве фигуранта расследований, а в 2011 году оставил пост премьер-министра.
Судьи, которые вели подобные процессы, превратились в новых влиятельных политических игроков. Антонио ди Пьетро, руководивший расследованием “Чистые руки”, в конце концов оставил карьеру судьи и ушел в политику в качестве главы небольшой партии. Бальтасар Гарсон, известный испанский судья, который вел дела многих высокопоставленных лиц как на родине, так и за рубежом, занимался испанскими политиками, банкирами, организацией “Отечество и свобода басков” (ЭТА), американскими государственными деятелями, “Аль-Каидой” и бывшими аргентинскими военными правителями. Самым громким делом Гарсона стало требование экстрадиции бывшего диктатора Чили Аугусто Пиночета, в результате чего Пиночета долгое время (в 1998–1999 годах) продержали в Великобритании. Против Гарсона завели дело по обвинению в превышении должностных полномочий в процессе расследования зверств режима Франко. Благодаря созданию Международного уголовного суда в Гааге и проведению трибуналов по преступлениям военных лет такие судьи, как Ричард Голдстоун из ЮАР и Луиза Арбур из Канады, стали публичными деятелями. Степень их известности и власти на мировом уровне куда выше, нежели у их предшественников, которые после Второй мировой войны вели трибуналы над нацистскими преступниками.
Что касается внутренней политики, то в разных государствах, разумеется, судьи обладают разной степенью влияния, однако в целом их деятельность накладывает новые ограничения на использование власти главами правительств и политических партий. Однако, учитывая тот факт, что во многих странах судебные системы едва ли можно назвать независимыми, применение правовых норм в политике не всегда гарантирует справедливость. Например, в Пакистане многие подозревают, что военные с помощью Верховного суда контролируют гражданское правительство. Так что рост влияния судей необязательно часть демократического развития, учитывая, что степень их ответственности варьируется от государства к государству: это недвусмысленный показатель упадка политической власти.
От лидеров к дилетантам
Кто наши лидеры? Некогда они были неразрывно связаны с партиями и аппаратом правительства. Даже революционеры стремились к высоким постам. Однако в последнее время многие лидеры стали таковыми благодаря компьютерам: с помощью технологий они распространяли свои идеи и влияли на исход каких-то событий, для чего ранее была необходима инфраструктура партий, неправительственных организаций (НПО) или традиционной прессы. Писатель и правозащитник из Пекина Лю Сяобо составил и опубликовал в интернете “Хартию-08”, в которой призывал Китай принять универсальные демократические ценности, уважать права человека, провести модернизацию и демократические реформы. Разумеется, его без долгих церемоний арестовали и посадили. Однако в следующем году сидящий в тюрьме за “подрывную деятельность” Лю Сяобо получил Нобелевскую премию мира.
Ваиль Гоним считал, что египетские оппозиционные партии слабы и ненадежны, и поэтому с помощью Фейсбука организовал движение, которое требовало от правительства отчета в его действиях. Оскар Моралес, инженер из Колумбии, создал на Фейсбуке группу под названием “Миллион голосов против ФАРК”[13] в знак протеста против участившихся нападений повстанцев на мирных граждан, что приводило к массовым митингам и давлению с целью освобождения заложников. Активные пользователи Твиттера из Молдовы помогли организовать серию политических протестов в стране. Юрист из Кении Ори Околлох и блогер, скрывающийся под псевдонимом “М”, в 2006 году запустили сайт, на котором разоблачали случаи политической коррупции в государстве{135}. Американка иранского происхождения Келли Голнуш Никнеджад создала сайт TehranBureau.com, где собирала и публиковала информацию, которая поступала напрямую от иранцев во время народного восстания после президентских выборов 2009 года, поскольку иностранным журналистам запретили въезд в страну{136}. Сами Бен Гарбия, блогер и правозащитник, помогал организовывать антиправительственные демонстрации в Тунисе с помощью своего группового блога, в котором публиковал разоблачительную информацию о коррупции из американских дипломатических шифрограмм с сайта WikiLeaks.
Эти и подобные им новые игроки существенно разнообразят картину политической жизни по всему миру. Они действуют вне каналов и контроля традиционных политических организаций, как правительственных, так и партийных. Они вездесущи, а применить к ним репрессии довольно-таки сложно: они неуловимы. Но технологии – это всего лишь средство. В целом же растущая диффузия власти создала для отдельных личностей уникальное положение, которое позволяет не только обойти политические институты, складывавшиеся десятилетиями, но и повлиять, убедить или ограничить “действующих” политиков куда более эффективно, чем мог себе представить любой классический политический мыслитель.
Хедж-фонды и хакеры-активисты
Если оставить Джона Полсона и Джулиана Ассанжа наедине в комнате, они, скорее всего, вцепятся друг другу в глотки. Полсон управляет компанией Paulson & Co, одним из крупнейших хедж-фондов в мире. Ассанж – основатель WikiLeaks, интернет-организации, которая специализируется в раскрытии секретной информации правительств и корпораций. Однако в одном они очень похожи: оба олицетворяют новый тип деятелей, которые меняют государственную политику, ограничивая власть правительств.
Хедж-фонды обладают способностью со скоростью света переводить миллиарды долларов из стран, экономической политике которых не доверяют. При этом они лишь один из многих финансовых институтов, решения которых ограничивают власть правительства. Писатель и колумнист газеты New York Times Томас Фридман называет ограничения, которые вводят такие игроки, “золотой смирительной рубашкой”:
Чтобы влезть в золотую смирительную рубашку, стране необходимо взять на вооружение следующие золотые правила: сделать частный сектор основным двигателем экономического роста, удерживать низкий уровень инфляции и стабильные цены, сократить размеры государственного чиновничьего аппарата, стараться держаться в рамках бездефицитного, если не профицитного, бюджета, ликвидировать или снизить тарифы на импортные товары, отменить ограничение на иностранные инвестиции, избавиться от квот и внутригосударственных монополий, увеличить экспорт, приватизировать государственные предприятия и инфраструктуру, ослабить контроль государства над рынками ценных бумаг, ввести свободную конвертацию валюты, открыть промышленность, рынки облигаций и фондовые биржи для иностранных покупателей и прямых инвестиций, ослабить контроль государства над экономикой, чтобы создать здоровую конкуренцию, искоренить коррупцию в правительстве, отказаться от субсидий и откатов, открыть банковские и телекоммуникационные системы для частных владельцев и конкуренции, позволить гражданам выбирать из нескольких пенсионных схем, пенсионных фондов с иностранным управлением и паевых инвестиционных фондов. Если объединить все эти части, получится золотая смирительная рубашка. ‹…› И когда ваша страна ее надевает, чаще всего происходят две вещи: экономика растет, а политика сокращается. То есть в сфере экономики золотая смирительная рубашка обычно стимулирует развитие и рост средних доходов – благодаря увеличению интенсивности торговли, иностранным инвестициям, приватизации и более эффективному использованию ресурсов под давлением глобальной конкуренции. Но в сфере политики золотая смирительная рубашка ограничивает диапазон политических и экономических выборов для тех, кто облечен властью, оставляя им не так уж много пространства для маневра… Правительства (и неважно, кто у власти – демократы, республиканцы, консерваторы или лейбористы, сторонники де Голля или социалисты, христианские демократы или социальные демократы), которые слишком отступают от основных правил, неминуемо сталкиваются с тем, что инвесторы в панике сбегают, ставки по кредитам растут, а стоимость акций компаний на фондовой бирже падает{137}.
Ущерб, который нанес европейский финансовый кризис, – наглядный пример того, что рынки ценных бумаг и глобальные финансовые организации могут диктовать условия правительствам и, как было в случае с Грецией, даже отправить их в отставку, если они препятствуют экономическим реформам, необходимым для финансовых рынков.
Однако, как было показано в предыдущем разделе, настоящим бичом для правительств стал новый класс политических активистов, не связанных ни с какими партиями и традиционными политическими организациями. В наши дни таких деятелей называют “хакеры-активисты” (или “хактивисты”) – термин, придуманный в 1996 году Омегой, участником группы интернет-хакеров, которые сами себя называли “Культом мертвой коровы”. Хактивизм, то есть “использование законных и/или незаконных цифровых инструментов для достижения политических целей”{138}, вынуждает правительства играть в бесконечные кошки-мышки с использованием высоких технологий, причем игра эта подразумевает попытки взломать компьютерные сети и раскрыть секретную информацию. В этой игре также используется целый ряд информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые профессор из Стэнфорда Ларри Даймонд называет “технологиями освобождения”. Даймонд пишет в книге, которая так и называется – “Технологии освобождения”:
Несколько лет назад, когда я заканчивал работу на благо всемирной борьбы за демократию, меня поразило, что люди все чаще прибегают к помощи интернета, блогов, социальных сетей и мобильных телефонов, чтобы рассказать миру о злоупотреблениях авторитарных режимов и положить им конец. Все эти средства стали для них альтернативными каналами коммуникации и передачи информации, которые позволяют обойти цензуру и контроль, введенный диктатурами, следить за выборами и мобилизовывать несогласных на акции протеста. К 2007 году (сейчас кажется, что это было давным-давно, учитывая, с какой скоростью развиваются современные технологии) цифровые информационно-коммуникационные технологии продемонстрировали головокружительные успехи. Новые технологии помогли гражданам Филиппин выйти на улицы, чтобы добиться отставки коррумпированного президента (я говорю о Джозефе Эстраде), позволили народу быстро сплотиться в борьбе с авторитарным режимом во время “оранжевой революции” на Украине и “революции кедров” в Ливане, помогли выявить фальсификацию результатов выборов 2007 года в Нигерии, обнаружили (посредством космической фотосъемки) примеры вопиющего неравенства, которое олицетворяют собой огромные дворцовые ансамбли королевской семьи Бахрейна, посредством вирусного распространения сотен тысяч пылких смс-сообщений способствовали отмене решения о строительстве химического завода, угрожающего безопасности окружающей среды, в китайском городе Сямыне. Я назвал ИКТ, которые использовали все эти люди, “технологиями освобождения” из-за их доказанной способности помогать гражданам страны противостоять, сдерживать и призывать к ответственности авторитарные режимы – и даже освобождать общество от автократии{139}.
Политическая центрифуга
Профессиональному политику, воспитанному в классических традициях этого ремесла, совокупный эффект шести десятилетий раздробленности в государственной политической жизни кажется разрушительным. “Чувство престижа”, которое Макс Вебер назвал одной из глубочайших потребностей каждого политика, слабеет, поскольку власть, лежащая в основе политики, идет на убыль.
Наши мнение, выбор и действия отражают и формируют большее, нежели прежде, количество государств, правительств, политических организаций и институтов. Миграция и урбанизация создали новые политические, социальные, культурные и профессиональные сети, сосредоточенные в центре мегаполисов, где аккумулируется новая растущая власть. Глобальные нормы вышли на новый уровень, а социальные сети, оптоволоконная связь, спутниковые тарелки и смартфоны подпитывают личные стремления и надежды. Политическая центрифуга как будто собрала все элементы, которые составляли политику, какой мы ее знали, и разбросала их по новым далеким областям. Вот лишь некоторые из основных следствий этого процесса.
Посредничество партий больше не нужно
На протяжении столетий политика функционировала исходя из того, что она претворяет интересы масс (которые выражают их посредством голосования или законов, принимаемых правителями) в реальные действия. Представительное правительство передавало волю народа вышестоящим властям – начиная с уровня района или города через регионы или провинции к суверенному государству. Политические партии или организованные группы внутри партии вместе с профсоюзами и гражданскими ассоциациями обещали представлять обычных людей и выражать их взгляды с помощью этих каналов.
Однако партии больше не выполняют этой функции. Почему? Потому что каналы стали гораздо короче и прямее, чем раньше. Лена Хьельм-Валлен, бывший заместитель премьер-министра Швеции и министр иностранных дел, заметила со смесью смирения и досады: “Людей гораздо проще мобилизовать с помощью какого-то волнующего лично их вопроса, нежели абстрактной партийной идеологии”{140}. Новые форумы и платформы обеспечивают политическим лидерам поддержку общественности, а общественности – определенные преимущества и возможность влиять на решения политического лидера, так что партия-посредник становится совершенно лишней. В ситуации, когда существует множество парламентов и разрозненных избирателей, ведущие политические партии утратили былую популярность. Вступить в партию, создать ее или проголосовать за нее на выборах уже не так важно, как раньше. Быть сторонником какой-то новой партии стало более выгодно, чем прежде; иными словами, мы теперь меньше теряем, если поддерживаем мелкую, а не крупную партию или если принимаем участие в политическом процессе какими-то иными способами. В демократических государствах большие традиционные партии по-прежнему служат основным средством контроля над правительством. Однако новые формы политической деятельности и виды политических организаций все чаще ослабляют их власть и ставят под сомнение их авторитет.
Ограничение деятельности правительства
Упадок власти ограничивает свободу действий на всех уровнях. Даже в государствах с президентской системой из-за роста влияния политических фракций стало труднее проводить законопроекты в парламенте. Однако на действия правительства влияют и те, кто находится вне стандартной политической системы. Все больше заинтересованных лиц, от владельцев облигаций и международных общественных деятелей до блогеров и знаменитостей, оказываются способны влиять на ход игры, удалять с поля ключевых защитников и предпринимать иные шаги, которые препятствуют действиям правительства. Как сказал мне бывший президент Чили Рикардо Лагос: “Чем большей власти добиваются с помощью ограниченных средств неправительственные организации, тем меньше власть правительства. Большинство неправительственных организаций, по сути, представляют собой узкоспециализированные влиятельные группы, которые оказываются гораздо расторопнее в политических вопросах, лучше ориентируются в медийном пространстве, умеют работать на публику и активнее налаживают зарубежные контакты, чем многие правительства. Число таких организаций стремительно растет, что ограничивает свободу действий государственного аппарата и существенно сокращает его возможности. Будучи президентом, я и сам с этим столкнулся. И сейчас, когда езжу по миру и общаюсь с другими главами государств, я тоже это замечаю. Неправительственные организации, конечно же, полезны для общества, однако узость их взглядов и трудности, которые им приходится преодолевать, чтобы добиться результата, нужного их избирателям и спонсорам, загоняют их в жесткие рамки”{141}. В прошлом правительства стремились изменить политический ландшафт (как под нажимом общественности, так и для ее подавления): они меняли правила выборов, вводили чрезвычайные законы и поправки к конституции. Они по-прежнему в состоянии принять все эти меры, но чем дальше, тем больше им приходится сталкиваться с пристальным вниманием общественности и довольствоваться действиями, характерными для традиционной политики.
Рост гиперконкуренции
Из-за распыления политической власти границы между разными категориями игроков, будь то политические партии (крупные и мелкие, традиционные и крайних взглядов), правозащитные организации, пресса или избиратели, становятся более размытыми. Избранные чиновники и правительственные организации сегодня все чаще выпускают собственные издания или общаются с электоратом напрямую в интернете. Узкоспециализированные влиятельные группы теперь выдвигают собственных кандидатов, а не только принимают опосредованное участие в политическом процессе. А поскольку барьеры на вход стали ниже, чем когда-либо, выросла конкуренция. Тот, кто собирается заниматься политикой, вынужден рассматривать вопрос о потенциальном союзе с кем бы то ни было и предвидеть нападки со стороны постоянно меняющихся партий, активистов, спонсоров, лиц, формирующих общественное мнение, журналистов из числа рядовых граждан, контролирующих органов, а также правозащитников.
Обычные люди получают полномочия
Влияние отдельного человека (не профессионального политика, а простого обывателя, зачастую без высшего образования) растет, и это, пожалуй, самое трудное, но важное следствие действия политической центрифуги. Оно проявляется из-за того, что рушатся культурные и организационные барьеры, которые отделяли профессиональных политиков от всех остальных. Значение крупных политических партий снижается, появляется множество новых и простых способов участия в политической жизни, а значит, в барьерах уже нет необходимости. Эта тенденция способствует установлению непосредственной демократии по образцу афинской Агоры или собраний жителей всех кантонов в Швейцарии, только в эпоху цифровых технологий. Однако вместе с этим возникает и опасность раскола: известно множество примеров того, как отдельные личности или целые группы из дурных побуждений вносили смуту в политическую жизнь и создавали тупиковые ситуации.
Так что президент Бразилии Фернанду Энрики Кардозу, министр иностранных дел Швеции Лена Хьельм-Валлен и президент Чили Рикардо Лагос не просто жалуются на упадок власти с позиции силы и привилегий. Власть высокопоставленных правительственных деятелей сокращается, причем не в пользу какого-то политического конкурента или организации, которой они могут противостоять, могут откупиться от нее или вовсе закрыть. И этот процесс невозможно обратить вспять, изменив политические взгляды или наняв новых советников: ни сами политики, ни их программы тут ни при чем. Власть утрачивают сами высокие посты, те позиции силы и авторитета, которые с точки зрения политической карьеры всегда считались высшей наградой. Власть не просто переходит к кому-то другому. Она слабеет, а в некоторых случаях и вовсе исчезает.
Политическая центрифуга создает трудности для авторитарных режимов: их противники становятся все более неуловимы, появляются новые соперники. Однако с этим сталкиваются и демократии. Для большинства правозащитников демократия – заветная цель, и упадок власти авторитарных правительств помог многим странам к ней приблизиться. Однако последствия упадка власти на этом не ограничиваются. За ним кроются серьезные экономические, технологические и культурные факторы, которые порождают новые идеи и умонастроения, и не все из них демократические по своей сути. Региональный сепаратизм, ксенофобия, кампании против иммигрантов, религиозный фундаментализм только выигрывают от упадка власти. Одно и то же явление можно наблюдать во всех уголках земного шара: политическая центрифуга усложняет расстановку политических сил, разрушает прежние модели и традиции. Причем можно с уверенностью утверждать, что эти процессы будут продолжаться.
Глава 6 Пентагон против пиратов Упадок власти больших армий
На подготовку теракта 11 сентября “Аль-Каида” потратила около 500 тысяч долларов, тогда как прямые потери от разрушений и стоимость ответных ударов США составили 3,3 триллиона долларов. Иными словами, на каждый доллар, который потратила “Аль-Каида”, когда планировала и осуществляла теракт, Соединенные Штаты потратили 7 миллионов долларов{142}. Стоимость теракта 11 сентября равна одной пятой национального долга США. В 2006 году во время Ливанской войны “Хезболла” выпустила по израильскому кораблю высокоточную крылатую ракету. Та попала в цель и едва не потопила израильский ракетный катер “Ханит” (“Копье”), оборудованный системой ПРО. Стоил он 260 миллионов долларов, а ракета “Хезболлы” – всего 60 тысяч{143}. В 2011 году сомалийские пираты нанесли в общей сложности ущерб в размере от 6,6 до 6,9 миллиарда долларов. Несмотря на постоянное патрулирование, в котором принимали участие боевые корабли самых разных стран, оснащенные по последнему слову техники, пираты совершили рекордное число нападений – 237 против 212 в 2010 году{144}.
Террористы, боевики, пираты, повстанцы, борцы за свободу, преступники всех мастей появились не вчера. Но, если переиначить слова Черчилля, “никогда еще в истории человеческих конфликтов у столь немногих не было возможности нанести такой огромный ущерб столь многим такими незначительными средствами”. Таким образом, даже в сфере вооруженных конфликтов микровласть, хотя и редко выигрывает, существенно усложняет жизнь суперигрокам, то есть крупным дорогостоящим военным комплексам.
Небольшие, но мобильные боевые единицы все активнее отстаивают свои интересы и наносят существенный ущерб куда более крупным и лучше вооруженным соединениям противника. Это свидетельствует о том, что применение власти посредством силы изменилось, а государства с традиционными армиями все чаще не могут (или не хотят) в полной мере использовать имеющийся у них в распоряжении разрушительный потенциал. Разумеется, микровласть не способна сражаться с мировыми военными державами на равных, однако она все чаще ухитряется мешать более крупным и технологически продвинутым игрокам одерживать верх в асимметричных войнах, а это свидетельствует о фундаментальных изменениях в том, как функционирует власть.
Одним из самых авторитетных мыслителей в области современных боевых действий считается Джон Аркил-ла. Он полагает, что мир вступил в “эру постоянных войн с нерегулярными вооруженными формированиями”. Вот что он пишет: “Великим полководцам, сведущим в традиционных формах конфликтов, нечего нам рассказать. Бесполезны тут и классические принципы ведения войны, в особенности представление об абсолютной силе большинства, дошедшее до наших дней в виде доктрины Колина Пауэлла о «неодолимой силе», и прочие концепции вроде «шока и трепета». Подобные идеи оказывались несостоятельными еще во время войны во Вьетнаме, сегодня же становится совершенно ясно, что попытки приспособить их к борьбе с боевиками и сетью международного терроризма также обречены на провал”{145}.
Если говорить о проявлениях и использовании власти, военная сила – это крайнее средство. Политика старается убедить, военные действия (или угроза войны) – принудить. Военная мощь, выражающаяся в численности армии, ее оснащенности и мастерстве, благополучно подменяет более сложные представления о власти. Уберите дипломатические тонкости, культурное влияние и “мягкую силу” – останется грубая сила оружия. А в случае сомнений, как показывает опыт, преимущество на стороне того, у кого больше оружия. Как заметил (правда, по другому поводу) журналист Дэймон Раньон: “В гонке не всегда выигрывает быстрейший, как и в схватке – сильнейший, но умные ставят именно на них”{146}. Сталину как-то сказали, что ему следует поощрять распространение католицизма в СССР, чтобы снискать расположение папы римского. На что Сталин ответил: “Папы римского? А сколько у него дивизий?” (Когда слова Сталина передали папе Пию XII, тот отрезал: “Можете передать сыну моему Иосифу, что с моими дивизиями он встретится на том свете”.){147}
Несмотря на то, что Вторая мировая война закончилась семьдесят лет назад, а гонка вооружений времен холодной войны – двадцать лет назад, военные стратеги по-прежнему руководствуются доктриной превосходства в огневой мощи. Они по сей день уверены, что крупная и технически продвинутая армия необходима для обеспечения безопасности и могущества державы.
Наглядным примером этого служат Соединенные Штаты. В 2012 году оборонный бюджет государства составил свыше 700 миллиардов долларов{148}: это почти половина мировых военных затрат. Сопутствующие расходы прочих американских учреждений увеличили эту сумму почти до триллиона долларов. Расходы главных соперников Америки – Китая и России составили всего 8 и 5 % от мировых военных затрат соответственно, даже несмотря на то, что оба государства (в особенности Китай) с каждым годом тратят все больше средств на вооружение. Лишь в 25 странах, большинство из которых расположено на Ближнем Востоке, военные затраты превышают ВВП. И даже несмотря на сокращение оборонного бюджета, которое США запланировали на следующее десятилетие, расходы останутся необыкновенно высокими. К 2017 году, когда планируемое сокращение почувствуется в полной мере, оборонный бюджет США все равно будет в шесть раз больше, чем те суммы, которые Китай сейчас тратит на вооружение, и больше, чем у следующих десяти стран из списка, вместе взятых{149}. Даже в условиях сокращения бюджета Соединенные Штаты смогут построить 11 авианосцев и развивать все три направления своей ядерной триады (дальние бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты и ракетные подводные лодки){150}.
За последние 20 лет всякий раз, когда Соединенные Штаты участвовали в войне с применением обычных видов оружия, их армия с легкостью одерживала победу. Однако такие войны велись не так-то часто: только первая война в Персидском заливе (в 1991 году) и, пожалуй, вторая, хотя Ирак практически не давал отпор. В 2008 году министр обороны США Роберт Гейтс отметил, что за четыре десятка лет из всех случаев, когда США применяли военную силу, только один, первая война в Персидском заливе, может считаться “более-менее традиционной войной с применением обычных видов оружия”. Другие же военные операции, от Гренады и Ливана до Сомали, Косово, Ирака, Афганистана, представляли собой скорее акции против повстанцев, террористов, а также политическое и гуманитарное вмешательство, а не длительное противостояние армий. И эта тенденция характерна для всего мира в целом. В 1950-х годах ежегодно происходило в среднем шесть международных конфликтов, а в первое десятилетие нового тысячелетия – меньше одного{151}. За последние 60 лет ведущие мировые державы ни разу не воевали друг с другом{152}.
Это не значит, что войны закончились. Между 1992 и 2003 годом количество внутригосударственных вооруженных конфликтов сократилось на 40 % (причем сюда относятся не только войны между государствами, но и войны, которые государства вели против негосударственных групп), однако потом снова увеличилось{153}. А количество негосударственных вооруженных конфликтов, которые исследователи, работавшие над проектом “Безопасность человечества” (Human Security Report Project), определили как “применение вооруженных сил двумя организованными группами, ни одна из которых не является правительством государства”, с 2008-го резко выросло (хотя с 2003 по 2008 год шло на убыль).
В наши дни боевые действия принимают различные формы, и крупные традиционные военные структуры стараются к ним как-то приспособиться. Вот лишь несколько примеров за последнее десятилетие:[14] лишившихся в 2011 году ног или рук{154}. И ему еще повезло: в том же году из-за СВУ погибли 250 солдат коалиции.
• Мумбаи, Индия, 26–29 ноября 2008 года: захватив индийский рыболовецкий траулер, десять пакистанских вооруженных бандитов прибыли в порт Мумбаи и организовали в городе несколько терактов, убили в общей сложности 168 человек и ранили более трехсот, после чего часть террористов ликвидировали, а часть арестовали.
• Монтеррей, Мексика, 25 августа 2011 года: вооруженные преступники из самого жестокого мексиканского наркокартеля “Лос-Сетас” напали на казино, зверски расправились со всеми, кто там находился, после чего подожгли здание. Погибло более 50 человек.
• Северо-восток острова Сокотра, Йемен, 7 февраля 2012 года: сомалийские пираты атаковали и захватили греческий сухогруз, ходивший под либерийским флагом, и отбуксировали его к берегам Сомали. Это было лишь одно из 37 нападений с начала 2012 года и одиннадцатый захваченный корабль, команду которого пираты взяли в заложники{155}.
• Вашингтон, округ Колумбия, май 2010 года: Торговая палата США обнаружила, что китайские хакеры за год до этого взломали ее компьютерную сеть, похитили информацию, касавшуюся членов палаты, данные электронной почты некоторых сотрудников и даже управляли термостатами, установленными в здании{156}. И это лишь одна из сотен таких атак на правительство США, военные силы и корпорации, осуществленных хакерами из Китая и других стран, причем многие из этих преступников связаны с правительством.
Как показывают эти примеры, угрозу для традиционной военной державы, такой как США, представляют не только новые враги, но и изменение способов ведения войны как таковой. Этим мы не в последнюю очередь обязаны революциям множества, мобильности и ментальности. СВУ, которые чаще всего использовались в Афганистане, Ираке, Сирии и других местах боевых действий, изготавливают не из плутония и сложных сплавов, а с помощью бытовой и сельскохозяйственной химии и предметов широкого потребления, из которых можно собрать бомбы. А расчеты для этих бомб составляют те, кому благодаря распространению образования удалось закончить учебу. Все это плоды революции множества. С помощью лодок из стеклопластика, дешевых АК-47 и реактивных гранат пираты захватывают огромные суда стоимостью в сотни миллионов долларов. Террористы, напавшие на Мумбаи, использовали имевшееся в их распоряжении оружие и технические средства связи – побочные продукты революций множества и мобильности, в том числе GPS для навигации в индийских территориальных водах, спутниковые и мобильные телефоны и карманные персональные компьютеры BlackBerry, посредством которых террористы поддерживали связь друг с другом во время атак, отслеживали действия полиции и распространяли по всему миру информацию о своих вопиющих преступлениях. Благодаря тому, что путешествовать и общаться стало проще, даже террорист-одиночка может нанести сильный удар по отдаленной цели, для чего раньше были нужны бомбардировщики или реактивные ракеты. Вспомните хотя бы “обувного террориста” Ричарда Рейда или “террориста с бомбой в трусах” Умара Абдулмуталлаба: оба пытались взорвать самолет, и им почти это удалось. Революция ментальности повысила уровень ожиданий и стремлений, которые зачастую либо искажались, либо оставались нереализованными, в результате чего общество получало недовольных фанатиков, преступников и будущих революционеров. И, что не менее важно, миллионы людей осознали: даже один-единственный человек может нанести существенный ущерб крупной державе. Причем забыть это они вряд ли смогут.
Все новые средства и возможности отнюдь не требуют иерархии и согласованности, которыми гордятся крупнейшие военные державы. Барьеры на участие в конфликте рухнули, и преимущества, которые некогда составляли силу крупных армий и помогали им отбивать наступление противника, утратили былую актуальность. С тех пор как доктрину “шока и трепета” впервые применили на практике, войны в Афганистане и Ираке велись вовсе не с помощью шквального артиллерийского огня, танковых атак и сверхзвуковых истребителей, не говоря уже о холодной логике и намеренной эскалации ядерной доктрины. Силам НАТО пришлось научиться воевать в условиях новой медиасферы, в которой их противникам куда легче распространять информацию через социальные сети и в которой репортеры, блогеры и активисты сообщают заинтересованной интернет-аудитории о каждой потере союзников и о каждом прискорбном инциденте, когда в ходе военной операции страдают мирные жители.
Трансформация конфликтов повлекла за собой пересмотр прежней тактики и стратегии в министерствах обороны и военных училищах, а также стимулировала стремление адаптировать к новым условиям организацию и теорию боевых действий. И “Четырехлетний прогноз министерства обороны”, опубликованный в 2010 году, основной директивный документ, который определяет методику ведения войны и оборонный бюджет, и “Оборонная концепция”, выпущенная в январе 2012 года, подчеркивают растущую важность мелких и асимметричных конфликтов, в которых принимают участие самые разные стороны{157}, причем “Оборонная концепция” называет “борьбу с терроризмом и войну с нерегулярными вооруженными формированиями” одними из главных задач вооруженных сил США.
Американские военные стратеги также обеспокоены тем, что новое высокоточное оружие, которое позволяет сбивать самолеты, топить корабли или попасть в один-единственный движущийся автомобиль на шоссе, становится все более доступно не только соперникам США, таким как Китай, и противникам, таким как Северная Корея, но и негосударственным образованиям. Томас Манкен, бывший заместитель помощника министра обороны по вопросам планирования политики, преподаватель Военно-морского колледжа, предупреждает: “Противоборствующие стороны обзаводятся управляемым высокоточным оружием (ВТО) и сопутствующими средствами, необходимыми для того, чтобы с минимальными затратами вести боевые действия с применением ВТО”{158}. Дроны, беспилотные летательные аппараты, которые в корне изменили разведку и проведение операций против боевиков и террористов, распространяются и применяются все шире, и любой, у кого есть несколько тысяч долларов, может с их помощью нанести существенный ущерб противнику.
Возвышение незначительных сил
“Принц хочет начать войну. Уверенный, что Бог на стороне больших армий, он вдвое увеличивает число своих солдат”, – писал Вольтер в XVIII веке. Однако в истории не раз и не два бывало так, что маленькие армии с успехом наносили урон, останавливали, а то и побеждали крупные военные силы.
Одним из ранних примеров этого служит битва при Фермопилах, которая случилась в 480 году до н. э. Воспользовавшись преимуществом, которое обеспечивали высота и труднопроходимая пересеченная местность, несколько тысяч греческих солдат на протяжении трех дней удерживали огромную армию персов, нанесли врагам серьезный урон и погибли, героически сражаясь. Греки проиграли Фермопильское сражение, однако ослабили персидскую армию и в конце концов отбили нападение. Начиная от библейского царя Давида и до Вьетконга (Национального фронта освобождения Южного Вьетнама) история изобилует примерами, когда слабые и плохо вооруженные стороны не сдавали позиции, отбивали атаки более крупных противников, а то и одерживали над ними победу.
В XX веке мастерами такого метода ведения военных действий зарекомендовали себя Че Гевара и Хо Ши Мин, а также Мао Цзэдун: разработанная им партизанская тактика во время гражданской войны в Китае помогла установить в стране коммунизм. Размышляя о том, чем партизанская война отличается от обычной, Мао обнаружил, что у них совершенно противоположные требования в том, что касается размеров и координации действий. “В партизанской войне, – писал Мао, – главную роль играют мелкие боевые подразделения, которые действуют независимо ни от кого, и не следует им мешать”. В традиционной войне, напротив, “командование централизовано… Все подразделения и поддерживающие войска должны действовать в высшей степени скоординированно”. В партизанской войне подобное командование и контроль “не только нежелательны, но и невозможны”{159}.
На языке современного военного дела партизанские войны и есть “нерегулярные” и “асимметричные”. Нерегулярные, потому что их ведут стороны, которые, хотя и вооружены, не являются традиционной армией. А асимметричны они потому, что силы противников неравны, так же как их численность, оружие и военная техника. В наши дни нерегулярные и асимметричные конфликты стали нормой. Например, в Афганистане 430 тысяч солдат афганских и коалиционных войск оказались неспособны сломить сопротивление талибов, которых было в 12 раз меньше. В самый разгар кампании в Ираке, в октябре 2007 года, более 180 тысяч солдат союзных войск и почти 100 тысяч иракских силовиков сражались всего с 20 тысячами боевиков.
Примерно то же самое происходило в Чечне: в 1999–2000 годах, во время так называемой Второй чеченской войны, 22 тысячи боевиков, сражавшихся за независимость республики, в течение пяти месяцев отражали нападения свыше 80 тысяч хорошо вооруженных солдат российских войск. В конце концов российской армии удалось взять верх и восстановить контроль над территорией, но лишь после жестокой кампании, в результате которой погибли десятки тысяч мирных граждан и более 5 тысяч российских солдат{160}.
В Африке и Юго-Восточной Азии действуют десятки новых и старых группировок повстанцев – от Господней армии сопротивления в Уганде до Исламского освободительного фронта моро на Филиппинах. Растет число военных конфликтов, вызванных не защитой определенных территорий, а идеологическими, криминальными, религиозными или экономическими причинами, которые не имеют границ. Из всех войн, которые пришлись на 1950-е годы, лишь малая доля была между государствами и негосударственными вооруженными формированиями. А вот в 1990-е годы таких уже большинство. В 2011 году тогдашний заместитель министра обороны США Уильям Линн заявил, что боевые действия эволюционируют от “интенсивных, но краткосрочных” к “затяжным”{161}.
Малочисленные боевые единицы все чаще оказываются более боеспособными: по крайней мере, им удается выполнить свои политические задачи и при этом уцелеть. Политолог из Гарварда Айван Аррегин-Тофт проанализировал 197 асимметричных вооруженных конфликтов в разных странах мира в 1800–1998 годах. Асимметричными их можно назвать в том смысле, что между воюющими сторонами наблюдалось существенное неравенство с точки зрения численности населения и боевой мощи. Аррегин-Тофт выяснил, что предположительно “слабая” сторона в почти 30 % случаев выигрывала войну. Этот факт примечателен сам по себе, однако еще удивительнее, что с течением времени количество таких примеров увеличивалось. За последние два столетия “слабые” побеждали все чаще. Между 1800 и 1849 годами слабые стороны выиграли всего в 11,8 % случаях, тогда как между 1950 и 1998 годами – уже в 55 % случаев. Это значит, что само представление о войне перевернулось с ног на голову. Раньше считалось, что побеждает тот, у кого больше огневая мощь. Теперь же оказалось, что это не так{162}.
Отчасти это происходит потому, что в наше время применение грубой силы превосходящей стороной – например, беспорядочные бомбардировки и обстрелы мирного населения во время Второй мировой войны, пытки, которые французы применяли в Алжире, или точечная ликвидация вьетконговцев во время операции “Феникс” во Вьетнаме – считается политически неприемлемым. Аррегин-Тофт утверждает, что в некоторых случаях применение грубой силы (например, спорная во многих отношениях операция “Феникс”) оказывается эффективным, поскольку позволяет отбить и предотвратить непрямые атаки партизан. Однако если отсутствует прямая угроза существованию более сильного государства, в особенности демократического, в котором общественность внимательно следит за военной политикой, такая стратегия оказывается политически нежизнеспособной. Как сказал мне генерал в отставке Уэсли Кларк, ветеран Вьетнамской войны и бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе: “В наши дни командир дивизии может непосредственно контролировать вертолеты огневой поддержки, которые находятся в 30 или 40 милях от поля боя, и пользоваться тем, что мы называем «полным превосходством» (то есть контролем над воздушным, земным, морским, космическим и киберпространством). Но многое из того, что мы делали во Вьетнаме, сейчас мы уже не можем себе позволить. Техники стало больше, а легитимных вариантов действий – меньше”. “Успехи” российской диктатуры в Чечне или жестокое истребление “Тигров освобождения Тамил-Илама” на Шри-Ланке – вот кровавые примеры того, какой ценой в наши дни сильная держава может одержать победу над стойким, хотя в военном отношении более слабым противником.
Исход асимметричных войн все чаще определяют политические факторы, и это объясняет рост числа самых мелких сторон-участников конфликта – террористов. С тех пор как мир впервые услышал о терроре (во время Французской революции и диктатуры якобинцев, продлившейся с сентября 1793 по июль 1794 года), само понятие “террорист” претерпело существенные изменения. Государственный департамент США признал около 50 групп “иностранными террористическими организациями”, но в действительности их раза в два больше, и численность их варьируется от нескольких десятков участников до нескольких тысяч. И то, что отдельная личность или небольшая группа лиц с помощью акта насилия способна изменить ход истории, было ясно задолго до того, как сербско-боснийский националист Гаврило Принцип убил в Сараево эрцгерцога Фердинанда, что стало поводом для начала Первой мировой войны.
Современный терроризм (олицетворением которого служит теракт 11 сентября и прочие теракты, совершенные “Аль-Каидой” в Лондоне, Мадриде, на Бали, теракты чеченцев в Москве и атака террористической организации “Лашкаре-Тайба” на Мумбаи) из проблемы внутригосударственной безопасности, которую каждая страна решала на свой лад, превратился в общемировую. В результате терактов, которые совершил Усама бен Ладен и его организация, правительства более чем 50 государств потратили свыше триллиона долларов, чтобы защитить свое население от потенциальной террористической угрозы. Французская программа оборонительной стратегии на 1994 год насчитывала более 20 упоминаний терроризма, в версии за 2008 год их было уже 107. Слово “терроризм” встречалось чаще, чем “война”, “и неслучайно, – писали ученые Марк Хекер и Томас Рид, – поскольку эта форма конфликта затмевает угрозу войны”{163}.
Конец абсолютной монополии на применение силы
Чем большее влияние приобретали мелкие негосударственные группы в современных конфликтах, чем успешнее им удавалось вести боевые действия, тем больше они расшатывали один из основополагающих принципов, которым руководствовались политики последние несколько веков, когда занимались распределением власти. “Государство, – писал Макс Вебер, – это союз, который обладает монополией на легитимное применение силы”. Другими словами, суть и смысл существования современного государства отчасти состоят в том, чтобы концентрировать военную мощь. Одной из прерогатив государства было поддержание армии и полиции, а умение предотвратить применение силы третьими лицами на своей территории – его обязанностью, частью общественного договора, на котором зиждилась законность власти. Эта новая монополия на применение силы положила конец средневековому мародерству и бесчинствам наемников, равно как и многосоставным, как матрешки, иерархиям феодалов и вассалов, каждый из которых содержал собственное войско, причем все они охраняли одну и ту же территорию. Военный контроль был неразрывно связан с суверенитетом.
Сегодня же эта монополия оказалась разрушена сразу на нескольких уровнях. Правительства разных стран, от Мексики и Венесуэлы до Пакистана и Филиппин, потеряли контроль над рядом государственных территорий. Различные вооруженные формирования превратили их в полигоны военных действий, причем как из соображений сепаратизма, так и с целью внешней торговли. Даже суть партизанского движения изменилась. Раньше партизанские отряды пытались прогнать оккупантов или колонизаторов, завоевать или восстановить независимость. Теоретики подпольного движения отмечают, что партизанам, дабы чувствовать, что их действия легитимны, была важна поддержка населения. “Партизану во всем необходима помощь местного населения. Это обязательное условие”, – писал Че Гевара. Однако в наши дни партизанские войны все чаще не знают границ: боевики не полагаются на народную поддержку по той простой причине, что уже не привязаны к какой-то одной территории. И если для того, чтобы сражаться с “Талибаном” в Афганистане, нужно завоевать умы и сердца мирных афганцев, то чтобы противостоять “Аль-Каиде” и ее последователям, действия которых вдохновили террористов на атаки в Нью-Йорке, Лондоне или Мадриде, потребуется скорее помощь агентов разведки, нежели специалистов по экономическому развитию. Современные государства под давлением растущего дефицита бюджета стараются облегчить бремя расходов на содержание огромных армий и все чаще “передают на аутсорсинг” то, что некогда составляло их суверенную обязанность.
Взаимосвязь между современным государством и современной военной силой – вопрос не только идеологии или философии. Тут дело еще и в материальной базе, военных расходах и технологиях. На протяжении столетий оружие совершенствовалось, производство его увеличивалось – начиная от появления огнестрельного оружия и заканчивая тяжелой артиллерией, танками, реактивными истребителями и универсальными компьютерами. С развитием оружия росла его стоимость и потребности в средствах материально-технического обеспечения для боевой эффективности.
Теоретики военного дела выделяют четыре способа ведения войны с тех пор, как возникло современное государство. Каждый соответствует определенному периоду в мировой истории и отражает достижения научнотехнического прогресса и тактики. Так, до появления пулемета армии вели массированный обстрел силами крупных артиллерийских дивизионов, выстроенных в шеренги и колонны для атаки на небольшие участки территории. В результате поле боя после рукопашного сражения оказывалось усеяно трупами. По такой модели боевые действия вели начиная с эпохи наполеоновских войн до гражданской войны в Америке и Первой мировой. Побеждали в таких войнах, как правило, самые многочисленные и лучше организованные армии – в силу численности (то есть, грубо говоря, количества пушечного мяса) и скоординированности действий. В первой половине XX столетия на смену такому типу боевых действий пришла тяжелая артиллерия, танки и самолеты, а следовательно, модель сражения, в которой все эти виды вооружения помогали расчистить путь пехоте, которая и захватывала плацдарм противника. Такой метод ведения войны оказался эффективнее, хотя и дороже. Высокая стоимость новых средств вооружения заставляла наращивать численный состав армий. Проанализировав положение дел, сложившееся в начале XX века, Макс Вебер отметил, что не видит препятствий, которые не позволяли бы частным капиталистическим предприятиям вести войну, потому что для этого необходима сильная централизованная структура. Масштаб, навыки и технологическая мощь сделали армию воплощением современной централизованной организации. Децентрализованная армия, утверждал Вебер, обречена на поражение.
Во время Второй мировой войны уверенность в этом треснула под напором немецкого блицкрига и тяжестью поражения, которое потерпела тактика позиционной обороны французской линии Мажино. Атаки с флангов, неожиданные нападения и воздушно-десантные войска требовали более быстрых ответных действий, так что командирам сухопутных частей приходилось брать ответственность на себя и отдавать приказы, не посоветовавшись с высшим командованием. Слишком сильная централизация оказывалась помехой. Впоследствии с возникновением новых конфликтов появился и третий способ вести военные действия. На первый план вышли маневренность, скорость реакции и гибкость в принятии решений. Сложное оборудование вроде ракет “земля-воздух” становилось все более мобильным, что позволяло командирам принимать более последовательные решения. Однако раскол на два лагеря во время холодной войны, спровоцированная ею гонка вооружений и угроза классического межгосударственного конфликта свидетельствовали о том, что главные армии мира по-прежнему ставили во главу угла масштаб – по словам военного теоретика Джона Аркиллы, они “полагались скорее на небольшое количество крупных войсковых формирований, нежели на множество мелких”. Структура американской армии, отметил Аркилла, со времен Вьетнамской войны до наших дней практически не изменилась. У военных сил США, писал Аркилла, “хроническая проблема масштаба, то есть неспособность решать небольшие задачи с помощью небольших средств. Добавьте к этому традиционный, ориентированный на иерархию тип военного мышления, согласно которому чем больше, тем лучше, из чего следует, что один с помощью небольших средств может сделать только хуже”{164}.
Однако многие из участников современных боевых действий осмеливаются поступать вопреки этому убеждению. Талиб, который устанавливает СВУ, колумбийский партизан из ФАРК, боевик “Хамаса”, блогер-джихадист, который воюет за компьютером, – все они “достигают больших целей с помощью небольших средств”. Они не являются солдатами в традиционном смысле слова, не заканчивали военных училищ, однако оказывают не меньшее влияние на ход современных конфликтов. Неверно утверждать, что численность и эффективность наращивают только “плохие парни”, то есть террористы, боевики, пираты и преступники. В западных демократических странах растет число частных военных компаний: они работают на армию и выполняют задания, которые прежде были прерогативой вооруженных сил и полиции.
Впрочем, это тоже не новость. В Средние века и в эпоху Возрождения для ведения войн и охраны порядка зачастую привлекали наемников. Однако всего лишь поколение назад современного рынка частных военных компаний, обороты которых, по последним оценкам, составили 100 миллиардов долларов в год, попросту не существовало. Причем эти компании занимаются не только снабжением и материально-техническим обеспечением (что само по себе важно для любой военной кампании, пусть и происходит обычно в глубоком тылу). Частные военные компании берут на себя и куда более важные задачи, в том числе допрос пленников. В 2011 году в Афганистане были убиты по меньшей мере 430 американских военных подрядчиков – больше, чем погибло солдат в боях. Если бы компания L-3 Communications, один из поставщиков министерства обороны США, была государством, она понесла бы в Ираке и в Афганистане третьи по численности (после Америки и Великобритании) потери в личном составе{165}. “Никогда еще за последние два века, – писал исследователь Питер Сингер, ведущий специалист по данному вопросу, – не прибегали так широко к услугам частных военных компаний для выполнения боевых задач, от которых напрямую зависит тактический и стратегический успех всей кампании”{166}. Такие компании, как Blackwater (ныне переименованная в Academi), MPRI, Executive Outcomes, Custer Battles, Titan и Aegis, начинавшие как никому не известные фирмочки с офисами на окраинах Лондона или в небольших городках Виргинии, впоследствии играли главную роль в различных военных операциях. Одних перекупили более крупные фирмы, другие вышли из дела, третьи сохранили независимость. В последнее время частные военные компании, помимо прочего, предоставляют услуги по защите торговых судов от сомалийских пиратов. Наемничество, несмотря на все связанные с ним в прошлом негативные ассоциации, превратилось в стремительно развивающуюся и разноплановую сферу деятельности.
Конфликт, в котором границы между политикой и войной, солдатом и гражданским лицом размыты, американские военные теоретики выделили в качестве четвертого способа ведения боевых действий (так называемые “войны четвертого поколения”, 4W){167}. Это конфликт, в котором “негосударственная сторона-агрессор” воюет с государством, а кампания не ограничивается только боевыми действиями, но затрагивает также сферу СМИ и общественное мнение: здесь каждая из воюющих сторон стремится как доказать неправомочность убеждений и действий противника, так и победить на поле битвы. В войнах четвертого поколения часто используются терроризм, информационная война и пропаганда{168}. Впервые понятие “войны четвертого поколения” было сформулировано в 1989 году, когда холодная война подходила к концу. Тем примечательнее успехи в войнах четвертого поколения противников США, менее обеспеченных и имеющих худшее снаряжение, чем американская армия.
Цунами вооружений
На протяжении десятилетий средства вооруженной борьбы совершенствовались, их стоимость росла, а следовательно, их становилось труднее достать. И хотя в распоряжении США и прочих государств по-прежнему чудеса техники, лучшим из военных воздушных судов для современных боевых действий оказывается не реактивный истребитель, а куда более дешевое и маневренное средство: беспилотный летательный аппарат, или дрон.
С каждым годом все больше стран используют дроны в качестве средств для дезориентации противника, разведки или наведения ракетных ударов. Стоимость дронов варьируется от нескольких тысяч долларов за простые небоевые дроны малого радиуса действия до почти 15 миллионов долларов за разведывательно-ударный дрон Reaper. Вообще, дроны сами по себе не так уж новы. Но достижения научнотехнического прогресса за последние десять лет позволили увеличить количество их функций, а благодаря своей относительно невысокой стоимости и возможности летать без управления дроны идеально подходят для выполнения боевых задач{169}. Дроны используют и в мирной жизни: например, агентства по продаже недвижимости с их помощью снимают дома с высоты, экологи обследуют тропические леса, а фермеры следят за своими стадами, которые пасутся в прериях. Более трех десятков государств взяли на вооружение парк дронов, а тем странам, у которых нет для этого соответствующей инфраструктуры, многочисленные частные кампании предлагают дроны в аренду{170}. Куда больше настораживает тот факт, что появилось множество любителей и частных владельцев дронов: в 2012 году в США в группе под названием “Самодельные дроны” (DIY Drones) состояло 20 тысяч участников. В 2004 году “Хезболла” запустила дрон в воздушное пространство Израиля; военным удалось его сбить, однако психологический осадок от вторжения и демонстрация возможностей “Хезболлы” запомнились надолго{171}. Что, если любой недовольный, неадекватный или сумасшедший решит атаковать с воздуха? Исследователь Фрэнсис Фукуяма из Стэнфорда, сконструировавший собственный дрон, чтобы фотографировать природу, заметил: “По мере того как технологии будут становиться все более дешевыми и коммерчески доступными, дроны окажется труднее выследить; если не знаешь, кому принадлежит дрон, невозможно принять меры. Не хочется даже представлять себе мир, в котором за людьми постоянно и анонимно следят невидимые враги”{172}.
По сравнению с куда более разрушительным оружием, которое широко применяется в военных конфликтах последних лет, – самодельными взрывными устройствами (СВУ), дроны – воплощение высоких технологий. СВУ существует великое множество: их изготавливают из самых разных боеприпасов, с различными детонаторами. Не существует единого стандарта СВУ: зачастую их собирают из подручных средств – сельскохозяйственных удобрений, заводских химикатов, аптечных или больничных препаратов. СВУ – полная противоположность суперсовременного вооружения больших армий, они не отвечают никаким техническим требованиям, но идеально подходят для децентрализованных войн. Для них не требуются сложная система снабжения и трудоемкая подготовка к эксплуатации. Инструкции по сборке СВУ довольно просты, и их можно легко найти в интернете. А то, что после боевых действий в Ираке, бывших республиках Советского Союза и Ливии осталось большое количество бесхозных боеприпасов, лишь упрощает производство и сокращает его стоимость. Благодаря небольшим размерам СВУ легко спрятать, так что самого бойца никто не заметит, а сила взрыва у них мощная, что позволяет как нанести врагу телесные повреждения, так и уничтожить его. Контраст между собранными в домашних условиях взрывными устройствами и техническим превосходством тех сил, которые они способны вывести из строя, напоминает библейскую историю о Давиде и Голиафе, так что в глазах общественности боевики оказываются в выигрыше.
Суммы, которые Голиаф расходует на то, чтобы решить эту проблему, в то время как число жертв СВУ только растет, лишь подогревают внимание публики. Начиная с 2003 года США потратили свыше 20 миллиардов долларов на борьбу со СВУ. Эту задачу ставили перед самыми разными группами и агентствами, которые входят в военный комплекс, в результате чего возникли такие классические бюрократические трудности, как несовпадение целей, конкуренция, недостаточная согласованность действий и, разумеется, излишние траты. Даже аббревиатура самого крупного из агентств, Объединенной организации по борьбе с самодельными взрывными устройствами (JIEDDO), свидетельствует о том, до чего она неповоротлива и громоздка{173}. Инновации вроде специальных бронированных автомобилей, роботов-саперов и защитной спецодежды спасли жизнь множества солдат и мирных граждан. Однако сдержать наплыв СВУ по-прежнему сложно. Так, в 2011 году количество СВУ, которые были обезврежены или взорваны в Афганистане, увеличилось с 15 225 до 16 554, то есть на 9 %. Число афганцев, убитых или раненных в результате взрыва СВУ, в 2011 году выросло на 10 % по сравнению с 2010 годом; в 60 % случаях именно СВУ стали причиной гибели мирного населения{174}.
Однако у СВУ есть более страшный соперник, идеальное оружие современных партизанских войн и терактов: это смертники, готовые ради своей миссии отдать жизнь. Обнаружить и обезвредить их куда сложнее, чем СВУ. По одним данным, между 1990 и 2006 годом смертники совершили 22 из 30 самых страшных терактов в разных уголках мира. Идея стать мучеником за победу стара как мир: на любой войне есть свои камикадзе. Однако с 1980-х годов число подобных терактов резко увеличилось, причем совершают их очень часто и в стратегических целях, чего прежде не было. Сочетание средневековых мотивов и современных возможностей обладает огромной разрушительной силой. А три революции, о которых мы говорили ранее, лишь усиливают ее воздействие. Смертники с легкостью перемещаются по миру. Культ мученичества возвеличивает преступников и вербует новых потенциальных смертников, а благодаря работе СМИ теракт запугивает не только тех, на кого был рассчитан, но и гораздо более широкие круги населения. Мученичество еще и невероятно действенно: практически невозможно победить смертника, единственная цель которого – взорвать себя, и отступать он не намерен.
В рассредоточенных и тайных военных операциях, разумеется, тоже применяется современный инструментарий. В условиях новых децентрализованных войн интернет обладает не меньшим воздействием, чем СВУ и атаки террористов-смертников. На рубеже информационной войны – кибератаки хакеров на гражданскую и военную инфраструктуру, DDOS-атаки и прочие разновидности нарушения работы веб-сайтов и платформ, которыми пользуется правительство или население. Еще более доступное средство – активные интернет-пользователи, которые пишут агрессивные сообщения, распространяют пропагандистские материалы и угрозы, привлекая внимание новой аудитории. И хотя во время борьбы с терроризмом в Европе и Америке “диванные войска” высмеивали за то, что те слабо разбираются в войне и при этом активно высказывают свое мнение, смертник, который взорвал себя в декабре 2009 года на базе ЦРУ в Афганистане, оказался одним из “экспертов по джихаду”, взявших в руки оружие. Так что интернет – не просто средство распространения информации: его также можно использовать в целях радикализации{175}.
Все эти средства и способы объединяет одно: они невероятно доступны. Как заметил в своей речи в конце 2009 года глава израильской разведки генерал Амос Ядлин, враги Израиля по-прежнему отстают от него в плане военной мощи, однако догоняют его “в том, что касается ракет высокой точности, компьютеризации, зенитного оружия, GPS и беспилотных летательных аппаратов”. Ядлин также добавил, что готовое программное обеспечение позволяет врагам Израиля шифровать свои способы обмена сообщениями и взламывать израильские сайты. “Кибервласть дает отдельным лицам те возможности, которыми ранее обладали исключительно сверхдержавы, – сказал он. – С помощью этих средств, как и с помощью беспилотников, можно нанести удар вне зависимости от удаленности цели и безопасно для жизни бойцов”{176}.
Генерал Ядлин очень точно сформулировал проблему, с которой сталкиваются армии, правительства, которые ими командуют, и мирные граждане, которых эти армии призваны защищать. Центробежная сила, рассеявшая власть в политике, бизнесе и религии, не затронула военную сферу, как будто та неприкосновенна. Упадок власти изменил условия и вероятность конфликтов, усилил влияние негосударственных, мелких, нетрадиционных участников, в то время как средства ведения военных действий стали более доступными, а стоимость их сократилась. СМИ и сфера коммуникаций распространяют информацию о том, что действенно, а что нет, в результате чего срабатывает эффект домино.
В то время как одни новые мелкие военные силы с успехом выполняют свои задачи, другие, которые либо ждут своего часа, либо еще не появились, готовятся со временем их превзойти. Это не значит, что неизбежны постоянные мелкомасштабные конфликты, однако всем, кто ищет мира (или же морального и практического преимущества), следует иметь эти силы в виду.
Этот процесс также оказывает существенное влияние на то, как в наше время завоевывают, сохраняют и утрачивают власть.
Упадок власти и новые правила войны
“Больше никогда” – универсальный девиз всех, кто пережил войну. Однако не проходит и дня без напоминаний о том, что насилие, террор и принуждение по-прежнему оказывают определяющее влияние на жизнь как отдельных лиц, так и общества в целом. “Дивиденды от мира” (то есть экономическая выгода от сокращения расходов на оборону, о которой в начале 1990-х годов говорили Джордж Буш и Маргарет Тэтчер) стремительно обратились в ничто перед лицом войны в Персидском заливе, первой атаки на Всемирный торговый центр, войны на Балканах, геноцида в Руанде, гражданских войн в Западной Африке и многих других конфликтов. Экономист Роберт Каплан писал о “грядущей анархии”, которая неминуемо начнется с распадом государств, чей бюджет пополнялся за счет гонки вооружений времен холодной войны, и ростом этнического и религиозного напряжения{177}. После трагедии 11 сентября, укрепления “Аль-Каиды” и ее клонов и непрерывно ведущейся с тех пор под тем или иным названием “борьбы с террором” все острее ощущение того, что мир наводнили новые формы насилия, которое творят не государства, а обычные люди, однако же их действия обладают значительной разрушительной силой. Такие исследователи, как Роберт Каплан и Эми Чуа, автор книги “Мир в огне”, хотя и на основе различных предпосылок, утверждают, что стремительная глобализация и ослабление государств повысили вероятность конфликтов с применением силы, а попытки создать демократии западного образца там, где их в настоящее время не существует, с наибольшей вероятностью спровоцируют ответную агрессию{178}. Терроризм, кибервойны, незаконный оборот наркотиков – скрытая, незаметная до поры до времени угроза, которая тем не менее не знает границ и в любой момент может нанести миру сокрушительный урон.
Как бы мы их ни называли – военным конфликтом малой интенсивности, малой войной, нерегулярной войной или, по определению исследователей Марка Хекера и Томаса Рида, “войной 2.0”, – “современные конфликты с применением силы разительно отличаются от войн XIX и XX веков, какими мы их себе представляем по документальным фильмам канала History и по структурам военных затрат большинства государств”{179}. Но как себя вести в этих новых условиях, пока не очень ясно. Аргументы в пользу радикальных реформ и сокращения финансирования армий ведущих мировых держав терпят крах из-за корыстных интересов и опасения, что подобные меры ослабят государство и мощь воздействия обычных, неядерных средств устрашения. Ведь традиционные угрозы государству никуда не делись, будь то нерешенные вопросы о границах в регионах Кавказа или Южной Америки, наращивание военной силы в Иране или Северной Корее или же напряженные, пронизанные взаимным недоверием отношения между США и Китаем. Исследователи предлагают различные варианты того, как остановить применение силы негосударственными сторонами, в зависимости от того, что они считают первопричиной конфликта, причем варианты ответов на этот вопрос варьируются: экономическое неравенство, культурный разрыв, распространение империализма, за которым стоят корпорации, исламский фундаментализм, подстрекательство со стороны государств – спонсоров терроризма и множество других факторов.
Разумеется, анализ современных военных действий с точки зрения упадка власти не поможет решить проблему. Однако хочется надеяться, что он вносит необходимую ясность относительно форм конфликта, которые никуда не денутся, и тех новых реалий, с которыми любая военная стратегия (будь то западных демократий или государств, которые стремятся стать сверхдержавами, а также развивающихся стран, групп боевиков или повстанцев) обязана считаться, чтобы достичь успеха.
Гиперконкуренция в военной сфере
Оружие, которое легко достать, не такие очевидные, как раньше, различия между военными и гражданскими лицами, военными и коммерческими технологиями, рост числа конфликтов, связанных скорее с деньгами, идеями и товарами, чем с территориями, способствуют развитию гиперконкуренции в сфере войн и безопасности. Крупные военные организации, как и большие политические партии и промышленные гиганты, сталкиваются с новыми конкурентами, которых уже не сдерживают традиционные барьеры на вход. Крупнейшие министерства обороны, такие как Пентагон, в наше время не всегда располагают возможностями и средствами, необходимыми для ведения войны. Навыки, которые требуются участникам боевых действий, теперь можно приобрести не только с помощью курса начальной военной подготовки, в военной академии или университете, но и в лагере боевиков на северо-западе Пакистана, в медресе в Лестере или в компьютерной школе в Гуанчжоу.
Разумеется, даже в таких неупорядоченных условиях традиционный военный аппарат по-прежнему имеет большое значение. Среди его преимуществ – государственные ресурсы и возможность получить приоритет при распределении государственного бюджета. Необходимость защищать государственный суверенитет наделяет военный комплекс моральным авторитетом, который привлекает новобранцев, оправдывает любые инвестиции и траты и обеспечивает политическую легитимность для заключения альянсов. Однако исключительные привилегии он утратил. Две монополии – одна философская, другая практическая – исчезли, что обнажило его слабые места. Первая – философская монополия государства на законное применение силы. Вторая – практическая монополия, которой наделила военную машину геополитическая конкуренция независимых государств и потребность во все более сложных технологиях, чтобы одержать победу в этой борьбе. Из-за того, что негосударственных компаний и организаций становится все больше, а технологии стремительно распространяются за пределы специализированных организаций, это практическое преимущество сошло на нет.
В наши дни национальные армии стараются приспособиться (с разной скоростью и степенью успешности) к боевым действиям “полного спектра”, в которых используется как обычное, так и “цифровое” оружие, как психологические методы, так и принуждение, а участники конфликта – как гражданские лица, несобранные и необученные, так и приученные к порядку профессиональные военные. От гиперконкуренции конфликт вовсе не обязательно будет серьезнее, чем раньше, – говорим ли мы об экономическом эффекте или о человеческих жертвах, да и самих войн больше не станет. Это никоим образом не признак конца национальных армий, однако гиперконкуренция порождает новые требования к ним.
Военная мощь уже не гарантирует государственной безопасности
Переход от традиционных войн между государствами к децентрализованным мелкомасштабным конфликтам свел на нет преимущество больших армий. Поэтому любая стратегия национальной безопасности, которая основывается на военной мощи или превосходстве в огневой силе, вызывает сомнения. Большие армии это осознают и стараются приспособиться к новым условиям. Как было сказано выше, в 2008 году министерство обороны США издало указ, по которому войны с нерегулярными вооруженными формированиями следует считать “столь же стратегически важными, как и традиционные боевые действия”: это утверждение влияет на военное планирование, будь то в сфере личного состава, техники и вооружения или подготовки{180}. Изменение отношения США к нерегулярным боевым действиям означает повышенное внимание к спецоперациям, сбору разведывательных данных, мерам по борьбе с повстанцами и тому, что военные называют “секретными операциями”, как и кампаниям при участии союзников и местных войсковых формирований. Согласно опубликованному в 2012 году плану, Главное управление войск специального назначения США, части которого размещены в 75 странах, увеличит штат примерно на 6 % – с 66 тысяч человек в 2012 году до 70 тысяч в 2017-м{181}. Контингент растет, и одновременно выясняется, что сегодняшние акции по борьбе с повстанцами отличаются от тех, что описаны в пособиях по спецоперациям. Как показало недавнее исследование Национального университета обороны, сегодняшние боевики реже руководствуются идеологией и подчиняются вождям (как это было во Вьетконге): теперь это обычно “коалиция возмущенных”, которая может возникнуть практически из ниоткуда (как это было в палестинских интифадах){182}.
Армии других стран тоже переживают процесс адаптации. Народно-освободительная армия Китая за последние два десятка лет существенно сократила личный состав в пользу современных технологий. Вследствие этого китайская армия стала чаще принимать участие в миссиях ООН по поддержанию мира (до 2000 года ее роль в подобных акциях была незначительной), а корабли ВМФ Китая все чаще заходят в порты других государств. Участившиеся похищения и убийства китайских рабочих в Судане и других странах заставили правительство задуматься о том, как Китай может защитить свои интересы и своих граждан за рубежом. Военные аналитики изучили опыт ведущих военных держав (США, Китая, Индии, Великобритании, Франции и Израиля), чтобы выявить методы и технологии, которые позволяют как можно лучше подготовиться к наиболее вероятным в наши дни военным кампаниям: контртеррористическим операциям, борьбе с повстанцами, гуманитарной интервенции и миротворческим акциям{183}.
Особые опасения вызывает возможность кибервойны. Данные по кибератакам за последнее десятилетие свидетельствуют, что государства сталкиваются с широким спектром угроз: например, атаки, которые выводят систему из строя, загружают в нее вредоносные программы или заражают вирусами, атаки на сети передачи информации, чтобы получить конфиденциальные данные или нарушить коммуникацию, а также на жизненно важные объекты инфраструктуры (например, электросети){184}. Кибервойны также включают в себя “войны сообщений” – действия, с помощью которых распространяют пропаганду и перенаправляют сайты на другие домены. От разного вида кибератак пострадали компьютерные системы в США, Иране, Грузии, Эстонии, Кыргызстане, Азербайджане и других странах мира. Частные сервисы вроде Twitter и Google Mail тоже подвергались атакам – например, во время беспорядков в Иране летом 2009 года. Однако кибервойны еще не приводили к катастрофам, сопоставимым по масштабу с терактом 11 сентября, поэтому не выделяется существенных средств на их предотвращение. Пока же факты свидетельствуют: правительства медленно привыкают к тому, что войны можно вести и в интернет-пространстве, поэтому хакеры и прочие киберпреступники пока что располагают широкими возможностями, которые позволяют им вмешиваться в работу правительства. А время не ждет: “Изменения в интернете происходят со скоростью света, поэтому так важно всегда быть на шаг впереди, – заявил Амос Ядлин, глава израильской разведки, – у нас есть в лучшем случае несколько месяцев, чтобы среагировать на перемены; сравните с несколькими годами, которые есть у летчиков”{185}.
Впрочем, в том, что приспособиться к новым условиям рассредоточенных боевых действий удается не сразу, необязательно виноваты ученые, замечает военный аналитик Джон Аркилла. “Степень информированности об угрозе в последние два десятилетия медленно, но уверенно растет, – писал в 2010 году Аркилла. – Однако высшее командование не спешит что-либо менять, поскольку убеждено, что ведущие конгрессмены и руководители крупнейших промышленных предприятий выступят против любых попыток радикальных перемен”{186}.
Не утихают и споры о том, что необходимо наращивать традиционный военный потенциал с использованием современных технологий и огневой мощи. Исследователь Джозеф Най, который ввел в употребление термин “мягкая сила”, утверждал, что военный потенциал “по-прежнему определяет ожидания и политические расчеты”. Даже если в конфликте не участвуют обычные войска, они все-таки играют в нем важную роль: сдерживают и запугивают противника. “Вооруженные силы, равно как нормы и институты, помогают обеспечивать минимальную степень порядка”, – писал Най{187}. Но если грубой военной силы уже недостаточно для того, чтобы обеспечить превосходство, возникает вопрос о том, как именно распределяются ресурсы относительно традиционных векторов власти и их новых альтернатив. Разумеется, никто не думает, что террористы могут положить конец великим державам, однако они все же влияют на их решения и лишают многих возможностей, которые раньше правительства этих государств принимали как данность.
Деньги сильнее приказов
Кто же такие “Лос-Сетас”? На первый взгляд, всего лишь одна из многочисленных вооруженных организаций, вовлеченных в давнюю мексиканскую войну с наркотиками. Причем “война” в данном случае – не метафора: с декабря 2006 года до начала 2012 года в ходе операций по борьбе с наркотиками погибли почти 50 тысяч человек{188}. В результате этого конфликта мексиканское правительство утратило контроль над значительной частью территорий и понесло убытки в некоторых отраслях экономики. И с этой точки зрения “Лос-Сетас” – чрезвычайно влиятельная организация. Она контролирует важнейшую территорию на северовостоке Мексики и основной поток наркотиков из Мексики в США через пограничный переход в техасском городе Ларедо. Всего в организации состоит около 4 тысяч боевиков, которые держат в страхе контролируемые территории и обладают влиянием как в Мексике, так и в США. Так что “Лос-Сетас”, пожалуй, один из самых серьезных врагов мексиканских властей в борьбе с наркотрафиком. Однако от большинства других ОПГ эта группировка отличается своим составом. “Лос-Сетас” сколотила собственную армию из дезертиров элитных частей мексиканской армии и полиции. Коррупция и дезертирство встречаются в Мексике не так уж редко, однако “Лос-Сетас” вывели их на новый уровень. Сейчас группировка претерпевает очередные изменения. Между соперничающими наркокартелями идет борьба за власть, и “Лос-Сетас”, некогда состоявшая исключительно из инфорсеров (то есть рядовых боевиков, которые приводят в исполнение приговор главаря), превратилась в независимый наркокартель, ведет войну за основные рынки и каналы сбыта и расширяет свою деятельность в Европе благодаря связям с калабрийской преступной группировкой “Ндрангета”.
Превращение участников “Лос-Сетас” из мексиканских военных в дезертиров и боевиков, а затем и в наркоторговцев демонстрирует изменчивую природу сторон современных конфликтов. Отголоски этого процесса прослеживаются и в том, что растет количество похищений людей с целью выкупа (новый бизнес иракских боевиков, которые, кстати, зачастую оказываются бывшими солдатами армии Саддама Хусейна), в связях “Талибана” с афганской наркоторговлей, в росте пиратства. Все эти примеры свидетельствуют о том, что участниками конфликта движут экономические соображения, будь то желание получить бо́льшую плату или сорвать крупный куш в результате преступной деятельности. Деньги всегда были одной из причин взяться за оружие (или сложить его), но в ситуации децентрализованного конфликта, где самые доступные средства – одновременно и самые эффективные, экономические мотивы особенно сильны, а аргументы в пользу того, чтобы подчиняться командам старших по званию, слабы. Преступный мир, отряды боевиков и частные военные компании предлагают массу возможностей как для тех, кто умеет обращаться с оружием, так и для тех, кто занимается снабжением и организацией, для чего, в свою очередь, все чаще и чаще применяются традиционные “гражданские” технологии.
Иными словами, приказы имеют куда меньший вес в сегодняшних конфликтах, нежели материальные стимулы. В традиционной армии жалованье на втором месте, основные мотивы – преданность родине, гражданский долг, понимание цели (рост числа вступивших в ряды армии США после теракта 11 сентября это наглядно доказывает). Некоторые повстанческие движения (и, разумеется, преступные организации) также исходят из соображений долга и вербуют сторонников, призывая защитить родную землю от оккупантов или веру от неверных. Однако поскольку традиционные роли участников вооруженных конфликтов оказываются размытыми, а число способов принять участие в конфликте и не брать при этом в руки оружие растет, элементы рыночной конъюнктуры (ценообразование, оплата, финансовая оценка альтернативных вариантов) существенно влияют на модели боевых и насильственных действий.
Упадок военной мощи касается всех
Центробежная сила, которая привела к рассредоточению конфликтов, раскрыла и распространила возможности армии на гибридную военно-гражданскую сферу деятельности. Причем этот процесс затронул не только большие государственные армии. Даже новые участники конфликтов рискуют стать жертвой того же процесса распыления, благодаря которому они, собственно, и появились.
Взять хотя бы джихад. Теракт 11 сентября и последующие теракты в Лондоне и Мадриде готовили несколько месяцев, если не лет, силами целой террористической сети, во главе которой стояли такие лидеры, как Усама бен Ладен и Айман аз-Завахири. Недавние теракты, следы которых ведут к “Аль-Каиде”, были куда локальнее и, пожалуй, комичнее (разумеется, об этом мы можем говорить сейчас, когда их удалось предотвратить), учитывая личности потенциальных “обувных террористов” и “террористов с бомбой в трусах”. Но почему? Отчасти, вероятно, потому, что вырос профессионализм организаций по борьбе с терроризмом, так что теперь удается сорвать планы террористов до того, как те приведут их в исполнение. Отчасти же причина в том, как упадок власти и ее возможностей повлиял на мир джихада в целом и на “Аль-Каиду” в частности. Анализируя “трещины в джихаде”, исследователь Томас Рид изучил различные сферы деятельности джихадистов. Повстанцы, которые воюют за свои земли, как правило, не заинтересованы в мировом господстве. Некоторые из “воинов джихада” превратились в членов ОПГ, занялись контрабандой или торговлей людьми, так что теперь ими, почти как участниками “Лос-Сетас”, скорее движет стремление заработать, а не чувство долга. Еще какая-то часть джихадистов происходит из сформированной посредством интернета диаспоры в Европе и Северной Америке и других странах. Некоторые из них принимали участие в полномасштабных военных операциях – как, например, уроженец Алабамы Омар Шафик Хаммами, который из американского старшеклассника превратился в одного из главных лидеров партизан в Сомали{189}.
Разница интересов и возможностей, несовпадение взглядов на то, что считать долгом и целью, – все это делает мир джихада настолько же хрупким изнутри, насколько он выглядит устрашающим снаружи, утверждают Рид и его коллега Марк Хекер. Та же внутренняя хрупкость свойственна и “Талибану”: военные аналитики делят его участников на “воинов с большой буквы”, которыми движет идеология, и “рядовых бойцов”, которые руководствуются корыстными интересами и материальными соображениями. Исследование 45 террористических организаций, которые уже прекратили существование, показало, что лишь малая доля из них действительно потерпела поражение: 26 из 45 распались из-за внутренней борьбы и противоречий. Рид и Хекер утверждают, что иерархическая модель, образцом которой является “Аль-Каида”, – тупиковый путь развития: она требует такой степени координации и порядка, которую террористическая организация не в состоянии обеспечить. Исследователи предполагают, что термин “вики-терроризм” (вольное и уязвимое изложение идеологии, методов и убеждений) куда лучше описывает схему распространения джихадизма, глобальную и менее эффективную{190}.
Дроны, СВУ, военизированное киберпространство, высокоточные управляемые боеприпасы, террористы-смертники, пираты, богатые и хорошо вооруженные транснациональные преступные организации и ряд других игроков уже изменили сферу международной безопасности. Какой она станет в будущем, неизвестно, поскольку все постоянно меняется, так что невозможно что-либо предугадать. Одно можно утверждать с уверенностью: у крупных военных организаций будет куда меньше власти, чем прежде.
Глава 7 Чьим будет этот мир? Запреты, противодействия, информационные утечки, или Почему геополитика становится с ног на голову
28 марта 2012 года произошло событие, оказавшееся сколь важным, столь и малозаметным. Согласно расчетам казначейства Австралии, именно тогда суммарный размер экономик развивающихся стран превзошел аналогичный показатель стран развитого мира. Этот день ознаменовал конец явления, которое обозреватель Питер Хартчер определил как “отклонение, длившееся полтора века… [поскольку] до 1840 года крупнейшей экономикой мира оставался Китай”. В продолжение своей мысли он привел слова Кена Кертиса, известного специалиста по экономическим системам Азии: “Китайцы, глядя на все это, говорят: «У нас выдалась парочка сложных столетий, но и только.» Всего лишь за одно поколение власть во всем мире претерпела серьезные изменения. Со временем данные изменения будут носить не только экономический и финансовый характер, но также политический, культурный, идеологический”{191}.
Так ли это? Читательские комментарии к колонке Хартчера стали примером повсеместно ведущейся полемики с участием научной общественности и видных политиков: какие страны будут задавать тон в недалеком будущем? Дерек из Канберры написал: “Я далек от мысли, что в течение нескольких десятилетий у нас будут серьезные поводы для беспокойства. На бумаге Китай с Индией – державы мировой величины, но в то же время большинство их граждан лишено даже таких элементарных благ, как электричество или канализация”. Некто с ником Barfiller добавил: “Не будем забывать о прочих проявлениях «развивающейся экономики»: пограничные конфликты, права на использование водных ресурсов и природных богатств, патенты на изобретения и прочую интеллектуальную собственность, этнические, религиозные, идеологические разногласия, культурное разнообразие, исторические споры и войны, и т. д., и т. п. Если страна только-только попала в число развитых, это отнюдь не значит, что для нее немедленно настанут райские времена”. Дэвид из Вермонта заметил, что нельзя не учитывать “распределения богатства среди населения этих стран. На мой взгляд, между «благосостоянием» среднестатистического китайца и каким-нибудь привилегированным членом КПК лежит непреодолимая пропасть (то же в Индии)”. Комментатор из Сиднея, скрывающийся под ником Caledonia, был более обеспокоен: “Когда начнет валиться экономика Китая, вам прямая дорога на биржу, и если повезет, можно будет зацепиться за работу уборщика в туалете. Если Китай чихнет, Австралия сляжет с простудой. Если Китай простудится, простуда у Австралии перейдет в воспаление легких”{192}. В приведенных комментариях неявно присутствуют главные представления о том, что делает страну влиятельной, влиятельной настолько, чтобы придать ей статус гегемона – то есть страны, способной диктовать свою волю другим. И как будет показано в этой главе, изменились не только факторы, определяющие статус гегемона, но и само обретение и применение власти в международных отношениях.
На протяжении многих веков соперничество стран за владычество, увеличение территорий и ресурсной базы, расширение их влияния считалось почетным уделом военачальников и послов. В XIX–XX веках представители так называемых великих держав обладали соответствующими их статусу военной мощью и экономическим влиянием, при помощи которых выигрывались войны и заключались союзы, обеспечивалась охрана торговых путей и территорий, а также устанавливались правила для остального мира. После Второй мировой войны на верхушке этой группы появились еще более мощные образования – сверхдержавы. И к началу XXI века, когда СССР стал достоянием истории, мир подошел с одним-единственным глобальным игроком, сверхдержавой и гегемоном – Соединенными Штатами. По мнению многих, впервые в истории борьба за власть, ведущаяся среди стран, дала единственного, очевидного и, вполне вероятно, окончательного победителя.
Обратите внимание на данные WikiLeaks – сетевого ресурса, предавшего огласке более 250 тысяч дипломатических телеграмм США, которые, по зловещему выражению Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, “показывают, сколь велики масштабы слежки Америки за ее союзниками и ООН, как она закрывает глаза на коррупцию и нарушение прав человека в «государствах-сателлитах», как заключает закулисные сделки с якобы нейтральными странами, лоббирует интересы американских корпораций, а также какие меры предпринимают дипломаты США, чтобы покрывать своих протеже”{193}.
Реакция опытных аналитиков, таких как Джессика Мэтьюз, президент вашингтонского Фонда Карнеги, сводится к тому, что в этом нет ничего удивительного: “Именно так выглядела гегемония во все времена. И так в реальности ведут себя господствующие страны”, – едко заметила она{194}.
Помимо всего прочего, из данных телеграмм явствует, что на пути гегемона, стремящегося к цели, встают бюрократия других стран, политики, неправительственные организации, а также обычные граждане. Сделайте выборку телеграмм за любой месяц, и вы увидите, что:
• Америка выкручивает руки Европарламенту, когда он собирается голосовать против особых мер, позволяющих отслеживать финансирование террористических организаций и открывающих доступ к спискам пассажиров авиарейсов;
• российская Государственная дума вытесняет американские платежные системы с рынка банковских платежей, если те не присоединяются к национальной системе карточных расчетов, что существенно уменьшает их доходы;
• идет постоянная борьба за то, чтобы правительство Туркмении вновь разрешило принимать на своей территории американские военные самолеты;
• Америка разочарована отказом правительства Казахстана частично освободить от налогов оборудование и персонал, осуществляющий захоронения использованного ядерного топлива, что является одной из главнейших стратегических задач.
Даже те страны, которые теоретически зависимы от США, редко выказывают послушание. Египет, получивший миллиарды долларов в виде военной и экономической помощи, бросает за решетку высокопоставленных сотрудников американских неправительственных организаций. Пакистан предоставляет убежище террористам из “Талибана” и “АльКаиды”, в том числе и Усаме бен Ладену. Израиль игнорирует требование США не возводить поселений на спорных территориях. Афганистан, чей бюджет в значительной мере формируется за счет финансовой поддержки США и их союзников, порывает с Америкой из-за войны, ведущейся на его территории. А Вашингтон обеспокоен позицией Израиля, который несмотря на все увещевания Америки оставляет за собой право в одностороннем порядке подвергнуть бомбардировкам ядерные объекты Ирана. Как сказал мне бывший советник по вопросам национальной безопасности США Збигнев Бжезинский, мир вступил в “постгегемонную эру”, где “любая из стран лишена возможности навязывать свою волю другим всерьез и надолго”{195}.
То, что случилось с единоличным лидерством США, до сих пор является предметом бесконечных дискуссий. Одно неожиданное событие сменялось другим, и в соответствии с ними менялось мнение, преобладающее в обществе. Поначалу стремительное окончание холодной войны и сопровождавшее его торжество западной идеологии, вкупе с американским экономическим ростом, а также коммуникационным и технологическим бумом 1990-х годов, – все это казалось прелюдией к возникновению нового, однополярного мира, где лишь одной сверхдержаве было бы по силам пресекать лидерские амбиции всех вероятных конкурентов. Но последовавшие вскоре события 11 сентября, не встретившие одобрения действия администрации Буша, появление новых бюджетных ям и продолжительный рост экономики Китая изменили картину. Стали раздаваться голоса, будто Америка теряет свою мощь. И как напоминание о том, что любая империя рано или поздно приходит к закату, стали появляться книги с соответствующими названиями. Одна из них – вышедшая в 2007 году книга Каллена Мерфи “Рим мы или не Рим? Падение империи и судьба Америки” (Are We Rome? The Fall of an Empire and the Fate of America){196}.
Но после фантастической победы Барака Обамы на президентских выборах в США притихла и эта дискуссия. Кредит доверия к Америке был стремительно восстановлен, а вместе с ним – и привлекательность “ненавязчивой власти”, хотя еще несколько лет назад она, казалось, таяла на глазах. И, в свою очередь, все выгоды, которые сулило всеобщее восхищение Обамой, были сведены на нет поразившим Америку финансовым кризисом, глубокими и носящими устойчивый характер финансовыми диспропорциями, а также проблемами в Ираке и Афганистане, решение которых требовало колоссальных расходов. В обращении к нации в 2012 году Обама, выступая в свою защиту, сказал: “Любой человек, который говорит вам, что Америка находится в упадке… просто не понимает, о чем говорит”. Спор о глобальном статусе Америки продолжается до сих пор, вы найдете его отголоски в заголовках последних газет и статистических сводках по экономике, в научных теориях международных отношений и исторических сравнениях с миропорядком прошедших эпох.
Сила Америки кажется шаткой, но то же самое можно сказать и о ее конкурентах. Находящийся по ту сторону Атлантики Европейский союз – амбициозный проект, который многие считали противовесом Соединенным Штатам, – накрыла волна разрушительного экономического кризиса; неповоротливая власть лишь ухудшает его положение, а стареющее население и широкий поток иммигрантов, которых Старый Свет не в состоянии ассимилировать, стали серьезным тормозом его развития. Давняя соперница Америки Россия, унаследовавшая ресурсную базу и военную мощь СССР (еще один пример стареющего общества), является авторитарным государством, которое сидит на нефтяной игле и старается сдерживать постепенно накапливающееся народное негодование. Два десятилетия посткоммунистического кланового капитализма, грубое вмешательство государства во все сферы жизни, разгул преступности – все это сделало из огромной страны увечного непредсказуемого зверя, который, хоть и по-прежнему располагает ядерным оружием, является лишь бледной тенью сверхдержавы-предшественницы.
Как уже отмечалось, для тех, кто ищет признаки зарождения новой великой державы, есть простое решение проблемы: энергия жизни сосредотачивается на Востоке. И правда, согласно данным ассоциации Global Language Monitor, которая отслеживает основные медиаресурсы мира, самой читаемой газетной темой был “подъем Китая”{197}. Китайская экономика бурно развивалась, тогда как весь мир был охвачен рецессией. Военные возможности Китая и его дипломатический вес растут непрерывно. С середины 1990-х темпы роста азиатских экономик вдвое превышали темпы роста экономик США и Европы. Пытающиеся заглянуть в будущее эксперты расходятся только в вопросе скорости, с которой будет увеличиваться отставание западных экономик. Согласно одному прогнозу, уже в 2020 году размеры азиатской экономики превысят суммарный размер экономики США и Европы. Другой прогноз гласит, что к 2050 году Китай будет намного опережать США по основным экономическим показателям; согласуясь с покупательной способностью, размер китайской экономики к середине столетия почти вдвое превысит размер экономики США, ему в затылок будет дышать Индия, а третью позицию займет Евросоюз{198}. В Вашингтоне такие прогнозы вызывают обеспокоенность и тревогу. В Пекине же они – предмет гордости. И как мы видели выше, австралийцы не менее других поглощены этой дискуссией и так же, как все остальные спорщики, не могут прийти к единой точке зрения.
Китай – далеко не единственная страна, претендующая на роль сверхдержавы. Индия, благодаря стремительному росту экономики, вступлению в клуб ядерных держав, а также ввиду технологического и аутсорсингового бума, тоже закрепила за собой статус великой страны. Возрос на мировой арене и престиж Бразилии – крупной страны, которая проводит активную внешнюю политику, занимает шестое место в мире по размеру экономики (сместив с него Великобританию){199} и является членом так называемого БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) – группы активно развивающихся стран. Каждая из вышеупомянутых держав претендует на региональное лидерство и роль инициатора, посредника, мотиватора, а иногда и раздражителя по отношению к менее крупным странам, ее окружающим. Более того, каждая из этих стран принимала в штыки любые проявления гегемонии, но в то же время сама стремилась к лидерству, как в двусторонних отношениях с Америкой или ООН, так и участвуя во множестве многосторонних форумов.
Таит ли подобное поведение государств угрозу стабильности мирового порядка – угрозу, на которую не может не реагировать Америка? Или же они просто стремятся получить максимум благ, исходящих от Pax Americana{200}, и мало заинтересованы в его свержении? Что означает их появление: усиление однополярной системы с Америкой в центре, скорое появление главного соперника-антагониста, такого как Китай, или переход к новому многополярному миру, где США отведена роль рядового члена растущего сообщества союзников, конкурентов и равных партнеров? И что, если авторитет стран БРИКС – либо всех, либо части из них – явление скоротечное и в скором времени их захлестнут проблемы, типичные для бедных стран, раздираемых сложностями в политике, экономике, социальной сфере, экологии? Действительно, после периода стремительного роста экономики страны БРИКС и прочие тигры развивающихся рынков замедлили свое развитие, что служит неиссякаемым источником накапливающегося политического недовольства – неизменного спутника быстро меняющихся обществ. Каждая из вышеизложенных точек зрения найдет своих приверженцев, у которых отыщутся рецепты, что делать той или иной стране для удовлетворения своих интересов и, вполне возможно, сохранения мира на Земле.
Ниже мы рассмотрим, почему тема гегемонии так владеет умами людей, в чьем ведении находятся военная и внешняя политика, и почему любое изменение баланса сил среди господствующих наций мира так или иначе занимает всех – причем гораздо сильнее, чем банальные дискуссии о том, у кого больше ВВП, чья армия сильнее и какая страна лидирует в олимпийском медальном зачете. Но данная глава посвящена тому, что лежит в основе этого феномена, – тому, о чем довольно часто забывают люди, когда говорят о богатстве конкретной страны. Любое государство, где бы оно ни находилось – на вершине пирамиды, на пути к ней или у самого подножия, подвержено влиянию трех революций – революции множества, революции мобильности и революции ментальности, что неминуемо ведет к упадку власти. Небывалый рост товарного производства и населения, беспрецедентный оборот товаров, идей, человеческих масс и, как следствие, скачкообразный рост запросов населения – все это снимает преграды для продвижения власти, что применимо к любым странам независимо от их размера, уровня дохода, политической системы и военной мощи.
Исчезновение преград снимает и различия между главенствующими нациями, которые способны действовать с позиций силы, и бывшими колониями, странами-сателлитами, а также крайне маргинальными образованиями, которыми великие державы помыкали или же пренебрегали. Если когда-то сложные и дорогостоящие системы разведки давали некоторым странам информационный перевес, то в наше время наличие открытой информации и электронных ресурсов дают небольшим государствам возможность с ними конкурировать. Если когда-то миллиарды долларов помощи от крупной державы помогали установить в другом государстве лояльный ей режим, то ныне число источников зарубежной поддержки увеличилось многократно: не столь крупные государства успешно конкурируют с гигантами, а различные фонды распоряжаются суммами, превосходящими ВВП некоторых стран. И если когда-то мощное культурное воздействие оказывали Голливуд и Коминтерн, то в наши дни умами и сердцами властвуют конфуцианские сообщества, болливудские фильмы и колумбийские мыльные оперы.
Растущая возможность малых стран противостоять намерениям крупных государств является частью всеобщего сдвига, заметно расширяющего число участников международных отношений. Структуры вроде “Аль-Каиды”, Фонда Гейтса или телекомпании Al Jazeera действуют по собственным планам, не имеющим жесткой привязки к какой-либо конкретной стране. Террористы, мятежники, неправительственные организации, ассоциации иммигрантов, благотворители, частные компании, инвесторы и финансисты, медиакомпании и новые религиозные сообщества, не признающие границ, существуют, но это не отменяет того факта, что военные и дипломаты востребованы, как и прежде. Но они сужают перечень того, чего могут достигнуть военные и дипломаты, а также влияют на международную повестку дня при помощи новых средств и каналов воздействия. Возьмем “Кони-2012” – фильм, созданный христианским активистом и режиссером Джейсоном Расселом, в котором звучит призыв поймать обвиняемого в военных преступлениях Джозефа Кони. За несколько недель после выхода на YouTube (а не посредством телетрансляции) этот фильм набрал десятки миллионов просмотров, собрал множество пожертвований, лестных оценок знаменитостей и призывов к действию, не говоря уже о хоре злобных завываний со стороны тех угандийцев, которым не понравилось, как в фильме изображена их страна. Разумеется, торговля оружием, государственные программы поддержки и угроза вторжения или торговых санкций не в пример сильнее определяют контуры международных отношений. И далеко не каждая небольшая страна смогла внедрить новый подход к реализации власти, однако многим это удалось.
В непрекращающейся борьбе за военное и промышленное превосходство Америка, Китай, Россия и прочие великие державы не могут не учитывать влияния, которое оказывает этот новый вид активности на их внутреннюю политику, экономику и культуру. И как отмечалось в предыдущей главе, упадок власти серьезно изменил условия, в которых происходит глобальное противостояние. Столь же глубоко и его трансформационное воздействие на характер отношений между государствами в повседневной дипломатии – в той паутине связей, которая определяет нашу жизнь и сплетает в единое целое преобладающий миропорядок. Чтобы оценить его влияние, мы должны обратиться к причинам, в силу которых гегемония и “Большая игра”[15] приобретают первостепенное значение.
Выигрыши от гегемонии
Всякий раз, когда глобальная политика претерпевает серьезные изменения, оживают зловещие призраки конфликтов и анархии. Собственно, когда в иерархии крупных держав происходят какие-то сдвиги, на кону оказывается не просто престиж, но и стабильность, и даже само существование международной системы.
Преследуя свои национальные интересы, любое государство неминуемо сталкивается с интересами других государств. Предметом межгосударственного конфликта могут быть территории, природные ресурсы, доступ к воде или чистому воздуху, морские пути, правила, регулирующие перемещение людей, предоставление убежища враждующим сообществам, а также многие другие вопросы, требующие согласования позиций. И зачастую такое столкновение интересов приводит к пограничным конфликтам, опосредованным войнам (так называемые прокси-войны), территориальным спорам, мятежам, сомнительным операциям секретных служб, гуманитарным интервенциям, насилию со стороны стран-изгоев и узурпации власти в различных ее проявлениях. История пестрит суровыми примерами того, что происходило тогда, когда региональные власти оказывались не в состоянии предотвращать или обуздывать подобные конфликты. На протяжении многих веков, от Тридцатилетней войны и наполеоновских войн до двух мировых войн XX века, масштабы войн и охватываемые ими территории неуклонно росли, умножая количество пролитой крови и жертв.
После 1945 года множество региональных конфликтов вызывали пагубные последствия, не разрастаясь в тотальную мировую войну. В чем смысл этого беспрецедентно продолжительного глобального мира? Каким бы ни был наш ответ, ключевое место в нем занимает гегемония. В течение шести десятилетий у стран не возникало вопросов о месте, занимаемом ими в иерархии наций, а значит, и о том, чьи границы не позволено пересекать. В двуполярной системе холодной войны мир большей частью был поделен между сферами влияния США и СССР, а страны, остающиеся вне этих сфер, находили себе более достойное занятие, чем оспаривание глобального миропорядка. И после окончания холодной войны только одна страна – Америка – возвышалась над всеми другими, превосходя их по части военного потенциала, уровню экономического развития и силе культурного влияния.
В основе львиной доли нынешних дискуссий лежит (где явно, где не очень) теория стабильности в условиях экономической гегемонии, разработанная в 1970-х годах профессором Массачусетского технологического института Чарльзом Киндлебергером. Ее основное положение сводится к тому, что самая влиятельная власть, обладающая исключительной способностью обеспечивать миропорядок и заинтересованная в этом миропорядке, есть наилучшее противоядие от обходящегося дорогой ценой и опасного хаоса планетарных масштабов. Теория гласит, что при отсутствии гегемона единственный путь к миру и стабильности лежит через систему неких правил (нормы, законы, социальные институты), принимаемых каждой страной в качестве платы за те преимущества, которые дают ей мир и стабильность. Само собой разумеется, что это сложная альтернатива, независимо от того, сколько она будет стоить, и зачастую гегемония гораздо лучше выполняет взятые на себя обязательства{201}.
Говоря о периодах мира, разделяющих войны, Киндле-бергер заявляет, что бурные экономические и политические события того времени: крах золотого стандарта, Великая депрессия, нестабильность в Европе и усиление фашистской угрозы свидетельствуют о крахе гегемонии. Готовность и способность Великобритании использовать силу и деньги для поддержания собственного превосходства переживали нелучшие времена. Единственный реальный претендент на место гегемона – Соединенные Штаты Америки – был скован изоляционистской позицией, которую он занимал. Отсутствие стабилизирующего фактора – гегемона, обладающего как возможностью, так и политической волей использовать свою власть для сохранения порядка, – только способствовало дальнейшему распространению депрессии и, в конечном итоге, началу Второй мировой.
Историки, используя множество способов оценки государственной власти, от количества населения и объемов товарного производства до военных расходов и промышленного потенциала, определили несколько моментов, когда полная гегемония одного государства, сводящаяся в основном к его превосходству над всеми остальными странами, была наиболее явной. Великобритания 1860-х и Соединенные Штаты после Второй мировой, с 1945 по 1955 год, – вот два примера, которые “отражают наибольшую концентрацию власти в системном лидере”, как утверждал Уильям Уолфорт после того, как данные примеры были подвергнуты всестороннему анализу. Но даже они меркнут рядом с Америкой времен после холодной войны. “Соединенные Штаты – первое в современной истории международных отношений ведущее государство с огромным перевесом по всем основным составляющим власти: экономической, военной, технологической и геополитической”, – писал Уолфорт в 1999 году. Он утверждал, и впоследствии это мнение было подхвачено рядом других аналитиков, что, когда Соединенные Штаты взяли на себя роль абсолютно доминирующей силы при полном отсутствии реальных соперников на всевозможных аренах международного соперничества, это привело к появлению однополярного мира. Это была совершенно новая для мировой истории конфигурация, а компоненты, из которых она состояла, позволили ей не только достигнуть международного мира и стабильности, но и сохранять это положение долгое время{202}.
Новые ингредиенты власти
Именно успех Соединенных Штатов в установлении гегемонической стабильности способствовал тому, что на мировой арене вышли на передний план два новых измерения власти. Первое – это “мягкая сила”, концепция, согласно которой власть государства реализуется и укрепляется при помощи культуры и проповедуемой им идеологии. А второе измерение – лавинообразный рост числа организаций, соглашений, межгосударственных законов и конвенций, к которым во второй половине XX века продолжали присоединяться все новые и новые страны. Эта растущая как снежный ком совокупность институтов породила систему всемирного сотрудничества, а количество задействованных в ней участников и затрагиваемых ею сфер жизни превзошло даже самые смелые ожидания.
Во времена империализма (о какой бы империи мы ни вели речь – Римской, Британской, Французской) предшественницей мягкой силы была более жесткая mission civilisatrice[16], целью которой было приобщить обитателей подчиненных колоний к достижениям западной цивилизации, привлекая их более высоким уровнем благосостояния, а также созданием образовательных, социальных и культур ных структур. Более терпимую, более мягкую и более эгалитарную современную версию власти постулировал политолог Джозеф Най, высокопоставленный чиновник первой администрации Клинтона, в вышедшей в 1990 году книге “Призвание к лидерству: изменяющаяся природа американской власти” (Bound to Lead: The Changing Nature of American Power). Концепция прижилась, и Най расширил ее в книге 2004 года “Мягкая сила”. Ее подзаголовок – “Слагаемые успеха в мировой политике” – показывает, о чем пойдет речь в этой книге{203}.
В представлении Ная мягкая сила – это трудноизмеримая, но легко выявляемая разновидность власти: власть репутации и уважения; доброжелательности, излучаемой прекрасно зарекомендовавшими себя институтами; экономики, с которой чаще предпочитают иметь деловые и торговые отношения. Возможно, эту форму власти сложнее описать в количественных показателях, чем количество истребителей, пехотных дивизий или миллиарды баррелей нефтяных запасов, но ее ценность не менее очевидна. В 1990-х годах стало совершенно ясно, что дополнительными составляющими мягкой силы США стали Силиконовая долина и Голливуд, способствующие всемирному распространению технологических новаций и развлекательной продукции, проповедующей американские культурные ценности. Мягкая сила – явление, свойственное не только Соединенным Штатам, однако в середине 1990-х американское доминирование на этой новой ключевой арене власти казалось столь же абсолютным, как и в традиционных областях.
Кроме того, достигло небывалого в истории размаха и международное сотрудничество. Начиная с создания в 1945 году Организации Объединенных Наций, правительства непрерывно увеличивали инвестиции в новые инструменты сотрудничества. Только с 1970 по 1997 год количество международных соглашений увеличилось больше чем втрое{204}. Государственный департамент Соединенных Штатов ежегодно публикует перечень действующих в США договоров, который насчитывает без малого пятьсот страниц и включает тысячи соглашений, охватывающих буквально все – от белых медведей и дорожного движения до ядерного топлива{205}. Век назад можно было бы только мечтать о нормах поведения государств, руководящих органов и организаций, которые сегодня приняты многими участниками. Они регулируют практически все – от вопросов обращения с военнопленными и промысла рыбы до тарифов на международные телефонные звонки. Торговля, финансы, средства коммуникации, миграция, космические программы, распространение ядерного оружия, растения и животные, которым грозит вымирание, эпидемии, терроризм, преступность – по всем этим вопросам существуют соглашения или организации, которые сужают свободу действий отдельных стран, но создают пространство для взаимных компромиссов и разрешения противоречий.
Ученые называют это режимом – сводом правил, призванных решить ставшую предметом всеобщего беспокойства конкретную проблему. И когда мы понимаем, что возникает очередная глобальная проблема – в качестве примеров возьмем хотя бы изменение климата или финансовую нестабильность, – здоровый инстинкт подсказывает нам, что следует объединить усилия и попытаться создать такой режим, при котором все страны будут решать ее сообща, а не по отдельности. Это далеко не та хищническая, подчиненная узкокорыстным интересам государственная политика, которую рассматривали как само собою разумеющееся Макиавелли и Гоббс. Сегодня, когда мир состоит из почти двухсот отдельных суверенных государств, гораздо чаще удается приходить к консенсусу касательно того, как следует себя вести различным государствам. Сочетание гегемонии и правил поведения всегда благоприятно сказывалось на глобальной стабильности. Эти подходы не конкурировали, а дополняли друг друга. Сама система Организации Объединенных Наций, предусматривающая постоянные представительства и право некоторых членов Совета безопасности ветировать решения, была устроена таким образом, чтобы укрепить авторитет стран-победителей во Второй мировой войне, и в частности авторитет Соединенных Штатов. Америка взвалила на себя традиционный груз забот, проистекающих из лидерского статуса: военное присутствие в Европе и Азии, роль мирового полицейского, подписание плана Маршалла, формирование львиной доли бюджета ООН и бюджетов других международных организаций. Соперник Америки Советский Союз, создавая блок сателлитов из восточноевропейских государств и развивающихся стран, действовал при помощи идеологии, нефти и оружия. Поддерживаемое угрозой вполне реального взаимного ядерного уничтожения, противостояние двух государств практически не оставляло пространства для возникновения и расширения каких-либо локальных конфликтов. И после распада Советского Союза Америка сохранила все признаки гегемона и бремя обязанностей, налагаемых этим статусом. Она обладала неоспоримым военным превосходством, крупнейшей в мире экономикой, капиталовложениями и торговыми связями по всему миру, сильной и стабильной политической системой, безопасной для жизни и хорошо охраняемой государственной территорией, а также густой сетью дипломатических, военных и разведывательных миссий в каждом уголке планеты, представляющем интерес. В то же время разветвленная структура международных соглашений и форумов препятствовала ожесточению споров и перенаправляла энергию соперничества в более конструктивное русло дискуссий и соглашений. Сторонники теории стабильности в условиях экономической гегемонии торжествовали: жесткая власть оружия и денег, мягкая сила культуры и идеологии, а также сдерживающие узы социальных институтов наводили на мысль, что впереди нас ожидает длительный и полный всяческих достоинств Pax Americana.
Если не гегемония, то что?
Спустя десятилетие картина усложнилась. Беспрецедентный по дерзости теракт 11 сентября развеял иллюзии Америки о территориальной неприкосновенности. Неразрешимые конфликты в Ираке и Афганистане показали, что военное превосходство США небезгранично. Финансовый кризис и масштабная рецессия обнажили слабые места в американской экономике. Руководство демократов и республиканцев пыталось преодолеть разногласия в вопросах внутренней политики, раздиравшие две крупнейшие партии США. И в то же время говорить о появлении какого-либо соразмерного им конкурента не было никаких оснований. Китай, Индия демонстрировали феноменальный рост, но по-прежнему существенно отставали от лидера, а кроме того, серьезные внутренние проблемы никак не укрепляли их позиций. Каких-либо новых союзов или соглашений между странами, которые всегда не против поиграть на слабостях Америки, также не наблюдалось. Классические элементы равновесия – те самые, при помощи которых государства готовы способствовать возникновению союзных отношений с одними странами и пресекать влияние других, – по-прежнему бездействуют. Несколько стран ведут неприкрытую борьбу за лидерство, используя для этого глобальные переговорные площадки, охватывающие буквально все – от правил ведения торговли до изменений климата, но это все-таки не концентрация военной техники на границах с сопредельными государствами. С тех пор как было прекращено действие Варшавского договора, в мире не возникло ни одного военного альянса, готового оппонировать НАТО с США во главе. И тем не менее, когда мы говорим об использовании Америкой (внутри которой противостоят друг другу два политических лагеря) своего положения гегемона, ее действия вызывают двоякие ощущения. Так в чем же здесь, собственно, дело? За последние годы это чувство беспокойства породило массу домыслов и много раз служило поводом для волнений{206}.
Ответом на этот вопрос была попытка указать на признаки упадка Соединенных Штатов и поставить их в прямую зависимость от ослабления экономической мощи страны и нехватки политической воли покрывать издержки гегемонии. Ученые с завидной регулярностью обращаются к этой теме. Автор вышедшей в 1987 году известной книги под названием “Взлет и падение великих держав” (The Rise and Fall of the Great Powers), историк Йельского университета Пол Кеннеди, описывает изменения, происходившие в системе мировой власти в течение пяти веков, а в завершение предупреждает о зыбкости американского владычества, делая этот вывод из опыта предыдущих империй, которые погибали тогда, когда теряли возможность ресурсной подпитки своих далеко идущих военных планов. Казалось, что распад Советского Союза показал несостоятельность предсказания Кеннеди, но стоило произойти событиям 11 сентября 2001 года, как мир опять заговорил о предостережении ученого. Теперь даже самые пылкие адепты американской гегемонии высказывали опасения, что наибольшая угроза мировому порядку исходит не столько от внешних конкурентов, сколько от того, что сами США перестали соответствовать своей роли. В своей книге “Колосс” (Colossus), увидевшей свет в 2004 году, британский историк Ниал Фергюсон, автор множества публикаций, утверждает, что Америка, как “либеральная империя”, должна собраться с силами и проявить ответственность, взяв на себя обязанности лидера. Согласно Фергюсону, правил и режимов, появившихся в послевоенные годы, недостаточно для того, чтобы противодействовать исходящим от стран-изгоев угрозам, терроризму или эпидемиям, – поможет только собранная воедино новая мощь, усиленная достижениями технологий. “То, что нам нужно, – это сила, способная на вмешательство… ради борьбы с эпидемиями, свержения тиранов, завершения локальных войн и ликвидации террористических формирований”. Иными словами, нужен обладающий соответствующими возможностями активный гегемон{207}.
Концепции о том, как будет выглядеть международное соперничество в недалеком будущем, весьма разнообразны. Роберт Каган, ученый консервативного толка, прогнозировал, что “XXI век будет напоминать XIX век”, а за место под солнцем в нем будут бороться страны вроде Китая, России, Индии и объединенной Европы{208}. Еще одна концепция гласит, что даже когда страны-соперники избегают открытого противостояния с американской гегемонией, они не гнушаются методов так называемого “мягкого балансирования”, включающих такие инструменты влияния, как неофициальные договоренности, создание ситуативных альянсов на различного рода международных форумах, а также непринятие дипломатических и военных инициатив США, – с единственной целью: ограничить и ослабить американскую гегемонию{209}. Некоторые аналитики убеждены, что подобные опасения беспочвенны: американской гегемонии подобные шаги не повредят. Даже с появлением в мире новых соперников и многочисленных центров влияния – “постамериканском мире”, как определил его Фарид Закария, – Америка будет обладать преимуществами, присущими только ей, и это лишь укрепит ее могущество{210}.
Есть и такие, кто считает: в мировой экономике и нашем образе жизни произошли настолько радикальные изменения, что ни чья-либо гегемония, ни признаваемые целым миром правила невозможны по определению. Аналитики этого толка опасаются, что мир погружается в некую разновидность анархии – первобытного состояния мировой системы. Роберт Каплан уже в 1994 году усматривал возникновение анархии в наличии несостоявшихся государств, этнических противостояниях, безудержном росте террористических и криминальных сетей, а также в уязвимости мира, где все взаимосвязано, перед распространяющимися болезнями и прочими катаклизмами. Еще более мрачную картину нарисовал политолог Рэндалл Швеллер, который сравнил перемены, ведущие мировую систему к первичному состоянию, с распространенным в физике понятием энтропии, которая дезорганизует любую систему настолько, что изменения в ее природе становятся необратимыми. Избыток информации, широкий спектр отличий, интересов, заявляет Швеллер, – все это приведет к тому, что международная политика утратит всякую системность. “Состояние энтропии уменьшит и разредит годную к употреблению в системе власть, – пишет он. – Никто не будет знать того, где искать органы власти, по той простой причине, что их не будет нигде; а без органов власти не может быть и речи о каком бы то ни было управлении”{211}.
Мировая система находится в непрестанном движении. Дискуссии, о которых мы говорили выше, конечно же, важны, но доверие к ним резко падает, когда основные теории, объясняющие, куда движется этот мир, столь разительно отличаются друг от друга и допускают перелицовку общепринятых истин. Прояснить картину нам поможет упадок власти.
Кому страшен серый волк? О тупиках традиционной власти
Инструменты, к которым прибегали крупные державы для достижения своих целей в системе международных отношений, в основе своей не претерпели каких-либо серьезных изменений. Обычно предпочтение отдается оружию, деньгам и искусству дипломатии. Сильная армия, оснащенная по последнему слову науки и техники и полностью укомплектованная персоналом, готовым к ведению боевых действий, крупная экономика, передовые технологии и обеспеченность природными ресурсами, преданные и прошедшие хорошую выучку дипломаты, юристы, разведчики, а также привлекательная идеология или система ценностей всегда оставались весомыми факторами международного влияния. В любую историческую эпоху совокупность этих признаков давала преимущество странам с наибольшим количеством населения, экономически развитым, политически стабильным и с богатыми природными ресурсами. Но в данном случае мы не говорим об уменьшении этих параметров. Напротив, снижается эффективность, пригодность и сила воздействия традиционных методов той власти, основу которых они составляют, – военной, экономической или же мягкой силы.
От силы подавления к эпохе ситуативных союзников
Как понятно из предыдущей главы, одна страна – Соединенные Штаты – тратит на вооружение, войска и логистику больше, чем все остальные вместе. И это не напрасные расходы. Pax Americana, где американское военное превосходство есть наивысшая форма гарантии стабильности, уже стал реальностью. Собственно, сегодня США официально гарантируют безопасность более чем пятидесяти государств{212}. Превосходство Америки над прочими странами по части военных расходов остается прежним, как и беспрецедентное американское военное присутствие в 130 странах мира, в виде как крупных контингентов, расквартированных на долгосрочной основе, так и небольших подразделений, состоящих из военных инструкторов, миротворцев, а также отрядов для проведения спецопераций и подавления мятежей.
Кроме того, США возглавляют НАТО – наибольший, а после распада противостоявшего ему Варшавского договора и единственный в мире военный альянс такого масштаба. Из всевозможных признаков гегемонии этот – самый существенный. Союзы всегда были ключевым инструментом политики великих держав, дополняя дипломатию угрозой тех или иных военных действий, определяя сферы влияния и запретные зоны и упреждая агрессию гарантиями взаимной защиты. Иначе говоря, они были структурными элементами мирового порядка. И многие десятилетия союзы мира строились по единому, неизменному образцу. НАТО и Варшавский договор установили жесткий порядок по обе стороны железного занавеса. Недавно обретшие независимость страны третьего мира быстро оказывались в центре их внимания и вовлекались, где кнутом, где пряником, в орбиту западного мира или соцлагеря.
Сейчас, через десять с лишним лет после упразднения Варшавского договора его участниками в июле 1991 года, НАТО ликует. Еще бы: в него вошли три бывшие советские республики, а также семь бывших членов советского блока.
НАТО с Россией остаются соперниками: Россия выступает против расширения альянса за счет своих соседей и против развертывания в Центральной Европе средств противоракетной обороны НАТО. Но кроме того, было также заявлено, что НАТО с Россией не враги, а партнеры, а с 2002 года действует специальный совет, призванный нормализовать отношения между ними и разрешать любые споры. Кроме России, у НАТО нет другого очевидного потенциального врага – новая ситуация для главного альянса, заставляющая искать себе новые способы применения. Главный вопрос, стоящий на повестке дня, – миссия альянса в Афганистане, в которой участвуют военнослужащие всех двадцати восьми государств-членов НАТО, а также еще двадцати одного государства.
Но в альянсе появляется все больше слабых мест, вследствие двух обстоятельств: ничто не угрожает существованию самого НАТО, и сила НАТО равна суммарной силе стран, в него входящих. В афганской миссии основная нагрузка приходилась на США, вклад же остальных государств был гораздо скромнее, некоторых – вообще символическим. Несколько стран прекратили участие в этой миссии. Когда в Нидерландах начались протесты против присутствия в Афганистане нидерландских войск, эти протесты стали одной из причин падения в феврале 2010 года правительства Нидерландов, а затем страна отказалась от участия в миссии. Такие участники миссии, как Франция и Германия, ответили отказом на просьбу американской стороны о вводе дополнительных войск. Кроме того, все присутствующие в Афганистане контингенты действовали по разным правилам, диктуемым национальными военнокомандными учреждениями и даже законодательными органами той или иной страны. Принятое в Праге или Гааге парламентское постановление вполне могло регламентировать, что позволительно, а что нет солдатам НАТО, если придется воевать с “Талибаном”, готовить афганских солдат или бороться с торговцами опиумом. Из-за таких ограничений некоторые американские солдаты стали расшифровывать аббревиатуру ISAF (International Security Assistance Force, то есть “Силы содействия международной безопасности”) как I Saw Americans Fight (“Я видел дерущихся американцев){213}.
Пока НАТО пытается преодолеть эти противоречия, право координировать действия входящих в него стран оспаривают параллельные структуры. Частично его функции дублирует действующая уже не первое десятилетие оборонная структура – Западноевропейский союз. У Евросоюза есть свой исполнительный орган по вопросам оборонной политики, в состав которого входят Европейское оборонное агентство и ряд других структур. Это агентство проводит свои, независимые от НАТО, зарубежные операции, в числе которых миротворческие миссии, предоставление военной помощи, а также участие в многонациональных воинских формированиях. Разумеется, каждая страна Евросоюза по-прежнему имеет свою армию. Взаимодействие НАТО с национальными правительствами и бюрократическими структурами Евросоюза привело к тому, что Североатлантический альянс все больше напоминает винегрет из разных юрисдикций и международных форумов, где дублируются многие функции, но начисто отсутствуют иерархия принятия решений и четкая субординация.
Появление “добровольной коалиции” в качестве новой разновидности многонациональных военных инициатив – яркое свидетельство того, что подобные объединения теряют свою силу. Сильнее всего эта тенденция проявилась при возникновении ситуативного союза стран, готовых либо принять участие в американском вторжении в Ирак 2003 года, либо поддержать его каким-либо иным способом. Но все вышесказанное также относится к операции в Афганистане и к спасательным, миротворческим и гуманитарным миссиям, от оказания помощи пострадавшим при землетрясении до патрулирования морских путей близ Сомали (где военные разных стран действуют сообща при формальном отсутствии соглашений, возможных при подобных обстоятельствах, а также без побуждающей к участию главенствующей силы). Поскольку решение об участии “добровольцев” принимается исходя из конкретной ситуации (а не согласно прописанным в договоре условиям), их обеспечение зависит от политической обстановки в их странах, готовности этих стран длительное время покрывать финансовые издержки, а иногда и от дополнительных договоренностей о преференциях, получаемых ими в обмен на участие; так, некоторые страны – участницы иракской операции добились для своих граждан упрощенной процедуры выдачи въездных американских виз.
Что же касается реально существующих новых союзов, возникших в мире в эпоху Pax Americana, то некоторые из них – обычные объединения стран с целью военного сотрудничества членов того или иного территориального образования (скажем, того же ЕС). Например, Африканский союз располагает собственными миротворческими силами, которые участвуют в урегулировании региональных конфликтов. Южноамериканский Совет по вопросам обороны развивает военное сотрудничество в Латинской Америке. Но по форме это совсем не те традиционные альянсы, которые строятся на тесном взаимодействии, общих планах и совместных технологиях и на гарантиях взаимной безопасности. Теоретически можно было бы ожидать появления нового союза вокруг того или иного государства, несогласного с единоличным лидерством США (такого как Китай или Россия), с тем чтобы тот занял место Варшавского договора. И напротив, активнейшие усилия – хоть в основном и бесплодные – прилагал президент Венесуэлы Уго Чавес для создания совместно с Кубой, Боливией и другими сочувствующими странами военного блока, который должен был бы стать региональным противовесом США. Фактически сегодня существуют более представительные “альянсы” между государствами и поддерживаемыми ими негосударственными субъектами: между Ираном и “Хезболлой” с “Хамасом”, а также предполагаемая связь между Венесуэлой и такими организациями, как “Революционные вооруженные силы Колумбии” (FARC) и организация “Отечество и свобода басков” (ЭТА){214}.
Единственной военизированной ареной, где по-прежнему сохраняется сложившаяся иерархия игроков, остается торговля оружием, по крайней мере теми видами, которые считаются традиционными. Тон здесь, как и когда-то, задают уже не одно десятилетие возглавляющие список торговцев оружием США, Россия, Китай, Франция, Германия, Италия, на которые приходится львиная доля торговых сделок. Но официальные продажи, подкрепленные правительственным финансированием, это всего лишь часть реального объема мирового рынка оружия. Как говорится в докладе генерального секретаря ООН за апрель 2011 года: “За последние десятилетия характер торговли оружием существенно изменился: если раньше все, как правило, сводилось к непосредственным контактам с правительственными чиновниками или агентами, то сегодня почти повсеместно им на смену пришли частные посредники, действующие в условиях чрезвычайно глобализированного мира, нередко – через сложную цепочку получателей”{215}. Эта часть торговли оружием, нерегламентированная и зачастую не имеющая привязки к конкретному государству, никем не контролируется и свидетельствует о падении влияния национальных министерств обороны в условиях вооруженного конфликта – и является очередным показателем упадка власти.
Закат экономической дипломатии
Помимо создания военных альянсов, великие державы традиционно прибегают и к экономическим рычагам воздействия, привлекая к защите своих интересов другие страны. Простейший инструмент – двусторонняя (то есть идущая непосредственно от правительства к правительству) помощь в виде кредитов, грантов, преферентной торговли, а также соглашений по совместной разработке полезных ископаемых. Также экономическая дипломатия может носить карающий характер, принимая форму торговых барьеров между странами, бойкотов, эмбарго и санкций, направленных против экономических институтов той или иной страны.
Опять-таки методы сохранились, однако их действенность как средства применения власти заметно снизилась. Кроме того, благодаря интеграции мировой экономики зависимость какой-либо одной страны от поставок, потребительского рынка или денежных поступлений из другой страны уменьшилась до предела. На переговорах по вопросам международной торговли Соединенные Штаты и прочие богатые страны долгое время отстаивали устранение торговых преград и бо́льшую открытость рынков капитала. Их победа, наряду с повсеместным принятием “вашингтонского консенсуса” в качестве условия для денежных займов Всемирного банка, Международного валютного фонда и других организаций, как ни парадоксально, привела к ослаблению власти, которой располагали в своих сферах влияния Соединенные Штаты и такие колониальные в прошлом державы, как Великобритания и Франция.
Введение санкций против Ирана в надежде на то, что он приведет свою ядерную программу в соответствие с условиями мирового сообщества, – не более чем исключение, подтверждающее правило. Организация Объединенных Наций, Соединенные Штаты, Европейский союз и некоторые другие страны вводят все новые и новые ограничения на торговлю с Ираном, включая эмбарго на иранскую нефть, сокращение трансакций с его Центральным банком и ограничения на туристические и деловые поездки. Однако Соединенным Штатам пришлось пойти на предоставление льгот своим союзникам, зависящим от иранской нефти, и дать ответ на непростой вопрос: подвергать ли наказаниям такие дружественные страны, как Южная Корея, Индия, и соперников, способных дать адекватный ответ (тот же Китай, например), за их нежелание снижать объемы торговли с Ираном.
Целевое использование государственной власти для выделения помощи странам, которым оказывается предпочтение, тоже перестало быть привилегией нескольких держав. К концу Второй мировой войны в мире насчитывалось порядка пяти-шести государственных агентств по оказанию такой помощи. Сегодня их более шестидесяти. В 1950-х годах львиная доля предоставляемой помощи (88 %) приходилась на три страны: США (58 %), Францию (22 %) и Великобританию (8 %). Первое значительное расширение области двусторонней поддержки произошло в 1960-х годах, когда собственные агентства по оказанию помощи другим странам создали такие государства, как Япония, Канада и ряд европейских стран. Вскоре крупными игроками на этом поприще стали Нидерланды и страны Скандинавии, чья доля помощи (в процентах от национального дохода конкретной страны) превышала аналогичный показатель для США, Великобритании или Франции. В 1970-е годы на нефтедобывающие арабские страны пролился золотой дождь, что позволило им заняться учреждением фондов развития, которые использовались для поддержки различных проектов в мусульманских и африканских странах. В 1990-е годы картина снова изменилась: список стран-доноров пополнили страны Восточной Европы; кроме того, полноправными участниками экономической поддержки странам третьего мира стали такие крупные государства, как Индия и Бразилия, стремительно набиравшие вес{216}. К 2009 году на США, Францию и Великобританию приходилось уже всего 40 % от общего объема помощи, официально предоставленной развивающимся странам{217}.
Это лишь часть общей картины, отображающей двусторонние отношения, и охватывает она 70 % от суммарного объема предоставляемой экономической поддержки. В мире насчитывается как минимум 263 многосторонних агентства по оказанию помощи{218}, от Всемирной организации здравоохранения до региональных организаций вроде Скандинавского фонда развития или специализированных агентств, таких как Всемирный центр рыболовства или Международный совет по контролю за йододефицитными заболеваниями. И в качестве последнего штриха – значительный рост объемов помощи, предоставляемой в частном порядке через неправительственные организации, которые преследуют свои задачи. В 2007 году общий размер официально предоставленной развивающимся странам поддержки (как двусторонней, так и многосторонней) составил около 101 миллиарда долларов, а частной – порядка 60 миллиардов долларов{219}. По некоторым оценкам, число людей, занятых оказанием частной помощи, превышает количество персонала в правительственных структурах и многосторонних организациях, конкуренция с которыми становится все более и более успешной.
Быстрый рост числа источников означает, что средняя страна-получатель имеет дело с огромным количеством партнеров (а не ограниченным их числом), что исключает возможность монополизации данной сферы и получение большего (в сравнении с другими игроками) влияния на правительство этой страны. В 1960-х годах существовало порядка двенадцати доноров, направлявших выделенные иностранными правительствами средства в ту или иную страну, в 2001–2005 гг. это число выросло почти втрое и достигло тридцати трех{220}. Рассредоточение экономического влияния власти становится более ощутимым, когда речь заходит об иностранных инвестициях. Те дни, когда United Fruit Company играла роль проводника американских интересов в так называемых “банановых республиках”, давно канули в Лету. Прошли те времена, когда транснациональные компании выступали защитниками национальных интересов своих метрополий, расширяли сферу государственных интересов, а иногда (где больше, где меньше) брали на себя роль внешнеполитических игроков. Из-за расширения глобальных рынков, роста возможностей аутсорсинга и производственного потенциала, непрекращающихся слияний и поглощений, а также вложений частных инвесторов, ТНК точно так же не зависят от внешней политики своих “родных” стран, как и раньше. Например, какой конкретный национальный интерес вы припишете крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, зная, что сама компания находится в Европе, ее акциями торгуют фондовые биржи шести стран, а основная доля капитала в ней принадлежит индийскому миллиардеру?
В общем, если какие-то страны и могут сказать, что сфера их интересов расширилась благодаря зарубежным инвестициям последних лет, то это развивающиеся страны, чьи компании стали активными международными инвесторами (особенно в сельскохозяйственном секторе, добыче полезных ископаемых, строительной и телекоммуникационной отраслях). Нефтяные компании Petrobras (Бразилия) и CNOOC (Китай), крупный игрок на рынке резиновых изделий Sima Darby (Малайзия), производитель цемента CEMEX и продуктовая компания Bimbo (Мексика), мобильные операторы MTN (ЮАР) и Bharti Airtel (Индия) – вот лишь немногие участники так называемых прямых международных инвестиций Юга в Юг, поддерживаемых набирающими силу инвестиционными агентствами, экспортно-импортными банками и политическим страхованием рисков. В мире имеется порядка 20 тысяч транснациональных компаний, чьи штаб-квартиры расположены в развивающихся странах. Пока что инвестиции, исходящие из развивающихся стран, составляют меньшую часть мировых иностранных инвестиций, но и они показали фантастический рост, взлетев от “каких-то” 12 миллиардов долларов в 1991 году до 384 миллиардов в 2011 году. При этом стоит отметить, что доля инвестиций в другие развивающиеся страны в общем объеме капиталовложений с каждым годом растет. В 2011 году более 40 % от общего числа слияний и поглощений произошло с участием инвесторов из развивающихся стран. Это влечет определенное распределение по странам руководящего состава, кадров, торговых марок, что в корне меняет представление об иностранных инвестициях как об инструменте политического воздействия богатых государств{221}.
Пока что экономическая дипломатия сохраняет очень неплохие шансы на переход в плоскость политических влияний там, где уровень неудовлетворенных потребностей наибольший, а конкуренция с другими участниками и частным сектором – самая слабая. В последние годы таким местом оставалась Африка, и именно на Черном континенте столкнулись интересы Китая и Запада. По форме это противостояние очень напоминает борьбу за сферы влияния в духе прежних времен, а то обстоятельство, что происходит все при наличии сулящих огромные прибыли запасов нефти и в условиях политической нестабильности, лишь подчеркивает это сходство. Последние десять лет влияние Китая в Африке только росло: Китай строил дороги, больницы, другие объекты инфраструктуры, весьма преуспел в создании нефтедобывающих концессий, обогнав по этому показателю западные компании, а также быстро и успешно осуществлял различные проекты. При этом он полностью (или почти полностью) избегал столь свойственных финансовым агентствам Запада бюрократической рутины и чрезмерной регламентации своих действий. Щедрым подарком Китая Черному континенту – одним из немногих за последнее время – стало построенное в Аддис-Абебе здание штаб-квартиры Африканского союза стоимостью 200 миллионов долларов. Этот жест благодарности, вкупе с поддержкой суверенитетов стран-реципиентов и снисходительным отношением к волнениям и мятежам, способствовал росту авторитета Китая в глазах африканских элит и создал весомые предпосылки для появления у французских и американских компаний и агентств серьезного соперника. Но быстрый рост китайского влияния на Черном континенте также чреват угрозой его быстрого упадка, особенно если иметь в виду, что Индия, ЮАР, государства арабского мира из года в год увеличивают объемы своих инвестиций в африканские страны.
Мягкая сила для всех
Военное и экономическое влияние крупных держав становилось слабее, и то же самое можно сказать об их главенствующем положении в осуществлении политики мягкой силы, хоть это непросто выразить в количественных показателях. Согласно исследованиям, проведенным в рамках глобального проекта Pew Global Attitudes (который начиная с 2002 года поддерживает все большее и большее количество стран), за годы президентства Джорджа Буша-младшего имидж Соединенных Штатов как глобальной державы ухудшился (чему особенно способствовало вторжение в Ирак), но стал улучшаться после избрания Барака Обамы, то приближаясь к показателям 2002 года, то достигая их, а временами и превосходя. Как свидетельствуют проведенные в Германии соцопросы, в 2002 году к США доброжелательно относилось 60 % населения Германии, в 2007-м – уже 30 %, а в 2009-м – 64 %. В Турции же показатель положительного отношения к Америке упал с 30 % в 2002 году до 9 % в 2007-м – и вырос до 14 % в 2009-м. Измеренная таким образом мягкая сила Америки далека от постоянства: в 2009 году уровень поддержки американцев составлял в Нигерии 78 %, в Великобритании – 69 %, в Китае – 47 %, в Аргентине – 38 %, а в Иордании – 25 %. Более того, к 2012 году во многих странах “дивиденды Обамы” уменьшились.
Аналогичный опрос по Китаю дает точно такой же разброс результатов: согласно полученным данным, имидж этой страны больше всего укрепился в Нигерии (59 % одобряющих в 2006 году против 85 % в 2009-м), тогда как в Турции картина прямо противоположная (40 % в 2005 году и 16 % в 2009-м). Граждане многих других стран, участвовавших в опросе, демонстрировали сдержанное отношение к Китаю (на уровне 40–50 %). Впечатляет, что, согласно сообщениям агентства, в 2011 году большинство либо значительная часть опрошенных в пятнадцати из двадцати двух стран назвали Китай той страной, которая сменит (по мнению некоторых, уже сменила) Америку в качестве мировой сверхдержавы номер один. Мнения относительно ЕС были различными: с 2010 по 2011 год общее представление о нем ухудшилось в тринадцати странах из двадцати, тогда как отношение к России вот уже довольно продолжительное время остается негативным (хуже в мире относятся только к Ирану). Правда, есть и приятные исключения (так, в 2009 году положительно относились к России 57 % ливанцев и 74 % ливанцев были того же мнения об Иране){222}.
Все это неминуемо подводит нас к мысли, что концепция мягкой силы как минимум весьма относительна и очень сильно зависит от краткосрочных изменений в международной обстановке, в мире, где информация передается с небывалой скоростью. Многим странам это ничуть не помешало взять данную концепцию на вооружение и заняться поиском путей увеличения своей мягкой силы. Исследователь Джошуа Курланцик считает, что переход Китая к стратегии мягкой силы произошел в 1997 году, когда страна обосновала отказ девальвировать свою валюту желанием “спасти Азию”. За прошедшее с тех пор время Китай стал крупным игроком, оказывающим поддержку многим странам Юго-Восточной Азии, объем предоставляемой им помощи возрос, а реализуемые в Африке проекты стали масштабнее; в разных странах мира ускоренными темпами ширится китайское телевещание, открываются институты Конфуция, где предлагаются культурные программы и курсы китайского языка. В феврале 2012 года Центральное телевидение Китая открыло студию в Вашингтоне (с интернациональным штатом, насчитывающим более шестидесяти сотрудников) и приступило к съемке передач для США{223}. Кроме того, Китай становится желанной гаванью для творческой интеллигенции из разных стран; ощущение возрастающей роли Китая побуждает родителей всего мира задуматься: а не отдать ли своего ребенка на курсы китайского языка, точнее – его мандаринского диалекта. Сегодняшний Китай явно предпочитает всем стратегиям мягкую силу{224}.
В Индии, напротив, мягкая сила пока еще не столько приоритет политики, сколько предмет изучения для аналитиков, которые предполагают, что эта страна уже обладает преимуществами мягкой силы, во-первых, за счет демократического правления, а во-вторых, благодаря тому, что она привлекала не одно поколение туристов из западных стран, а теперь – и инвесторов. “Индия, как никто другой, умеет преподать себя другим, причем делает это убедительней, привлекательней, чем ее конкуренты”, – утверждал Шаши Тарур, писатель и функционер ООН, а впоследствии – министр индийского правительства и политический деятель{225}. И в качестве одной из составляющих мягкой власти глава зарубежных индийских культурных программ привел популярность йоги{226}. При всей неопределенности подобных заявлений единственная область, в которой мягкая сила Индии общепризнана, является Болливуд – мировой лидер по производству и экспорту кинопродукции. За многие десятилетия индийское кино обрело массу поклонников в странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы, а в наши дни врывается и в западный коммерческий мейнстрим.
Если популярность массмедиа считать более надежными показателями мягкой силы (как в случае с Голливудом и Болливудом), стоит также отметить мексиканские и колумбийские мыльные оперы, нигерийские малобюджетные фильмы и южноафриканские реалити-шоу, которые расширяют плацдарм культурного влияния. Подобно тому, как окончание холодной войны заставило Россию и Восточную Европу выбросить на мировые рынки целые арсеналы оказавшегося невостребованным оружия, так и с концом монополии государственных телеканалов образовался вакуум, который сразу же заполнился дешевыми мыльными операми из Латинской Америки, породившими армии поклонников и создавшими соответствующий рынок. В Юго-Восточной Азии выросло целое поколение людей, у которых Южная Корея ассоциируется не только с противостоянием КНДР или продолжительной диктатурой 1970-х годов, но и с корейскими видеоиграми, поп-звездами и сериалом “Зимняя соната”. Пользуясь моментом, власти Южной Кореи организуют концерты, создают региональные культурные центры, где каждый желающий может заняться изучением корейского языка и постигать азы корейской кухни. Когда возникает возможность усилить мягкое воздействие, наживать подобный капитал становится легко и приятно, а зачастую – и очень малозатратно{227}. Недавний пример культурного воздействия Кореи – США, где рэпер Сай со своими песнями и танцами в стиле каннамгу стал настоящей сенсацией. (Каннамгу – название престижного района в Сеуле.) Корейский поп – очередное мощное культурное явление Кореи – завоевал огромное число поклонников: согласно сообщениям New York Times, еще с 2010 года песни и альбомы Джея Парка – популярного исполнителя в стиле ритм-энд-блюз – в чартах на iTunes в Америке, Канаде и Дании стали хитами. Вкупе с повсеместным присутствием продукции таких гигантов, как Samsung, Hyundai, Kia и LG, подобные проявления культурной экспансии способствуют усилению позиций Южной Кореи как глобального бренда. Так, в рейтинге национальных брендов Anholt GfK Roper Nation Brands Index, который составляется для определения пятидесяти самых популярных торговых марок мира и основан на результатах опроса 20 тысяч человек в двадцати странах, Южная Корея поднялась с 33-й позиции в 2008 году на 27-ю в 2011-м{228}.
Новые правила геополитики
Одним из лучших примеров малых стран, использовавших добровольные коалиции, экономическую дипломатию (то есть большие деньги) и мягкую силу для защиты своих интересов, вне всякого сомнения, является Катар. Эта страна взяла курс на свержение ливийского диктатора Муаммара Каддафи, проводя подготовку повстанцев, поддерживая их финансами и оружием (которого было поставлено более 20 тысяч тонн), призывала к вооруженному восстанию в Сирии, когда конфликт там только-только разгорался{229}. Катар пытался выступить посредником в Йемене, Эфиопии, Индонезии, Палестине и – что немаловажно – в Ливане. Наличие 85-миллиардного инвестиционного фонда позволило Катару стать совладельцем целого ряда коммерческих проектов, от компании Volkswagen до футбольного клуба “Пари Сен-Жермен”. И тот же Катар не только стоит у истоков сети Al Jazeera – возможно, самой влиятельной из созданных за последнее время служб новостей, – но и создает себе реноме культурного центра, открывая популярнейшие музеи исламского и ближневосточного искусства и покупая творения таких художников, как Уорхол, Ротко, Сезанн, Кунс и Лихтенштейн{230}.
Но для того чтобы чувствовать себя на равных с большими игроками, вовсе не обязательно сидеть на кубышке с углеводородами. Несколько стран, которые не всегда связаны общими границами или общей историей, скорее достигнут желанного результата, просто приняв решение о сотрудничестве, нежели пустившись в долгий путь по международных инстанциям. Внешняя политика с подчеркнутыми географическими амбициями, то есть политика, строящаяся исключительно на отношениях с соседними странами, теперь доступна большему количеству стран; те государства, которые не так успешны в использовании данной возможности, рискуют и вовсе утратить свои конкурентные преимущества.
Ни один из этих принципов не отрицает значимость крупной армии или внушительной материальнотехнической базы. Но все они логически следуют из упадка власти и формируют основу для международной политики нового типа.
Просто скажите “нет”
Создавая систему ООН, победители во Второй мировой позаботились о таком ее устройстве, которое позволяло бы им защищать свои интересы. Так, США, СССР, Китай, Франция и Великобритания стали постоянными членами Совета безопасности ООН, который был создан специально для того, чтобы реагировать на серьезные международные кризисы. Кроме того, эти члены Совбеза вправе накладывать вето на решения данного органа. Данный порядок работы тогда был новым словом в международной дипломатии, и действовал он именно так, как и рассчитывали его создатели. То обстоятельство, что каждый из пяти постоянных членов Совбеза (а все они обладают ядерным оружием) мог заблокировать любое действие, несущее угрозу его интересам, стало в их руках серьезным козырем, позволяющим лавировать в системе сложных отношений, которая возникла в результате раздела мира на западную и советскую сферу влияния. Из 269 случаев использования права вето с 1946 по 2012 год более 225 из них пришлось на период до 1990 года{231}. В 195060-х годах наиболее активно к нему прибегал СССР, после него идут США, которые использовали право вето преимущественно для блокировки резолюций, осуждающих израильскую политику в отношении Ливана или палестинцев. В прошедшем десятилетии право вето в Совете безопасности использовалось редко, Франция и Великобритания не прибегали к нему вот уже более пятнадцати лет. Однако уже с 2006 года Китай и Россия пользовались правом вето, чтобы защитить от осуждения и введения санкций такие страны-изгои, как Зимбабве, Мьянма и Сирия.
Но если государства, признанные всеми как великие, пользуются правом вето в ООН крайне редко, то другие страны, наделенные правом блокировать чьи-то решения, ведут себя не в пример активнее. Вето в руках отдельно взятой страны стало чрезвычайно эффективным орудием в Евросоюзе. В 1963 году, когда в Европейском экономическом сообществе, состоявшем из шести стран, доминировал франко-немецкий альянс, вето Шарля де Голля оказалось непреодолимым барьером для желавшей вступить в ЕЭС Великобритании. В 1967 году де Голль вторично заблокировал ее вступление, невзирая на то, что пять остальных членов сообщества были за присоединение Британии. И лишь когда в 1969 году де Голля не стало, Франция смягчила свою позицию, и в 1973 году Великобритания вместе с Ирландией и Данией пополнили ряды ЕЭС. Вето Франции – яркий пример того, как ведущая держава, один из двух основных игроков Европейского сообщества того времени, при помощи вето защищает свои национальные интересы от посягательств; иными словами, здесь мы видим практически то же, что и в Совбезе ООН.
Поскольку ЕС постоянно расширялся, а при принятии ключевых решений действовал принцип единогласия, каждый новый член ЕС получал серьезные рычаги влияния, причем этот процесс зашел так далеко, что некоторые аналитики не могли не задаться вопросом: почему страны, уже являющиеся членами ЕС, так стремятся принимать в него новые страны. Каждая новая порция участников получала какие-то выгоды, в том числе и финансовые, угрожая в противном случае провалить новые инициативы. Страх перед британским референдумом относительно вступления в ЕЭС, назначенного на 1975 год, заставил Францию и Германию согласиться на новые финансовые условия членства, которые были намного выгоднее самой Великобритании. Несколько позже Греция (вступившая в ЕЭС в 1981 году), Испания и Португалия (члены организации с 1986 года) добились от участников сообщества финансовой компенсации в обмен на обещание не блокировать нацеленные на дальнейшую интеграцию новые соглашения, такие как Маастрихтский договор и введение общей валюты.
Сегодня в ЕС используется система “голосования квалифицированного большинства”: количество голосов, представляющих одну страну, определяется по сложной формуле и зависит от численности населения; решение, которое ставится на голосование в Совете Европы, чтобы быть принятым, должно набрать не меньше 255 голосов из 345. К тому же это создает гарантии для малых стран, не позволяя горстке крупных государств силой продавливать какие бы то ни было инициативы. Однако ключевые вопросы, такие как новая общая политика и дальнейшее расширение Союза, по-прежнему требуют полного консенсуса, и каждый год находятся малые страны, прибегающие к праву вето для разрешения своих проблем. Например, в 2007 году Польша блокировала принятие ключевого решения о торговом партнерстве между ЕС и Россией до тех пор, пока Россия не сняла запрет на импорт польского мяса. Литва блокировала то же соглашение, пока партнеры по ЕС не согласились с ее позицией по целому ряду спорных вопросов между Литвой и Россией, включая компенсации литовцам, которые в свое время были высланы в сибирские трудовые лагеря. Нидерланды заблокировали переговоры о вступлении в ЕС Сербии из-за отказа последней передать Международному уголовному суду в Гааге лиц, обвиняемых в военных преступлениях. Таким образом малые страны пытаются добиться различных уступок, иногда по глобальным вопросам, а иногда и по таким, которые интересуют только их, от крупных государств, причем не только членов ЕС, но и просто стремящихся к сотрудничеству с Евросоюзом.
Занимая решительную позицию, малые страны в состоянии поддержать любое количество международных начинаний – и они не стесняются этого делать. Когда в декабре 2009 года потерпел неудачу Копенгагенский климатический саммит, в чем только не искали причину провала: и в нежелании США и Китая прийти к соглашению, и в бескомпромиссной позиции больших промышленных и развивающихся стран. В конечном счете причиной, не позволившей достигнуть хоть какого-то согласия, стала оказавшаяся полной неожиданностью коалиция Венесуэлы, Боливии, Судана и Тувалу – крошечного островного государства в Тихом океане. Представитель Судана сравнил предложения богатых стран с Холокостом, а представительница Венесуэлы намеренно порезала себе руку, пытаясь таким образом показать, что иначе ее не услышат{232}. Их действия сочли нелепыми, однако протестная позиция этих стран лишь усилила смятение и разногласия, царящие на форуме. В итоге участники саммита не пришли к какому-либо соглашению, предпочтя ограничиться тем, что они “обратили внимание” на предмет обсуждения, попутно высмеяв действия США, ЕС, Китая, Бразилии, Индии и других крупных стран, принимавших участие в форуме, и показав тем самым, что говорить о едином подходе всех стран к изменению климата пока не приходится.
В декабре 2011 года на проходящей под эгидой ООН Дурбанской конференции, посвященной изменению климата, Евросоюзу удалось прийти к соглашению, но уже через три месяца его природоохранная политика оказалась заблокирована Польшей, которая в значительной мере зависит от угля{233}.
Почему в наше время вето в руках малых стран столь эффективно? Причина (правда, несколько парадоксальная) одна: лавинообразный рост числа международных организаций, призванных коллективно решать проблемы. Чем больше их будет, тем больше у страны возможностей (по крайней мере теоретически) занять четкую позицию по любому вопросу, будь он локального, идеологического или какого-то другого, даже самого неожиданного, свойства. Часто такая страна действует скорее из сиюминутных внутриполитических побуждений, а не отстаивая какие-либо принципы. Но вето малых стран работают еще и потому, что страны крупные уже не могут похвалиться прежними запасами кнутов и пряников, способными принудить к послушанию. Снижение военной и экономической мощи привело к тому, что малые страны уже не столь чувствительны к серьезным санкциям со стороны традиционных покровителей и торговых партнеров. А резкое увеличение числа новостных и коммуникационных каналов дает им новые возможности выносить на суд мировой общественности свои проблемы, вызывая сочувствие и поддержку; это гораздо лучше, чем свести решение проблемы к переговорам за закрытой дверью.
От послов до ГОНГО: время новых эмиссаров
“Американский посол – исчезающий вид?” Этот вопрос не далее как в 1984 году задал Элмер Плишке, выдающийся специалист в забываемой ныне области – истории дипломатии. Указывая на изменения, подрывающие примат послов как представителей своих стран, Плишке назвал в их числе возросшую свободу передвижения, современные технологии связи, множество новых способов, с помощью которых власть может напрямую общаться с общественностью других стран, и эффект разжижения, оказываемый быстрым увеличением количества национальных государств, в число которых он включил целую группу очень малых стран, каждая из которых обладает действующим дипломатическим корпусом{234}. Разумеется, за последние тридцать лет эти тенденции только усилились.
Представление о дипломатии как об исчезающем виде деятельности само по себе не ново. Об “упадке дипломатии”, происходящем вследствие крушения старых ценностей и правил, наработанных в этой профессии за века, писал еще в 1962 году ученый Джозеф Корбел, чешский эмигрант и отец Мадлен Олбрайт. В их числе он называл предусмотрительность, этикет, терпение, доскональное владение материалом, а также стремление избегать ненужной огласки. “Мир современной дипломатии слишком часто пренебрегал этими золотыми правилами дипломатии, – писал Корбел, – и как ни горько признавать, этому греху подвержены не только коммунисты”. Кроме утраты ценностей традиционной дипломатии, Корбел отметил и то обстоятельство, что политики пренебрегают дипломатами во время саммитов и государственных визитов, и это притом, что за многие годы главы государств и даже министры иностранных дел лишь изредка бывают за границей. Он также указал на то, что демократические режимы, не очень рассчитывая на ответные жесты, создают площадки, с которых другие страны могут напрямую обращаться со своими проблемами; таким образом, отметил он, советские лидеры имели доступ к американской прессе, а вот американцы были лишены возможности напрямую обратиться к советским гражданам{235}.
В наши дни таких каналов прямого доступа превеликое множество: появились сообщества по этническим, политическим или религиозным интересам; налажены тесные связи успешных иммигрантских общин с родными странами и всевозможные отношения эмигрантов с принявшими их государствами; появляются хвалебные отзывы в прессе и всевозможные опросные листы в виде газетных и журнальных вкладышей; проводятся мероприятия, инициируемые культурными и туристическими организациями; армии адвокатов и лоббистов трудятся в интересах разных групп; не забываем и про блоги, форумы, рекламу, пропаганду в интернете. Для некоторых стран форпост защиты за границей – не посольство с его протоколами и ограничениями, предписанными из соображений безопасности, а ГОНГО. Что это такое? ГОНГО – это государством организованная негосударственная организация, некое образование, выдаваемое за часть гражданского общества, но в реальности созданное, финансируемое и руководимое государством или его представителями{236}.
Одна такая ГОНГО, например, занимает приятного вида неброское здание в районе Токио Тиёдаку, недалеко от дворца императора. Чочхоннён – Ассоциация северокорейских граждан в Японии, насчитывает около 150 тысяч членов и обслуживает этническую общину, численно превосходящую ее в несколько раз. В ведении ассоциации находится около шестидесяти учебных заведений, включая университет, она также владеет компаниями, включая банки и долю в популярных японских салонах пачинко. Но ГОНГО также предоставляет паспорта. Вот почему Чочхоннён де-факто выполняет функцию токийского посольства Северной Кореи, у которой нет дипломатических отношений с Японией. В подчиненных ассоциации школах проповедуется идеология режима Ким Чен Ына. За прошедшие годы Северная Корея стала изолированной и обнищавшей страной, но Чочхоннён продолжает существовать. Ассоциация уже не финансируется из северокорейского бюджета, Япония лишила ее ряда налоговых льгот. Когда она погрязла в долгах, бывший служащий японской разведки пытался обманом выставить ее из помещения. Чечхон-нён призывает японских корейцев сохранять свою национальную идентичность и избегать японских социальных институтов, но в то же время была рада решениям японских судебных инстанций, которые предписывали вернуть здание в собственность ассоциации{237}.
Впрочем, история ГОНГО знает немало и положительных примеров: Американский национальный фонд демократии – частная некоммерческая организация, созданная в 1983 году для поддержки демократических институтов во всем мире, – финансируется правительством США. То есть это типичная ГОНГО. Уже само по себе функционирование этого фонда вызвало ярость антагонистов, в частности Египта (где бросили за решетку и пытались привлечь к суду нескольких его сотрудников), российского правительства и китайской газеты, назвавшей пропаганду демократии, за которой стоят США, “корыстной, насильственной и безнравственной”{238}. Другие ГОНГО действуют в культурной сфере; в их числе – Британский совет, “Альянс Франсез”, Гете-институт и Институт Сервантеса, которые способствуют распространению за рубежом искусств, культуры и языков тех стран, которые они представляют. Многие религиозные организации, функционирующие за пределами своих стран, опираются на поддержку Саудовской Аравии, Ирана, других государств, которые стремятся как можно шире распространить не только ислам, но и свое геополитическое влияние. Иногда акции ГОНГО бывают на редкость щедры. Пример подобной расточительности – инициированная правительством Чавеса программа субсидий на дешевую топливную нефть для тысяч семей на северо-востоке США: венесуэльская государственная нефтяная компания просто вдвое снизила цены на топливо для Бостонской энергетической компании, возглавляемой бывшим конгрессменом и потомственным политиком Джо Кеннеди.
Как показывают приведенные примеры, ГОНГО довольно различны, и в ближайшее время им ничто не грозит. Потому что из-за политических, экономических, информационных барьеров они гораздо лучше, чем связанная предписаниями работа заместителя главы миссии, политического деятеля, атташе по науке. Сосредоточить ГОНГО на представляющем интерес предмете может оказаться гораздо дешевле, чем увеличивать персонал и бюджет дипломатического корпуса или прибегать к услугам лоббистов или фирм, занимающихся пиаром. Генерирует свои ГОНГО и виртуальное пространство – это блогеры, видеооператоры, прочие онлайн-глашатаи того или иного мнения, совпадающего с точкой зрения государства. Порой виртуальные ГОНГО весьма чувствительны к дружественной поддержке и различного рода гарантиям.
Союзы немногих
Многократное увеличение числа действующих партнерских связей (более подкрепленных формально, чем прочие связи) между странами, участвующими в том или ином проекте, соотносится с тенденциями изменения власти в нынешней геополитике. В Кернскую группу, основанную в 1986 году с целью реорганизации сельскохозяйственной торговли, входит девятнадцать стран-экспортеров продовольствия, включая Канаду, Парагвай, ЮАР, Аргентину и Филиппины, стремящихся к снижению торговых пошлин и дотаций. Группа БРИКС, названная, как уже отмечалось, по первым буквам названий пяти развивающихся стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай, а теперь еще и ЮАР), впервые собралась в России в 2009 году; сама же аббревиатура появилась в обиходе в финансовых кругах с подачи банкира из Goldman Sachs восемью годами ранее, откуда позже перешла в политику. Помимо БРИКС, Россия входит и в G8[17] развитых стран; в более расширенном формате – G8 + 5 – группа включает еще Бразилию, Индию и Китай, а также Мексику и ЮАР. Есть также две группы G20, отличные одна от другой; в первую входят министры финансов и главы центробанков девятнадцати крупных стран плюс ЕС; вторая состоит из развивающихся стран, которых уже больше двадцати. Некоторые страны входят в обе группы одновременно. Во всех уголках мира вызревают новые торговые блоки и агентства по региональному сотрудничеству. Боливарианский альянс стран Латинской Америки (АЛБА) – союз, учрежденный в 2005 году Венесуэлой и Кубой, – охватывает семь стран, в числе которых Эквадор, Никарагуа, а также страны Карибского бассейна, такие как Сент-Винсент и Гренадины, Доминика, Антигуа и Барбуда. Обладая всеми атрибутами торгового союза, он отличается более выраженными политическими амбициями, а среди преимуществ, отличающих его от прочих альянсов, – офтальмологическая помощь населению (предоставляемая кубинскими врачами и субсидируемая венесуэльской нефтью){239}.
Общая ключевая черта этих альянсов заключается в том, что ни один из них не претендует на роль универсального объединения. Допуская присоединение лишь тех стран, которые связаны общими взглядами либо интересами, они больше напоминают “добровольные коалиции” времен военных акций США в Ираке и Афганистане, чем организации типа ООН или международные собрания по изучению климатических изменений. Например, в марте 2012 года члены БРИКС обсудили создание общего банка развития, который стимулировал бы денежный оборот между странами и способствовал бы возникновению новых торговых связей, в частности между прочими членами группы и Россией с Китаем{240}.
Кроме того, у подобных образований более высокие шансы на реализацию заявленных целей. По-настоящему всеобъемлющие договоренности (да к тому же такие, что реально работают) встречаются все реже и реже. Последнее международное соглашение по торговле датируется 1994 годом – когда была достигнута договоренность о создании Всемирной торговой организации; за это время США так и не ратифицировали Киотский протокол, а многие из участников соглашения не достигли заявленных целей; и в провозглашенной в ООН Декларации тысячелетия, которую в 2000 году подписали 192 страны, перечислено немало глобальных социальных целей, большинство из которых намечено достигнуть к 2015 и 2020 годам. Фиаско в Копенгагене, когда повлекшие немалые расходы дипломатические усилия увенчались более чем скромным результатом, гораздо лучше характеризует многосторонние начинания, требующие всеобщей поддержки.
Но есть альтернативное решение, я назвал его мини-латерализмом. В идеале этот механизм предполагает наличие объединений, состоящих из минимального количества стран, необходимого для серьезного изменения образа действий, при помощи которых мир пытается решить конкретную проблему (как пример – десятка лидеров по загрязнению окружающей среды, двадцать крупнейших потребителей стремительно тающих рыбных ресурсов, дюжина крупнейших стран-участниц поддержки Африканского континента в качестве доноров или получателей и т. д.). Мини-латерализм может служить и малым странам, когда он принимает форму ограниченных альянсов, имеющих не только большой союзнический потенциал, но и реальные шансы на то, что они не окажутся в тени доминирующих стран, тем более что рычаги влияния у тех серьезно ограничены. В свою очередь мини-латерализм беззащитен перед упадком власти. Кроме того, поскольку значительная часть этих союзов носит ситуативный характер и на них не давят моральные обязательства, налагаемые членством в глобальной организации, они скорее распадаются и видоизменяются, когда в странах-участницах меняется власть, предпочтения населения или приоритеты государственной политики{241}.
Кто здесь за старшего?
Нивелировка иерархии означает, что горстка доминирующих государств (не говоря уж об отдельно взятых гегемонах) больше не определяет, как будет развиваться международное сотрудничество и как мир будет реагировать на нынешние и грядущие кризисы. Также она подразумевает решение проблем в обход традиционных дипломатических институтов – министерств иностранных дел, посольств с их штатом дипломатов, государственных агентств по оказанию различной помощи и прочих двусторонних служб, призванных контролировать выполнение взятых на себя обязательств за пределами государственных границ. Когда-то дипломаты были стражами и хранителями определенных норм взаимодействия. Сейчас они остались не у дел, а преимущества традиционного искусства управления государством не столь очевидны на фоне инициатив малых стран, широкого присутствия негосударственных субъектов и каналов прямого доступа к общественному мнению за рубежом.
Система сотрудничества и ограничений, созданная за последние семьдесят лет, была достаточно сильной, чтобы содействовать деколонизации, не допускать вторжений и завоеваний, а также передела границ. Распад неповоротливых союзов, основанных на силе, сдобренной идеологией, – СССР, Югославии – не более чем исключение, лишь подтверждающее правило. Суверенные государства по-прежнему существуют и до сих пор не лишены признаков суверенитета, с которыми нельзя не считаться: в каждом из них есть пограничный контроль, собственная валюта, экономическая политика, налогообложение. Соперничество стран – прямое и выраженное через орудия “Большой игры”: переговоры, союзы, договоры, пропаганду, конфликты – стало давней традицией.
Да ведь не все хвосту вилять собакой. Мощь США или Китая куда больше, чем мощь малого европейского, латиноамериканского или азиатского государства, как в теории, так и, почти повсеместно, на практике. Да, снижается эффективность этой мощи, но не ее потенциал. В какую бы точку планеты, в какое бы время суток ни позвонил президент США, ему всегда ответят. Он может самочинно присоединиться к встрече глав государств и изменить ход беседы. Растет и влияние китайского премьер-министра. Вот те движущие силы, которые проявляются на международных конференциях и саммитах, и именно они влияют на результат. А также привлекают внимание не только враждебных ура-патриотов или ретроградов, но и людей, осознающих всю их важность.
Однако упадок власти означает, что размышления о том, какая из великих держав на подъеме, а какая устремилась вниз (как будто вся геополитика – это игра между глобальными элитами, где поровну побед и поражений), не более чем отвлекающий маневр. Да, любой вопрос, из-за которого разгораются прения, важен сам по себе. И разумеется, тенденция к выравниванию военного потенциала Америки, России и Китая не может не внушать опасений. Как и то, каким образом Китай отреагировал на просьбу США изменить свою денежную политику. По-прежнему не сняты существующие между США и ЕС разногласия по вопросам торговой политики, сельскохозяйственных субсидий и порядка преследования военных преступников. Не согласованы позиции Индии и Китая по выбросам углекислого газа. Только ничто из вышесказанного не означает крушение одного гегемона и появление вместо него другого. Сверхдержавы будущего ни видом своим, ни действиями не будут похожи на своих предшественниц. Их пространство для маневра сузилось, а способность малых стран препятствовать им, влиять на их курс и просто не считаться с ними будет лишь возрастать.
Таким образом, означает ли это, что альтернативное представление верно? Движется ли мир в направлении осовремененной, в духе XXI века, версии гоббсовской войны всех против всех, усложненной пересекающимися и размытыми границами между государствами, негосударственными субъектами, свободно движущимися финансовыми потоками, благотворительными институтами, неправительственными организациями, ГОНГО и свободными агентами всех мастей? Ответ по умолчанию – да, если (и до тех пор пока) мы не приспособимся к упадку власти и не признаем, что пути нашего взаимодействия как в рамках государственных образований, так и вне этих рамок должны измениться.
И нет никаких причин, по которым мы не могли бы это сделать. Предсказания о крахе мировой системы неоднократно высказывались в эпоху технического прогресса и культурных и демографических подвижек. Согласно предсказанию Томаса Мальтуса, мир не должен был выдержать роста населения. Но он выдержал. Марксисты, которые жили в эпоху промышленной революции, расширения мировых рынков и торговли в XIX веке, ожидали, что капитализм рухнет под весом внутренних противоречий. Этого не случилось. Вторая мировая война и Холокост глубоко пошатнули нашу веру в моральный облик человечества, но все же нормы и социальные институты, которые мир ввел в ответ на эти злодеяния, действуют по сей день. Главный кошмар 1950-60-х годов – ядерное уничтожение – так и не стал явью.
Нынешняя защита от международных угроз и кризисов – от глобального потепления и истощения природных ископаемых до распространения ядерного оружия, наркоторговли, фундаментализма и прочих – возникла потому, что иерархия государств постоянно меняется и само применение государственной власти выглядит совсем не так, как раньше. При близком их сравнении мы можем быть неприятно удивлены. Каждая новая бойня, бомбежка или экологическая катастрофа вновь и вновь заставляют нас содрогаться, и, похоже, достигнутые тяжкими усилиями неоднозначные результаты конференций и саммитов служат слабым утешением. Может показаться, что ответственность за это ни на ком не лежит. Это чувство и тенденции, которые оно порождает, будут сохраняться. Но искать существующего или нового гегемона либо же клуб элитных стран, которым можно было бы передоверить управление, довольно глупо. Ключи к разрешению новых проблем международного сотрудничества, а в конечном итоге и раздела планеты замаячат на горизонте тогда и там, когда и где власть будет легче обрести, но тяжелее использовать и даже просто сохранить.
Глава 8 Бизнес не по правилам Господство корпораций под угрозой
В течение десятилетий тон в нефтедобывающей промышленности задавали “семь сестер” – группа гигантских, вертикально интегрированных компаний вроде Exxon и Shell. “Большая пятерка” контролировала бухгалтерию, “большая тройка” контролировала автопром, и столько же телекомпаний делали погоду на телевидении. Чуть позже та же ситуация сложилась в сфере информационных технологий, где моду диктовали две компании по выпуску компьютерного оборудования и программного обеспечения. Данная схема превалировала и во многих других отраслях: горстка компаний плотно контролировала соответствующий сегмент рынка. Они были так крупны и богаты, глобальны, влиятельны, так прочно сидели на своих местах, что вытеснить их оттуда казалось нереально.
Но теперь все не так. Сегодня нет такого сектора мировой экономики, который бы не избавился от этих закоснелых структур, а борьба за место на вершине жестка, как никогда. Shell, IBM или Sony еще могут занимать лидирующие позиции, но и они прекрасно видят, как падает их рыночный потенциал и ослабляется давление на конкурентов, как новые игроки шаг за шагом вытесняют их с рынков, где они когда-то безраздельно властвовали. Более того, ушли в небытие те корпорации, названия которых были на слуху в любой семье: легендарный бренд Kodak, прекративший свое существование в 2012 году, лишь один из немногих, почивших на свалке истории.
Ныне списки ведущих компаний регулярно пополняются новыми названиями, многие из которых появились в странах, не бывших в прошлом колыбелью популярных марок: в их числе – Эстония (Skype), Индия (Mittal Steel), Бразилия (Embraer), испанская Галисия (Zara). И независимо от того, новички они или нет, ведущие бренды уже не уверены в том, что их пребывание на вершине будет таким же длительным, как у компаний прошлого.
Мы не говорим, что на смену одним махинам придут другие. Пространства, где некогда главенствовали одни лидеры, сплошь и рядом заполняют группы совершенно других игроков, опирающихся на новые правила, источники власти и жизнеспособные стратегии. Изменилась сама природа власти, которой упивались когда-то компании прошлого и их собственники.
Почему? Диаметрально противоположный пример (а значит, и яркая иллюстрация) – нефтяная промышленность. “Семь сестер” – компании, доминировавшие в этой области с 1940-х по 1970-е годы, не просто оказались заменены другими, точно такими же компаниями, дело в том, что нынешняя нефтяная промышленность более фрагментирована и менее интегрирована вертикально. Создание новых фьючерсных рынков и увеличение объемов нефти, торгуемой в ходе спотовых сделок, серьезнейшим образом изменили характер нефтяной купли-продажи. Отрасль наводнили новые “независимые”: небольшие компании, которые конкурируют, а в некоторых случаях даже опережают таких гигантов, как ExxonMobil, Chevron и BP. В числе новых игроков нефтяной индустрии присутствуют также компании с государственной формой собственности, которые стали конкурентоспособнее и гораздо уверенней распоряжаются энергоресурсами своих стран. Гигантские хедж-фонды, пользующиеся беспрецедентным влиянием на собственность, отчетность и финансы, стали неотделимой частью нефтяного сектора и вполне способны вести себя как держатели акций крупных компаний или поставщики финансов малым фирмам. В прошлом только “семь сестер” имели доступ к серьезным денежным ресурсам, необходимым для выхода на нефтяные рынки. Сегодня благодаря сочетанию новых игроков (хедж-фонды, частные акционерные компании), новым финансовым инструментам (деривативы) и прочим институциональным механизмам (новые фондовые биржи) малые компании вполне в состоянии привлекать капитал, необходимый для полноценного участия в проектах, бывших ранее прерогативой только нефтяных гигантов. Разумеется, всем этим игрокам приходится выдерживать беспрецедентное внимание и вмешательство со стороны правительств, акционеров-активистов, групп по защите окружающей среды, компаний-инвесторов, профсоюзов, СМИ – и это еще далеко не все.
Как говорил мне Паоло Скарони, генеральный директор итальянского нефтяного гиганта ENI: “Вспоминая, как принимали решения и как вели свой бизнес главы ведущих нефтяных компаний в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах, я неизменно поражаюсь той свободе и самостоятельности, которой они пользовались. С высоты моей должности четко видно, что в наше время гендиректор любой нефтяной компании обладает гораздо меньшими полномочиями, чем наши предшественники{242}.
Нечто подобное происходит и в банковской сфере. Несколько солидных банков стали банкротами либо были поглощены другими банками вследствие глобального финансового кризиса, поразившего мир в 2008 году, что в свою очередь привело к дальнейшему укрупнению. К 2012 году пять банков (JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Wells Fargo & Co., а также Goldman Sachs Group Inc.) располагали активами, сумма которых равнялась половине от всей экономики США. В большой степени это относится и к Великобритании, где последние двадцать лет в банковском секторе доминировала “большая пятерка”: Barclays Plc, HSBC Holdings Plc, Lloyds Banking Group Plc, Royal Bank of Scotland Group Plc, а также Santander U. K. Plc (называвшийся ранее Abbey National Plc, пока в 2004 году его не приобрел испанский Banco Santander){243}. Но за последние несколько лет опасения общества, подогреваемые финансовым кризисом и скандалами вроде тех, что разыгрались из-за махинаций с процентными ставками в банке Barclays или незаконными денежными операциями с участием HSBC и Standard Chartered, вызвали противоположную реакцию, что в свою очередь породило шквал новых должностных инструкций, резко ограничивших традиционно высокую автономию этих банков. Кроме этого, по новым игрокам, таким как британский предприниматель Ричард Брэнсон, чей банк Virgin Money приобрел хиреющий Northern Rock Plc с намерением превратить его в мощный инструмент финансовой поддержки населения, хорошо заметно, какое конкурентное давление испытывают зубры банковского сектора. Как заявил в 2012 году ежемесячнику Bloomberg Markets один аналитик: “Сейчас на рынке Великобритании происходят еще не виданные в новейшей истории структурные изменения”{244}.
Но основным крупным банкам бросают серьезный вызов хедж-фонды и прочие новые игроки финансового рынка, имеющие доступ к ресурсам не меньшим, чем те, которыми располагают большие банки; при этом они действуют активнее и гибче. В начале 2011 года, когда суматоха в мировой экономике еще не улеглась, вот что писала о здоровье хедж-фондов газета Financial Times:
Согласно новым данным, во второй половине прошлого года хедж-фонды из первой десятки заработали для клиентов 28 миллиардов долларов, что на 2 миллиарда больше, чем вся чистая прибыль Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup, Morgan Stanley, Barclays и HSBC. Но если даже в самых крупных хедж-фондах количество персонала не превышает нескольких сотен человек, то общее число сотрудников шести банков составляет один миллион. Согласно имеющимся данным, за время своего существования фонды из первой десятки заработали для инвесторов в общей сложности 182 миллиарда долларов; один Quantum Fund Джорджа Сороса с момента основания в 1973 году заработал для клиентов – за вычетом всех расходов – 35 миллиардов долларов. Однако в затылок фонду господина Сороса дышит Paulson & Co Джона Полсона – лидер среди хедж-фондов по количеству заработанных для инвесторов денег (во второй половине 2010 года его чистая прибыль достигла 5,8 миллиарда долларов){245}.
Крупнейшие банкиры, как и ведущие нефтяные компании, точно так же с сожалением вспоминают об утраченной свободе действий. В годы правления Джейми Даймона, генерального директора JPMorgan Chase, банк был гораздо крупнее, чем во времена его предшественника Уильяма Гаррисона, однако и свободы действий у него гораздо меньше (о чем свидетельствуют постоянные жалобы гендиректора на правительственное регулирование и давление активистов). Его утверждение о том, что общественности и регуляторам лучше довериться механизмам саморегулирования и конкуренции среди самих банков, стало нуждаться в дополнительных аргументах в 2012 году, когда мистер Даймон признал, что банк понес убытки на 6 миллиардов долларов, о чем кое-кто из сотрудников предпочел умолчать, а облеченное доверием высшее руководство ничего не заметило{246}.
Еще одним ярким примером служит газетная индустрия. Уже ставшая классикой жанра история о неудачах в этом бизнесе гласит, что по милости Craigslist и Google флагманы печати лишились таких серьезных источников дохода, как рубричные объявления. Но то, что случилось с газетами, куда существеннее и катастрофичнее, чем обычный передел долей на рынке рубричных объявлений между разными группами компаний. Влияние, которым обладают владельцы и руководство Craigslist, ничуть не похоже на влияние, которое когда-то имели семья Грэм, владеющая Washington Post, или контролирующие New York Times Окс-Сульцбергеры. Эти держатели контрольных пакетов акций – равно как и Мердоки, Берлускони и многие другие семьи, владеющие СМИ в разных странах мира, – еще сохраняют какую-то силу, но пользоваться ей и бороться за ее сохранение им приходится совершенно иначе, чем предшественникам.
Означает ли это, что на смену Exxon Mobil придет независимая нефтяная компания, место JPMorgan Chase займет какой-нибудь хедж-фонд, а New York Times будет заменена на Huffington Post? Конечно же, нет. Это крупные компании с огромным ресурсом и конкурентными преимуществами, которые обеспечивают их доминирование в избранных сферах деятельности. С другой стороны, можно ли было сказать то же самое в 1990-х о процветавшей тогда (а сегодня обанкротившейся) компании Kodak или в 2007 году о крупнейшей в мире страховой компании AIG (которая уже год спустя не исчезла лишь благодаря беспрецедентной правительственной дотации в размере 85 миллиардов долларов)?{247} Посмел бы кто-нибудь сказать в начале 2012 года, что один из самых влиятельных банкиров мира, исполнительный директор банка Barclays Боб Даймонд, за считаные дни потеряет работу (что и произошло, когда выяснилось, что банк замешан в махинациях с кредитными ставками)? Ни большие компании, в одночасье оказавшиеся не у дел, ни обожествляемые гуру бизнеса, очутившиеся вдруг на улице, а кое-где и оказавшиеся за решеткой, – ничто не ново под луной. Как вы увидите дальше, здесь новизна в другом: возросла вероятность того, что компания может утратить позиции лидера своей лиги или главу предприятия или фирмы может постигнуть такое “репутационное фиаско”, от которого он уже не оправится.
Кроме того, более глубокое и более болезненное следствие, к которому ведет упадок власти в мире бизнеса, скорее состоит не в том, что крупные компании столкнулись с большей вероятностью исчезновения, а в том, что паутина правил и ограничений, которые вяжут их по рукам и ногам, стала еще плотнее.
Предпринимательские секторы, претерпевшие структурные изменения, столь многочисленны, сколь и различны: от туризма до сталелитейной промышленности, от книготорговли до производства пассажирских самолетов. Сегодня сложно найти отрасль, где не было бы таких изменений, и там, где это происходит, влияние ведущих игроков встречает все больше преград, фактически нивелируется.
В краю начальников, авторитета и субординации
Кто здесь главный? В мире бизнеса ответ на этот вопрос должен быть однозначным. В армии субординация естественна. И то же самое верно в отношении корпораций, ведь это не демократические институты. В среде, где решения, касающиеся ресурсов, цен, поставок и рабочих кадров, принимаются ежеминутно и влияют на конечный результат, должен быть центр, берущий на себя всю ответственность или вину и пользующийся наибольшим доверием. Уже само название “генеральный директор” настраивает на командный тон, дисциплину и главенство старшего по званию. Плюс традиционные атрибуты и привилегии корпоративной власти: угловой кабинет, корпоративный самолет, членство в необычных клубах. Ну и, разумеется, зарплата. После окончания Второй мировой войны и до середины 1970-х средний фактический размер зарплат руководящего состава был величиной на удивление фиксированной{248}. А с 1980 до 1996 года фактический размер вознаграждения генеральных директоров из индекса S&P 500 рос больше чем на 5 % в год; в общем и целом размеры выплат гендиректорам после 1998 года были примерно вдвое больше, чем на заре десятилетия. Зарплаты высшего руководства в остальных частях мира, где в большей степени, где в меньшей, следовали этой же тенденции.
Неплохая работа, если вы сумели ее получить. Однако у топ-менеджеров есть не только привилегии. Власть в корпоративном секторе слабеет – и удержать ее, когда она окажется у вас в руках, также сложнее.
И это отнюдь не курьез: статистические данные четко показывают ослабление позиций гендиректоров и президентов. В США, где до сих пор наибольшая в мире концентрация крупных компаний, в 1990-х годах текучка в среде высших руководителей была выше аналогичного показателя за двадцать предыдущих лет. И с тех пор эта тенденция только усилилась. В 1992 году для руководства компаний из списка Fortune 500 вероятность сохранения своих позиций через пять лет равнялась 36 %. А в 1998 году лишь 25 % всех руководителей могли рассчитывать на то, что будут занимать свой пост через пять лет. Согласно данным Джона Челленджера, консультанта по вопросам управления, среднестатистический срок пребывания гендиректора на должности сократился вдвое: если в 1990-х годах он был равен примерно десяти годам, то в последнее время сократился до пяти с половиной лет, и эта тенденция подтверждается целым рядом исследований. В ходе еще одного исследования было выяснено, что почти 80 % президентов из индекса S&P 500 были уволены до выхода на пенсию{249}. За время с 1990-х до начала 2000-х масштабы внутренней текучести (то есть вызванной решениями советов директоров) и текучести внешней (по причине слияний и крахов) только росли. Другое исследование, проведенное в 2009 году, установило, что в США каждый год штат гендиректоров и президентов фирм обновляется на 15 %{250}. Эти данные варьируются в зависимости от конкретной выборки компаний, но основная тенденция очевидна: ситуация в тех местах, где принимаются судьбоносные решения, становится все более и более неустойчивой.
Причем это глобальная тенденция, а не сугубо американская. Консалтинговая фирма Booz & Company отслеживает изменения в президентском составе 2500 крупнейших компаний, входящих в реестры международных фондовых бирж. В одном только 2011 году покинули свои посты 14,4 % президентов ведущих мировых компаний, при этом в 250 крупнейших компаниях текучесть кадров по сравнению с 2005 годом возросла. И эта тенденция сохранялась предыдущие двенадцать лет. В общем, в 250 компаниях с наибольшей рыночной капитализацией сменилось более 14 % руководителей; в компаниях, занимающих места с 251-го по 2500-е, сменилось 12 % руководителей. Тут учитывались и случаи ухода с должности в связи с запланированной отставкой, ввиду болезни и т. п., но все же исследование показало, что случаи вынужденной передачи полномочий – когда президентам указывали на дверь – участились как в Америке, так и в Европе. Остальные части планеты, где бизнес развивается стремительней всего, в этом плане также догоняют Запад. В Японии, в силу сложившейся культуры ведения бизнеса, увольнение высшего должностного лица является едва ли не табу, но даже здесь в 2008 году количество случаев передачи полномочий выросло вчетверо, и эта необычная для японского общества тенденция сохраняется. Также Booz & Company установила, что во всем мире президенты компаний теперь гораздо реже возглавляют советы директоров, – вот вам еще одно измерение растущих ограничений исполнительной власти в корпорациях{251}.
Все, что было сказано о боссах компаний, в равной степени относится и к самим компаниям. Время их пребывания в верхних строчках корпоративных рейтингов заметно сократилось. И это, разумеется, не эфемерный тренд последних лет, хотя из-за кризиса в экономике и он, разумеется, стал более явным; скорее всего, перед нами процесс глубокой трансформации.
И опять-таки с цифрами не поспоришь: если в 1980 году фирма из первой пятерки в какой-либо конкретной отрасли пять лет спустя могла покинуть эту самую пятерку с вероятностью в 10 %, то к 1998 году вероятность этого события выросла до 25 %{252}. Шестьдесят шесть компаний из первой сотни рейтинга Fortune 500 за 2011 год были включены в этот рейтинг и в 2000 году. А тридцать шесть из пятисот компаний в 2000 году еще даже не были созданы. При помощи скрупулезного статистического анализа Диего Комин из Гарварда и Томас Филиппон из Университета Нью-Йорка выяснили, что за предшествующие тридцать лет “ожидаемая продолжительность нахождения на лидерских позициях какой-либо конкретной фирмы сократилась кардинальнейшим образом”. Что также является глобальной тенденцией. И совпадает с расширяющимися географическими рамками конкуренции. Составленный в 2012 году журналом Forbes рейтинг 2500 крупнейших мировых компаний показал, что 524 из них находятся в США – на 200 меньше, чем за пять лет до этого, и на 14 меньше, чем годом ранее. Все больше и больше крупнейших мировых компаний размещают свои центральные офисы в Китае, Индии, Корее, Мексике, Бразилии, Таиланде, Филиппинах и в странах Персидского залива. Материковый Китай сокращает отставание от США и Японии – мировых лидеров по количеству принадлежащих им ведущих международных компаний и, по сути, стал третьей мировой державой, увеличив свое достояние еще на 15 компаний (по сравнению с 2011 годом). Кто-то только выходит на сцену – Ecopetrol (Колумбия), China Pacific Insurance (Китай), а кто-то ее покидает – Lehman Brothers и Kodak (нет уже ни того ни другого), Wachovia (растворился в Wells Fargo), Merrill Lynch (ныне собственность Bank of America) или Anheuser-Busch (принят бельгийским конгломератом, который был взращен из никому не ведомой бразильской пивоваренной компании){253}.
Как отражается глобализация на концентрации бизнеса?
Исчезновение известных компаний и некогда уважаемых брендов отнюдь не значит, что уровень концентрации бизнеса во многих секторах экономики не так высок, как всегда: иногда он даже выше прежнего. Например, когда в США в 2007 году пришлось изымать из продажи корма для животных, оказалось, что лишь один производитель выпускает более 150 наименований различной продукции. Две компании контролируют 80 % рынка пива, также на две компании приходится 70 % производимой в Америке зубной пасты и так далее. Или такой пример от Барри Линна: итальянская компания Luxottica владеет в США не только несколькими крупными торговыми сетями оптики, но и множеством известных линий оптических приспособлений, которыми она торгует{254}. Леонардо дель Веккио, главный акционер компании, – один из богатейших людей планеты, занимает 74-ю строчку в рейтинге миллиардеров от журнала Forbes.
Если подходить глобально, то уровень концентрации бизнеса очень сильно зависит от конкретного сектора. Алмазодобывающая индустрия пребывает под плотной опекой De Beers, лидера этой отрасли: компания диктует цены на алмазы и контролирует поступление необработанных камней на фабрики, где их гранят и шлифуют. Контролируя 60 % алмазного рынка, De Beers имеет достаточно влияния, чтобы определять и стоимость камней. В производстве компьютерных микросхем один изготовитель – Intel – контролирует 80 % рынка микропроцессоров. Другие отрасли, где концентрация бизнеса настолько высока, что это может привлечь внимание американских и европейских антимонопольных служб, – торговля посевными материалами (в которой безраздельно властвуют Monsanto и DuPont), платежные системы (где господствуют Visa и MasterCard) и, конечно же, интернет-навигация (на долю одной только Google приходится 63 % поисковой активности в США – и 90 % прироста этой активности).
А вот в других отраслях степень концентрации, напротив, снизилась, невзирая на годы нескрываемых агрессивных попыток поглотить конкурентов. Панкадж Гемават в своем “Мире 3.0” заявляет: “В большинстве ситуаций оказывается, что глобализация усиливает конкуренцию, не способствуя концентрации”{255}. Убедительный пример – автомобили. Данные отрасли показывают, что на долю пяти ведущих автокомпаний мира в 1998 году приходилось 54 % от всех произведенных автомобилей и лишь 48 % – в 2008-м. Убыль, казалось бы, незначительная, но показательная. Расширенный анализ (число рассматриваемых компаний увеличили с пяти до десяти) показывал все то же снижение концентрации. Эта тенденция не нова. Еще в 1960-х годах на первую десятку автомобильных компаний приходилось 85 % всех произведенных автомобилей; теперь этот показатель был близок к 70 %. Отчасти возросшая фрагментация рынка отражает появление (или мировую экспансию) новых игроков, представляющих такие страны, как Корея, Индия, Китай{256}. Например, в 2011 году Hyundai не только занял пятое место в мире по количеству произведенных автомобилей, но и стал самым прибыльным автоконцерном{257}. Рассматривая феномен концентрации бизнеса на примерах пяти лучших компаний в одиннадцати отраслях экономики с 1980-х до 2000-х годов, Гемават установил, что средний по пятерке показатель концентрации упал с 38 до 35 %; это снижение будет еще заметнее, если за точку отсчета взять 1950-е{258}.
Потенциал и риски брендов
Немало компаний, долго бывших у всех на слуху, исчезло как по мановению волшебной палочки. Престижные когда-то имена торговых марок, банков, авиакомпаний, даже названия технологий (вы еще не забыли Compaq?) сейчас едва всплывают в памяти. А с другой стороны, еще несколько лет назад большей части тех брендов, которые заполонили мир сегодня, и на свете не было; возьмем хотя бы Twitter, появившийся в 2006 году. Как потребителям, большинству из нас не привыкать к таким тенденциям. И да, конечно, потребитель всегда был важной частью этого круговорота, приводимого в действие повышением ставок и пагубным влиянием подводных камней – когда крах фирмы камня на камне не оставляет от ее доброго имени и репутации ее продукта, резко обваливая котировки акций и распугивая потребителей. Исследование, проведенное в 2010 году, позволило установить: еще двадцать лет назад вероятность того, что компанию по истечении пяти лет работы постигнет так называемый “корпоративный крах”, составляла 20 %; ныне же вероятность такого события равна 82 %{259}. Неужели причина этого четырехкратного увеличения – разлившаяся нефть, отказавшие тормоза или чье-нибудь опрометчивое заявление? Отнюдь, но их частота появления и дальность влияния возросли, а их все громче звучащее эхо нередко предвещает нам серьезные последствия.
Поэтому нас не должно удивлять, что самый относительный показатель экономической мощи – благосостояние отдельного индивида – также стремительно меняется. (С 2012 года Bloomberg News ведет ежедневный рейтинг мировой двадцатки миллиардеров, обновляемый в 17:30 по нью-йоркскому времени.) Число миллиардеров в мире за последние годы выросло неимоверно; в 2012 году оно достигло рекордной цифры 1226 человек{260}. Растет в нем доля выходцев из России, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Что интересно, предприниматель из Индии Анил Амбани, больше всех преумноживший свое состояние в 2007–2008 годах, год спустя больше всех потерял (хотя в 2012 году и занимал 118-ю строчку){261}. Согласно исследованию, проведенному в 2012 году фирмой Wealth-X, занимающейся сбором сведений о благосостоянии, с середины 2011 года до середины 2012-го китайские миллиардеры в общей сложности лишились почти трети своего богатства{262}.
Жизнь толстосумов, конечно, трудна, но не настолько, чтобы лить о ней слезы. Однако турбулентность в международных рейтингах богатства довершает общую картину нестабильности, царящую на вершинах делового мира, – о боссах ли мы говорим, о корпорациях или о брендах. Небывалое непостоянство поразило деловые круги, которые к тому же никогда не были настолько глобальны и разнообразны, как сейчас.
Неразбериха в верхах удивительно контрастирует с широко бытующим мнением, что, дескать, мы уже живем в эпоху беспрецедентной власти корпораций. Бум 1990-х, бесспорно, придал блеска и престижности работе в корпорациях, и развитие высоких технологий породило целую плеяду героев капиталистического труда из числа глав копаний Apple, Oracle, Cisco, Google и прочих, а также мегамонстров банковского дела и фондовых рынков. В Европе введение регуляторных механизмов, приватизация и создание единого рынка привели к появлению новых корпоративных идолов. Лихие миллиардеры появились в России, а в странах, некогда принадлежавших третьему миру и высмеиваемых как заповедники государственного регулирования и нищеты, появились побеги новых бизнес-империй, брендов и магнатов. Критики из левого лагеря тревожно возопили о новой эре доминирования капитала. Сторонники восхваляли ее наступление. И те и другие были едины в одном: эта эра настала.
Глобальная рецессия и финансовый кризис не очень помогли нам прояснить картину с властью корпораций. С одной стороны, вновь стала очевидной потребность в правительствах, способных обуздать безудержное поведение корпораций. И столь же очевидным стало то, что некоторые компании – в сфере банковской, страховой и автостроительной – “слишком крупны, чтобы пропасть”; нельзя допустить их банкротства, не вызвав этим пагубных последствий регионального, национального и даже глобального масштаба. Одни корпорации (Chrysler, General Motors) были спасены благодаря вмешательству властей. Другим (таким как Lehman Brothers) позволили пойти на дно. Те банки, чье положение считалось слишком шатким для выживания, были проданы банкам побольше, что привело к появлению невиданных финансовых колоссов и вызвало нападки критиков, усмотревших в этом концентрацию власти в руках сплоченной и неприкасаемой финансовой элиты. Вне всякого сомнения, существование гигантских корпораций сегодня достигло таких масштабов, о которых еще несколько десятилетий назад никто и подумать не мог. Сильно упрочил свое положение целый ряд отраслей. И совершенно очевидно, что антимонопольные и прочие ключевые регуляторы (будь это в Северной Америке, Европе или где-то еще) не всегда поспевают за инструментами и методами, которые постоянно применяют компании – особенно финансового сектора.
И какова наша реальность? Неограниченная власть корпораций, норовящих перевалить бремя расходов и ответственности на власть и налогоплательщиков, но сохраняющих баснословные выплаты и прибыль своему руководству, – или неуверенные в завтрашнем дне флагманы бизнеса, ежедневно рискующие быть вытесненными новыми участниками или технологиями, не застрахованные от потери имиджа, скрупулезно изучаемые рыночными аналитиками и уходящие в конце концов со сцены, не без содействия капризных держателей акций и нетерпеливого правления? Иначе говоря, что происходит с властью, которой обладают крупные корпорации и их высшее руководство?
Власть рынка: противоядие от деловой ненадежности
Чтобы понять фундаментальные силы, преобразующие власть корпораций в XXI веке, мы должны рассмотреть концепцию, представленную во второй главе, – концепцию рыночной власти.
Идеальная экономическая теория предполагает наличие бескомпромиссной конкуренции, а это означает, что смена действующих лиц – обычное положение вещей при капитализме, так как борьба за выживание губительна для одних компаний и спасительна для других. Идеальное состояние, известное под названием “совершенная конкуренция”, исключает доминирование монополий, картелей или горстки ведущих компаний, не говоря уж об их долголетии.
Реальность, как легко заметить, отличается от теории: одни компании подолгу остаются на плаву, тогда как другие уходят на дно; одни известные инвесторы и президенты десятилетиями заправляют делами компаний, тогда как другие исчезают, едва успев появиться; одни бренды кажутся эфемерными творениями преходящей моды, в то время как другие способны пережить любое количество технологических трансформаций, рыночных пертурбаций и ротаций управленческих кадров. Одни большие компании не позволяют другим конкурировать на их рынке, и в том же секторе горстки компаний идут на сговор, чтобы как можно дольше извлекать максимум прибыли. Кроме того, появление новых конкурентов облегчает сама природа некоторых секторов экономики, где низкие входные барьеры – норма (ресторанное дело, швейная отрасль); в других же эти барьеры так высоки, что новым компаниям неимоверно трудно состязаться с уже присутствующими там (сталелитейная промышленность, мобильная связь).
Иначе говоря, предпринимательство в условиях капитализма дает широкий спектр паттернов и ожиданий, выражаемых посредством символического языка нашего общества инвесторов и потребителей. Они генерируют устойчивые конкурентные оппозиции (Boeing против Airbus, Coke против Pepsi, Hertz против Avis), превращают названия брендов в обиходные нарицательные имена (ксерокс, поляроид, памперс), побуждают инвестировать в одних для повышения престижа (Rolex, IBM), а в других (Timex, Dell) – из чисто деловых соображений. С их участием ликвидация конкурентов происходит со всей беспощадностью. Кто бы то ни был (Pan American, Woolworth’s, Kodak или Wang), кончина корпорации (неважно, ликвидация или поглощение кем-то другим) – это всегда ее исчезновение.
В значительной степени этот нескончаемый круговорот символов, продуктов, людей и названий подпитывает ежедневные рыночные действия продавцов и покупателей, а также риски, непредвиденные происшествия, ошибки и разного рода случайности. И именно здесь вступает в силу рыночная власть – власть, заключенная в способности устанавливать цены на продукцию и услуги, превышающие уровень предельных затрат, что позволяет генерировать и извлекать дополнительную прибыль, не уменьшая при этом свое присутствие на рынке. Чем больше рыночная власть компании, тем выше ее способность самостоятельно устанавливать цены, не считаясь с конкурентами. Чем больше степень присутствия рыночной власти на товарном рынке или в конкретной отрасли, тем уверенней себя чувствуют представленные в них структуры и тем стабильнее их положение в разного рода рейтингах.
В реальной жизни продукты не взаимозаменяемы, но даже если и взаимозаменяемы, то различаются брендами и продвигаются на рынок с помощью рекламы. В реальной жизни разные компании не обладают доступом к одной и той же информации. Ведя дела или разрешая конфликты, они придерживаются различных правил и законов, получают неодинаковую поддержку властей (от молчаливого согласия до прямого содействия), имеют разный доступ к ценным ископаемым. Жесткость ограничений, налагаемых правами на интеллектуальную собственность, в Швейцарии одна, а в Китае другая. Американская фирма с крупным отделом, который занимается “правительственными делами” и призван лоббировать интересы политиков в Вашингтоне, российская компания, созданная олигархом с дружескими связями в Кремле, индийская компания, которая ищет лазейки в лабиринте бюрократических рогаток и лицензионных процедур, – все оказываются перед разными регуляционными требованиями, существенно отличающимися друг от друга; что тогда говорить о стартапе, который только собирается войти в отрасль. Сами компании также отличаются размером внутренних ресурсов, необходимых для обучения персонала и разработки нового продукта. Различия в этих параметрах (масштаб бизнеса, размер средств и рабочая среда) определяют стоимость ведения бизнеса, готовность к его расширению, а также ответ на вопрос: заниматься им самому или перепоручить другому исполнителю? Если вкратце, то они формируют структуру промышленных отраслей.
Почти век назад для того, чтобы изучить структуру производства и дать научное объяснение причинам, ведущим к ее изменениям (либо, напротив, к их отсутствию), в экономической науке возникла целая дисциплина – организация производства. Как уже отмечалось в третьей главе, данная дисциплина привлекла внимание Рональда Коуза, британского экономиста, который в 1937 году первым высказал мысль, что конкретные формы, приобретаемые фирмами и предприятиями, можно объяснить трансакционными издержками{263}.
Поодиночке или вместе, компании, которые доминируют в конкретной отрасли или в рыночном секторе, прилагают немало усилий, чтобы сохранить существующий порядок вещей. Цель конкретной компании – выдвинуть уникальное и заманчивое торговое предложение, которое кому-либо еще будет сложно скопировать или повторить. Она может отстаивать эту позицию, вытесняя с рынка одних конкурентов и идя на сговор с другими. Действуя методом вытеснения, конкуренты прибегают к таким инструментам, как ценообразование, качество продукции (более высокое по сравнению с конкурентами), инновационный характер продукции, а также агрессивная рекламная кампания. Сговор же может проявляться в форме создания барьеров, затрудняющих (либо не допускающих) вхождение на рынок конкурента-новичка (в частности, когда компании, задающие тон в конкретном секторе, негласно или гласно согласовывают ценовую политику и стратегии продаж, технические стандарты или используют пиар-кампании и внутриотраслевые связи, чтобы обосновать наличие или создание благоприятствующих им условий). Какими бы мотивами ни руководствовались конкуренты, любые вытеснения и сговоры только сужают горизонт для новичков, создавая серьезные, а подчас и непреодолимые препятствия для их вхождения на рынок.
Здесь мы видим ответ на вопрос, почему экономисты, стремясь описать действие рыночной власти, часто обходят вниманием цифры, сосредотачиваясь на не требующей точных расчетов и выкладок проблеме снятия входных барьеров в какой-либо конкретной области. Разумеется, кроме качественных показателей рыночной власти есть еще и количественные, но их практическое применение несколько затруднено.
Более полезны критерии, при помощи которых экономисты определяют рыночную власть не столько в конкретной отрасли, сколько на уровне отдельно взятой фирмы. Выбор таких критериев достаточно широк. Не самый сложный из них – индекс концентрации ведущих фирм, показывающий совокупную рыночную долю группы (из четырех, пяти, десяти и т. д.) самых преуспевающих компаний (например, по объемам продаж или стоимости активов) в конкретной отрасли или в экономике в целом{264}.
Но рыночная власть отнюдь не равнозначна концентрации. В некоторых экономиках или отдельных отраслях с высокой степенью государственного регулирования даже относительно небольшие компании могут пользоваться благами рыночной власти, просто пребывая под защитой государства или под политическим покровительством. Примером может служить служба такси, имеющая исключительное право обслуживать пассажиров, прибывающих в некий аэропорт. Так же сам факт наличия промышленной концентрации необязательно означает, что фирмы действуют как олигополии, прибегая к явному или неявному сговору для поддержания высоких цен: они вполне могут пребывать в отношениях жесткой, беспощадной конкуренции. Прочие факторы, способствующие рыночной власти, такие как способность добиваться благоприятного режима работы и таких же законов, не являются прямым следствием промышленной концентрации. Профессиональные объединения, представляющие сферы деятельности с широкой степенью рассеянности (например, бухгалтеры, стоматологи), могут лоббировать собственные интересы не менее успешно, чем ассоциации из “густонаселенных” секторов экономики (таких как производство цемента, стационарная телефонная связь).
Итак, чтобы понять, как действует рыночная власть, нам недостаточно одних лишь количественных показателей. Пожалуй, степень рыночной власти, а вместе с ней устойчивость отраслевой структуры и преимущества защиты, которой пользуются ведущие фирмы, лучше всего оценивать, беря в расчет наличие и эффективность входных барьеров. И стоит нам это сделать, как сразу проявляется господствующая тенденция: в любой отрасли традиционные входные барьеры, определявшие ее структуру в течение большей части XX века, либо снизились, либо исчезли совсем.
Аксиомы об устройстве корпораций опровергнуты. И в итоге сегодня рыночная власть – совсем не то, что было раньше. Противоядие от деловой ненадежности и нестабильности теряет свою эффективность. И преимущества, долгое время ассоциируемые с масштабом, свободой действий и ранжированностью корпораций, сошли на нет, а кое-где даже стали препятствием.
Барьеры упали – пришла конкуренция
Классические входные барьеры в мире бизнеса известны всем и каждому. Размер, например, не допускает ситуации, когда небольшие компании бросают вызов большим. А положительный эффект масштаба (также известен как экономия за счет масштаба) удешевляет товары массового производства, оправдывая появление таких инноваций, как укрупненная современная фабрика и сборочная линия. Крупные производители, когда их немного, могут занять немалую часть рынка; могут перенести свои издержки производства (путем распределения, например) на большое количество изделий, снизив таким образом среднюю стоимость одной товарной единицы.
Экономия от совмещения породила целый ряд производных барьеров. Опыт работы в родственных, но не тождественных сферах бизнеса может дать компании преимущество, какого не будет у ее конкурентов. Например, фирма с крупными контрактами на поставку самолетов военновоздушным силам будет иметь огромное конкурентное преимущество и на рынке пассажирских лайнеров. И если положительный эффект масштаба – производная от объемов, то экономия от совмещения возникает тогда, когда компания способна использовать свои уникальные знания и ключевые компетенции на разных рынках. Доступ к редким ресурсам, таким как месторождения полезных ископаемых, плодородная почва или места, изобилующие рыбой, становится барьером тогда, когда потенциальные конкуренты не могут получить доступ к таким же ресурсам. И, конечно же, еще одно препятствие – капитал. Начало работы нового авиаперевозчика, телефонной или сталелитейной компании требует огромных затрат, которые могут позволить себе лишь немногие из новичков. Следующий распространенный барьер, усложняющий конкуренцию, – технология: формула, процесс изготовления или любая другая форма интеллектуального капитала, принадлежащего кому-то одному и недоступного потенциальным конкурентам, также не способствует конкуренции. То же самое справедливо и по отношению к торговой марке: конкурировать с Coke и Pepsi трудно не только из-за их размера, но и потому, что их продукция пользуется огромной привлекательностью именно как бренд.
И, кроме того, есть также правила: законы, инструкции, нормы авторского права, налоговая политика и многие другие требования, соблюдения которых требует работа в конкретном месте или отрасли. Все они (а также многочисленные вариации, ведь список входных барьеров не существует в заданном раз и навсегда виде), как правило, укрепляют позиции ведущих фирм в любой конкретной отрасли и не допускают новых участников.
Так мы приходим к основному вопросу, касающемуся трансформации власти в мире бизнеса: что может вызвать внезапное падение входных барьеров, из-за чего компании-старожилы станут более уязвимыми и рискуют утратить власть? Единственно верный ответ – интернет, и он напрашивается сам собой. Истории о том, как мировая паутина помогала сгонять с насиженных мест монополии, не менее многочисленны, чем возможности самой сети. Собственно говоря, секторов, которых не коснулась революция в информационных и коммуникационных технологиях, не так уж и много.
И все же, как и в случае других областей, о которых здесь идет речь (политика, война и т. д.), вне зоны действия информационной революции остаются действующие силы, серьезно повлиявшие на процесс обретения, использования и утраты власти в мире бизнеса.
Например, за три прошедших десятилетия правительственные действия разительно преобразовали долгое время бывший неизменным предпринимательский ландшафт. Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган запустили волну политических изменений, подстегнувших конкуренцию и изменивших методы ведения бизнеса во многих секторах экономики – от телефонной связи и воздушных перевозок до угледобывающей промышленности и банковского дела. Начиная с конца 1980-х годов развивающиеся страны от Таиланда и Польши до Чили провели у себя ряд революционных экономических реформ, таких как приватизация, отмена госконтроля, открытие частных предприятий, снятие преград для иностранных инвестиций, разрешение валютных операций, финансовая либерализация и масса других изменений, стимулирующих конкуренцию. Развитие Европейского союза и открытие его внутренних границ, создание новых регуляторных органов и введение евро – все это, равно как расширение всемирных и региональных торговых соглашений, оказало огромное влияние на конкурентную среду.
Эти политические инициативы как минимум не меньше интернета повлияли на изменение предпринимательской среды в масштабах всей планеты. Так, некоторые аналитики считают, что рост торговли в развитых странах в послевоенные годы по крайней мере на четверть обязан именно политике реформ, прежде всего снижению тарифов{265}. Интегрирование в мировую экономику Китая, Индии, других крупных рынков, остававшихся относительно закрытыми вследствие протекционистской и автаркической экономической политики, вывело на мировые рынки миллиарды новых потребителей и производителей. Новые технологические революции лишь усилили судьбоносные перемены в политике, их совместное действие привело к появлению мира, где прежние входные барьеры уже не могли оградить старожилов рынка от нашествия новых игроков.
Чуть ли не в каждой отрасли экономики стали происходить технологические прорывы. Компактные солнечные, ветряные и биотопливные электростанции обеспечивают энергией огромные группы людей, не знавших, что такое электричество, способствуют развитию малой энергетики и ослабляют господство классических энергетических компаний. Миниатюризация и компактность чудесным образом изменили процесс производства – и заодно опустили входные барьеры, казавшиеся когда-то незыблемыми. В некоторых секторах промышленности отпала нужда создавать исполинские мощности для получения интересующей доли рынка. Конечно, мини-пивоварни не затмят производителей масштаба Heineken, а мини-плавильни – не чета гигантам типа ArcelorMittal, и все же подобные мелкие фирмы уже в состоянии занять достаточную долю рынка в своих географических пределах, усиливая конкуренцию там, где выбор до сих пор был ограничен. И, как мы уже отмечали, благодаря коренным преобразованиям в финансовой сфере стало легче получить финансирование ценных предпринимательских идей. В большинстве стран, когда нам нужно создать или расширить компанию, доступ к капиталу больше не является непреодолимым препятствием.
Следствия таких изменений практически безграничны, это и требования к персоналу, и страховые затраты, и возможность оперативно менять место производства. Благодаря использованию контейнеров упростился процесс отгрузки, а доставка любых товаров независимо от вида транспорта стала легче. В 2010 году контейнерный грузопоток более чем в 10 раз превышал аналогичный показатель 1980 года{266}.
Почти все технологии, которые мы либо видим в музеях (паровой двигатель), либо считаем чем-то обыденным (радио), в свое время были прорывами в мире науки и техники. Но и они меркнут на фоне нынешних технологических инноваций, которые заполонили мир, с умопомрачительной скоростью вторгаясь во все сферы деятельности человека.
Если разобраться, становится ясно, что почти все серьезные изменения в нашем образе жизни (по сравнению пусть даже с прошлым поколением) влекли за собой разрушение входных барьеров. Действительно, в мире бизнеса явственно просматриваются революции множества, мобильности и ментальности, а также то, как они подорвали власть авторитетов. И примеров тому предостаточно: интеграция мировых рынков капитала посредством электронных переводов и электронного же банкинга изменили способы распределения и обращения капитала. Появились целые поколения новых инструментов капиталовложений – от венчурных инвестиций и инвесторов, поддерживающих стартапы, до микрокредитования, – которые через большие и малые расстояния соединяют деньги с пользователями. Благодаря миграции деловой и практический опыт распространяется способами, с которыми не могут конкурировать инвестиционные стимулы и изменения в регуляторной политике. Кроме того, появились глобальные по масштабу сети финансирования через диаспоры, а также специализированные рынки для предпринимателей, которые исходят из потребностей сообщества.
Сочетание этих сил – вот что отличает нынешние потрясения, которые испытывает капиталистическая система, от тех, что были когда-то. Стало больше всего, все движется и распространяется быстрее, серьезно изменяются и ожидания людей. Глобальный рынок, почти беспрепятственное перемещение через границы огромных денежных масс, товаров, брендов, технологий и талантов; растущая ценность знаний и разработок, касающихся природных ресурсов и материально-производственной базы, возникновение доверия там, где раньше его было мало или не было вовсе, – все это из того же ряда уже знакомых сил, изменивших контуры национальных экономик. Сделав это, силы не только изменили поле конкурентной борьбы. Также они предоставили новым игрокам возможность равной конкуренции, включив в игру достойных и умелых соперников, которых прежде не пускали барьеры в виде регуляторов, неравного доступа к ресурсам, знаниям, капиталу, а также репутации. Сейчас эти барьеры расшатались, и появились условия для замены и перегруппировки традиционных компаний-игроков, даже когда краткосрочные тенденции в некоторых секторах или странах, похоже, говорят о концентрации сил.
Разумеется, и в этой общей тенденции есть свои исключения. Но все же достаточно беглого взгляда хотя бы на несколько (самых грозных когда-то) средств удержания от конкурентной борьбы, чтобы понять всю основательность глубинных преобразований.
Материальные активы
В 2007 году News Corporation, управляемая Рупертом Мердоком, достигла долгожданной цели, приобретя за 5,6 миллиарда долларов святая святых – Wall Street Journal. За несколько недель до этого Google заплатил 3,1 миллиарда долларов за DoubleClick (фирма, занимающаяся рекламой в интернете, основана в 1996 году), а Microsoft за 6,3 миллиарда долларов приобрела такую же, но менее известную компанию aQuantive (основанную в 1997 году). Всеми уважаемый Journal с его зубрами журналистики, корпунктами, типографиями, множеством зданий и автопарком (всеми активами владела компания Dow Jones) продан за хорошие деньги, но пара без году неделя существующих фирм, специализировавшихся на рекламе в интернете и практически не имевших материальных активов, были проданы за сумму, чуть ли не вдвое превышающую стоимость активов Journal.
Что это – гримасы перегретого рынка виртуальной собственности? Да, в 2012 году Microsoft объявила о выделении 6,2 миллиарда долларов на покупку aQuantive{267}, но и это еще не все; в том же 2012 году Facebook (сам молодое детище Сети, с неустоявшейся стоимостью) заплатил 1 миллиард долларов за Instagram (компанию из дюжины сотрудников и с нулевым доходом). За эти деньги вполне можно было купить New York Times, Peet’s Coffee, Office Depot или Cooper Tire & Rubber – вот вам лишь несколько сопоставимых по цене компаний.
Доля материальных активов в оценке фирм резко упала во всех отраслях экономики. Удельный вес принадлежащей им материальной базы (фабрики, заводы, офисы, прочие материальные активы) в формировании оценочной стоимости, определяемой в момент выпуска акций или когда фирма выставляется на продажу, неумолимо падает. По оценкам ученых, сегодня от 40 до 90 % рыночной стоимости компании приходится на долю ее “неосязаемых активов”, куда входит все – от патентов и авторских прав до методов управления компанией, бонусов за лояльность и положительной реакции потребителей. Далеко не все из этих неосязаемых активов легко измерить, но это отнюдь не значит, что ученые не пытались это сделать{268}.
Да, разумеется, некоторые отрасли экономики по-прежнему не обходятся без дорогостоящих операций, таких как бурение нефтяных скважин или строительство авиалайнеров. И целый ряд компаний по-прежнему имеет громадное преимущество в виде доступа к желаемым активам: так, российский горно-металлургический гигант “Норникель” контролирует 30 % мировых разведанных запасов никеля и 45 % платины в Сибири. Но даже в этих отраслях мы наблюдаем возрастающую роль неосязаемых активов. Лоренсо Самбрано, президент CEMEX – мексиканского производителя цемента, ворвавшегося в ряды флагманов отрасли и ставшего глобальным игроком, поведал мне, что “управление знаниями” было решающим базовым фактором, за счет которого компания, поднявшись на международный уровень, смогла соперничать с более крупными и более авторитетными конкурентами. Управление знаниями, “информационные системы, модели предприятий и прочие «нематериальные активы», имеющие большее отношение к знаниям, нежели к цементу”, и определяют успех компании, говорит Самбрано{269}. Мексиканская CEMEX–еще один пример нового, не чуждого инноваций игрока из страны, не плодящей компаний мирового масштаба, которому удалось сотрясти традиционную структуру власти в старой и чрезвычайно “густонаселенной” отрасли.
Масштаб и совмещение
Логика положительного эффекта масштаба долгое время была аксиомой в мире современных корпораций: чем крупнее производственные мощности, тем меньше расходы на единицу произведенной продукции и тем сложнее мелким конкурентам достигнуть такой структуры издержек и цен, как у больших компаний отрасли.
Той же логикой руководствуются и те, кто возлагает большие надежды на экономию от совмещения, когда навыки и ключевые умения, добытые в одной отрасли, переносятся в другую, где и становятся конкурентными преимуществами в борьбе с новыми соперниками, как имеющимися, так и потенциальными.
Пример – компания PepsiCo, владеющая брендом Gatorade и применившая к нему свои маркетинговые приемы, благодаря чему “спортивный” напиток Gatorade стал одним из основных источников ее дохода.
Организационно логика масштаба и совмещения привела к сохранению в рамках компании определенного количества административных и опорных функций; доверить их кому-либо другому означало бы поставить под угрозу эффективность, точность или соблюдение профессиональных тайн.
Сегодня еще существуют крупные отрасли, в которых необратимый характер потерь и ряд других факторов ведут к появлению больших компаний, склонных к жесткому централизованному управлению. (Возьмите в качестве примера ядерную энергетику с ее передовыми технологиями, вопросами защищенности и безопасности, с первоначальными расходами на то, чтобы выполнить все условия.) Но это все же исключения. Многие из историй об успешном бизнесе приходят к нам не только из тех отраслей, где экономия масштаба менее ощутима, но и из компаний, которые полностью отвергли эту аксиому.
Как следствие, принципы экономии масштаба, совмещения и корпоративной организации нарушаются самыми разными способами, к выгоде еретиков от бизнеса. Рассмотрим это на примере мелкосерийного производства товаров ширпотреба. Испанский производитель одежды компания Zara, которая начинала с кустарного производства по пошиву купальных халатов и только в 1988 году вышла за пределы Испании, в 2007 году по объемам продаж обогнала американского гиганта The Gap. К 2012 году, в разгар глобального экономического спада, Zara по объемам продаж (немногим менее 18 миллиардов долларов) почти на 25 % обошла The Gap. Чуть ранее был посрамлен и европейский конкурент Zara – компания Н&М{270}. Работающая в универсальном потребительском сегменте индустрии моды Zara (флагманский бренд холдинговой компании Inditex, созданной основателем Zara) больше известна производством мелких партий одежды, чем размещением крупных заказов у других исполнителей (что характерно для компаний-конкурентов). Кроме того, свою стратегию продаж она выстраивает с учетом многочисленных торговых точек, принадлежащих ей за рубежом (в ее владении – более 5500 магазинов в более чем 80 странах){271}. Zara нужно всего лишь две недели на то, чтобы смоделировать новый продукт, произвести его и разослать по магазинам, тогда как средний показатель по отрасли – шесть месяцев. Более того, Zara каждый год запускает в производство порядка десяти тысяч новых моделей одежды{272}. И получается (по крайней мере, в случае Zara), что преимущество оперативности (чуткость к изменениям потребительских вкусов и немедленное реагирование на них) дает производителю гораздо больший выигрыш, чем гигантские партии товаров широкого потребления{273}. А ведь Zara – всего лишь одна из целого сонма компаний, успех которых кроется скорее в оперативности, чем в размере, что нередко в таких отраслях, где когда-то решающим фактором успеха был именно большой масштаб.
Еще одно опровержение аксиом масштаба и совмещения мы видим в том, что стало возможным в удаленном режиме организовывать и предоставлять услуги, о которых раньше не могло быть и речи (не говоря уже об их реализации издалека). Возьмите что угодно из того, что мы сегодня называем аутсорсингом. Поначалу все сводилось к работе с зарубежными поставщиками материалов либо сборочным (или к каким-либо другим предусмотренным производственным циклом) предприятиям, куда переправлялся незавершенный продукт. Со временем аутсорсинг охватил собой сферу услуг, поначалу таких, которые не требовали высокой квалификации, вроде первичной бухгалтерии или колл-центров. Сегодня же возможна даже телемедицина: врачи ставят диагнозы на расстоянии, лаборатории обрабатывают данные анализов, индийские бухгалтеры заполняют налоговые декларации американских компаний.
В итоге появляется множество малых фирм, для которых географическое местоположение уже не является определяющим фактором. Они способны производить более дешевые изделия и услуги, требующие глубоких знаний, но при этом их продукция по качеству ничуть не уступает тем аналогам, что производятся на местных предприятиях, лелеемых традиционными индустриальными гигантами. И никакая страна не может воспрепятствовать предоставлению таких услуг. Открыв в 1998 году научно-исследовательский центр в Индии, IBM в 2010 году открыла точно такой же в Сан-Паулу; Бразилия занимает первое место в мире по количеству Java-программистов и второе – по аппаратным программистам. В 2011 году компании в Латинской Америке и Восточной Европе открыли 54 новых центра аутсорсинга, и еще 49 центров открылись в Индии{274}.
От того, что причины аутсорсинга известны всем и каждому, эти компании не кажутся слабее. Средства быстрой бесперебойной связи сегодня доступны везде. Электронная почта, чаты, IP-телефония не только улучшают нашу жизнь, но и сводят на нет классические бизнес-преимущества, которые давали раньше офисы. Тогда сотрудники встречались на работе и на встречах, устраиваемых собственными турагентами, общались при помощи офисной почты и мини-АТС, внутрикорпоративных, локальных сетей и так далее. В свое время все это требовало колоссальных инвестиций, что мешало появлению стартапов и новых участников и удерживало от передачи важнейших функций другим компаниям. Это бизнес-преимущество старожилов, несмотря на все их противление, осталось в прошлом.
Сегодня в лексиконе экономиста вы не найдете термина “естественная монополия”. Раньше так назывались компании, которые действовали согласно экономике масштаба, так что не было смысла иметь более одного поставщика. Электроэнергетика, стационарная телефония, водоснабжение – вот основные сферы действия таких компаний. Единственный вопрос, возникавший в связи с ними, звучал так: должны ли эти монополии принадлежать государству или, напротив, находиться в частном управлении? Теперь же в этих отраслях растет конкуренция: благодаря новым технологиям множество поставщиков ведут борьбу за клиента. Как итог – неслыханное увеличение выбора. В Африке крупнейший региональный оператор мобильной связи Bharti Airtel стал партнером компании SharedSolar (разработка и внедрение малых солнечных электростанций), после чего смог предложить эфирное время и электроэнергию 50 миллионам своих абонентов, проживающих на континенте{275}. Потребитель, живущий в австралийском Мельбурне, имеет выбор из пятнадцати поставщиков энергии. То, что поколение назад считалось ересью, сегодня – общепринятая практика.
По мере того как масштаб и совмещение теряли свою конкурентную значимость, на передний план выдвигались иные преимущества. Некогда скорость была одной из выгод, которые давал масштаб. Ныне скорость побивает и масштаб, и равный доступ малых и новых конкурентов к инструментам, дающим возможность быстро определить потребителя, улучшить продукт или услугу, а исполнение и доставка превращают фактор масштаба из преимущества в обузу.
Брендинг
Классический способ, позволяющий занять на рынке комфортное положение, – развитие и поддержка бренда. Брендинг – с названием, логотипом, всяческой рекламой и кампаниями, проводить которые позволяет известное и привлекательное имя, – дает возможность продукту сохранить свое лицо (и тогда уже менее важно или не важно совсем, кто его производитель или поставщик) и вызывать у потребителя определенные переживания и чувства. Как известно, революция в брендинге началась в 1947 году, когда United Fruit Company придумала название Chiquita для маркировки своих бананов{276}. До этого банан был не более чем бананом, независимо от того, кто и где его вырастил. И все, что отличает два плода – размер, степень зрелости, вкус, – ни в коей мере не зависело от компании. Но вот появились ласкающее слух название и приятный на вид логотип и тут же стали обрастать рекламными легендами. Успех был так велик, что в 1990 году название Chiquita было перенесено на всю компанию.
Как показывает этот пример, вся суть брендинга сводится к тому, чтобы выдержать конкуренцию. Чем эффектнее бренд, тем лучше он способствует сохранению рыночной власти компании. И методов, позволяющих дифференцировать продукт, сегодня много, как никогда. Сюда входят как традиционные инструменты (логотипы, упаковки, телереклама, спонсорство), так и новые (покупка прав на названия торговых марок, обеспечение визуальной доступности товара, реклама на различных медийных площадках, проведение вирусных рекламных кампаний). Методов поведать миру о продукте стало гораздо больше, и они уже не требуют больших бюджетов на рекламу и услуг ведущих нью-йоркских или лондонских агентств. В качестве еще одной иллюстрации того, как дерзкие новички-конкуренты оттесняют старожилов, возьмем бизнес, которого всего лишь несколько лет назад не было и в помине – реклама в социальных медиа, таких как Facebook, Twitter, YouTube, – и который вполне в состоянии отвоевать немалую, стремительно растущую долю рекламных инвестиций, что многие годы вливались исключительно в традиционные СМИ (телевидение и радио, газеты и журналы). Эффективный нишевой маркетинг – то есть маркетинг, нацеленный на футбольных фанатов, русскоязычную аудиторию, любителей видеоигр, производителей пшеницы, вегетарианцев и так далее, – возможен за цену, которая покажется доступной многим новичкам. И хорошо продуманный сайт способен привлечь вебпользователей к названиям таких компаний и продуктов, о которых ранее полмира знать не знало.
В экономике даже возникло новое направление – вычисление доли рыночной стоимости компании, определяемой ее брендом. В 2011 году исследование лидирующей в этой области консалтинговой фирмы Interbrand показало, что стоимость бренда McDonald's (куда входят имя, названия продуктов, дизайн ресторана, золотые арки логотипа) составляет более 70 % от общей стоимости компании-владельца. Стоимость бренда Coca-Cola составляет 51 % от стоимости компании; а в Disney, IBM и Intel на долю созданных ими брендов пришлось соответственно 68, 39 и 22 процента от общей стоимости компаний{277}.
В 2011 году в рейтинг компаний по денежной оценке принадлежащих им брендов вошли и представители традиционной экономики, и более новые игроки, использующие современные технологии: лидировала в этой группе Coca-Cola, за ней шли IBM, Microsoft, Google, General Electric, McDonald's, Intel, Nokia, Disney, а замыкала десятку Hewlett Packard{278}.
Соответственно, компаниям имеет смысл тратить огромные суммы денег на создание своих брендов. И те из них, кто ведет разумную политику, непрерывно развиваются. Так, IBM эволюционировала от производителя ПК, жестких дисков и прочих компьютерных комплектующих до информационно-технологической компании, чьи высокопрофессиональные консультанты и мощное аналитическое программное обеспечение позволяют решать сложные масштабные задачи, – что нашло свое отражение в рекламной акции 2012 года под названием “Разумная планета”. Но преимущество, даваемое брендом, уже не столь очевидно, как прежде. В числе наиболее динамичных брендов, чья доля в общей стоимости компаний-владельцев росла последнее время быстрее всего, такие новички, как Skype (теперь собственность Microsoft). Как стоимость брендов превзошла стоимость материальных активов владеющих ими компаний, так и само преимущество бренда становится более шатким по той причине, что появление новых игроков сопровождается рождением новых имен.
Доступ к капиталу
Из всех препон, встающих перед бизнесом, немногие пагубны так, как отсутствие доступа к капиталу. Редкий предприниматель располагает нужной суммой, чтобы воплотить задуманное или начать производить собственный продукт. Как правило, эта роскошь доступна солидным компаниям, располагающим средствами для исследовательской деятельности и разработки продукта или свободным капиталом, за счет которого они могут выпустить товар по убыточной цене, чтобы привлечь покупателей. Чем меньше каналов привлечения средств и чем они мельче, тем выше степень закрытости рынка для новых участников. И доступ к капиталу во всем мире действительно был ограничен, а получение кредита в банке (даже при высоком уровне процентных ставок) требовало соблюдения неимоверного количества формальностей и было доступно не каждому. Исторически сложилось, что самым ярким исключением из этого правила стали США, что помогло им стать ведущим инновационным центром.
Сегодня США остаются одним из мировых лидеров по легкости получения кредита, но занимают в этом рейтинге всего десятую позицию. А первая пятерка, согласно данным Всемирного банка, выглядит так: Малайзия, ЮАР, Великобритания, Австралия, Болгария. Столь необычная подборка стран – свидетельство огромных перемен не только в местоположении источников капитала, но также в их природе: появились совершенно новые источники кредита, а прежние, неприступные в прошлом, стали гораздо доступнее.
Одна из основных тенденций последних двух десятилетий – освоение “венчурным капиталом” и “ангелами” (типы инвесторов, некогда встречавшиеся преимущественно в США) основных новых рынков Европы, России, Азии и Латинской Америки. Как отмечалось ранее в связи с революцией мобильности, одной из движущих сил международной экспансии венчурного капитала и моделей прямого инвестирования была миграция банкиров, инвесторов, инженерно-технического персонала, которые приобретали опыт в США, а затем, вернувшись на родину, применяли там новые методы инвестирования. На Тайване первые венчурные фонды, копирующие американские модели, возникли в 1986–1987 годах, и возглавляли их менеджеры, возвратившиеся домой, получив навыки и поработав в США. И совсем недавно венчурные компании стали появляться в Индии и даже в Китае, где они сталкиваются с бо́льшим количеством ограничений; главная роль в этом процессе принадлежит репатриантам и финансистам, обитающим в двух мирах – например, в Бангалоре и в Силиконовой долине. Анна-Ли Саксенян, декан Школы информации Калифорнийского университета в Беркли, эксперт по данному вопросу, считает, что “новые технологические области”, такие как Шанхай и Бангалор, уже больше не копия, а скорее продолжение Силиконовой долины. Также она утверждает, что более подходящим выражением для описания круговорота талантов, предпринимательских идей и финансирования будет уже не “утечка мозгов”, а “циркуляция умов”{279} (см. главу 4).
Инновации
“Не понимаю, о какой инновационной среде можно говорить в крупных фармацевтических компаниях. Мне трудно представить, как вы создаете среду для инноваций и дерзких решений, порождающую своих лидеров”. Эти слова в 2007 году произнес Джон Мараганор, президент небольшой фармацевтической компании из Кембриджа (штат Массачусетс){280}. На взгляд президента, он всего лишь высказал то, что и так очевидно. Но по сравнению с корпоративной практикой, длящейся не одно десятилетие, слова его как минимум резки.
Резки, но вполне справедливы. Ничто не мешает оцененным в миллиарды долларов фармацевтическим компаниям вроде Pfizer и Merck выбросить на рынок некоторое количество новейших средств, но дело, скорее всего, в их отсутствии. Охотнее такие препараты синтезируют небольшие компании, часть из которых возникает на базе биологических научно-исследовательских отделов университетов, а часть – в биомедицинских парках наподобие индийского Хайдарабада, также известного как “Геномная долина”. Потом разработанные лекарства – а в некоторых случаях и компании – приобретаются большими корпорациями{281}. В наше время процесс производства лекарств может быть перепоручен еще какой-либо компании извне. Пример такой организации процесса – FerroKin Biosciences, в которой семь сотрудников, работающих на дому, и группа из порядка 60 поставщиков и подрядчиков, занимающаяся всеми этапами производства препарата. Компания, возникшая в 2007 году, привлекла 27 миллионов долларов венчурного капитала, провела свой препарат от стадии разработки до второй фазы клинических испытаний{282}, а в 2012 году была приобретена биофармацевтической компанией с британскими корнями Shire Plc, которая специализируется на производстве биомедицинских препаратов.
Когда же мы говорим о рекламе и распространении продукции, то компании типа Shire и такие фармацевтические монстры, как Merck, имеют неоспоримое преимущество перед “кустарями”. Для мелкого представителя фармацевтики из Хайдарабада или Шэньчжэня пока что нереально иметь армию торговых представителей (регулярно снабжаемых ручками, сумками и обедами), которые предлагали бы образцы препаратов приватным врачам и работникам клиник во Флориде, Перте или Дорсете.
Перемены, коснувшиеся главных товарных инноваций, носят поистине революционный характер. Многие годы большие компании во всех областях, от фармацевтики до автомобилестроения, от производства химикатов до сборки компьютеров, занимались собственными исследованиями и разработками в тщательно охраняемых и щедро финансируемых подразделениях, что составляло предмет особой гордости и престижа компаний. Однако с 1980-х годов такие компании, как Cisco и Genzyme, стали получать известность даже несмотря на то, что в самих компаниях не было исследовательского и конструкторского отделов. Настала “эра открытых инноваций”, как назвал ее теоретик бизнеса Генри Чесбро{283}. Как утверждает Чесбро, в некоторых отраслях открытые инновации всегда были нормой (например, тот же Голливуд). А сегодня к голливудской модели, поправ мудрость бывалых титанов, приближаются производители химической продукции, телефонов, авиалайнеров. И новые, сильные в своих отраслях игроки типа Acer и HTC рождались в отдаленных инновационных мастерских, чьих названий вы никогда не встретите на их продуктах, в отличие от брендов, произведенных конкурирующими компаниями полного цикла{284}.
Все вполне объяснимо. “Мы разбираемся в продуктах этой категории чуть больше, чем наши клиенты”, – заявил в интервью Businessweek президент тайваньского производителя смартфонов HTC{285}. И этому примеру вот-вот последуют другие, пока еще малоизвестные, компании. В фармацевтике аутсорсинг при изготовлении лекарств – общепринятая практика, но их изобретение – это тайна. С другой стороны, с 2001 года рынок лекарств, изобретаемых на стороне, рос быстрее, чем рынок “родных” препаратов; объем его возрос с 2 миллиардов долларов в 2003 году до 5,4 миллиарда в 2007-м, а по экспертным оценкам сегодня темпы его роста равны 16 % в год{286}.
Все это не предвещает ничего хорошего большим компаниям. Как утверждает в своей нашумевшей книге “Дилемма новатора” теоретик бизнеса Клейтон Кристенсен, даже самые лучшие из крупных компаний действуют с помощью набора процедур, дающих возможность неплохо использовать “поддерживающие технологии” (новые технологии, позволяющие улучшить существующий продукт), но совершенно бесполезных для выявления и обращения себе на пользу “прорывных технологий” (новых технологий, которые обычно возникают на окраинах существующего рынка, но со временем способны его изменить). В качестве классических прорывных технологий Кристенсен называет мобильную телефонную связь, микротурбины, ангиопластику, PlayStation, дистанционное обучение, интернет-протоколы, онлайн-торговлю и уход за больными на дому. Новые технологические разработки поначалу неэкономичны (если сравнивать их со стандартными процессами), но в итоге именно они загоняют в тупик гигантов бизнеса, всегда считавшихся бесспорными лидерами в своих сферах, после чего – либо медленная смерть, либо крушение бывших кумиров, как это уже было с той же DEC или Sears Roebuck{287}.
Размер компании и алгоритмы работы, объясняет Кристенсен, в этих случаях очень существенны. Например, потребность крупных корпораций анализировать возможности рынка в соответствии с устоявшимися показателями не дала им увидеть очертания новых рынков, зарождающихся и развивающихся вокруг новейших технологий. Более низкие краткосрочные прибыли от этих рынков противоречили культуре максимизации квартальных цен на акции. И с каждой новой волной инноваций эта дилемма снова и снова встает в полный рост: по мере того как богатеют и растут компании, первыми начавшие эксплуатировать революционные технологии, “им все труднее и труднее выходить на новые малые рынки, которые в будущем непременно расширятся”{288}.
Кристенсен предлагает принципы поведения для бизнес-лидеров, которые могут помочь разрешить дилемму новатора. Но несмотря на то, что средства на исследовательские и проектные работы курсируют свободней и находят больше точек приложения, а производственные предприятия, дефицитные ресурсы, коммуникации, маркетинг требуют все меньше прямых инвестиций, острота дилеммы не снижается, если не сказать растет.
Правительственные ограничения
В прошлом налагаемые государством ограничения определяли рубежи конкурентной среды, преследуя более высокие цели: защиту набирающих силу домашних компаний от более дешевого импорта либо же достижение неких социальных целей путем контроля над характером и местом размещения инвестиций.
Но данная тенденция прошла свой пик около тридцати лет назад и спала из-за неутешительных результатов и колоссального сдвига, произошедшего в подходе к глобальной политике. Правительства многих стран стали избавляться от государственных предприятий, разукрупняли монополии, смягчали инвестиционный и торговый климат и улучшали среду для деятельности предпринимателей. Один красноречивый показатель: в 1990 году средний уровень таможенного тарифа в мире составлял 23,9 % (от 38,6 % в странах с низким уровнем дохода до 9,3 % в странах ОЭСР). К 2007 году он упал до среднемирового показателя 8,8 %, от ставки в 12 % в странах с низким уровнем дохода – до микроскопических 2,9 % в странах – членах ОЭСР. И даже экономический кризис 2008 года не смог переломить эту тенденцию{289}. По мере того как рушились экономики в развитых странах, становилось модно предсказывать, что естественной реакцией правительств этих стран будет попытка сохранить рабочие места и компании за счет более высоких барьеров для импорта. Эти прогнозы не сбылись. То же самое можно сказать о прогнозах относительно того, что страны будут ограничивать приход иностранных инвесторов. Они также не сбылись.
Поистине глобальное движение в сторону относительно свободных, открытых экономик с активными рынками капитала и ограничением государственной собственности – одна из излюбленных тем последнего поколения. Часто высказывается и опасение, что в какой-то момент маятник может качнуться назад – даже если не полностью, то весьма ощутимо. Действительно, на первый взгляд может показаться, что с началом глобальной рецессии 2008–2009 годов мир вновь возвращается к более явному государственному регулированию и контролю в ключевых секторах экономики.
Но такие меры, как финансовая поддержка банков в Америке, временные национализации в Великобритании, попытки изменить условия регулирования финансовым сектором при торговле специфическими деривативами, не стоит расценивать как обращение вспять гораздо более масштабной глобальной тенденции. На деле же, как явствует из данных Всемирного банка, именно в 2008–2009 годах, то есть в разгар глобальной рецессии, темпы проводимых в разных странах реформ, призванных способствовать развитию бизнеса, достигли рекордного уровня. Банк насчитал за этот период рекордные 287 реформ (проведенных в 131 стране), упрощавших ведение бизнеса. Почти две трети стран смягчили условия кредитования. Более половины стран облегчили регистрацию собственности, уплату налогов и торговлю с зарубежными партнерами. Добавьте сюда внушительное количество стран, упростивших процедуру банкротства, принуждение к выполнению контрактов, получение разрешения на строительство и т. д., – и получите общее представление о кардинальном смягчении государственных препятствий предпринимательской деятельности, что уравняло некогда привилегированные компании с прочими конкурентами. Рушатся всевозможные барьеры, препятствующие вхождению на рынок новых участников, причем, вопреки расхожему мнению, стремительней всего разрушаются именно те из них, что возводятся властью. И продолжают разрушаться{290}.
Новые участники и новые возможности
Здесь едва ли уместно заявлять о смерти всех старых отраслей экономики, компаний и названий. Напротив, целый ряд обстоятельств свидетельствует об обратном. Многие фирмы-долгожители до сих пор благоденствуют. Кто-то из крупных корпораций-старожилов типа Coca-Cola, Nestle, ExxonMobil, Toyota будет процветать и дальше, кто-то продержится больше, кто-то меньше. С одной стороны, посвятив время предсказанию перспектив какой-нибудь большой корпорации, акционеры этой самой корпорации как минимум получат занимательное времяпровождение, а с другой, оно же отвлечет их от серьезных перемен, происходящих повсеместно, а точнее – от пришествия новичков-конкурентов. Ниже мы встретимся с некоторыми из них.
Новые южные ТНК
Знакомьтесь: Алехандро Рамирес, молодой предприниматель из мексиканской Морелии, глава индийского отделения Cineplex – одного из ведущих игроков кинопрокатной индустрии.
Индия известна как страна с самой крупной в мире киноиндустрией, по крайней мере по количеству коммерческих фильмов, выпускаемых за год. Но в чем она серьезно уступает, так это в наличии современных мультиплексов с высоким качеством изображения, где стремительно растущий средний класс мог бы знакомиться с образцами индийского и зарубежного кинематографа. На страну с населением более 1,2 миллиарда человек приходится порядка тысячи современных кинопрокатных площадок. Возглавляемая Рамиресом компания Cinepolis намерена за ближайшие несколько лет возвести пятьсот мультиплексов, заполнив таким образом пробел. Cinepolis, который появился в 1940-е в захолустном мексиканском штате Мичоакан и представлял собой кинотеатр с одним экраном, прошел немалый путь и стал крупнейшей в Мексике и Центральной Америке сетью кинотеатров-мультиплексов{291}.
Однако Cinepolis не только самый агрессивный из новых игроков индийского кинопроката, он еще и первый зарубежный инвестор, вошедший в этот сектор индийской экономики. “Как вам пришла в голову мысль разнообразить индийский рынок?” – спросил я у Рамиреса. “Сама идея не моя, – ответил он. – Два студента из Стэнфордской школы бизнеса в рамках учебного курса должны были составить бизнес-план, и когда тот был готов, то принесли его мне. Сообща мы его доработали, нашли капитал и принялись за дело. И почти сразу же обнаружилось, что потенциал нового дела превосходит все наши ожидания{292}.
И Cine-polls – лишь один из новых игроков, появляющихся в Мексике, Индии, Бразилии, ЮАР и Турции, которые занимаются бизнесом в других развивающихся экономиках, в тех ее секторах, которые некогда были запущены, ограничивались только внутренними инвестициями или же контролировались более крупными западными ТНК. В 1970-х годах сотрудничество Юг-Юг было мечтой приверженцев концепции третьего мира, ведь таким образом экономики развивающихся стран могли взаимно расширять свои возможности посредством прямой торговли, инвестиций и помощи в обход “Севера”. Это была внушаемая государствами социалистическая мечта, и те инвестиции, которые льются широким потоком сегодня, не имеют ничего общего с этими фантазиями. Тем не менее сегодня инвестиции Юг-Юг – одна из определяющих тенденций глобального бизнеса{293}. Данные ООН показывают, что в 2003 году общий размер прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из развивающихся стран и стран с переходной экономикой превысил размер инвестиций из развитых стран.
Двадцать из пятидесяти четырех двусторонних инвестиционных договоров, подписанных в 2010 году, были заключены между развивающимися странами, и роль этих стран продолжает расти, как в качестве получателей ПИИ, так и в качестве внешних инвесторов. Поток прямых иностранных инвестиций из развивающихся стран достиг беспрецедентных 29 % от общего объема ПИИ в 2010 году, а в 2011-м и 2012-м этот впечатляющий рост продолжился, невзирая на глобальную экономическую лихорадку{294}.
Количество фирм из развивающихся стран, входящих в перечни крупнейших мировых компаний, непрерывно растет. А исследователи из Всемирного банка и ОЭСР утверждают, что официальная статистика недооценивает масштаб ПИИ из развивающихся стран, отчасти из-за того, что это новая и зачастую неожидаемая категория отчетности, а отчасти из-за объемов неучтенного оттока капитала{295}.
В числе бенефициаров этой тенденции множество компаний, представляющих самые разные отрасли экономики, от строительной и телекоммуникационной до текстильной и нефтедобывающей. В массе своей эти бренды неизвестны в Европе или Северной Америке, но все более и более узнаваемы в остальных частях мира. Например, такие мобильные операторы, как индийские Bharti Airtel и Reliance, MTN из ЮАР, Orascom из Египта или Etisalat из ОАЭ, – все они входят в число пятнадцати крупнейших мировых компаний. Другие не так известны, но и они занимают не последнее место в своих отраслях: например, шри-ланкийские производители текстиля размещают производственные мощности по всей Южной Азии и в странах Индийского океана, а турецкие многоотраслевые конгломераты стали главными игроками в России, на Балканах и на Ближнем Востоке. (Так, турецкие компании играли заметную роль в международном сотрудничестве по восстановлению и развитию инфраструктуры в Афганистане, включая строительство американского посольства в Кабуле.) Все чаще и чаще подобные компании стремятся вырваться за рамки своих региональных зон, где им уютно в силу языковой, культурной общности с другими странами, чтобы заняться инвестициями за пределами родных пенатов, когда возникает такая возможность (как в свое время та же Cinepolis). Антуан ван Агтмаэль, автор термина “развивающиеся рынки”, как-то признался мне, что он более чем уверен, что к 2030 году число фирм, представляющих развивающиеся рынки, превысит количество компаний из стран с развитой на сегодняшний день экономикой{296}.
Юг отправляется на север
Близкородственный феномен – рост поглощений крупных североамериканских и европейских фирм компаниями, пришедшими из развивающихся и переходных экономик, что породило целое поколение глобальных ТНК, привязанных географически и исторически к экономическим системам, которые до недавнего времени считались закрытыми и плотно опекаемыми государством. Индия, Мексика, Бразилия, ЮАР, Китай – эти компании оттуда. Хороший наглядный пример – уже упомянутый нами мексиканский цементный гигант CEMEX, представленный почти в сорока странах. Компания CEMEX получила международный статус, что почти автоматически вывело ее на первые позиции на рынке стройматериалов (в жесткой борьбе с французским производителем Lafarge) и позволило довести американскую долю бизнеса до отметки 41 % против 24 % в Мексике. И хотя сегодня компании пришлось сократить расходы ввиду нестабильности мировой экономики, она по-прежнему остается международным игроком, представленным во многих развивающихся странах, причем в той сфере, которая была когда-то исключительно прерогативой фирм из развитых стран{297}. В числе примеров вы найдете также фирмы, давшие начало двум крупнейшим игрокам американской пивоваренной отрасли. Anheuser-Busch пребывает под началом бельгийской InBev (которая сама возникла вследствие зарубежной экспансии бразильской AmBev), а значительную часть управленческого персонала составляют бразильцы. Между тем держателем конкурирующего пивного бренда Budweiser является компания SABMiller, возникшая, когда South African Breweries после целого ряда удачных покупок в таких странах, как Чехия, Румыния, Сальвадор, Гондурас и Замбия, приобрела в 2002 году американскую Miller Brewing Company. Бразильская Vale (известная когда-то под неуклюжим названием Companhia Vale Do Rio Doce) после приобретения в 2007 году канадского конкурента Inco стала второй в мире по размеру горнодобывающей компанией. А крупнейший мировой производитель стали ArcelorMittal возник как результат целой серии приобретений, совершенных индийским миллиардером Лакшми Митталом. Его Mittal Steel только в 2005 году вошла в рейтинг лучших пятисот компаний мира от журнала Fortune{298}.
Громоздкие составные названия ArcelorMittal и Anheuser-Busch InBev указывают нам не только на историю слияний-поглощений, но и на бурную энергию новых участников, явившихся оттуда, откуда их никто не ждал. Вне всякого сомнения, эти слияния приведут к концентрации и новым олигополиям с ощутимой властью на рынке, но в то же время мы не должны забывать, что зачастую они проводятся с участием компаний, которые еще каких-то десять лет назад были в разы меньше компаний, поглощаемых ими сегодня. Нечто подобное может случиться и с ними, а роль поглотителя крупных компаний вполне может сыграть третьесортная, ничем особо не приметная фирма из далекого захолустья. Эта тенденция была знаковой для минувшего десятилетия, и она лишь продолжает набирать силу.
Некогда локальные фирмы с малых защищенных рынков никогда не получили бы рычаги, которые позволяли бы брать под контроль крупнейшие компании мира в различных отраслях экономики, если бы не резкое падение входных барьеров под давлением открытых финансовых рынков, распространение образования и бизнес-культуры, доступ к капиталу, увеличение прозрачности и доступности информации о компаниях, отмена регулирования, либерализация торговли и инвестиций, перспективы развития, глобализация, новые технологии и прочие факторы, уже упоминавшиеся здесь. Интернационализация компаний, происходящих из бедных стран, – яркий пример того, как действуют революции множества, мобильности и ментальности.
Рассеяние бирж
Жертвами гиперконкуренции на мировой бизнес-арене становятся и сами рынки – точнее, фондовые биржи, на которых торгуется львиная доля всех акций и за которыми неустанно следят политики, средства массовой информации и общественность, рассматривая их как индикаторы состояния экономики как таковой. Знаменитые торговые площадки, такие как Нью-Йоркская или Лондонская фондовые биржи, недолго сопротивлялись наступлению альтернативных площадок. Традиционные киты американского финансового рынка – Нью-Йоркская фондовая биржа (основанная в 1792 году) и NASDAQ (основанная в 1971 году) в настоящее время едва покрывают половину всех сделок, проводящихся в ходе публичных торгов; согласно данным за 2012 год, на электронные биржи Direct Edge (год основания – 1998-й) и BATS Exchange (основана в 2005 году) приходилось порядка 9 и 10 процентов соответственно, а остальное разделили десятки прочих бирж. Бурно растущие биржи и постоянная торговля автоматическими компьютерными алгоритмами немало способствуют рыночной волатильности, из-за которой акции одних компаний стремительно теряют цену, других – так же стремительно растут.
Биржа в Нью-Йорке – не единственная крупная биржа, отступающая под натиском новых конкурентов, то же самое можно сказать и о Лондонской фондовой бирже, и о Deutsche Borse, и о других старомодных торговых площадках. При всем этом новичок с канзасскими корнями BATS (от Better Alternative Trading System – “лучшая альтернативная торговая система”) совершает больше сделок, чем любая другая биржа, за исключением Нью-Йоркской и NASDAQ, оставив позади Токийскую, Лондонскую, Шанхайскую, Парижскую и остальные фондовые биржи. Индикатор трудностей, с которыми сталкиваются старые игроки, – обесценивание их собственных акций. Акции NXSE Euronext (кодовое обозначение NYX) обвалились с кульминационных 108 долларов в 2006 году до 22 в 2012-м. Падает и доходность: в 2009 году доходы от торговых операций с участием лондонского биржевого оператора London Stock Exchange Group Plc снизились более чем на треть{299}.
Конкурирующие биржи – это только один из аспектов рассеяния новых финансовых рынков. Другой пример – появление “скрытых пулов”, неафишируемых бирж, которые создавались для торговли между различными учреждениями, желавшими сохранить анонимность (без объявления во всеуслышание заказов, цен, объемов) и не раскрывать своих стратегий перед другими игроками. Скрытые пулы противоречат установке на то, что рынки для достижения положительных результатов должны быть прозрачными, кроме того, именно в них усматривают главную причину волатильности и искажений цен на акции, не говоря уже о незаслуженных преимуществах их участников. Регуляторы всего мира ведут споры о том, что делать со скрытыми пулами, и все по-разному представляют степень их опасности для мировой финансовой системы. Единственное, что не вызывает никаких сомнений, – это то, что их становится больше{300}. Согласно оценке Комиссии по ценным бумагам и биржам, число действующих на американском рынке скрытых пулов с 2002 по 2012 год выросло от десяти до тридцати с лишним. По данным агентства Bloomberg News, в январе 2012 года на долю скрытых пулов приходилось почти 14 % от всех американских биржевых сделок{301}. Согласно более ранним оценкам Комиссии по ценным бумагам и биржам, на долю скрытых пулов приходилось более 7 % от общего числа всех сделок, заключенных на американских биржах, – величина, быть может, относительно и небольшая, но вполне достаточная, чтобы запустить масштабный волновой эффект{302}.
Звездный час фондов прямых инвестиций и хедж-фондов Считается, что финансовый кризис и рецессия глобальных рынков в 2008–2009 годах покончили с рыночным господством частных фондов прямых инвестиций и хедж-фондов. В течение предыдущего десятилетия эти мало кому известные и зачастую небольшие фирмы получили контроль над огромными компаниями, действуя методом выкупа с привлечением заемных средств, а также благодаря агрессивной торговой политике и активной позиции акционеров. Придя в себя после того, как в начале десятилетия лопнул пузырь доткомов, фонды прямых инвестиций всю оставшуюся часть десятилетия посвятили беспрецедентной скупке всяческих активов, а кульминацией этой деятельности стала покупка в 2007 году за 45 миллиардов долларов энергетической компании TXU, совершенная Kohlberg Kravis Roberts (KKR) и Texas Pacific Group (TPG).
Тем временем хедж-фондов становилось все больше: если в 1998 году в мире насчитывалось 3 тысячи хедж-фондов, то в 2008-м их было 10 тысяч. К 2011 году сотня крупнейших хедж-фондов распоряжалась активами на 1,2 триллиона долларов{303}. В 2012 году с их участием прошла половина всех сделок с государственными облигациями США, 40 % торгов акциями, а также 80 % сделок с проблемными долгами. В 2011 году двадцатка крупнейших хедж-фондов из списка журнала Bloomberg Markets, возглавляемая Bridgewater Associates с капиталом 77,6 миллиарда долларов, распоряжалась активами без малого на 600 миллиардов{304}. Параллельно, хоть и в меньших масштабах, шла экспансия хедж-фондов в Европе и Азии.
Грань между банками и хедж-фондами стиралась тем сильнее, чем чаще последние вступали во владение активами компаний, действуя как частные инвестиционные компании и вытесняя попутно обычные банки. К 2007 году доля первичного рынка заемного капитала (то есть торговля кредитами), осуществляемая с помощью традиционных банков, впервые опустилась ниже отметки 50 %, тогда как еще в 2000 году она составляла 90 %. Поддавшись этой тенденции, банки сами стали приобретать акции у хедж-фондов, что только ускоряло размывание ролей.
Хедж-фонды стали катализаторами рыночной активности и вынуждают руководство компаний действовать более гибко и эффективно. В США, владея 5 % активов, они участвовали в 30 % сделок. Они оказывали огромное давление на корпорации, невзирая на их историю и степень известности, подобно фонду с не самым уместным названием Children’s Investment Fund (Детский инвестиционный фонд), который приложил максимум усилий для того, чтобы голландский банк ABN AMRO был продан или реорганизован таким образом, чтобы ему не оставалось ничего иного, как смириться с продажей британскому банку Barclays. Огромные суммы денег приходили и уходили в виде гигантских ставок – как известнейшая ставка всех времен от Джорджа Сороса, когда он сорвал куш в миллиард с лишним долларов. В 2006 году тридцатилетний трейдер фонда с названием Amaranth потерял 6,2 миллиарда долларов, прогорев на газовых сделках. Зато победители в этом секторе получают огромные прибыли: по некоторым данным, в 2006 году руководство 25 ведущих хедж-фондов заработало в общей сложности сумму, эквивалентную ВВП Иордании. Впрочем, весьма велика вероятность, что большинство из них не знакомы не только широкой публике, но и людям, проживающим по соседству в изысканном Гринвиче или Вестпорте (два города в штате Коннектикут), где особенно много хедж-фондов.
В 2008 году хедж-фонды потеряли около 18 % стоимости своих активов. И все же было много исключений, включая фонд Джорджа Сороса, а также фонд под руководством тогда еще не пресловутого Джона Полсона, которые заработали миллиарды, рискнув сыграть против рынка высокорисковых ипотечных облигаций и целого ряда неизвестных игроков, заработавших сотни миллионов долларов на пике крушения ипотечного рынка{305}. Восстановление рынка на фоне рефинансирования 2009 года, как и ожидалось, также оказалось выгодным для хедж-фондов, хотя некоторые эксперты по промышленности отмечали идущее полным ходом вытеснение мелких спекулянтов. В пользу этого легкорегулируемого сектора говорит то обстоятельство, что он исправно поставляет победителей и проигравших, чем привносит на рынки некий элемент стабильности. Согласно Себастьяну Маллаби, автору посвященного хедж-фондам бестселлера “Денег больше, чем у Бога”, они “не столько создают риски, сколько их поглощают”{306}.
Впрочем, хедж-фонды тоже угодили под регуляторный кнут, и теперь их возможности довольно ограниченны. В 2011 году сообщалось, что из-за новых финансовых регуляторов Джордж Сорос решил закрыть свои фонды для инвесторов и заняться исключительно их управлением. Правда, колоссальные потери на этих небезопасных площадках могут быть вызваны и волатильностью рынков. Серьезные убытки понес фонд Джона Полсона, прогорев на рыночных операциях. (В 2011 году он потерял 9,6 миллиарда долларов – абсолютный рекорд для хедж-фондов{307}.) И в то же время стали появляться, заявляя о себе как о самых доходных в мире машинах, другие хедж-фонды с необычными, инновационными названиями, стратегиями, расположением и технологиями. Например, Bridgewater, колосс в мире хедж-фондов, в 2011 году заработал для своих инвесторов 13,8 миллиарда долларов{308}.
Урок, который безусловно можно из этого извлечь, таков: одни хедж-фонды появляются, другие исчезают, премии их менеджерам бывают большими и очень большими, но при любом раскладе нам не избежать дальнейшей экспансии этих некрупных и не очень-то известных групп с колоссальным влиянием на рынки и на цены. В этом новом финансовом мире нередко случается так, что умник-одиночка, вооруженный программными алгоритмами, дает фору огромному банку, живущему в мире витиеватых правил, сложных внутренних практик и нединамичной субординации.
Хедж-фонды против традиционной власти игроков финансового рынка – это то же, что сомалийские пираты – против мощи сильнейших в мире ВМС.
Короче говоря, такие новые участники, как хедж-фонды, новые фондовые биржи, скрытые пулы и неизвестные поначалу стартапы, которые вдруг ставят с ног на голову целые отрасли, и есть предвестники грядущих перемен: растущей волатильности, более явной фрагментации, более жесткой конкуренции и большей микровласти, способной ограничивать возможности мегаигроков.
Действительно, ни возмущение общественности диспропорциями, вызванными экономической глобализацией, ни тотальный шок, произведенный финансовым кризисом 2008 года и последовавшей за ним Великой рецессией, не стали преградой для международной экономической интеграции. Она продолжается без особых помех, и все пророчества о вспышках протекционизма, когда страны попытаются оградить свои экономики и защитить рабочие места, так и остались досужими домыслами. Международная торговля и потоки инвестиций продолжают расти и подпитывать силы, ограничивающие власть традиционных бизнес-игроков.
Что все это значит?
Один из парадоксов нашей эры: корпорации стали крупнее, растет их присутствие в мире и политический вес, но в то же время они все больше рискуют утратить позиции, прибыли, репутацию, а в некоторых случаях их может ждать и полное банкротство. Растет и без того уже немалый список компаний, которые когда-то были неприкосновенными для конкурентов и властей, но сегодня уже не являются таковыми, а их устойчивость больше не воспринимается как должное. То же самое верно и в отношении титанов банковского дела и промышленного сектора, чья сила и неуязвимость вопреки ожиданиям многих (в том числе и их собственным ожиданиям) оказались явлением преходящим.
Даже у продолжающих благоденствовать крупных компаний, мало подверженных действию рыночных сил, сужается поле выбора. Те же ExxonMobil, Sony, Carrefour и JPMorgan Chase до сих пор пользуются огромным влиянием и автономией, но сегодня их главы более ограничены в своих решениях, чем прежде. Они не в состоянии распоряжаться своей огромной властью с такой же легкостью, как это делали их предшественники, а последствия от злоупотреблений этой властью еще более пагубны.
Как мы увидели в этой главе, власть корпораций уже не та, что была раньше.
Глава 9 Гиперконкуренция за вашу душу, сердце, разум
Мы, как и следовало ожидать, ищем свидетельства изменений во власти в тех сферах, где ее влияние заметней и жестче всего: жизнь и смерть, война и мир, контроль над властями, упадок и возрождение предприятий. И во всех этих сферах мы видели, что ослабление власти мегаигроков открывает новые перспективы для небольших и пока еще маргинальных субъектов, а кое-кто из них получит доступ к инструментам, способным ограничивать свободу действий бывших небожителей.
Но власть пребывает и в церкви или религиозной группе, взимающей десятину и наставляющей своих адептов на путь истинный, и в профсоюзе, живущем на взносы рабочих и добивающемся повышения зарплат и улучшения условий труда, и в благотворительных организациях, использующих частный капитал для решения социальных проблем в своей стране и для борьбы с бедностью за рубежом. Власть обитает в университетах, в чьих исследовательских лабораториях происходят важнейшие научные открытия, а вчерашние студенты занимают самые престижные рабочие места, в музеях, галереях и студиях звукозаписи, в симфонических оркестрах, книжных издательствах и киностудиях. И конечно же, власть присутствует в средствах массовой информации, в тех источниках наших знаний, которым мы верим, считая их небесполезными и честными, способными привить кому-то нашу точку зрения.
Ставки здесь самые разные. К счастью, в большинстве случаев речь идет не о жизни и смерти. Соперничество Гарварда и Йеля скорее напоминает противостояние клубов “Манчестер Юнайтед” и “Челси”, чем, например, вооруженных сил США и Народно-освободительной армии Китая или “Аль-Каиды”. С сугубо экономической точки зрения судьбы BBC, New York Times, El Pais и прочих пользующихся уважением ресурсов касаются гораздо меньшего количества работников (а также их достатка), чем прибыли или потери тех же Monsanto и Wal-Mart, даже притом, что влияние первых на полемику и политику жизненно важно для сферы массмедиа и помогает поддерживать демократическое общество в добром здравии. С другой стороны, разделение власти в благотворительной среде между фондами и донорами самым непосредственным образом влияет на жизнь миллиардов людей, живущих близко и далеко, когда решается, какие из проектов финансировать и как, какие чрезвычайные ситуации считать самыми неотложными. Едва ли стоит объяснять, насколько важна способность работников к самоорганизации ради улучшения своего благосостояния. И точно так же очевидно влияние организованной религии на прочие сферы жизни и на силу соперничества между различными вероисповеданиями: история испещрена свидетельствами этих распрей, очень часто – кровавыми.
Именно поэтому наше видение великих перемен, происходящих в действиях нынешней власти, должно простираться за рамки бизнеса, политики и войны. Мы не рассчитываем дать ответы на все волнующие нас вопросы. Но тем не менее мы рассмотрим, что случилось с властью привычных всем и каждому организаций в четырех сферах, напрямую влияющих на значительную часть человечества: религия, труд, благотворительность и СМИ.
Религия: девять миллиардов имен Бога
“Они воруют нашу паству”. Так один иезуит описал радикальные перемены, захлестнувшие христианство в Латинской Америке, которая долгое время считалась оплотом католичества{309}. “Они” – это кто? Новоевангелисты, пятидесятники и харизматичные протестантские церкви, заполонившие за последние тридцать лет США, Африку, другие уголки планеты, поносят католическую церковь и быстро лишают ее прихожан. Проведенное в 2005 году исследование установило, что за десять лет (с 1995 по 2005 год) доля латиноамериканцев, относящих себя к католикам, упала с 80 до 71 процента. И, что уж совсем неутешительно для церкви, лишь 40 % заявили о том, что они исповедуют свою веру не только на словах. Для континента, где много веков доминировал католицизм, это сродни катастрофе. В той же, например, Бразилии ежегодно покидают церковь полмиллиона католиков. Если в 2000 году 73,6 % населения причисляли себя к католикам, то в 2010-м этот показатель достиг отметки 64,6 %.
Сегодня лишь две трети колумбийцев называют себя католиками, треть гватемальцев покинула церковь за время, прошедшее с 1980-х годов, и эти цифры продолжают расти{310}.
В Ла-Пасе, фактической столице Боливии, часть бывших католиков поведала журналистам, что им казалось, будто церковь “отреклась” от них. “Для меня ее как будто вовсе не было”, – признался один из опрошенных. Сегодня они входят в Ministerio del Nuevo Pacto Poder de Dios – харизматическую церковь, члены которой каждое воскресенье проводят по несколько богослужений, в которых одновременно участвуют по десять тысяч человек.
Подобные явления не редкость для Латинской Америки. Но паству никто ни у кого не уводил. Просто паства перестала быть паствой: прихожане стали потребителями и польстились на более яркий продукт на рынке спасения душ{311}.
Своими корнями современные евангелистские движения восходят к появившейся на заре XX века негритянской миссионерской организации с названием “Азуза”, приверженцы которой делали упор на молитву о пробуждении и ожидание даров Духа Святого, как в день Пятидесятницы. Возникшее движение пятидесятничества охватывает широкий круг крупных конфессий и независимых поместных церквей, разделяющих ряд основных представлений о личном искуплении индивида (через рождение заново). Но независимые церкви, собиравшие миллионы приверженцев и ставшие, таким образом, серьезной социальнополитической силой в США, Бразилии, Нигерии и многих других странах, – это не только пятидесятники: есть и другие разновидности евангельских и “харизматических” групп. Ни в одной из них не обходится без самозваного пророка или апостола, но это не мешает им оперативно образовывать собственные отделения и иерархии. Многие проповедуют так называемое евангелие преуспевания, согласно которому Бог приветствует накопление богатства в этой жизни, а материальные пожертвования в пользу церкви будут вознаграждаться процветанием и чудесами. И правда, в ходе недавно проводимого Pew Global Attitudes исследования религиозных настроений в США, где в настоящее время в основе 50 из 260 крупнейших церквей лежит идея процветания, 73 % всех верующих латиноамериканцев согласились с утверждением, что “Бог награждает финансовым преуспеянием каждого верующего, чья вера достаточно сильна”{312}.
Шествие пятидесятников и харизматических христианских церквей, причем не только по тем странам, где преобладают католики или протестанты, приобрело ошеломляющий размах. Оценки этого явления разнятся, отчасти из-за размытости терминов и границ, но их влияние не вызывает никаких сомнений. Согласно оценке Pew Global Attitudes за 2006 год, доля “возрожденцев” – как пятидесятников, так и харизматов – составляет 11 % в Южной Корее, 23 % в США, 26 % в Нигерии, 30 % в Чили, 34 % в ЮАР, 44 % на Филиппинах, 49 % в Бразилии, 56 % в Кении и 60 % в Гватемале{313}. Даже в “нехристианской” Индии возрожденцы составляют 5 % населения; иначе говоря, в Индии проживает более 50 миллионов пятидесятников и харизматов, а в Китае, по некоторым оценкам, их больше как минимум вдвое. Многие возрожденческие церкви – только для местного населения, с крохотными приходами, такие часто встречаются в иммигрантских и черных кварталах больших американских городов. Другие же отпочковались от больших организаций с сотнями представительств и зарубежным присутствием.
Хотя первые пятидесятники и появились в США, американские миссии типа “Ассамблей Бога” уже не так быстро распространяются по миру. Сегодня крупными странами-экспортерами на рынке спасения души являются Бразилия и Нигерия. Вселенская церковь Царства Божия, основанная в Рио-де-Жанейро в 1977 году пастором Эдиром Маседо, сегодня в одной только Бразилии насчитывает пять тысяч представительств. В 1986 году она добралась до США, а сегодня присутствует почти во всех странах мира. Один из последних планов, одобренный правительством Бразилии, это строительство в Сан-Паулу грандиозной церкви, вмещающей 10 тысяч человек и равной по высоте 18-этажному зданию, созданной по образу и подобию храма Соломона. “Можете не сомневаться, мы потратим кучу денег”, – заявил Маседо{314}.
Другая крупная бразильская организация – Церковь возрождения во Христе – была основана в 1986 году супружеской парой, известной как апостол Эстевам и епископесса Сони. У этой церкви есть свои газеты, радиостанции, телеканал. В 2005 году она финансировала только что созданную Республиканскую партию Бразилии, которая на выборах 2006 года объединилась в коалицию с Партией трудящихся, которую возглавлял президент Бразилии Лула да Силва. И еще одна бразильская церковь возникла как результат прозрения серфингиста и бывшего наркомана по имени Риналдо Перейра. За временной отрезок в десять лет его Bola de Neve (по-португальски “снежный ком”) открыла более ста отделений по несколько тысяч членов в каждом. Вполне подходящее название для массовой, стремительно обрастающей поклонниками евангелистской церкви{315}.
Тем временем нигерийская Искупленная христианская церковь Божья, основанная в Лагосе в 1952 году, но реально начавшая свое шествие по миру в начале 1980-х, действует в сотне стран. Ежегодное молитвенное собрание, проводимое церковью в “Лагере искупления”, расположенном вдоль трассы Лагос – Ибадан, собирает около миллиона ее почитателей. По утверждениям представителей церкви, в США на сегодняшний день насчитывается порядка трехсот приходов, объединяющих 15 тысяч прихожан, и эти цифры продолжают расти.
Точно в фарватере новоявленных лидеров транснационального духовного рынка движутся и многие другие церкви – божественное следствие революции множества, мобильности и ментальности{316}. В реальности же 2,2 миллиарда всех христиан так рассеяны по планете, что, как гласит один из последних отчетов Pew Global Attitudes, “ни один континент или регион не сможет безапелляционно утверждать, что он – центр мирового христианства”{317}. Например, доля христиан в населении тропической Африки возросла с 9 % в 1910 году до 63 % столетие спустя{318}. Вот и революция мобильности: в 2010 году христиане составляли почти половину из всех 214 миллионов мировых мигрантов, что создавало новые возможности для распространения веры, причем даже в местах, недосягаемых для централизованной религиозной власти{319}.
Как я уже говорил, обсуждая в предыдущих главах появление микровласти, дело не в том, что эти новые претенденты начнут теснить мегаигроков. А в том, что они будут лишать их вариантов выбора, которые в прошлом воспринимались крупными игроками как должное. Например, новые харизматические церкви не стремятся выбить почву из-под ног Ватикана или англиканской церкви. Но сужать коридор их возможностей и ослаблять их власть они будут.
Успех новых конфессий неизбежно наносит удар по основным протестантским группам, таким как англикане и лютеране, но более всего – по католической церкви. Еще несколько десятилетий назад основными проблемами Ватикана были постепенное обмирщение Европы и стареющее священство. Это были серьезные проблемы, и церковь стремилась идти в ногу со временем. Так, среди решений Второго Ватиканского собора было требование вести мессу не на латыни, а на языках тех стран, где проводится богослужение. И в то же время Ватикан оказался совсем не готов к соперничеству со стороны пятидесятников и харизматических церквей, причем не только на задворках своей власти, но и в той же Латинской Америке, долгое время считавшейся оплотом католичества. Уже в 1970-х и 1980-х годах церковь столкнулась с внутренним инакомыслием, когда в Бразилии и прочих странах континента зародилась теология освобождения. В наши дни угроза со стороны теологии освобождения ослабла, не в последнюю очередь благодаря демократизации региона в целом{320}. Однако распространение новых конфессий и большая активность возрожденческих религиозных организаций (больше людей посещают церковные службы, которые стали длиннее, и все больше аспектов их жизни приводится в соответствие с церковными требованиями) исподволь разрушают влияние всесильной когда-то католической церкви. “Если церковь не изменит своей централизованной структуры и властного тона своих посланий, то за каких-нибудь пятнадцать лет в Латинской Америке ее ждет полный крах”, – так оценил ее перспективы Элио Масферрер, председатель Латиноамериканской ассоциации религиоведения{321}.
Ученые и аналитики не спешили принимать во внимание масштаб тенденции. Возможно, им мешала легкомысленная вера в то, что культ пятидесятников – не что иное, как чудачество или экзотика. Но теперь им приходится взглянуть правде в глаза, так как евангелистские сообщества обрели политический вес (выдвигая кандидатов на государственные посты в таких странах, как Бразилия) и собственные СМИ (начав радио– и телевещание во многих странах мира). Ни католическая церковь, ни основные протестантские конфессии не изобрели противоядия ни от экспансии этих мелких и быстрых соперников, ни от бегства своих прихожан, что далеко не лучшим образом сказывается на размерах получаемых пожертвований и делает католицизм не столь востребованным.
Почему так происходит? Отчасти вина за этот неуспех лежит на догмах и на способности евангелистских течений предложить повестку, основанную на идее благосостояния и ярком ритуале – сопровождаемом чудесными исцелениями, избавлениями и так далее, – что резко контрастирует с аскетичными и однообразными богослужениями у католиков. Но ключевое преимущество, то самое, что делает возможными все остальные, лежит в организационной плоскости. Трансформирование содержательной и церемониальной компонент христианства – не что иное, как проявление серьезного упадка власти крупных иерархических, централизованных образований в пользу целой плеяды небольших и подвижных автономных игроков, сравнительно недавно заявивших о себе.
Существенное преимущество пятидесятников и евангелистов заключается в том, что появление их представительств не требует никакой предварительной иерархии отношений. Здесь отсутствуют поучения, нет нужды получать наставления или ждать посвящения, одобренного Ватиканом, архиепископом Кентерберийским или каким-либо еще представителем верхушки церковной иерархии. В классическом варианте пастор, если он (или она) до этого не состояли в уже существующей евангелистской церкви, просто назначает сам себя на должность (если в католицизме до сих пор запрещено принимать сан священника женщинам, то в харизматической церкви уже немало женщин-апостолов, епископесс и пророчиц) и организует свой приход. В этом церковь больше всего напоминает небольшую фирму, которая функционирует в конкурентной среде, не имея финансовой подпитки из центрального источника. И ей приходится преуспевать за счет привлекаемых поклонников, предоставляемых им услуг, церковных сборов и пожертвований, которые они будут согласны платить{322}. Джон Аллен, корреспондент, освещающий события в Ватикане, и основатель Церкви Будущего, в связи с этим заметил: “Как всем известно, входные барьеры на рынок пятидесятничества низки. Любой пятидесятник, которого не устраивает то, что предлагает его церковь, может спокойно перейти в другую и даже основать свою в каком-нибудь подвале или гараже”{323}.
Успеха добиваются те церкви, которые приспосабливаются к местным реалиям, воссоздавая образ действия до мелочей продуманной нишевой компании. В расчет берется все, от догматов нового вероучения до мест проведения и длительности богослужений, создания комфортной обстановки и оказания услуг единоверцам, таких как уход за детьми, помощь при поисках работы, содействие различным группам, а также поддержка деловых и просветительских инициатив. Иммигранты, коренные жители (как майя в Гватемале) или же иные общины с потребностями, до которых нет дела ни политическим лидерам, ни главенствующим церквям, – вот идеальные мишени для новых церквей. Во многих странах Латинской Америки в силу исторически сложившихся связей между католическими епископами и политической элитой первые не столь чувствительны к условиям, в которых живут бедняки, не говоря уже о коренном населении{324}. Жесткая церковная иерархия и необходимость получать по разным богословским вопросам разрешения от Ватикана лишь мешали церкви приспосабливаться к конкретным реалиям, что давало хорошую фору евангелистским конгрегациям. Недвусмысленное толкование достатка и процветания, акцент на поведении личности и искуплении грехов формируют среду, где бедность и отчужденность становятся нормой. Тогда как евангельские церкви значительно лучше откликаются на запросы своих прихожан, живо реагируют на события в экономике и политике, перенимают местные культурные обычаи. Один евангелистский пастор из боливийского города Потоси заметил по этому поводу: “Наши церкви более открыты, в песнях используются местные мотивы, а я каждый день бываю у своих прихожан”{325}.
Тем временем барьеры, которые доселе не позволяли самозваным церквям оказывать влияние за пределами своих районов или, допустим, своей этнической общины, окончательно рухнули. Революция в системе коммуникаций и появление частных СМИ покончили с преимуществом больших организованных церквей в распространении посланий, предоставив любому самопровозглашенному пастору возможность обращаться к телезрителям, радиослушателям и пользователям Сети, благословлять прихожан за рубежом и принимать от них пожертвования. С расширением доступа к мировым медиаплатформам обрела популярность модель, впервые примененная американскими телепроповедниками. Высокая миграция и частые переезды людей также способствуют распространению возрожденческих церквей с более гибкой идеологией. И чем больше приверженцев они обретут, тем меньшей будет тяжесть порицания, исключения или отлучения от католической церкви. Издержки ереси снижаются{326}.
Другие мировые религии, такие как ислам или индуизм, кажутся менее уязвимыми перед лицом харизматического христианства, вполне возможно, благодаря лежащей в их основе культурной специфике. Где больше, где меньше, но ислам, индуизм, иудаизм, даосизм, синтоизм и другие течения по степени централизации и иерархизации немногим уступают католичеству или же главным протестантским церквям. Главный раввин Израиля, великий муфтий Каира и старший жрец в крупном индуистском храме пользуются определенным моральным авторитетом у себя в стране или регионе и нередко выступают в роли мудрого правителя, способного принять решение и дать совет. Но и у них есть лидеры-соперники в среде единоверцев, которые способны на любой вопрос ответить несколько иначе. Например, в исламе под воздействием политических факторов преобладает ряд тенденций (сунниты против шиитов, ваххабиты против более либеральных толкователей ислама); кроме того, видные ученые предлагают приверженцам веры из разных стран соперничающие друг с другом видения веры, нередко с помощью сложных медиаопераций. Например, родившемуся в Египте катарскому имаму Юсуфу Аль-Кардави внимают около 60 миллионов постоянных зрителей его программы на канале Al Jazeera{327}. В то же время индуизм всегда был сильно децентрализован, имел множество субтрадиций, сект, религиозных общин и обходился без единого органа власти. Уступая в объеме, индийский религиозный экспорт, от обществ веданты до кришнаитов, при посредничестве Аммы, Саи Бабы, Ошо и Махариши, обладает рядом организационных преимуществ, характерных для общин пятидесятников, и пользуется ими с неменьшим успехом.
Рабочий класс: новые профсоюзы и прочие объединения
Как католическая церковь пытается противостоять растущей угрозе собственной власти, исходящей от новомодных конфессий, которые с большей изощренностью и гибкостью отвечают на запросы ищущих спасения, так и традиционные профсоюзы стремятся сохранить свое влияние в ситуации, когда появляются новые группы для удовлетворения потребностей рабочих, порожденных революциями множества, мобильности и ментальности. “Неужели профсоюзы Америки уходят в прошлое?” – гласил в 2012 году заголовок одной из авторских колонок в Washington Post. Гарольд Мейерсон – демократ-социалист и прорабочий журналист, как он сам себя определяет, – не устает напоминать своим читателям: “В частном секторе США доля рабочих, состоящих в профсоюзах, менее 7 %, тогда как в годы после Второй мировой членством в этих организациях было охвачено порядка 40 %”{328}. Не секрет, что власть рабочего движения в США уже не первый год идет на убыль, прежде всего потому, что сокращается число его участников. Но это не единственная причина. Власть традиционных рабочих организаций слабеет также из-за действия сил, которые, как уже говорилось, затрагивают всех традиционно сильных игроков. На деле же, когда сила рабочих движений переживала всеобщий упадок, мегаигроки вроде Американской федерации труда – Конгресса промышленных профсоюзов страдали от него гораздо больше, чем кто-либо из новых, нетипичных соперников, объявившихся в этой сфере, таких как Международный профсоюз работников сферы обслуживания. И здесь мы также видим, что стало легче преодолевать, ломать и просто обходить барьеры, которые когда-то защищали старожилов от возможной конкуренции.
История профсоюзов идет рука об руку с историей современного предприятия. Конечно, можно утверждать, что европейские профсоюзы имеют более глубокие корни, поскольку им предшествовали средневековые цеха и гильдии. Но с появлением в XIX веке крупных промышленных предприятий почти сразу возникли организации, призванные улучшать условия труда и защищать права заводских и фабричных рабочих. Если в Англии и Франции профсоюзы существовали уже в начале XIX века, то в старейших промышленных странах первые рабочие объединения возникли только во второй половине столетия. И хотя структура профсоюзного движения выглядит в разных странах по-разному – в одних странах большинство профсоюзов привязаны к конкретному производителю, в других они охватывают целые отрасли (одну или несколько), – конфедерации, стремящиеся объединить разрозненные группы и наделить их сильным, слаженно звучащим голосом, которым дирижировал бы центр, начали появляться только в конце XIX века. Организация, ставшая впоследствии Британским конгрессом тред-юнионов (БКТ), была основана в 1866 году. Франция узаконила профсоюзы в 1884 году, а одиннадцать лет спустя было основано крупнейшее французское объединение ВКТ (Всеобщая конфедерация труда). В США в 1870-80-х годах появились зачатки организации “Рыцари труда”, а одно из ее ответвлений – Американская федерация труда, основанная в 1886 году, – несколько десятилетий посвятила централизации профсоюзного движения.
Но и этих трех стран достаточно, чтобы увидеть, как отличаются сценарии развития истории в XX веке: если в Англии БКТ до сих пор остается зонтичной группой, объединяющей практически все английские профсоюзы, то французской ВКТ пришлось столкнуться с конкурирующими национальными федерациями (такими как Французская демократическая конфедерация труда, “Рабочая сила”) с менее радикальной политической ориентацией; в США Конгресс производственных профсоюзов (КПП) придерживался более радикального курса, пока в 1955 году не произошло его слияние с Американской федерацией труда (АФТ), результатом чего стало появление АФТ-КПП – объединения, уже более полувека являющегося зонтичной организацией американских трудовых профсоюзов. В промышленно развитых странах, где профсоюзы имеют давнюю историю и широко распространены, в течение последних нескольких десятилетий они обычно представлены одной или несколькими (двумя-четырьмя) национальными конфедерациями, включающими несколько десятков крупных ответвлений (входящих в их состав или не входящих, но аффилированных с ними), как правило, присутствующих в промышленном секторе. Например, в Германии одна крупная национальная конфедерация, в Испании две, три в Италии, а в России, где когда-то профсоюзы были четко структурированной и контролируемой частью советского социалистического строя, таких конфедераций четыре.
Но даже несмотря на то, что профсоюзы ставят себе в заслугу серьезные изменения в жизни рабочих, по крайней мере в развитых странах (“люди, давшие вам выходные”, как названы они на американской наклейке-слогане), вот уже несколько десятилетий крупные профсоюзы переживают период упадка. Не всякое сравнение количественных показателей будет уместным, поскольку профсоюзы в разных странах имеют разную организацию. И все же их плотность (процент работников, входящих в профсоюзы) и степень участия работников в коллективных трудовых спорах (независимо от того, входят они в профсоюз или нет) в большинстве стран ОЭСР снижаются, в ряде случаев – весьма ощутимо. В США показатель плотности упал с 36 % после Второй мировой войны до 12 % в наши дни. В частном секторе это падение было еще стремительней – от одной трети полвека назад до неполных 8 % в наши дни. Плотность профсоюзов в странах ОЭСР колеблется от 5,8 % в Турции до 68,3 % в Швеции (по данным 2008 года), но почти повсеместно эти цифры в лучшем случае свидетельствуют о застое, а в массе своей говорят об упадке, вот уже несколько десятилетий длящемся во многих странах Европы.
Последняя волна сильного роста членства в профсоюзах во многих промышленно развитых странах пришлась на 1970-е годы{329}. Даже в 1981 году АФТ-КПП было по силам собрать в Вашингтоне на сентябрьский День солидарности 250 тысяч рабочих и служащих в знак несогласия с намерением администрации Рейгана уволить более 12 тысяч авиадиспетчеров. Теперь перенесемся в 2010 год, на акцию протеста, проводимую на Эспланаде, когда профсоюзы смогли собрать лишь небольшую часть от этого количества, уступив даже организованному Гленном Беком собранию участников Движения чаепития, организованному за пять недель до этого{330}. А в 2012 году очередное серьезное поражение лишь подтвердило, что влияние американского рабочего движения ослабло: несмотря на огромные усилия, профсоюзы проиграли голосование по отзыву губернатора штата Висконсин Скотта Уокера.
В числе причин всеобщего упадка – все те же факторы: глобализация и технологические инновации позволяют работодателям переносить рабочие места в другие страны или полностью их ликвидировать, изменяя соотношение сил в пользу работодателей. Хотя не исключено, что содержание коллективных переговоров сводилось именно к защите сотрудников от подобных ситуаций, силы, накопленные гибкими и глобальными рынками труда (нередко при поддержке правительств, склонных к рыночным реформам), как правило, оказывались слишком мощными. Кроме того, исторически профсоюзы процветали в тех отраслях и профессиях, которые опирались на труд неквалифицированный – таких рабочих проще организовать. По мере того как в различных отраслях тяжелой промышленности на смену чернорабочим приходили автоматы или рабочие места переносились за рубеж, где неквалифицированная рабсила стоила дешевле, профсоюзам приходилось мигрировать в новые секторы экономики (такие как сфера обслуживания, например), где требовалось сплотить персонал. Справиться с этим удавалось немногим. Да и слухи о коррупции и высокомерии в мире профсоюзов тоже возникали не на пустом месте.
Но перемены, сделавшие профсоюзы менее привлекательными и эффективными, коснулись и организационного аспекта. Структура организаций – от узкоспециализированных союзов и местных комитетов, привязанных к конкретным компаниям и отраслям, до централизованных общегосударственных федераций – была логическим отражением структуры ведущих компаний, чьим сотрудникам предстояло получить представительство в профсоюзах. Профсоюзы начали уподобляться крупным иерархичным современным корпорациям, которые большую часть XX века были зациклены на капиталистическом производстве, пока глобализация и необходимость адаптации не вынудили их прибегнуть к сокращению штатов и рабочего дня, аутсорсингу и трудовым контрактам.
Двадцать последних лет вся инноваторская деятельность профсоюзов сводилась в основном к поискам новых рычагов для давления на компании, которые покоряют страну за страной, а также к защите расценок на труд у себя дома путем внедрения более строгих стандартов трудовых отношений за рубежом. Но редкие победы лишь подчеркивают неутешительную общую картину в этих сферах. В США одной из областей, где укрепились за последние десятилетия профсоюзы, стал госсектор (например, профобъединения учителей или сотрудников муниципального и окружного уровня) – то есть именно те области, где рынок труда изменился меньше всего, а работодатели до сих пор уповают на централизацию и субординацию.
В последние годы организациями, помогавшими рабочим добывать победы, были обычные профсоюзы, радикально изменившие свою структуру и методы, новые профсоюзы, созданные, чтобы действовать в обход старых, и в ряде случаев – сообщества, совершенно далекие от рабочих движений.
С 1996 по 2010 год количество членов Международного профсоюза работников сферы обслуживания увеличилось более чем в два раза и достигло отметки 2,1 миллиона человек. И все благодаря тому, что он оседлал волну трех революций – множества, мобильности и ментальности. Например, многие из членов профсоюза работали в здравоохранении – растущей области, отвечающей за то, чтобы все больше и больше людей жило дольше и здоровее. И, как в случае с их предшественниками на заводах и фабриках, ими всеми руководило стремление продвинуться по службе и добиться тех благ, наличие которых, собственно, и привлекло их в США. Под руководством Энди Стерна, общепризнанного новатора не только в американских рабочих кругах, но также в политике и социальной мобилизации{331}, профсоюз добился ряда крупных побед в коллективных трудовых спорах для некоторых наименее защищенных рабочих слоев США, таких как уборщики, сотрудники детских садов, которые нередко совмещают по несколько работ, предполагающих неполную занятость, и к тому же испытывают некоторые трудности с английским языком{332}. Исторически так сложилось, что эти группы были обделены вниманием профсоюзов, ориентированных на заводскую среду и традиционные отрасли. И чтобы организовать их, мало было яркой идеи, предлагаемой Стерном и его командой, – нужны были новые инструменты, включая альянсы с сообществами и иммигрантскими группами за рамками рабочего движения, более активное участие в выборах, а не просто сбор средств и голосование за местных кандидатов-демократов. Стерн отбросил старую тактику ведения переговоров с представителями бизнеса. Так, он первым стал предлагать соглашения, согласно которым коллективные договоренности по конкретным рабочим позициям вступали в силу лишь тогда, когда профсоюзы охватывали бо́льшую часть того или иного рынка, что позволяло не ставить работодателей в неловкое для них положение, когда они первыми (или вообще единственными) подписывают коллективный договор.
Международный профсоюз работников сферы обслуживания по-прежнему гораздо ближе к профсоюзам, чем к неким гибридам нового поколения, а значит, его не могло миновать тяжкое бремя размера и неповоротливости, “положенных” ему по статусу. Среди нововведений Стерна было объединение местных профсоюзных ячеек в “мегаячейки”, состоящие из миллионов рабочих, но, как злорадствуют критики, за это пришлось заплатить потерей гибкости и внутренней демократии и ухудшением достигаемых результатов. А конкурирующая коалиция “Перемены во имя победы”, отколовшаяся от АФТ-КПП в 2005 году и до сих пор не достигшая уровня профсоюза работников сферы обслуживания, по сути та же федерация, лишь видоизмененная и к тому же лишенная новизны. Но повседневное и тесное сотрудничество этой организации с общественными и иммигрантскими группами, церквями и нетрадиционными сторонниками предполагает, что для того, чтобы оставаться востребованными, крупным промышленным профсоюзам прошлого необходимо осваивать новые методы и языки, а также делиться полномочиями с более мелкими внешними игроками.
Ни в одной стране мира столько рабочих не трудится в таких сложных условиях, как в Китае – стране с крупнейшей по численности населения промышленной экономикой. Стремительный экономический рост вызван тем, что Китай всячески поощрял развитие крупномасштабной инфраструктуры с фабриками, многие из которых принадлежат иностранным компаниям или их китайским филиалам, где трудятся тысячи рабочих (в основном молодые мигранты из сельских районов). У них многочасовой рабочий день, они живут в общежитиях, предоставляемых компаниями, там же питаются и общаются между собой. В таких заводских городках живет до нескольких сотен тысяч человек. Высокий спрос на рабочих означал, что компаниям постепенно приходилось улучшать условия труда, а вот рабочие объединения были под запретом. Как и во множестве авторитарных стран, формально в Китае есть система профсоюзов. По сути, это структурные подразделения Коммунистической партии Китая, которые не столько защищают интересы рабочих, сколько служат инструментом социального контроля. Соответственно, улучшать условия труда китайские рабочие предпочитают, не ведя коллективные переговоры с работодателем, а меняя место работы. А молодежь идет на фабрику, лишь чтобы накопить денег на свадьбу или финансово поддержать оставшихся дома родных.
Но рабочие на китайских заводах стали не в пример смелее и все настойчивее требуют улучшить трудовые отношения, обходя не соответствующие своим функциям профсоюзы. Стачечное движение, по мнению экспертов исподволь вызревавшее в промышленных южнокитайских городах, попало в поле зрения мировой общественности в начале 2010 года, когда начались конфликты на заводе запчастей к автомобилям Honda и других предприятиях. Рабочие требовали права создавать независимые профсоюзы для проведения реальных, а не бутафорских переговоров между руководством и рабочими и в то же время фактически формировали их, повергая в изумление даже китайских профсоюзных деятелей тем, как они умело все организовывали и как выбирали профсоюзных представителей. Кроме того, молодые рабочие поразили наблюдателей тем, насколько искусно они овладели технологией стачки, не допуская при этом, например, одновременной встречи всех лидеров во избежание группового ареста. Они заранее условились не пользоваться онлайн-мессенджером QQ.com из-за его популярности среди правительственных соглядатаев.
Honda, Toyota, тайваньская фирма Foxconn (производитель электронных компонентов и готовых изделий для известных компаний) и другие работодатели согласились увеличить расходы на зарплату, питание и жилье, хотя не так существенно, как того добивались рабочие. Не случись тогда в перегретой экономике растущего дефицита рабочих рук, об этом успехе можно было бы и не мечтать. Но все-таки произошедшее в Китае показало нам, насколько легче стало рабочим объединяться в профсоюзы на локальном (заводском или фабричном) уровне, когда государственные организации не реагируют на их запросы либо делают это спустя рукава{333}.
Несколько новых форм рабочих выступлений были заимствованы у организаций, даже отдаленно не напоминающих профсоюзы, – фактически у групп, укоренившихся в тех отраслях и сферах, где появление профсоюзов слишком проблематично и затратно. Один из примеров: в Лос-Анджелесе Центру швейников – небольшой, компактной группе активистов из числа прогрессивных юристов, членов групп по защите прав иммигрантов и представителей этнических общин – удалось добиться внушительных побед над компаниями, практиковавшими потогонную систему труда. Ввиду большого скопления малых предприятий, укомплектованных преимущественно незарегистрированными рабочими с плохим знанием английского языка и работающими до двенадцати часов в день, нередко в условиях, нарушающих правила техники безопасности, данный сектор остро нуждался во вмешательстве извне, но сделать это обычному профсоюзу было крайне непросто. Но Центр швейников успешно проводил бойкоты, и несколько производителей одежды, использующих труд этих рабочих, были вынуждены сесть за стол переговоров. Небольшие по размерам, привлекающие ресурсы из нескольких разнопрофильных организаций рабочие центры дополняют профсоюзы, но по применяемым методам это практически антиподы. Мы живем в эпоху их расцвета: если в 1992 году в США насчитывалось только пять рабочих центров, то в 2007 году – уже 160{334}.
Филантропия: как меняется благотворительность
За два минувших десятилетия мировая благотворительность пережила настоящую революцию. Даже с учетом глобального экономического спада имеющиеся данные наводят на мысль, что доноров, выделяемых ими средств и людей, которым они помогают, много как никогда. Взять хотя бы один приблизительный показатель: с 2003 по 2010 год совокупный объем государственной и частной помощи, предоставляемой с целью развития, в общемировом измерении вырос со 136 миллиардов до 509 миллиардов долларов{335}. В 2010 году американцы вложили в различные проекты 291 миллиард долларов{336}, и число американских грантообразующих фондов неуклонно растет, от 21 877 в 1975 году до 61 810 в 2001 году и до 76 545 – в 2009 году{337}. Работая сообща, частные лица и организации начинают действовать на равных, а то и заменять собой правительственные организации, функционирующие за рубежом. Например, за 1990-е годы размер международной благотворительной помощи, предоставляемой американскими частными лицами и организациями, вырос в четыре раза. С 1998 по 2007 год он вырос еще вдвое, достигнув отметки 39,6 миллиарда долларов и более чем на 50 % превысив размер годовых платежей Всемирного банка. Также стал несколько иначе выглядеть и сбор средств, будь это восемьдесят один американский миллиардер, которые в 2012 году подписали Клятву дарения[18], чтобы пожертвовать львиную долю своих состояний, или же сотни тысяч владельцев мобильных устройств, которые с помощью платных смс-сообщений перевели миллионы долларов на ликвидацию последствий землетрясения в Гаити, или же легионы “венчурных благотворителей”, которые собираются в мастерских, посещают школы в кварталах бедноты и зарубежные сельскохозяйственные фермы (чтобы своими глазами видеть, на что идут их деньги) и делятся на веб-форумах своими идеями и самыми удачными находками.
Крупные фонды (Рокфеллера, Карнеги, Макартуров, Форда), солидные агентства по оказанию помощи пострадавшим (Красный Крест, Оксфордский комитет помощи голодающим, “Врачи без границ”) и крупные государственные управления (Агентство США по международному развитию, Министерство Великобритании по международному развитию, многосторонние организации, такие как Всемирный банк) по-прежнему играют важную роль в процессе ассигнования средств и технической поддержки больных и неимущих во всем мире. По многим показателям, включая общие расходы, они по-прежнему реально доминируют на этом поприще. Но главной движущей силой являются новые игроки – мегафонды, достигшие огромного влияния, такие как Фонд Билла и Мелинды Гейтс, ставший за каких-нибудь десять лет крупнейшей в мире благотворительной организацией, целый ряд частных мелких фондов, которых за последние пятнадцать лет появилось множество, и плеяда платформ по оказанию помощи в частном порядке, торговых площадок, агрегаторов, советников, создающих новые рабочие модели, от предоставления микрокредитов на покупку швейных машин для индийских домохозяек до государственно-частных финансовых инициатив по обновлению автобусного парка в крупном городе.
Две общие черты объединяют нынешнюю революцию, произошедшую в области благотворительности, и положение дел в этой сфере столетие тому назад, когда титаны промышленности учреждали Корпорацию Карнеги (1911 год), Фонд Рокфеллера (1913 год) и несколько позже (1936 год) Фонд Форда – огромные влиятельные организации, ставшие на многие десятилетия образцом для подражания. Теперь, как и тогда, происходящая трансформация благотворительности следует после периода создания неимоверного богатства, источником которого сейчас стали информационные технологии, средства коммуникации и связи, а также медико-биологические разработки – а не железные дороги, производство стали и добыча нефти. И снова центром инноваций в благотворительной сфере оказались США – страна, где частная помощь плотней, чем где-либо еще, соприкасается с культурой ведения бизнеса.
Приверженец “научной благотворительности” Эндрю Карнеги считал, что выделять благотворительные средства следует по принципам, действовавшим в современной промышленности – тем самым, которые в начале XX века легли в основу построения новых гигантских корпораций. Он настаивал на том, что богачам его эпохи “в своей благотворительности следует проявлять те же предпринимательские навыки и стремление к высокой отдаче, что и при накоплении богатства”. Поэтому вполне логично, что результатом его деятельности стало создание огромных институтов самых разных профилей. Ключевыми игроками стали исполнительные советы и координаторы программ, работающие в крупных фондах: используемые ими модели финансирования перенимали остальные доноры, а избираемые ими проекты служили образцами для потенциальных получателей.
И в то же время отдельные мелкие доноры были довольно стеснены в возможностях напрямую участвовать в проектах, поддерживаемых за счет выделяемых ими средств. Каналов для благотворительности было достаточно: такие организации, как фонды “Дорога вместе” и “Марш даймов” (дайм – американская монета в десять центов), Красный Крест, Армия спасения и многочисленные религиозные общины собирали пожертвования в церквях, магазинах, на заводах и в офисах и направляли в места, где, по их мнению, они были нужнее всего и которые наилучшим образом отвечали их философии. В других богатых и развивающихся странах со временем также возникли благотворительные общества не последней величины. К 1970-1980-м годам жители богатых стран уже не удивлялись, когда в конце года к ним вместе с почтой приходили разные листовки, призывающие помочь жертвам стихийных бедствий (“Врачи без границ”, Оксфордский комитет помощи голодающим), вымирающим видам (Всемирный фонд охраны дикой природы), политическим заключенным (международная правозащитная организация Amnesty International) и так далее. Все эти проекты были достойными, но лишь немногие из них действительно давали малым донорам возможность взять на себя долгосрочные обязательства по отношению к какому-то проекту или получателю, не говоря уже о том, чтобы общаться с получателями, посвящать их в свои разработки и не только делиться деньгами, но и проводить совместные мероприятия. Для этого нужно быть состоятельным.
Новое, современное нам поколение филантропов демонстрирует иной подход – основанный на их происхождении, потребностях и рыночном опыте. Начнем с происхождения. Фонд Билла и Мелинды Гейтс, созданный в Сиэтле в 1994 году, стал крупнейшей организацией, занимающейся благотворительностью, но это далеко не единственный фонд, появившийся благодаря богатству, сгенерированному новой экономикой. Например, в Калифорнии число таких фондов с 1999 по 2009 год выросло на 71 %, а размер их расходов увеличился больше чем вдвое, с 2,8 миллиарда долларов до 6 миллиардов{338}. Такой рост прекрасно объясняет перемещение центра тяжести в американской благотворительности, произошедшее за последнее десятилетие: в 2003 году Запад США впервые обошел Средний Запад по совокупному объему пожертвований, а в 2006 году он обогнал и Северо-Восток, бастион американской филантропии{339}. Среди многочисленных новичков-филантропов (с 2000 по 2005 год количество семейных фондов увеличилось на 40 %) немало различных магнатов из мира высоких технологий, а также звезды шоу-бизнеса, чью деятельность один шутник из The Economist назвал “celanthropy” (от celebrity + philanthropy, то есть знаменитость + филантропия): Боно с его фондом ONE, Мэтт Дэймон, ратующий за чистую воду для всех, и Брэд Питт, развивающий тепличное хозяйство ради восстановления Нового Орлеана. Мегазвезды-спортсмены, такие как Тайгер Вудс или Андре Агасси, владеют фондами, которые распоряжаются активами на десятки и сотни миллионов долларов. Но есть и великое множество частных фондов, принадлежащих менее богатым представителям НФЛ (профессиональной лиги американского футбола в США), НБА, футбольных клубов европейских стран, чьи имена малоизвестны за пределами болельщицких кругов.
Для многих новоявленных благотворителей формы работы и методы традиционной филантропии – нечто вроде проклятия. Например, вместо того чтобы жертвовать средства крупным фондам и обществам, они стремятся создавать свои. Для донора потенциальным преимуществом частной благотворительности является возможность определять, кто, что и на каких условиях получает, при этом право выбирать не перепоручается другим агентствам. Так создается “краткий путь” благотворителя в обход посредников, присутствие которых грозило бы расходами на управление и могло бы не самым желательным образом сказаться на его намерениях.
Вместо финансирования оперных театров, библиотек, музеев они предпочитают браться за решение конкретных проблем, используя свой опыт и методы ведения бизнеса. Если такая ориентированная на результат благотворительность практиковалась больше века и принесла свои плоды в виде кампаний, увенчавшихся “зеленой революцией”, то два минувших десятилетия ветераны технологического фронта практиковали несколько иной подход – основанный на фактических данных, сосредоточенный на цели, – используя свою предпринимательскую хватку и технические навыки для решения острейших мировых проблем.
Собственно, для многих новых игроков филантропия равнозначна бизнес-инвестированию. “Венчурная филантропия” показывает, что и в благотворительной деятельности практикуется тот же тип капиталовложений, что и в венчурном инвестировании: избирательный, непосредственный (деньги на руки), ориентированный на средне– и долгосрочную перспективу, а также сочетающий заемный и долевой капитал. Подобно венчурным капиталистам, у венчурных филантропов также есть свои вкусы и инвестиционные предпочтения. Например, общество под названием Venture Philanthropy Partners помогает группам содействия, обслуживающим детей в городе Вашингтоне. Она не просто выделяет деньги, но и обеспечивает техническую поддержку финансируемых ею групп и каждодневное присутствие в их жизни, пристально следит за их развитием. Фонд под названием Acumen (в переводе с английского – сообразительность, проницательность) оказывает поддержку предпринимателям из развивающихся стран, отвечающим четким критериям: результатом их деятельности должны быть товары или услуги для улучшения жизни малоимущих, плюс все их начинания должны быть масштабируемы – то есть принести пользу как минимум одному миллиону человек. Например, одним из получателей средств от Acumen был стартап по установке в сельских районах Индии киосков по продаже различных услуг (компьютерное образование, курсы английского языка, услуги здравоохранения, страхование, микрофинансирование и прочие). Управление киосками поручено местным предпринимателям. Иногда Acumen выдает гранты, но в основном это кредиты и покупка акций, что стирает различия между бизнесом и благотворительностью. Суммы здесь по-прежнему невелики: в 2007 году кредитный портфель Acumen составлял 27 миллионов долларов. Но если учесть, что в момент основания фонда в 2001 году он насчитывал лишь 400 тысяч долларов и что это всего один пример из легиона венчурных благотворителей, стремительность его успеха только подчеркивает общую тенденцию{340}.
Но самой решительной переменой в благотворительности наших дней является появление инструментов, которые позволяют небольшим частным донорам или кредиторам, оперирующим суммами в пределах сотен (и десятков) тысяч долларов, по сути дела, инвестировать в конкретного соискателя или проект, что было невозможно за пределами круга близких соседей или знакомых.
Kiva, основанная в 2005 году, собирает мелкие взносы вместе, выделяя из них микрокредиты для получателей, живущих в разных странах мира, которые названы поименно и имеют возможность информировать своего частного спонсора о состоянии дел. Интернет-ресурс GlobalGiving, созданный в 2002 году двумя бывшими сотрудниками Всемирного банка, действует по схожей схеме: доноры просматривают большое количество предлагаемых на сайте проектов и выбирают один из них. Выбрав проект, донор может пожертвовать любую сумму, используя банковскую карту, чеки, PayPal, минимально сокращая таким образом расстояние до получателя и сводя к минимуму финансовые и организационные издержки. Конечно, это сокращение пути довольно относительно: отбор претендентов и соответствующее выделение средств Kiva и GlobalGiving возлагают на местные микрофинансовые институты и негосударственные благотворительные организации. Пригодность, компетентность, институциональная поддержка субъектов, выполняющих посредническую функцию, – все это жизненно важно для успешной реализации подхода. И тем не менее эта схема доступна любому, у кого есть подключение к интернету и желание потратить пару долларов на, скажем, переход такси в Боливии с бензина на природный газ, или кредиты на учебу в Парагвае, или пошив одежды где-нибудь в Камбодже (это несколько свежих примеров от Kiva).
Благотворительность по сокращенной схеме пока не исчисляется суммами, сопоставимыми с бюджетами крупных фондов или (уж если сравнивать, так сравнивать!) теми средствами, которые направо и налево выделяют государственные учреждения, зато она явила новый образец филантропии. Сбор частных средств на всевозможные проекты возможен через сервисы (такие как Kickstarter), благодаря которым потенциальные получатели могут некоторое время рекламировать свои проекты, но средства им поступают лишь при условии, что за это время они наберут заявленную сумму. Мерилом привлекательности данного подхода является степень его приемлемости – а также использования в качестве маркетингового инструмента – в среде корпоративных филантропов, а такие фирмы, как American Express, Target, JPMorgan Chase и PepsiCo, проводят интернет-голосования, участники которых решают, какие из представленных проектов будет поддерживать компания.
В новом царстве благотворительности, где традиционные фонды представляют лишь один конец спектра, а на другом его конце расположились сборы частных лиц, идущие по краткому маршруту через интернет, пространство между ними нынче заполнено фондами, услугами, консультантами, присутствие которых усложняет занятие благотворительностью, но в то же время расширяет и децентрализует ее. The Wealth & Giving Forum, Social Ventures Partners International, Philanthropy Workshop West, The Big Give и многие другие группы занимаются буквально всем, от помощи малым фондам, повышающей их эффективность, и обучения нуворишей азам активной филантропии – до консультирования по вопросам создания и мониторинга проектов, а также организации форумов для жертвователей, на которых можно поделиться опытом и разными подходами к работе.
Эта новая, малая частная благотворительность еще не готова заменить собой крупные фонды. Деятельность фонда Билла и Мелинды Гейтс по финансированию дорогостоящих проектов дала мощный импульс проводимым в различных странах исследованиям и лечению таких заболеваний, как малярия. В 2007 году фонд Дорис Дюк, пожертвовав 100 миллионов долларов, сразу на 20 % увеличил размер средств, уже собранных для изучения климатических изменений на пятилетний период. Аналогичное по размеру пожертвование Джоан Крок, вдовы основателя McDonald’s, дало небывалый толчок развитию американского Национального общественного радио. У средней и малой венчурной благотворительности, не говоря уж о пожертвованиях мелких доноров через Kiva и аналогичные платформы, целевой аудиторией является иной сегмент сообщества получателей. К тому же маловероятно, чтобы эти новые инструменты могли заменить собой официальную поддержку, осуществляемую государственными учреждениями. Собственно говоря, ученые Радж Десаи и Хоми Харас установили, что доноры Kiva и GlobalGiving основывают свой выбор на иных критериях, чем те, которые используют чиновники, распределяющие государственную помощь. Доноров Kiva, например, не очень беспокоит общая политическая или экономическая ситуация в стране, где находится получатель, если им нравится его проект. А это значит, что малая благотворительность скорее дополняет старый подход, чем претендует на его место{341}.
Однако новая благотворительность разрушила бытующее мнение, что, дескать, лишь крупные фонды и государственные учреждения обладают опытом, необходимым для разработки благотворительных проектов, и потенциалом для их реализации. Правовые и бюрократические рогатки, препятствующие официальной помощи, известны всем. Бесконечная волокита, задержки, коррупция пробудили затихшую было критику помощи, некогда звучавшую из уст экономиста Питера Бауэра (Лондонская школа экономики), а в наши дни ее продолжил экономист из Замбии Дамбиса Мойо{342}. Такие монстры частной благотворительности, как Американский Красный Крест, после цунами в Юго-Восточной Азии 2004 года и обрушившегося в 2005 году на побережье США урагана “Катрина” попали в центр общественного подозрения, став фигурантами скандала. Мы не хотим сказать, что новички, малые благотворительные организации, не подвержены коррупции и противозаконным действиям. Когда в январе 2010 года на Гаити произошло сильное землетрясение, неравнодушные граждане массово посылали платные смс-сообщения, перечисляя по 5 долларов за сообщение на счет благотворительной организации Yele Haiti, основанной хип-хоп-исполнителем Вайклефом Жаном, уроженцем Гаити, а через несколько недель вдруг оказалось, что организация подозревается в серьезных злоупотреблениях.
Но предпосылка для венчурной благотворительности и появления новых, идущих по кратчайшему пути механизмов доставки и новых платформ, заключается в том, что коллективный опыт доноров и получателей – участников осуществляемых между двумя сторонами трансакций – может формироваться, улучшая все то, что накопили к настоящему моменту прежняя структура фондов и благотворительных агентств. Как сформулировал в одной из британских газет руководитель Uplift Academy и пионер в области новой благотворительности Том Мюннеке: “Вместо того чтобы идти к созданию единой, крупной централизованной бюрократии, как Красный Крест или тот же Оксфордский комитет помощи голодающим, мы теперь можем подойти к черте и взять власть в свои руки”{343}. У этой черты доноры, взращенные венчурным капитализмом в духе Силиконовой долины, прибегают к широкому набору инструментов – от создания подходящей среды до реализации образовательных проектов, а потенциальные получатели выдвигают свои предложения, прекрасно понимая, что им приходится конкурировать со многими другими претендентами на помощь из самых разных стран. Руководители крупных фондов и координаторы представляемых ими программ, а также чиновники крупных агентств по оказанию помощи видят, как уменьшается их влияние – результат воздействия то ли новых инструментов, направленных на то, чтобы избавиться от них, то ли общественно активных знаменитостей, таких как фронтмен U2 Боно или сенегальский певец Юссу Н’Дур, которые для пропаганды своих взглядов и приоритетов используют глобальные медийные и коммуникационные платформы.
Впрочем, не стоит рассматривать эту грань как нечто нерушимое, и традиционные игроки вполне способны приспособиться – или по крайней мере попытаться это сделать. Например, Фонд Рокфеллера – один из первых инвесторов венчурного благотворительного фонда Acumen. Десаи и Харас отмечают, что многие крупные государственные агентства разделяются, образуя отделы более узкой направленности, чтобы лучше сосредоточиться на работе и уменьшить расходы. Эти и другие аналогичные шаги лишь подтверждают то, что в будущем благотворительность будет более фрагментированной, чем она была в прошлом. Станут ли возражать против этого Рокфеллер, Карнеги и прочие из их когорты? Совсем необязательно. “Рокфеллер воспринимал свою благотворительность через призму собственного бизнеса, – заявила журналу Forbes основательница Acumen Жаклин Новограц. – Она была предельно централизованной, иерархичной, основу ее составляли эксперты, и к тому же она была крупномасштабной”. Сегодня новый вид предпринимателей, представителей финансового и технологического сектора, кующих свои состояния в сетевой экономике, не мудрствуя лукаво, переносят деловые навыки на благотворительность “от самых рыночных низов и выше”, как выразилась Новограц{344}. Эндрю Карнеги благоволил “научной филантропии”. И так как “наука” о бизнесе отвергает крупные централизованные корпорации, предпочитая малых расторопных игроков сетевидной структуры, то будет логично, если по тому же пути проследует и благотворительность.
СМИ: все сообщают, все решают
Во всем мире, а особенно на тех рынках, где присутствие интернета сильнее всего, источники и хранилища новостей находились и находятся в состоянии непрерывного движения. Оцифровка информации и каналов общения идет стремительно и непрерывно, что привело к совместному существованию в пределах одних и тех же платформ разных видов контента (новости, аналитика, мнения, реклама, пропаганда), поступающего из самых различных источников (службы новостей, рекламодатели, пропагандисты, публицисты, частные лица). Некогда отдельно существовавшие СМИ, каждое со своими технологическими требованиями, культурой ведения бизнеса, объединяются: нынешние радио и газеты на равных существуют в двух форматах – первоначальном и сетевом, извлекая из этого все больший и больший доход.
Потребители новостей с интересом следили за тем, как их любимые издания стремятся сохранить рекламодателей и ищут новые каналы поступления прибыли, как находят удачные решения и проводят грань между бесплатной версией ресурса и содержанием, доступным за деньги, за тем, как иногородние отделения распределяют своих сотрудников между бумажными и электронными версиями, и так далее. Многих постигла неудача. Например, в США с 2006 по 2011 год закрывалось по пятнадцать газет ежегодно, или 1 % от общего объема индустрии. С 2000 года тиражи и доходы от рекламы в газетной индустрии США снизились на 43 %{345}. Телезрители с изумлением увидели, что их любимые передачи освоили просторы интернета, став доступными в любое время дня и ночи благодаря сотрудничеству с избранными видеокомпаниями. А радиослушатели теперь могут выбирать, как слушать музыку по радио: посредством спутниковых станций или при помощи таких специальных сервисов, как Spotify и Pandora. “Информационно зависимые” могут искать любую информацию в самых различных источниках, фильтруя ее через новостные агрегаторы с помощью поисковиков Google или Yahoo либо поручая фильтрацию новостей друзьям по социальным сетям (Facebook, Twitter), всецело полагаясь на их вкусы.
Последствия таких нововведений, хоть и много о них говорили, не так очевидны. Журналисты, как и следовало ожидать, довольно долго беспокоились за будущее своей профессии; но где искать власть в средствах массовой информации и в каком направлении происходит ее трансформация? Ответ на этот вопрос существенно – существеннее, пожалуй, чем в любой другой сфере, – зависит от того, где мы будем искать.
С одной стороны, у нас предостаточно фактов в поддержку той мысли, что малое количество ведущих фирм контролирует львиную долю мировых СМИ. Подсчет компаний, доминирующих на рынке американских СМИ, показал, что в 1983 году их было 50, в 1990 году это количество сократилось до 23, в 2000 году их было уже шесть, а вскоре осталось пять{346}. Разумеется, после 1990 года процесс слияния американских СМИ ускорился, а изменения нормативноправовой базы, позволившие снять запреты с определенных видов межплатформенных медиахолдингов, только ускорили этот процесс. И совсем уже свежая покупка: компанию Dow Jones, владевшую Wall Street Journal, приобрела News Corp, принадлежащая Руперту Мердоку, что прибавило веса одной из семи ведущих международных медиакорпораций, в числе которых испанский социолог и широко известный медиаэксперт Мануэль Кастельс называет Time Warner, Disney, News Corp, Bertelsmann, NBC, CBS и Viacom{347}.
Независимо от того, как это скажется на демократии, бизнес-стратегия, состоящая в приобретении одних игроков медиасектора и укрупнении других, приводит, мягко говоря, к неоднозначным результатам. Когда лет десять назад Time Warner отделилась от конгломерата AOL после их скандального слияния, рыночная оценочная стоимость AOL составляла мизерную часть от заявленных в момент слияния 175 миллиардов долларов. И это далеко не единичный случай: согласно данным одного анализа, с 2002 по 2009 год стоимость активов крупнейших медиаконгломератов упала в общей сложности более чем на 200 миллиардов долларов. А после неутешительных показателей компаний по ряду таких индексов, как S&P, последовало ускоренное интернетом разорение бизнеса. История показывает, что рост медиакомпаний достигается в основном за счет приобретений, а рост доходов далеко не всегда означает более высокую доходность акций и того, что принято считать рыночной властью{348}.
С другой стороны, власть в современном медиабизнесе все больше и больше становится достоянием технологических компаний и контент-провайдеров того или иного рода. Тот же Кастельс дополнил список крупных игроков компаниями Google, Microsoft, Yahoo! и Apple – представителями мира технологий, заметно сдвинувшимися в направлении того или иного типа медиа, в итоге получился некий слепок “земного ядра”, лежащего в основе действий современных медиа. Facebook, бесспорно, также должен быть включен в этот список, тем более после прошедшего в 2012 году первого открытого размещения акций на сумму более 100 миллиардов долларов. Собственно говоря, ожидается, что к 2015 году пятая часть всей прибыли от рекламы, размещаемой в интернете, будет приходиться на Facebook{349}. Еще в 2011 году на пять технологических компаний (без учета Apple и Amazon) приходилось 68 % прибыли, получаемой от интернет-рекламы. Отношения, существующие между этими гигантами, не сводятся к бескомпромиссной конкуренции – когда нужно, они прибегают и к более гибким методам взаимодействия: это совместное внедрение в странах и регионах различных локальных проектов, создание контента и платформ, распространение продукции компаний и рекламные кампании, а в некоторых случаях – присутствие руководителей Apple в правлении Amazon и наоборот{350}.
Но значит ли это, что в медиаиндустрии сосредоточена власть – или что она сосредоточена там больше, чем обычно? Во-первых, здесь трудно провести какие-либо сравнения, поскольку изменения в технологии непрестанно сдвигают границы медиаиндустрии. А во-вторых, даже притом что в некоторых странах процесс слияния приводит к укрупнению компаний и появлению всего лишь нескольких, но очень крупных транснациональных медиаимперий, в наши дни выбор СМИ в любой точке мира гораздо шире, чем несколько десятилетий назад. До 1970-1980-х годов под государственным контролем находились все (или почти все) теле– и радиоканалы, причем не только в развивающихся странах и восточноевропейском блоке, но и во многих странах Западной Европы. И в-третьих, обслуживание потребителя посредством интернета расширило выбор предлагаемых ему позиций. Например, New York Times предлагает своим читателям в Чикаго обзор местных событий, сайт лондонской Guardian стал популярным новостным ресурсом в США, выходящая в Абу-Даби ежедневная газета National славится широким освещением культурной жизни, чем привлекает новых авторов и читателей, живущих за пределами страны. Как заметил в 2010 году журналист Майкл Кинсли: “Сегодня любая англоязычная газета, в какой бы точке мира она ни выходила, конкурирует со всеми остальными”{351}. Наконец, утверждая, что нынешние СМИ более концентрированы, чем прежде, следует помнить, что американская “большая тройка” телеканалов, информационное агентство Associated Press и многие другие игроки, действительно, довольно долго доминировали в своих сегментах, но с тех пор ситуация изменилась.
Но природа СМИ, стремящихся сыграть на нашем любопытстве и приверженности неким взглядам, такова, что их сила сводится к уважению (авторов и источников) и влиянию (на наши взгляды и решения). Те газеты, которые считаются у себя на родине эталонами объективности – New York Times, Le Monde, El Pais, – редко могут похвастаться высокими тиражами или большими доходами. Самая обширная аудитория, как правило, у таблоидов. В негласной табели о рангах некоторые СМИ за счет их надежности и репутации стоят выше всех остальных. Сегодня же дело не только в угрозе условному рейтингу, но и в границах журналистской профессии, пошатнувшихся после того, как дерзкие новички один за другим стали показывать, что им вполне по силам не просто составить конкуренцию традиционным журналистским медиа, но и превзойти их. Например, ресурс Huffington Post, который представители традиционных СМИ высмеивали раньше как агрегатор-плагиатор, усилил журналистский персонал – и в 2012 году получил Пулитцеровскую премию в номинации “За раскрытие национальной темы”. Широкое распространение цифровых камер, камерофонов и видеорегистраторов моментально выдвинуло “народную журналистику” на первый план, и обычные люди состязаются с папарацци в умении сделать удачный снимок знаменитости (потом онлайн-брокеры продают эти снимки таблоидам), добыть свежее доказательство жестокости полиции или запечатлеть начало стихийного бедствия. Однако стоит отметить, что Дэвид Вуд, лауреат Пулитцеровской премии из Huffington Post, – журналист с многолетним стажем. Между тем простота интернет-публикаций превратила блоги, посвященные чему угодно – от предвыборной агитации до фискальной политики, рок-музыки, командировок, в надежные и прибыльные источники различной специальной информации, которые зачастую более популярны, чем статьи профессиональных журналистов и экспертов.
Рассмотрим случай гика-статистика Нейта Сильвера: он применил навыки, которые получил, делая на основе статистики прогнозы в бейсболе, к выборам президента США в 2008 и 2012 годах и опубликовал свои выкладки на сайте FiveThirtyEight.com. Действуя по собственной методике обработки данных, полученных в результате различных опросов, Сильвер сумел предсказать исход праймериз (“супервторника”) между Бараком Обамой и Хиллари Клинтон. Потом он пошел дальше и еще в марте 2008 года предсказал победу Обамы над Джоном Маккейном, а в день голосования подробные прогнозы Сильвера о том, как проголосуют отдельные штаты, сбылись в 49 случаях из 50. В 2012 году он верно предсказал исход голосования уже во всех пятидесяти штатах. Живи Сильвер чуть раньше, голос его был бы вряд ли услышан – из-за отсутствия своей площадки. Но случилось иначе, за время избирательной кампании страничка FiveThirtyEight.com стала культовой, телеканалы приглашали Сильвера на теледискуссии, и в 2010 году Блог 538 переехал на сайт New York Times.
Ставший аналитиком блогер – всего лишь одно из многих перевоплощений, вносящих сумятицу в трудовую иерархию традиционных СМИ. В дополнение к расширению штата Huffington Post в 2011 году запустил в интернете круглосуточный канал новостей, а в июне 2012 года было объявлено, что ресурс открывает отдельный интернет-журнал, доступный только через Apple Store{352}. Он вышел на международный уровень и действует теперь в Испании, Италии и Франции.
Тем временем газеты и журналы стали заводить свои блоги и привлекать к участию в них широко известных независимых блогеров. В Великобритании, например, основные газеты (Guardian, The Times, Daily Telegraph) создали целые штаты, укомплектованные десятками авторов, которые прямо в режиме онлайн ведут дискуссии и выражают свои мнения. Сегодня крайне мало функций и характеристик, которые являлись бы прерогативой одного вида СМИ и не присутствовали у других. Новости, мнения, развлечения – вы найдете здесь все; текстовый, аудио– и видеоформат подачи информации переплетаются сильнее и сильнее с каждым днем, а упрощение создания контента вкупе со средствами распространения уже разрушило барьеры, окружающие как занятие журналистикой, так и поле деятельности любого информационного агентства.
Значит, снижение затрат на обычные новостные агентства, несмотря даже на то, что медиаиндустрия становится все более коммерческой и развлекательной? Необязательно. Например, в 2012 году Лаборатория журналистики Нимана провела сравнительный анализ трех европейских газетных компаний, успешно развивающих различные стратегии цифровой эпохи: крупнейшей новостной компании Финляндии Sanoma, которая одной из первых в мире трансформировала подписку на свои издания в возможность цифрового доступа, норвежской Schibsted, восьмой по величине новостной компании мира, которая работает в двадцати восьми странах и больше трети дохода получает за счет продажи цифровых продуктов, что примерно втрое превышает доход от среднестатистической газеты, и швейцарской Zeitung Online, которая экспериментирует с “гиперлокализмом”, привлекая читателей полным отсутствием сообщений о президенте Обаме и событиях в мире, но зато широко освещая работу городских бургомистров и происшествия в кантоне.
Некоторым из присутствующих на медиарынке игроков появление в средствах массовой информации малой, периферийной и гражданской журналистики, а также социальных сетей может прийтись весьма кстати. Среди новых сил – также такие независимые и финансируемые некоммерческими фондами группы журналистских расследований, как ProPublica – по ее собственному определению, “независимая некоммерческая служба новостей”, – чье сотрудничество с авторитетными изданиями уже дало свои плоды (в 2011 году ProPublica получила Пулитцеровскую премию). Еще один пример рационального подхода к социальным медиа со стороны ведущего издания датируется октябрем 2009 года, когда газете Guardian пришлось столкнуться с судебным запретом, не позволявшим ей получить ответ на вопрос, поднятый в Палате общин благодаря своевременному твиту редактора газеты Алана Расбриджера. Дело касалось нефтеторговой фирмы Trafigura, которая была замешана в скандале вокруг токсичных отходов в Западной Африке, и юристы компании добились некоторых запретов. “Не объясняя причин, газете Guardian запрещают публиковать информацию о работе парламента”, – сообщил Расбриджер на своей страничке в Twitter, и сеть взорвалась от дискуссии, продлившейся всю ночь. В индустрии массмедиа, где ощущение непрестанного движения и влияние технологической революции сильны как нигде, своевременность появления различных мелких децентрализованных участников не вызывает сомнений, но все-таки решающее слово может по-прежнему принадлежать традиционным игрокам{353}. Например, растущая популярность мобильных устройств вызвала не только резкий скачок потребления новостей, но и своеобразное “бегство в качество”, поскольку потребитель отдает предпочтение приложениям и домашним страничкам традиционных новостных ресурсов, считающихся эталонами объективности{354}.
Предметом рассмотрения в этой главе были религия, профсоюзы, благотворительность и СМИ. Но с таким же успехом мы могли бы посвятить ее трансформациям власти в системе высшего образования, где разгорается борьба дистанционного обучения, коммерческих школ и нарастающей глобальной конкуренции за привлечение студентов и средств на научные изыскания, а также за высокие позиции в неофициальной “табели о рангах”. Можно было бы рассмотреть упадок власти в сфере научных инноваций, с сотрудниками за границей и с новыми нормами расширенного обмена данными и знаниями. Или сосредоточиться на музеях, вынужденных бороться не только с новыми явлениями – как, например, создание музеев-конкурентов мирового класса в таких далеких уголках, как Тасмания и Катар, – и принципиально новыми методами культурного взаимодействия, но и с растущей настойчивостью набравших силу развивающихся стран, стремящихся вернуть на родину свое культурное наследие. Или особо выделить виды спорта, старые команды, которые при помощи новейших технологий обрели вторую жизнь, или владельцев-нуворишей и новых тигров экономики, которые стремятся свой разбухший ВВП конвертировать в нечто более привлекательное: олимпийское золото или преуспевающую индустрию развлечений.
Нет такой сферы, которая не была бы затронута революциями множества, мобильности и ментальности. И никто не застрахован от тех сдвигов, благодаря которым власть стало легче получить, но трудней использовать и трудней удержать. В религии, благотворительности и массмедиа – на тех аренах, где идет борьба за душу, сердце, разум, – мы наблюдаем не только взаимодействие новых сил, но также фрагментацию, поляризацию, которые преобразуют наши общества на каждом уровне. Мы видим в этих сферах большее количество возможностей, чем когда-либо. Но при этом возникает вопрос: а что происходит, когда мозаика веры разлетается на тысячу, на миллион маленьких острых осколков? Когда поиски общего блага сводятся к нарочитой любезности, изображаемой конкретным человеком для достижения конкретной цели. Или когда граждане отвергают все газетные новости, кроме тех, которые они хотели бы услышать. Все это вместе взятое лишь создает помехи совместным действиям. Для решения огромных проблем, встающих перед нами – от изменений климата до растущего неравенства, – нужны совместные действия и новый, разделяемый многими подход к накоплению власти и ее использованию. Вскоре мы рассмотрим и первое, и второе, после того как в следующей главе попытаемся ответить на вопрос: действительно ли нас в итоге ждет вот этот новый дивный мир и чего больше – выгод или издержек – таит в себе упадок власти?
Глава 10 Упадок власти Наполовину полон или наполовину пуст?
Я сознаю, что рассуждаю об упадке власти в тот самый момент, когда газетные заголовки кричат об обратном. Правительства разрастаются. Доходы и материальные ценности в какой ни возьми стране действительно все больше концентрируются. Средний класс в богатых странах сокращается, а невообразимые богатства принадлежат горстке людей. Лица и группы, обладающие значительными активами, используют их, чтобы приобрести закулисное политическое влияние. В США миллиардер от игорного бизнеса, управляющие хедж-фондов и крупные торговцы недвижимостью финансируют “суперкомитеты политической активности”, которые преследуют свои узкие цели или продвигают кандидатов, взявшихся защищать их коммерческие интересы. В России, Китае и многих других странах правят бал – где в переносном, а где и в прямом смысле – олигархи, стакнувшиеся с государственными чиновниками. Могущественные медиамагнаты используют свой вес, чтобы к ним прислушивались в президентских кабинетах. “99 процентов” ощущают себя обманутыми, ограбленными и порабощенными богатым и влиятельным сотым процентом.
Как же тогда может быть, что власть распадается, дробится, становится более эфемерной? И что власть имущие оказались в осаде? Дело в том, что, как мы уже показали в этой книге, носители власти сегодня ограничены жестче, чем прежде, держат ее не так прочно, как их предшественники, и пользуются ею меньшие сроки.
Например, Владимир Путин, стяжал, безусловно, огромную власть, но противоборство ему постоянно растет, и горизонт возможностей у него сузился по сравнению с первым президентским сроком и последующим периодом премьерства. Так же все думали, что банкиры, оказавшиеся на вершине после финансового кризиса 2008 года, встали у руля мировой финансовой системы надолго, однако не прошло и четырех лет, и кто-то из них лишился постов, остальные оказались под обстрелом после того, как обнаружилось их участие в ценовом сговоре (Barclays), сокрытие убытков (JPMorgan Chase), отмывание денег (HSBC), незаконные сделки с Ираном (Standard Chartered), использование инсайдерской информации членом совета директоров (Goldman Sachs) и другие грехи. Эти события не подорвали экономической мощи крупных банков, и банковское лобби по-прежнему имеет серьезный политический вес. Но отдельные топ-менеджеры лишились былого могущества, и банки, несомненно, более ограничены в свободе действий. Только самые наивные или безоглядно самонадеянные директора – и не только в банках – думают, что прочно сидят на своем месте. Экономическое неравенство, которое долго терпели, а в ряде стран даже приветствовали, сегодня попало в фокус общественной дискуссии во многих государствах. Повсюду, от Соединенных Штатов и Европы до улиц арабских городов и даже до Китая, мирному сосуществованию с неравенством – или, по крайней мере, молчаливому смирению с ним – приходит конец.
Как мы видели в предыдущих главах, сегодня многие области человеческой деятельности, в которых долго сохранялся закрепившийся набор доминирующих фигур, превратились в поля сражений, где окопавшихся бонз непрерывно осаждают и все чаще и чаще низвергают.
И это хорошие новости.
Приветствуем упадок власти
Среди несомненно позитивных аспектов упадка власти отметим либерализацию общества, расширение выборности и выбора для избирателей, новые модели социальной организации, новые идеи и возможности, оживление инвестиций и торговли, а также усиление конкуренции и его следствие – расширение предложения. Ни одна из этих тенденций не универсальна, и в каждом случае находятся досадные исключения, но в целом направление вырисовывается вполне отчетливо.
Например, в политике завоевание новых свобод происходит прямо на глазах: авторитаризм отступает. Конечно, освободительный подъем еще далеко не исчерпал себя. Каким-то странам (например, Китаю, Саудовской Аравии, Северной Корее, Кубе, Беларуси) еще предстоит его пережить, а где-то, как в России, он протекает мучительно медленно. И силы, расшатывающие тоталитарные системы, по-прежнему действуют на городских площадях, ставших символами “арабской весны”, и даже на улицах Тегерана, в китайском интернете и все более явно на улицах китайских городов, да и в других странах, где репрессивные режимы никак не хотят отпустить народы на свободу. В последнее время появляется все больше научных статей под заголовками типа “Почему Китаю придется демократизироваться”, объявляющих, что век автократии для этого гиганта заканчивается, и множатся предсказания о конце коммунистической диктатуры в КНР{355}.
И почему нет? Почему Китай должен быть исключением? В большинстве стран концентрация политической власти заметно упала. В последние десятилетия мы видим небывалое число партий и фракций, успешно собирающих голоса, а действующие правительства как никогда прежде рискуют пасть, если не изменятся. Все меньше влиятельных политологов готовы, как еще в 1990-е в Азии, доказывать преимущества политической предопределенности и контролируемых переходов или пугать аудиторию, будто есть страны, недостаточно крепкие и устойчивые, чтобы вынести внезапную демократизацию{356}. В 1970-е знаменитый ученый из Гарварда Сэмюэл Хантингтон рассматривал страны, освобождающиеся от колониального гнета и претерпевающие резкие социальные перемены, и связывал размах и скорость перемен с распространением насилия, мятежей, бунтов и переворотов. “Чтобы ограничивать власть, она прежде всего должна быть, – писал Хантингтон, – и именно власть дефицитна в тех обновляющихся странах, где правительства оказались в заложниках забывших родство интеллектуалов, буйных полковников и мятежных студентов”{357}. Сегодня подобные идеи вряд ли где найдешь, ну разве что в официальной доктрине и в официальной прессе Коммунистической партии Китая, да еще у тех комментаторов, которые боятся, что уход со сцены ближневосточных диктаторов неизбежно откроет дорогу к власти еще более репрессивным и мракобесным диктатурам. Мы знаем, что в момент перехода к демократии нацию могут сотрясать политические конвульсии, и тогда она теряет управляемость, и в публике возникает ностальгия по прежнему авторитарному порядку.
Еще одна причина приветствовать упадок власти признанных тяжеловесов – это экономическая глобализация. Мелкие компании из далеких стран забирают долю рынка у корпораций, чьи названия известны всему миру; новые бизнес-модели, придуманные новичками, нокаутируют корпоративных гигантов. В восьмой главе мы приводили замечательный пример воздействия на власть революций множества, мобильности и ментальности: как импорт моделей венчурного инвестирования из Силиконовой долины во многих странах помог разбудить предпринимательские таланты и сформировать центры бизнес-инноваций там, где прежде ничто не располагало к их возникновению. Новые транснациональные корпорации возникают в странах, откуда ни одна крупная компания не ожидала появления потенциальных конкурентов.
Конечно, перетасовки во внутренней иерархии в бизнесе идут столько, сколько существует современная модель рыночной экономики, и мы знаем, что жизнеспособность капитализма зиждется на глубинной связи между инновациями и “созидательным разрушением”. Но наблюдаемые сегодня обширные глобальные перемены еще существеннее{358}. Этих перемен не произошло бы без упадка власти.
И в основе этого явления процессы, которые трудно не приветствовать: как в политике упадок власти расшатывает авторитарные режимы, так в экономике он обуздывает монополии и олигополии, обеспечивая потребителю более широкий выбор, низкие цены и достойное качество. Классическая экономическая и либеральная политическая мысль предполагают, что монополии практически никогда не бывают во благо. Даже те области, где монополия когда-то считалась неизбежной – например, водоснабжение или электроснабжение, – сейчас открываются для конкуренции. Сегодняшним молодым людям трудно представить, что было время, когда все телефонные компании в мире были монополистами, во многих случаях принадлежавшими государству и зачастую неспособными предоставлять достойное обслуживание. Но именно так и было еще совсем недавно. Ныне же на рынке телефонии свирепствует конкуренция, и ни одна компания, сколь бы крупной и богатой ни была, не может считать свое положение устойчивым, а будущее обеспеченным. Неприязнь к монополиям распространяется также на олигополии и картели. Потому-то чем эффективнее упадок власти препятствует рыночному диктату немногих крупных компаний, тем охотнее мы его приветствуем.
Что не радует? Опасности упадка
Отмечая выгоды упадка власти, не стоит забывать, что наполовину полный стакан одновременно наполовину пуст.
Упадок власти – одна из основных причин того, что государства теряют способность предпринимать шаги, необходимые для решения внутренних проблем, а лидеры мирового сообщества все менее успешно и оперативно разбираются с проблемами международными. Не в последнюю очередь из-за него в таком обилии расплодились криминальные, террористические и иные противоправные негосударственные образования. Для этих сил не существует границ, а правительства, которые они атакуют, разрушают или просто не замечают, им уже почти не могут помешать{359}.
Кроме того, размывание власти способствует росту политического экстремизма – будь то сепаратизм, ксенофобия, фундаментализм – и в устоявшихся демократиях, и в формирующихся политических системах. Оно выпестовало полный набор невесть откуда взявшихся групп, компаний и информационных агентств, избегающих пристального внимания государства и получающих деньги от каких-то субъектов, прячущихся в какофонии интернета. Размывание власти расширяет возможности для мошенничества и нечестной коммерции.
Нередко увидеть серьезную проблему нам помогают громкие судебные случаи и газетные заголовки с упоминанием персон и организаций. Но каждый из этих отдельных игроков в свою очередь переживает упадок власти. Конечно, это не означает, что можно не тревожиться, – соперничество между преступниками вряд ли ослабит преступный мир. Но надо помнить, что и “Талибан”, и “Аль-Каида”, и мексиканский наркокартель “Лос-Сетас” подвержены расколам, разделам и мутациям; что угроза, исходящая от единого Китая, – совсем не то, что угроза от Китая, претерпевающего быстрое и разрушительное дробление власти: по регионам, группам влияния, фракциям Коммунистической партии и так далее.
Фигуранты, в конце концов, могут поменяться, проиграв соперникам или перестроившись сами по себе. Во многих случаях инструменты, посредством которых эти организации отправляют свою власть, останутся прежними, в других новые игроки стяжают власть при помощи новых изобретенных ими инструментов. Власть, которой обладают Фейсбук и Гугл, опирается на новые технологии, не освоенные больше никем. Могущество “Аль-Каиды” обеспечено ее новыми и кровавыми методами “ведения дел”.
Более того, масштаб революций множества, мобильности и ментальности одновременно усложнил и обострил наши проблемы и ослабил имеющиеся у нас средства к их решению. Возьмем угрозу глобального потепления: да, выбравшись из нищеты, Китай и Индия повысили качество жизни нескольких миллиардов человек, но в то же время резко увеличили выброс парниковых газов. В 2006 году Китай стал крупнейшим в мире их производителем, потеснив США, а Индия расположилась на четвертом месте. Любые меры по сокращению выбросов углекислого газа в одной стране должны учитывать действия других государств – не в последнюю очередь потому, что на введение экологических ограничений и выплат за выбросы, которые принимаются в развитых странах, коммерческие компании отвечают переносом углеродоемких производств за рубеж. От экспорта оружия и маркировки интернет-доменов до рыболовства и торговли сельхозпродукцией, практически любой предмет международных договоренностей сегодня обрастает новыми требованиями со стороны все большего числа договаривающихся. В результате мы все меньше способны к каким-то действиям, выходящим за рамки необходимого минимума и на самом деле помогающим решить проблему. Более разнообразный и представительный состав участников за столом переговоров (из былых “слабых”) и сокращение доли решений, навязанных миру немногими могущественными субъектами, можно только приветствовать, чего не скажешь о возросшей дистанции между намерением и результатом.
Политический паралич как сопутствующий эффект упадка власти
Этот паралич стал очевиден в США. Политическая жизнь поляризуется, и пороки системы, перегруженной сдержками и противовесами, становятся все заметнее. Фрэнсис Фукуяма называет эту систему “ветократией”. Он пишет: “Американцы весьма гордятся конституцией, которая ограничивает исполнительную власть посредством различных сдержек и противовесов. Но эти сдержки и противовесы превратились в метастазы. Америка стала ветократией.
Когда эта система сочетается с идеологизированными партиями, ‹…› наступает паралич. ‹…› И если мы хотим из этого наступившего паралича выбраться, нам потребуется не только жесткое руководство, но и исправление институциональных регламентов”{360}.
Экономист Питер Оржаг наблюдал закулисье ветократии и ее кошмарные плоды. В статье 2011 года он осмысляет события, свидетелем которых стал незадолго до того один из ведущих экономических стратегов США: “Когда я работал директором административно-бюджетного управления в администрации Обамы, я убедился, что политическая поляризация несет Америке беды – она подрывает способность Вашингтона выполнять рутинную, насущную работу по управлению страной. Как бы радикально это ни прозвучало, чтобы вывести наши политические институты из оцепенения, нам нужно сделать их несколько менее демократическими. Я сознаю, что подобные идеи подразумевают определенный риск. И мои предложения не радуют меня самого: они больше продиктованы отчаянием, чем вдохновением. Но мы не можем закрывать глаза на то, что поляризованное, обездвиженное правительство несет стране нешуточный вред. И мы должны найти выход”. Оржага не назовешь радикалом, грезящим об автократии. Строго говоря, предлагает он по сути технократические реформы: расширение автоматической стабилизации в финансовой сфере (налоговые и бюджетные поступления, которые автоматически увеличиваются, когда экономика замедляется, и сокращаются, когда она растет), страховочные механизмы (процедуры, которые запускаются, если Конгресс бездействует: таким образом, режим “по умолчанию” меняется с бездействия на действие) и более активное использование экспертных комиссий, уполномоченных решать и действовать и огражденных специальным регламентом от давления политических партий{361}.
Хотя приведенные примеры взяты из недавнего опыта Соединенных Штатов, большинство демократических обществ также страдают от этого сочетания резкой политической поляризации и такого устройства общественных институтов, которое серьезно затрудняет принятие правительством своевременных и эффективных решений. Вспомним, что, как мы отмечали в пятой главе, из 34 самых богатых демократий в 2012 году только в четырех президент и премьер-министр принадлежали к партии, имеющей парламентское большинство. В других странах, как и в США, нет недостатка в оригинальных идеях о реформировании системы сдержек и противовесов, с тем чтобы правительства могли выйти из паралича и выработать более эффективную политику. Но никаких реформ не происходит. Ни в США, ни где-либо еще. Даже острые последствия экономического кризиса в Европе не заставили правительства вернуть себе ту власть, что необходима для оперативного и успешного реагирования. Более того, произошло обратное: экономический кризис спровоцировал дальнейшую политическую поляризацию и еще больше ослабил как тех, кто стоит у руля, так и тех, кто им оппонирует. Ни первые, ни вторые не обнаружили способности осуществить отчаянно необходимые перемены. Воистину конец власти.
Гибельная конкуренция
В экономике есть понятие гибельной конкуренции. Она возникает, когда цены, устанавливаемые поставщиками в той или иной отрасли, падают ниже себестоимости. Компании идут на это, если хотят срочно сбыть товарные запасы или когда их цель – не скорая максимизация прибыли, а разорение одного или нескольких конкурентов. Конкуренты отвечают тем же. И если такая игра перерастает из короткой вспышки откровенно агрессивной рыночной политики в устойчивый паттерн, это грозит опрокинуть всю отрасль. Определенные обстоятельства особенно предрасполагают к возникновению гибельной конкуренции. Например, она возникает, когда налицо значительный излишек производственных мощностей – простаивающие станки и заводы или переполненные товарами склады – и компании снижают цены лишь затем, чтобы бизнес не остановился совсем. В некотором смысле гибельная конкуренция – это порочная мутация идеальной конкуренции, столь милой сердцу экономистов.
Гибельная конкуренция – образ, помогающий хорошо проиллюстрировать, какими бедами чревато распыление власти и ее последующий упадок. Когда власть трудно применять и удерживать, когда она распределяется среди широкого и постоянно меняющегося круга мелких субъектов, могут сложиться формы взаимодействия и соперничества, пагубные для общественного блага, угрожающие здоровью экономики, процветанию культуры, стабильности наций и даже миру на Земле. В политической мысли подобная ситуация отражена в классическом контрасте двух противоположностей: тирании и анархии. Чрезмерно сконцентрированная власть порождает тиранию. На противоположном полюсе чем более дробной и размытой становится власть, тем выше риск анархии – состояния, когда порядок сменяется хаосом. Обе эти крайности редки: даже у самых диктаторских режимов есть бреши, и в самых анархических средах рано или поздно возникает какое-то зерно порядка и какая-то власть, и хаос отступает. Но главный смысл сравнения в том, что активное размывание власти и неспособность главных ее субъектов главенствовать столь же опасны, как и чрезмерная концентрация власти в руках немногих.
Обширный упадок власти, когда каждый сколько-нибудь значимый участник может блокировать инициативы других, но ни один не в состоянии навязать остальным свою волю, так же опасен для национальной политической системы и общества, для любого социума и даже семьи, как и для международного порядка. Когда применение власти настолько ограничивается, наступает паралич, пагубный для стабильности, предсказуемости, безопасности и материального благополучия.
Берегись своих желаний: передозировка сдержек и противовесов
Есть много способов поддерживать порядок в среде, где власть распылена, эфемерна и подвержена распаду. Среди них федерализм, политические союзы и коалиции, международные организации, всемирно принятые (и устанавливаемые) правила и нормы, взаимное ограничение ветвей власти, моральные и идеологические узы, осененные знаменами христианства, ислама, социал-демократии, социализма и так далее. Все это решения одной старой проблемы, восходящей к античным полисам. Однако нынешний упадок власти еще не вызвал к жизни новых компенсирующих механизмов: инноваций в устройстве общественной жизни, которые позволили бы нам во всей полноте использовать персональную автономию, порождаемую сверхраспределенной властью, и одновременно оградили бы от создаваемых ею весьма реальных и страшных опасностей.
Чтобы лучше понять последствия упадка власти для общественного благополучия, представьте график в виде перевернутой подковы. Он изображает упадок власти: слева она концентрирована, справа распылена – в отношении к состоянию широко востребованных ценностей, таких как политическая и социальная стабильность, достойные общественные установления и прочная экономика.
Рис. 10.1. Упадок власти: перевернутая подкова
Горизонтальная ось, где отмечаются степени упадка власти, начинается (с левого края, у начала оси) с максимальной концентрации власти в руках немногих. В этой области находятся тирании, монополии и другие формы жесткого контроля в политике и экономике, при которых уровни социального благополучия несоразмерны. На другом конце оси власть максимально распылена и размыта. Здесь распад систем оборачивается анархией, и ситуация в обществе столь же мало приемлема, сколь и в начале оси, где концентрация власти высока и нормой остается политическая и экономическая монополия.
Фокус в том, чтобы научиться держаться в середине графика, в зоне стремительных и всеохватывающих перемен. Наша терпимость – насколько широка эта средняя зона, где мы готовы находиться, – будет варьироваться. В экономике равно не подходят ни монополии, ни разрушительная гиперконкуренция, но здесь речь все же не идет о жизни и смерти, в конце концов, мы можем жить при множестве разных моделей, пусть даже оставляющих желать много лучшего. Но в политике, если эта область, растягиваясь, захватывает экстремизм и насилие, на кону оказываются куда более серьезные вещи. И когда военный порядок в мире рассыпается и армии могущественных стран терпят поражения от пиратов, террористов, партизан, мафиозных картелей и государств-изгоев, ставки поднимаются выше некуда.
Перед нами встают громадные проблемы, такие как распространение ядерного оружия и глобальное потепление, которые просто не могут быть решены, если мировое сообщество будет расшатываться и дробиться и все больше терять способность к коллективному действию. Упадок власти обостряет эти проблемы – тем более когда все новые страны запускают ядерные программы или обретают способность создавать сложные программы-вирусы, которыми можно поражать противника и на своей территории, и за границей. В свою очередь не способствует поиску решений и ослабление ведущих игроков: миновали времена, когда одна-две супердержавы могли просто диктовать остальным свою волю.
Сообща бороться за сохранение мира, противостоять терроризму, обеспечивать международную экономическую координацию для роста мировой экономики, искоренять болезни, сдерживать климатические изменения, распределять дефицитные ресурсы, преследовать мошенничество и отмывание денег, защищать редкие виды животных и растений – все это работа на общее благо. Иначе говоря, от их успеха выигрывает каждый, включая и тех, кто никак не помогает их осуществлению. В этом состоит классическая дилемма, которую социологи именуют проблемой коллективных действий{362}.
Ни один из участников не в силах в одиночку осуществить изменения, но каждый старается, не тратя своих ресурсов, выжидать, пока нужную работу выполнят другие. В итоге изменения так и не происходят, хотя от них выиграл бы каждый. Упадок власти усугубляет проблему коллективных действий. Он уже происходит на международной арене, где то в одной, то в другой области все более и более “мелкие” страны налагают вето, требуют особого рассмотрения, тормозят или вовсе останавливают действия “больших” наций. Между тем сами большие нации получают новые возможности преследовать свои интересы. В XX веке для заботы о благе всех народов и людей человечество придумало глобальные организации: от ООН и ее специализированных учреждений до Всемирного банка, Международного валютного фонда и региональных групп. Однако эти новые организации сплошь и рядом едва поспевают за ростом требований и возникновением угроз в тех областях, которые они призваны регулировать.
Одно из решений – коалиция могущественных стран (“Коалиция доброй воли”), которая действует в обход международных организаций, напрямую, как США и их союзники в Ираке. Но даже эта схема не избавлена от упадка власти: во-первых, потому что другие страны все легче могут сопротивляться таким коалициям и вмешиваться в их планы, но еще и потому, что политические коалиции становятся все менее сплоченными, а общественное мнение все менее склонно их поддерживать и одобрять, даже в странах, которые их инициируют. Волна за волной, размывающие власть – и не только политическую, – обрушиваются на нас, все обостряя ситуацию. Та же страна, правительство и армия которой пытаются навести порядок где-то в далеких краях, для чего организуют международную коалицию, может давать приют фондам и организациям, передающим врагу деньги и информацию, интернетсайтам, транслирующим позицию врага и вербующим для него солдат. Возможности малых игроков для инвестиций, кампаний, пожертвований, учреждения своих информационных агентств, обеспечивающих влияние, растут, но позитивные следствия этого – плюрализм, демократия, инициатива, ощущение осмысленности – одновременно создают новые препятствия, мешающие бороться с кризисами, определять цели и доводить замыслы до воплощения.
Пять рисков
Какой бы аспект мы ни взяли, упадок власти создает риски, которые могут в скором времени подорвать общественное благополучие и качество жизни отдельного человека и в дальнейшем обернуться бедствиями, если не катастрофой. Помимо политического паралича и других негативных последствий, о которых мы говорили, есть еще пять следствий упадка власти, представляющих серьезную опасность.
Хаос
Гоббс и другие классики политэкономии говорили об этом давно, и их прозрения – вернемся к первой главе – до сих пор актуальны. Многим людям свойственна – по меньшей мере, так считается – врожденная тяга к власти. Но в конструкции социума власть – это ответ на проблему хаоса. Мы подчиняемся власти государства, потому что она должна обеспечивать нам минимальный уровень стабильности и предсказуемости, необходимый нам, чтобы вести осмысленную жизнь. Нормы, регламентирующие деловые отношения, законы о клевете, пассивное избирательное право и международные конвенции равно призваны сглаживать непредсказуемость жизни и ограждать нас от опасностей хаоса и анархии.
Что мы уступаем этим общественным институтам и людям, которые ими управляют, и чего требуем от них взамен, варьируется со временем и от общества к обществу в ходе эволюции человеческих ценностей и ожиданий. Революции множества, мобильности и ментальности побуждают миллиарды людей ожидать и требовать большего. Сегодня у нас есть более совершенные инструменты контроля. И все же в основе нашего согласия с властью лежит ее главное обещание – что она обеспечивает порядок. Упадок власти, о котором идет речь в этой книге, подрывает этот договор, как не подрывает его ни политическая борьба, ни рыночная конкуренция, ни даже мировые войны XX века. Последствия очевидны: хотя лишь немногие сообщества надолго впадали в анархию, высокая степень распада власти вполне может парализовать социум. При таком повороте даже развитые и зрелые демократии могут стагнировать и терять способность отвечать требованиям и вызовам XXI века. Как мы уже отмечали, неспособность Европы своевременно и успешно противостоять катастрофическому кризису в экономике являет нам прискорбный пример того, как разлагающе действует гибель власти. Еще более гибельными последствиями чревато наше неумение решительно бороться с выбросами парниковых газов, разогревающими нашу планету.
Деквалификация и утрата знания
Централизованные иерархические организации неслучайно доминируют в мире уже более ста лет. Политические партии, крупные корпорации, церкви, фонды, государственная бюрократия, армия, знаменитые университеты, культурные учреждения накапливают в своих стенах опыт, технологии и знания: там хранят историю успехов, насаждают среди своих членов или сотрудников обычаи, культуру и сумму навыков. В мир распыленной власти все это переходит не без некоторых – зачастую значительных – потерь. Идея замены политических партий создаваемыми по случаю “движениями”, временными предвыборными коалициями и даже узкоспециализированными неправительственными организациями (“зеленые”, пираты, малое правительство) симпатична миллионам избирателей по всему миру, сытых по горло коррупцией, идеологической стагнацией и государственной беспомощностью многих политических партий. Но хотя грехи большинства партий явны и несомненны, их упразднение обернулось бы исчезновением важного хранилища крайне специального знания, которое непросто будет воссоздать милым новичкам – среди которых обнаруживается немало тех, кого швейцарский историк Якоб Буркхардт называл “непроходимыми упрощенцами”, демагогов, в корыстных целях эксплуатирующих гнев и обиды людей и дающих радужные, но “кошмарно упрощенные” и в итоге лживые обещания{363}. То же самое верно в отношении опыта крупных фирм в роли нанимателей и инвесторов. Микробизнесы, импровизированные магазинчики, венчурные фонды, социальные сети и тому подобные предприятия с немалым трудом нарабатывают интеллектуальный капитал, уже имеющийся у крупных фирм. Радикальная децентрализация знания – от Википедии до программного обеспечения с открытым кодом и размещения в интернете бесплатных учебных материалов Массачусетского технологического института – одна из самых интересных граней упадка власти. Но способность этих новых источников знания потягаться с корпоративными конструкторскими бюро или сохранять историю организации в лучшем случае нестабильна. В среде, где власть слишком распылена, человек не всегда делает лучший или более надежный выбор образования и трудоустройства. Выраженная дезинтеграция организаций может быть такой же помехой для создания и разумного применения знаний, как и косная среда, которая складывается, если власть слишком концентрирована.
Банализация общественной активности
Общественные и политические события в наши дни обрастают “фолловерами”, которые их “лайкают” в разных цифровых медиа. В социальных сетях полчища подписчиков и “френдов” могут создавать впечатление, что та или иная группа представляет собой мощную силу. Иногда это действительно так. Хотя роль Фейсбука и Твиттера в событиях “арабской весны”, возможно, и переоценена, нет сомнений, что социальные сети так или иначе расширили возможности антиправительственных сил. Но это не самый обычный случай. Для большинства людей на Земле общественная или политическая активность в интернете едва ли предполагает что-то кроме щелчков мыши. Может, с несколько большей пользой они делают небольшие пожертвования – например, пять долларов Красному Кресту после какого-нибудь землетрясения или иного стихийного бедствия – путем отправки текстового сообщения на условленный номер. Это не пустяк, но подобные поступки не сравнятся с той опасной деятельностью, которая служила мотором столь многих крупных общественных движений. Публицист Евгений Морозов называет эту новую, не требующую самоотречения и жертв, борьбу словом “слактивизм”. Это, пишет Морозов, “идеальная форма деятельности для инертного поколения: к чему ходить на пикеты, где тебе угрожает арест, жестокость полиции, истязания, когда можно столь же громко возмущаться в виртуальном пространстве?” Слактивизм, по мнению Морозова, плох не тем, что складывается из крошечных и почти безопасных шажков – в конце концов, это тоже, так или иначе, от чистого сердца, скорее дело в том, что увлечение онлайновыми петициями, подсчетом фолловеров и лайков уводит потенциальных участников и оттягивает ресурсы у организаций, выполняющих по-настоящему опасную и плодотворную работу: “Стоят ли успехи в паблисити… организационных потерь?”{364} Как писал о том же Малкольм Гладуэлл, это течение, сопутствующее фетишизации социальных сетей, наглядно свидетельствует об опасности обессмысливания, которую несет упадок власти{365}. Возможность заявить о проблеме, выложить петицию или даже сделать что-то более серьезное: открыть свой электронный магазин на Amazon или eBay, отправить деньги нуждающемуся в другой конец мира или улицы – это тоже некоторый уровень свободы и самореализации. Однако стремительное размножение малых дел и краткосрочных инициатив привносит опасность того, что мы больше не сможем создавать настоящие сильные объединения, добивающиеся четко определенных политических целей. Считайте, что тема коллективного действия перешла на субатомный уровень.
Поверхностность и нарушение концентрации
Благодаря миллионам сетевых активистов тысячи различных тем попадают в фокус общественного внимания, но те же активисты задают такой уровень “шума” и отвлекающих сигналов, при котором тот или иной случай не может долго удерживать внимание публики и сохранять сколько-нибудь значительный вес. Для общественно-политических процессов гиперконкуренция может быть столь же губительной, сколь и для бизнеса, где переизбыток конкурентов вынуждает уменьшать масштабы компаний и ограничивает их возможности.
Более того, чем слабее держат власть политики, общественные институты и организации – то есть чем эфемернее становится характер их власти, – тем больше они руководствуются сиюминутными стимулами и страхами, тем хуже планируют долгосрочную перспективу. Первые лица государств избираются на короткие сроки, главы корпораций не заглядывают дальше итогов следующего квартала, генералы сознают, что успех военного вмешательства, как никогда, зависит от поддержки переменчивой публики, которая больше не хочет мириться с потерями, – все это примеры того, как сжатие временной перспективы связывает руки власть имущим. На уровне личности упадок власти парадоксален тем, что, даже сужая спектр возможностей человека, он дает ему больше инструментов для жизни здесь и сейчас. Одновременно с этим становится понятно, что у большинства наших внутренних и международных проблем не может быть быстрого решения и что их смягчение и устранение требуют постоянной и упорной работы. В мире, который не противится упадку власти, терпение будет, пожалуй, самым дефицитным из ресурсов.
Отчуждение
Власть и ее институты существуют так давно, и стены, ограждающие власть, всегда были столь высоки, что даже смысл своей жизни – что делать, что принять, а что отвергнуть – мы определяем в этих обстоятельствах. Крупные перемены с непредсказуемыми последствиями нередко порождают отчуждение – разобщение и отдаление людей друг от друга, от предметов, когда-то важных для них, а в чрезвычайных случаях даже разлучают человека с его осознанием самого себя, идентичностью, которая определяет его в собственных глазах. Вообразите, что происходит, когда коммерческая компания меняет владельца, сливается с другой или реструктуризируется, что бывает, когда противоборство религиозных доктрин приводит к церковному расколу или когда глубинные изменения в политической системе перераспределяют власть в стране. Перемены в структуре власти, в привычной иерархии, предсказуемых нормах и всем известных правилах неизбежно влекут растерянность и рост тревожности. И могут привести даже к аномии, которая есть полный разрыв социальных связей между индивидом и сообществом. Французский социолог Эмиль Дюркгейм описывал аномию как “правило, состоящее в отсутствии правил”{366}. Бомбардировка технологиями, взрыв цифровой коммуникации, онлайновые мнения, аттракции и шумы, отказ от безоговорочного приятия традиционных авторитетов (президенты, судьи, начальство, старшие, родители, священники, полиция, учителя) вызывают дисбаланс, имеющий далекие и малопонятные последствия. Как отразится на политике, экономике и на обществе то обстоятельство, что домовладений с единственным проживающим в США в 1950 году было меньше 10 %, а к 2010-му их доля выросла почти до 27 %? Семья – это тоже уровень власти, и здесь власть тоже рассыпается: те, кому она принадлежала (обычно родители, мужчины и старшее поколение), сегодня сталкиваются с небывалыми прежде ограничениями. Что говорят нам о доверии между людьми результаты многочисленных опросов, показывающих, что среди граждан развитых стран все меньше людей имеют близкого друга и все больше – жалуются на одиночество?{367}
Если XXI век и готовит какую-то пока неявную опасность для демократии и свободного общества, то она исходит скорее не от признанных жупелов нынешнего (Китай) или вчерашнего (радикальный ислам) дня, а изнутри сообществ, в которые пробралось отчуждение. Для примера обратимся к усилившимся общественным движениям, отражающим или использующим протестные настроения, – от новых ультраправых и ультралевых партий в Европе и России до Движения чаепития в США. С одной стороны, каждое из этих растущих течений есть показатель упадка власти, ведь они не имели бы того влияния, если бы не падение стен, ограждавших истеблишмент. С другой стороны, изначальное недовольство, которое они канализируют, происходит в значительной мере от отчуждения, когда исчезают из вида привычные знаки порядка и экономической стабильности. И их поиски ориентиров в прошлом – ностальгия по Советскому Союзу, прочтение американской конституции в трактовке XVIII века, продвигаемое персонажами в костюмах той эпохи, проповеди Усамы бен Ладена о возрождении халифата и пеаны Уго Чавеса Симону Боливару – показывают, насколько пагубным и деструктивным может быть упадок власти, если мы не сможем приспособиться к нему и направить его на благо общества.
Глава 11 Власть распадается. Что теперь? Как быть?
Первый и, возможно, самый важный вывод из этой книги – неотложная необходимость по-новому думать и говорить о власти.
И для начала стоило бы по-новому расставить акценты в рассуждении о том, как меняется власть, каковы ее источники, кто ею обладает, кто ее лишается и почему. Многих перемен, которые влечет за собой упадок власти, мы не можем предвидеть, но можем усвоить новое понимание, дающее максимальный простор для маневра, чтобы успешнее планировать будущее и свести к минимуму влияние опасностей, о которых мы сейчас говорили.
Следует понимать, что последствия упадка власти для того будущего, которое сегодня видит большинство ученых, общественных деятелей и крупных политиков, оказались не менее ошеломительными, чем для любой другой области.
Посмотрите, насколько бессвязным и неполным стал господствующий дискурс. Возьмите, например, международные отношения, и в частности спор о том, какая страна будет доминировать в XXI веке: США или Китай? Новые рынки? Нет ни одного? В деловой сфере одна школа комментаторов говорит о консолидации, олигархии и упрочении власти мировой корпоративной – и особенно финансовой – элиты, между тем как другие не менее настойчиво толкуют о гиперконкуренции и разлагающем воздействии новых технологий и бизнес-моделей. Подобным образом и в религиозной картине современного мира кого-то глубоко тревожат фундаментализм и нетерпимость, а другие наблюдатели отмечают здоровые признаки консолидации масс, способствующей либерализации, смягчению нравов и мирному сосуществованию.
Полярными мнениями забиты книги на полках книжных магазинов, страницы газет на всех языках, и, разумеется, особенно броско подают их телеэфир и социальные сети. И все эти теории и мнения верны. По крайней мере, сторонники каждой из них могут привести свой набор фактов и свидетельств, чтобы убедительно и глубокомысленно обосновать занимаемую позицию.
В самом деле, поразительно, насколько несходны мнения о том, в каком направлении меняется наш мир, и к каким угрозам нам следует готовиться, и тем более – как на них отвечать. При всем необъятном объеме данных и пестроте мнений, имеющихся на сегодня, у нас нет надежного компаса – четкой концепции, которая помогла бы понять смысл перемен, происходящих во всех областях жизни, все больше и больше переплетающихся между собой. Никакая стратегия на будущее не сработает, если не предложит глубокого понимания тех превращений, которые происходят с властью, и их последствий.
Последствия упадка власти многогранны и существенны. Но увидеть их и внедрить в картину мира и в менталитет тех, кто принимает решения – в семьях ли, в президентских дворцах, в правлениях компаний, – не получится, пока мы не сформируем новый дискурс, учитывающий, что происходит с властью сейчас.
И первый шаг к созданию нового дискурса о власти – это выход из лифта.
Выйти из лифта
Разговор о власти до сих пор по большей части строится весьма традиционно и потому часто оказывается опасно устаревшим. Наглядный пример – поныне сохраняющееся преобладание лифтового мышления: озабоченность тем, кто едет вверх, а кто вниз – какая страна, город, отрасль, компания, политик, делец, религиозный лидер или мыслитель набирает влияние, а кто или что его теряет. Лифтовое мышление лежит глубоко в основе нашего стремления ранжировать и определять первых. В нем причина привлекательности спортивных турниров и рысистых бегов.
Разумеется, в любой момент можно ранжировать соревнующихся субъектов по их возможностям, мощи и достижениям. В конце концов, государства мира действительно соперничают между собой, и такие факторы, как объем производства, сеть военных баз и вооружение, численность населения, площадь территории, владение технологиями и т. п., часто служат для оценки и ранжирования. Но картина, которую они дают, мимолетна – выдержка этого снимка все короче и короче – и, хуже того, непоказательна. Чем больше мы сосредоточиваемся на рангах, тем выше риск не заметить или недооценить, насколько упадок власти ослабляет все соперничающие партии, не только те, которые явно находятся в упадке, но и те, что идут на подъем.
Многие китайские писатели и ученые рассуждают о подъеме Китая, то же самое пишут о своих странах русские, индийцы и бразильцы. Европейцев же заботит растущая маргинализация их континента в геополитической игре. Но основная масса “лифтерских” разговоров происходит в США, где аналитики неустанно обсуждают, окончателен ли закат страны, поправим ли, временен ли или вовсе иллюзорен. Другие аргументированно теоретизируют о “подъеме остальных” и переходе к миру “многополярной” геополитики{368}.
Авторы многих книг, анализируя размывание власти, вызванное умножением стран, способных влиять на положение в мире, также не затрудняются покинуть лифт или шагнуть за пределы схемы, в которой главным действующим лицом и предметом изучения выступает национальное государство. Известный теоретик международных отношений Чарльз Купчан утверждает, что “никакая единая модель или сила не придет на смену западному порядку. XXI век не будет принадлежать Америке, Китаю, Азии или кому бы то ни было. Мир будет ничьим. Впервые в истории он станет системой взаимных зависимостей – но без общего центра тяготения и без мирового жандарма”{369}.
Того же мнения придерживается бизнес-консультант и писатель Ян Бреммер, который вводит термин “Go: мировой порядок, при котором ни одна страна либо длительный союз стран не может взять на себя роль лидера”{370}.
И оба этих автора вторят Збигневу Бжезинскому, который утверждает, что “мы вступили в постгегемонистическую эру”, подразумевая под этим, что в ближайшем будущем ни одна из стран не сможет оркестровать мировой порядок в той степени, в которой это делали в прошлом некоторые из великих держав{371}.
Трудно со всем этим не согласиться, и в пятой главе мы разбирали те многочисленные силы, что объединяются против постоянного господства одной нации и государства. Но фокусируя оптику на национальном государстве – даже если мы доказываем, что ни одно из таких не сможет распоряжаться общемировыми делами, – мы нерезко видим другие силы, по-своему перекраивающие эти дела: упадок власти во внутренней политике, в бизнесе и в остальных сферах.
Усложнить жизнь “непроходимым упрощенцам”
Второе важное следствие такого анализа – наша возросшая уязвимость перед аморальными идеями и аморальными вождями. Одним словом, покинув лифт, нужно на все смотреть скептически, особенно на современную разновидность буркхардтовских “непроходимых упрощенцев”.
Упадок власти обильно удобряет почву для демагогов-провокаторов, которые, эксплуатируя разочарование людей власть имущими, обещают перемены и пользуются той неразберихой, которая начинается, когда появляется все больше действующих лиц, голосов и планов. Растерянность от перемен, которые приходят слишком быстро, слишком разрушительны и отменяют былую определенность и прежние способы решения задач – а это все последствия революций множества, мобильности и ментальности, – немало помогает деятелям с аморальными идеями. Крупные банкиры, что выдвигали под видом оригинальных решений порочные финансовые схемы, американские политики, обещавшие ликвидировать бюджетный дефицит, не поднимая налогов, и, на другом конце спектра, французский президент Франсуа Олланд, решивший обложить доходы богатых неслыханным налогом в 75 %, – это лишь несколько примеров. Апостолы информационных технологий, которые верят, что цифровые “примочки” сами по себе решат ныне не решаемые проблемы человечества, тоже склонны к излишне бравурным заявлениям и в итоге тоже оказываются “непроходимыми упрощенцами”.
Такие опасные демагоги обнаруживаются во всех областях жизни, о которых идет речь в этой книге: предприниматели и теоретики, утверждающие, что интернет-бизнесы с минимумом активов и скудными или нулевыми доходами должны оцениваться выше, чем “традиционные” компании с мощными активами и постоянным притоком средств; стратеги, обещавшие, что вторжение в Ирак будет вроде развлекательной прогулки, а захватчиков будут встречать как освободителей и что война “окупит себя” за счет высоких нефтяных доходов Ирака. Усама бен Ладен, “Аль-Каида”, “Талибан” и другие террористические движения тоже опираются на чудовищные упрощения, которые они сумели широко популяризировать. Обещания и прогнозы инспирированной Уго Чавесом “боливарианской революции” и, на другом полюсе, североамериканского Движения чаепития также коренятся в дикой примитивизации, не учитывающей ни уроков прошлого, ни даже просто объективных данных и научных свидетельств.
Разумеется, в демагогах, шарлатанах и продавцах воздуха нет ничего нового: история изобилует примерами, когда восхождение личности на вершину власти и пребывание там оборачивалось гибельными последствиями для народов. Новое – это среда, в которой “человеку с улицы” – в том числе носителю разрушительных идей – гораздо легче приобрести власть.
Отслеживать тех, кто стремится все упрощать, и не давать им той власти, которой они ищут, всегда было необходимо. И укрепление нашей способности – как индивидов и как общества, интеллектуальной и политической – обнаруживать таких среди нас еще более важно в мире, переживающем стремительные и ошеломительные перемены.
И для начала нужно принять новую реальность упадка власти и, как сказано, изменить характер наших рассуждений о ней. Не только и не столько в коридорах президентских дворцов, головных офисах корпораций и университетских аудиториях, сколько в разговорах у кулера, в дружеских беседах и за обеденным столом в семье.
Такие разговоры – незаменимый компонент политического климата, в котором будет неуютно непроходимым упрощенцам. Ведь, как точно замечает Фрэнсис Фукуяма, для искоренения ветократии, парализующей политический механизм, “главное, чтобы политические реформы опирались на движение масс, простых людей”{372}. Для этого, в свою очередь, необходимо вести дискуссию о том, как преодолеть негативные последствия упадка власти и перебраться на позитивную ветку нашей перевернутой подковы. Чтобы это произошло, необходимо решить сложнейшую задачу: демократические общества должны созреть до того, чтобы делегировать больше власти тем, кто ими правит. Это невозможно, если в обществе не вырастет доверие к этим людям. Что, конечно, само по себе еще труднее. Но без этого не обойтись.
Вернуть доверие
Хотя упадок власти затронул все области организованной человеческой деятельности, в некоторых сферах его последствия особенно устрашающи. Если директора и президенты корпораций теряют в способности диктовать свою волю и сохранять за собой полномочия, это не такая великая беда, как избранные руководители государств, парализованные ветократией.
На международном уровне этот паралич особенно зловещ. Глобальные проблемы множатся, а способность мирового сообщества их устранять стагнирует либо убывает. Иначе говоря, неспособность бизнесменов добиваться задуманного для нас всех несет меньшую угрозу, чем ситуация, когда главы государств и лидеры блоков и объединений обездвижены, словно Гулливеры, опутанные тысячами малых “микродержав”.
Когда вы последний раз слышали, чтобы крупная группа стран приняла какое-нибудь международное соглашение по некой острой проблеме? Лет десять назад, не меньше, а в каких-то отдельных важных аспектах период бездействия доходит до двадцати и даже тридцати лет. Неспособность европейских государств, которые по иронии судьбы уже подписали соглашения о распределенном управлении, совместно противостоять разрушительному кризису – это такое же красноречивое свидетельство паралича, как и неспособность мирового сообщества принять меры против выбросов парниковых газов, разогревающих планету. Или его неспособность остановить кровопролитие, например разразившееся в 2012 году в Сирии.
Запущенность болезни очевидна: с начала 1990-х, когда по миру распространились явления, вызванные глобализацией и революциями множества, мобильности и ментальности, необходимость в эффективном сотрудничестве на уровне государств резко возросла. Но возможности человечества не успевают за этими новыми потребностями. Важные многосторонние переговоры проваливаются, сроки упускаются, финансовые договоренности и обещания не уважаются, работа глохнет. Коллективная международная активность не достигла того уровня, который предлагался, а главное – того, который был необходим{373}.
Эти провалы не только изобличают хронический дефицит согласия между державами; по сути дела, это очередная яркая манифестация упадка власти. А какое отношение имеет ко всему этому утрата доверия? Неспособность политических лидеров успешно сотрудничать с соседями по планете связана с их шатким положением в своих странах. Правительства, не пользующиеся особым (или никаким) доверием, не могут заключать международные соглашения, ведь для этого часто требуется принимать обязательства, идти на уступки, компромиссы и даже жертвы, чего народ может и не позволить. Я не говорю, что мы должны давать тем, кто нами правит, карт-бланш и неограниченные полномочия: разумеется, неподконтрольная, неподотчетная и не уравновешенная сдерживающими силами власть опасна и неприемлема. Но следует при этом понимать, что, когда общество оказывается на нисходящей ветке подковы-графика, дополнительные ограничения власти правительственных институтов идут в конечном счете во вред всем нам. Восстановление доверия необходимо, чтобы ослабить эти ограничения и перевести в ту область графика, где общество от них выигрывает. Взрывной рост и усложнение сдержек и противовесов, опутывающих правительства демократических государств, – прямое следствие утраты доверия. В иных странах убывание доверия к правительству уже стало постоянной тенденцией. Вспомним наблюдения президента Фонда Карнеги Джессики Мэтьюз, которую мы цитировали в четвертой главе, говоря о революции ментальности: “[В США] каждый, кому меньше сорока, всю жизнь живет в стране, где большинство граждан не доверяют собственному национальному правительству делать то, что, по их мнению, нужно делать”{374}.
Разумеется, у нас хватает причин не доверять политикам и власть имущим вообще: дело не только в продажности и лживости, но и в банальном неумении правительств хорошо делать работу, которой мы ждем от них как избиратели. Более того, информация становится все доступнее, а повышенное внимание медиа к государственному истеблишменту быстро высвечивает все его ошибки, огрехи и некомпетентность. В результате низкий уровень доверия к правительству, характерный для наших дней, становится нормой.
Все должно перевернуться. Нужно возродить доверие к правительству и к политическим лидерам. Это потребует от политических партий крутых перемен в структуре, в деятельности, в отборе, оценке и выдвижении (и отзыве) лидеров. Адаптация политических партий к условиям XXI века – это требование момента.
Укрепление политических партий: уроки “Захвати Уолл-стрит” и “Аль-Каиды”
В большинстве демократических стран партии остаются важнейшими субъектами политики и по-прежнему обладают широкими возможностями. Но это лишь видимость: они раздроблены, ослаблены и поляризованы, как и вся политическая система, в которую они встроены. Строго говоря, большинство старых партий уже не в состоянии обладать той властью, какая у них была прежде. Красноречивый пример – агрессивное давление Движения чаепития на республиканцев и тот внутренний раскол, который это вызвало в некогда одной из самых мощных политических машин в мире. Столь же разрушительную фракционную борьбу мы видим в партиях по всему свету.
Начиная с 1990-х политические партии переживают нелучшие времена. В большинстве стран опросы общественного мнения показывают, что престиж и ценность партий в глазах тех самых людей, кому они призваны служить, падают и кое-где уже достигли небывало низкого уровня{375}.
Конец холодной войны и особенно крушение коммунизма как вдохновляющей доктрины размыли идеологические границы, сообщавшие многим партиям их уникальное своеобразие. Поскольку идеологические платформы стали неразличимы, в главный, а зачастую и единственный определяющий фактор превратились персоны кандидатов. В предвыборной гонке партии стали меньше полагаться на привлекательные для народа идеи и идеалы, а больше на маркетинговые приемы, медийные умения кандидатов и, конечно, деньги, которые они способны собрать. Закономерно, что скандалы, в которые оказываются втянуты отдельные политики, равно компрометируют и партии, к которым эти персоны принадлежат. И вновь стараниями свободных медиа и независимых парламентариев и судей коррупционные схемы, которые прежде хорошо прятали или безмолвно терпели, вытаскиваются на всеобщее обозрение, и их ставшая явной противоправность подрывает “бренд” политической партии. Публичное очернение также организуется партиями, которые больше не могут отличаться от оппонентов идеологической позицией и пытаются внушить избирателю, что их соперники неизбежно связаны с коррупцией и скандалами. Нельзя сказать с уверенностью, в самом ли деле коррупция в политике усилилась в последние десятилетия, но огласка точно сегодня широка, как никогда.
Тем временем, пока политические партии переживали трудности, расцвели общественные движения и неправительственные организации (НПО). В 1990-х даже кровавые террористические сообщества типа “Аль-Каиды” (которые в ряде важных аспектов тоже можно классифицировать как НПО) стали всемирными и существенно усилились. Связи между политическими партиями и электоратом ослабляются, а между НПО и их сторонниками укрепляются. Общественная поддержка политиков и партий продолжает неуклонно убывать, а авторитет и влияние НПО растут. Доверие к ним растет столь же скоро, сколь быстро его теряют партии. Такое организаторское умение, как привлечение молодых и мощно мотивированных активистов, готовых многим жертвовать ради общего дела и организации, сегодня более свойственно НПО, чем политическим партиям.
НПО преследует свою единственную цель с жаром одержимого, тогда как у политической партии широкий набор разных и часто противоречивых целей и она одержима лишь погоней за пожертвованиями на избирательную кампанию. В странах, где политические партии остаются под запретом или подвергаются гонениям, НПО превращаются в единственный канал политической и общественной активности. В остальных случаях быстрый рост НПО объясняется чаще всего тем, что они меньше затронуты коррупцией, нередко принадлежат к широкой международной сети и обычно имеют более ясную идеологию, менее строгую иерархию и работают в тесном контакте со своими участниками. Важное преимущество НПО – четкие задачи. Ставит ли организация целью защиту гражданских прав или окружающей среды, борьбу с бедностью или с контролированием прироста населения, ее участники редко теряют из виду смысл своей работы. Все эти факторы склоняют новых и новых политически активных людей, прежде примкнувших бы к тем или иным партиям, в сторону участия в НПО.
Рост НПО – в целом позитивная тенденция. Что значительно менее радостно и действительно должно быть повернуто вспять – это утрата партиями авторитета, что в ряде стран: в Италии, в России, в Венесуэле – привело к тому, что партии фактически исчезли и заменены создаваемыми к очередным выборам объединениями. Чтобы партии могли возродиться и эффективно функционировать, им нужно вернуть способность вдохновлять, мотивировать и мобилизовывать людей, особенно молодых, которые без этого либо вовсе забрасывают политическую активность, либо направляют свою энергию в русло узкоспециальных организаций или даже маргинальных групп. То есть партиям нужно возыметь волю к переменам и адаптировать свою структуру и методы к условиям все более интегрирующегося мира. Неправительственные организации благодаря относительно горизонтальной, неиерархической структуре оказались подвижными, пластичными и хорошо настроенными под запросы и ожидания их участников; должно быть, этот рецепт и партиям поможет найти новых сторонников, стать мобильнее, продвигать свою программу и, будем надеяться, более успешно противостоять непроходимым упрощенцам, охотящимся за влиянием внутри партии и вне ее.
Неправительственные организации завоевывают доверие тем, что их участники видят результат своих действий, понимают, что без их помощи организации не обойтись, что ее лидеры отвечают перед рядовыми членами, играют честно и не преследуют никаких тайных или неблаговидных целей. Политическим партиям нужно уметь вызывать такого рода эмоции в широких слоях общества и рекрутировать участников не только в традиционном узком кругу верных приверженцев.
Только в таком случае они смогут вернуть ту власть, которая нужна, чтобы успешно нами править.
Расширять участие в политике
Это легче сказать, чем исполнить. У кого есть время? И терпение посещать все собрания и коллективные акции, которые подразумевают участие в каком-то общем деле – особенно в политической партии? Помимо этих есть и немало других уважительных причин, почему большинство людей лишь изредка помогают политическим партиям и участвуют в общественной деятельности, которая не исчерпывается разовым пожертвованием или посещением конференции или митинга раз в несколько лет. В нормальной ситуации политическая деятельность и общественная работа – удел меньшинства.
Однако в последние годы мы с удивлением наблюдаем внезапную волну интереса к политике, мобилизацию немалого числа дотоле инертных и даже безразличных граждан и участие десятков тысяч человек в событиях, куда более серьезных (а в иных странах и куда более опасных), чем посещение партийного митинга.
Например, в США в 2008 году Барак Обама и его президентская кампания сумели привлечь многих и многих неофитов и молодых людей, из тех, кто обычно не интересуется предвыборной активностью ни одной из двух партий. На выборах 2008 года, помимо происхождения и расовой принадлежности кандидата, страна еще много чего увидела впервые: новые технологии в социальных сетях, позволившие адресно донести политические призывы до избирателей, привлечение волонтеров, небывалые схемы сбора пожертвований. Сюрпризы, принесенные внезапным всплеском политической активности прежде безучастных людей, не исчерпываются тысячами неофитов, бросившихся помогать кандидату Обаме. Воодушевленные или, скорее, разъяренные финансовым кризисом и несправедливым распределением его тягот, участники движения “Захвати Уоллстрит” и тысяч подобных во многих городах мира тоже поставили в тупик правительства и политиков, которые лихорадочно пытались понять природу и устройство “захватов” и изыскать пути куда-то отвести политическую энергию этих в значительной степени стихийных движений.
Самый удивительный и важный всплеск этой новой политической активности начался с волнений в маленьком тунисском городке в 2010 году. Они в конце концов привели к свержению правительства Туниса, а затем к волне протестов и манифестаций, покатившейся по всему Ближнему Востоку и вылившейся в “арабскую весну”. Миллионы прежде пассивных – и угнетенных – граждан превратились в революционеров, готовых не только рисковать собственной жизнью, но и подвергать опасности свои семьи. Не в пример движениям “захватчиков”, которые так и не смогли обратить свою политическую энергию в политическую власть, “арабская весна”, пробудившая народы, действительно привела к крупным переменам во власти. Таким образом, если в нормальных обстоятельствах участие в политической жизни остается занятием немногочисленных групп причастных, в другие моменты, например во время революций, целые нации с одержимостью бросаются в политическую деятельность. Однако революции слишком дорого обходятся, их итоги непредсказуемы, и социальный прогресс не гарантирован. И значит, главное – избежать опасных и разорительных революций, одновременно пробуждая и направляя политическую энергию, дремлющую в любом обществе, на осуществление перемен к лучшему. Наилучший способ этого достичь – оживить соперничество политических партий.
Переосмысление политических партий, модернизация механизмов их пополнения, реформирование их структуры и методов поможет партиям выглядеть привлекательнее и вернуть доверие обществ, которыми эти партии хотят править. В идеале партии также могли бы стать эффективными лабораториями политических инноваций. Только вернув доверие к политической системе у себя в стране – и, значит, вооружив наших лидеров способностью обуздать упадок власти и наделив их полномочиями принимать трудные решения, – мы сможем подступиться к насущным мировым проблемам. А для этого нам нужны сильные, современные и демократичные политические партии, располагающие к вступлению и участию в них.
Грядущий всплеск политических инноваций
Восстановление доверия, реконструкция политических партий, изобретение новых форм осмысленного участия в политической жизни для обычных граждан, создание новых механизмов эффективного государственного управления, ограничение вредного влияния сдержек и противовесов при недопущении чрезмерной концентрации неподотчетной власти и наращивание способности национальных государств к сотрудничеству должно стать главной политической задачей момента.
Без этих перемен устойчивый прогресс в противодействии тем силам внутри страны и на международной арене, которые посягают на нашу безопасность и процветание, невозможен.
В нынешнюю эпоху революционных перемен, которые затрагивают практически все, что мы делаем и с чем сталкиваемся в повседневности, одна важная область жизни остается на удивление непотревоженной: то, как мы управляем самими собой, своими сообществами, нациями и мировой системой. Или способы, которыми мы как индивидуумы взаимодействуем с политическим процессом. Идеологии приходят и уходят, партии возвышаются и низвергаются, те или иные управленческие практики совершенствуются путем реформ или применением информационных технологий. Предвыборная агитация сегодня полагается на тонкие методы убеждения – и людей, которыми правят не диктаторы, а те, кого эти люди выбрали сами, сегодня на Земле, конечно же, больше, чем когда-либо. Это позитивные перемены, но они бледнеют в сравнении с небывалыми прорывами в коммуникационных технологиях, медицине, бизнесе и военном деле. Одним словом, инновационная лавина еще не докатилась до политики, государственного управления и общественной деятельности.
Но она придет. Мы стоим на пороге революционного обновления политической жизни и государственного управления. Как мы показали в этой книге, власть преображается в столь многих областях, что неизбежно подвергнутся серьезной трансформации и те формы, в каких человечество организует себя для того, чтобы выживать и развиваться. Подобные взрывы радикальных и позитивных обновлений политического устройства уже случались в истории. Греческая демократия и волна политических инноваций, вызванная Французской революцией, – вот лишь два самых известных примера. Очередной прорыв давно назрел. Историк Генри Стил Коммаджер утверждал, что в XVIII столетии “мы изобрели практически все главные политические институты, которые у нас есть, и с тех пор не изобрели ничего. Политические партии, демократию и представительное правление. Первую в истории независимую судебную систему… Мы изобрели судебный надзор. Изобрели верховенство гражданской власти над военной. Свободу совести, свободу слова, Билль о правах – что ж, продолжать можно долго. Немалое наследие. Но что мы изобрели с тех пор сравнимого по важности?”{376}
После Второй мировой войны мир тоже переживал волну политических инноваций, направленных на предотвращение нового глобального конфликта. Это привело к созданию Организации Объединенных Наций и множества специализированных международных учреждений, таких как Всемирный банк или Международный валютный фонд, изменивших мировой административный ландшафт.
Сейчас нарастает следующая, еще более мощная волна, которая обещает изменить мир не в меньшей степени, чем изменили его технологические революции двух последних десятилетий. Это будут не реформы сверху, упорядоченные и скорые, подготовленные на переговорах и конгрессах, а широкое и неупорядоченное движение с рывками и остановками. И это неминуемо будет. Понуждаемое переменами в природе власти: ее распределении, применении и удержании, человечество должно найти новые формы самоорганизации, и оно их найдет.
Приложение Демократия и политическая власть: основные тенденции в послевоенный период
Примечание для читателей: приложение подготовлено доктором наук Марио Чаконом из Йельского университета и относится преимущественно к пятой главе.
Определение эволюции демократии и диктатуры
Сначала я рассматриваю вопрос о том, как за последние четыре десятка лет изменилось количество демократических режимов. Чтобы определить, что такое демократическое (или недемократическое) государство, я пользовался двумя классификациями, принятыми в научной литературе.
Первая классификация форм правления изложена в исследовании “Свобода в мире”, которое проводила в 2008 году организация Freedom House. Согласно этому исследованию, режимы делятся на “несвободные”, “частично свободные” и “свободные”. Каждая страна оценивается по шкале политических прав и гражданских свобод. К ним относятся свобода избирательного процесса, политический плюрализм, функционирование правительства, свобода слова и вероисповедания, свобода объединений в ассоциации и организации, правовые нормы и права личности. Для удобства анализа я называю “свободные” государства демократическими, а “частично свободные” и “несвободные” – недемократическими.
Второй источник, которым я пользовался, – классификация режимов в исследовании политолога Адама Пшеворского (опубликовано в 2000 году): в книге приводится краткое определение демократии, схожее с тем, что предложил Йозеф Шумпетер. Согласно классификации Пшеворского, демократия – это форма правления, при которой правительство выбирается путем состязательных выборов. Таким образом, в данной классификации свободная и честная конкуренция – основное свойство любого демократического режима (см. аналогичный подход в работе Даля: Dahl, 1971). С помощью этих двух классификаций я вычислил процентное соотношение демократических режимов в мире, которые в любой из рассматриваемых годов можно определить как “демократические” (в противовес “недемократическим”).
Диаграмма на рисунке А.1 демонстрирует эволюцию демократических режимов в мире начиная с 1972 года[19].
Как показано на диаграмме на рисунке А.1, процент демократий в мире за последние четыре десятка лет значительно увеличился. По данным Freedom House, в 1972 году лишь чуть более 28 % из 140 независимых государств были демократическими. Тридцать лет спустя, в 2002 году, эта цифра составляла уже 45 %. Повсеместный рост числа демократий подтверждают и данные Пшеворского. Согласно его классификации, между 1972 и 2002 годами количество демократий выросло с 27 % в 1972 году до 59 % в 2002 году. Разница между двумя показателями вполне предсказуема, учитывая, что необходимые условия, по которым государство может считаться демократическим, у Freedom House строже, чем у Пшеворского и его соавторов. Однако на основании совокупных данных мы можем сделать вывод о том, что за последние тридцать лет количество демократий в мире существенно увеличилось.
Рис. A.1. Процент демократических режимов: 1972–2008
Источник: данные исследований Freedom House.
Существуют ли региональные различия в эволюции демократических режимов? Если в разных странах встречаются разные факторы, влияющие на резкую смену формы правления, то нам необходимо проследить влияние региональных моделей на эволюцию демократических режимов. Эти региональные модели тесно связаны с понятием “волн демократизации”, о которых впервые упомянул Хантингтон (1991 год). Чтобы выяснить, так ли это, на диаграммах на рисунках А.2 и А.3 мы проследим эволюцию демократических режимов (в процентном отношении к остальным режимам) в Латинской Америке, Центральной и Западной Африке, странах бывшего социалистического блока, в Северной Африке и на Ближнем Востоке[20].
Как показано на этих двух диаграммах, многие латиноамериканские и бывшие социалистические страны в период с 1975 по 1995 год пережили переход к демократической форме правления. В Латинской Америке это происходило в основном в конце 1970-х годов, а в бывших соцстранах – в начале 1990-х (после падения Берлинской стены в 1989 году). В 2008 году организация Freedom House отнесла к демократическим 54 % и 48 % стран Латинской Америки и бывшего социалистического блока соответственно.
Рис. А.2. Региональные тенденции (Freedom House, 2010)
Источник: данные исследования Freedom House “Свобода в мире: политические права и гражданские свободы 1970–2008” (“Freedom in the World: Political Rights and Civil Liberties 19/0-2008“). New York, 2010.
Рис. А.3. Региональные тенденции в демократии (Пшеворский и др., 2000 год)
Источник: A. Przeworski, М. Alvarez, J. A. Cheibub, and F. Limongi. Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950–1990. New York. 2000
В Центральной и Западной Африке процесс демократизации также идет, хотя и медленнее, чем в Латинской Америке. В арабских странах Северной Африки и Ближнего Востока процесс демократизации практически стоит на месте: за эти годы демократическими стали менее 10 % государств этого региона. Данные Пшеворского (представленные на диаграмме на рисунке А.3) подтверждают этот вывод.
Разумеется, эти тенденции не учитывают влияние “арабской весны” на политические режимы Северной Африки и Ближнего Востока.
Страны-участницы Организации экономического сотрудничества и развития на диаграмме не указаны, поскольку за рассматриваемый период не сталкивались с резкой сменой режима. Учитывая, что все эти государства на начало рассматриваемого периода уже были демократическими, можно сказать, что для их развития характерна стабильная (консолидированная) демократия.
Незначительные реформы и либерализация
Данные предыдущего раздела относятся к радикальным политическим трансформациям, при которых политический режим становится демократическим или же перестает быть таковым. Эти цифры могут скрывать менее заметные подвижки в сторону демократизации во многих странах, в которых еще полностью не установилась демократия. Незначительные реформы могут повлечь за собой серьезные перемены в распределении политической власти и области политических прав. Например, многие недемократические режимы допускают предвыборную борьбу во время выборов в органы законодательной власти и на высшие посты власти исполнительной. Даже если большинство выборов в странах с формой правления, которую можно назвать демократической, не до конца честны, минимальная степень либерализации свидетельствует о важных переменах в распределении власти. Переход к демократии, как правило, совершается постепенно, так что предвыборная борьба может свидетельствовать о грядущей демократизации.
Для анализа незначительных реформ я обратился к данным по различным формам правления Polity Score, которые в рамках программы Polity Project собрали в 2004 году исследователи Монти Маршалл и Кит Джаггерс. Это приблизительная оценка, которая позволяет отслеживать незначительные изменения режима вне зависимости от того, приводят они к демократизации или нет. Данные Polity Score представляют собой шкалу от −20, полная автократия, до 20, полная демократия, которая оценивает различные грани демократии и автократии. Учитываются конкурентность и открытость подбора руководящих кадров, ограничения, с которыми приходится сталкиваться руководителям, и конкурентность в политической жизни. Диаграмма на рисунке А.4 представляет эволюцию форм правления в разных странах мира по данным Polity Score.
Диаграмма на рисунке А.4 полностью согласуется с диаграммой на рисунке А.1. В 1972 году в мире в среднем было −1,76 на 130 стран, в 2007-м – 3,69 на 159 стран[21]. Еще интереснее, пожалуй, было бы изучить региональные тенденции с помощью Polity Score. На диаграмме А.5 представлены те же средние данные по миру, только распределенные по регионам (обратите внимание, что в эту диаграмму также включены страны Восточной Азии и Тихоокеанского бассейна). Диаграмма А.5 аналогична диаграммам А.2 и А.3, только вместо радикальных реформ на ней показаны в среднем демократические процессы по регионам вне зависимости от того, установилась там демократия или нет.
Рис. А.4. Эволюция демократии: 1970–2008
Источник: данные приводятся по исследованию Monty Marshall, К. Jaggers, and T. R. Gurr, 2010. Polity IV Project, “Political Regime Characteristics and Transitions, 1800–2010”, .
Как показано на диаграмме А.5, положительные тенденции к демократизации определенных регионов, о которых свидетельствует Polity Score, характерны для разных стран мира. Из диаграммы также ясно, что скорость демократических перемен варьируется в зависимости от региона. В странах Латинской Америки и бывших странах советского блока наблюдаются максимальные улучшения с точки зрения демократизации. Восточная Азия, страны Тихоокеанского бассейна, Центральная и Западная Африка также демонстрируют выдающиеся результаты, а вот Северная Африка и Ближний Восток пока что не могут похвастаться значительными достижениями. Все три тенденции ярче выражены в период после 1990 года, чем до 1990 года.
Рис. А.5. Региональные тенденции в демократии: Polity Score
Источник: данные приводятся по исследованию Monty Marshall, К. Jaggers, and T. R. Gurr, 2010. Polity IV Project, “Political Regime Characteristics and Transitions, 1800–2010”, .
Показатели либерализации и демократизации
Показатели, о которых шла речь выше, основаны на качественных характеристиках рассматриваемых режимов, тогда как в этом разделе я анализирую характеристики, напрямую связанные с политической либерализацией (или демократизацией). Во-первых, я оценивал уровень политической конкуренции. Многие политологи считают уровень и вид политической конкуренции основными особенностями любого демократического режима (см. Dahl, 1971). Простой способ оценить уровень конкуренции – проанализировать партийный состав законодательных органов в каждом из режимов. В однопартийных государствах вроде Китая или Кубы правящая партия монополизирует все места в законодательных органах, а кандидатам от оппозиции запрещено принимать участие в выборах на государственном уровне. Количество мест, которые занимают партии оппозиции в органах законодательной власти, – хороший показатель того, насколько соревновательный и демократический избирательный процесс в стране. Кроме того, возникновение конкуренции между партиями за место в органах законодательной (в противовес исполнительной) власти – это, как правило, первый шаг к полномасштабной демократизации. Переход 2000 года к демократии в Мексике начался еще в 1980-х годах, когда правящая Институционнореволюционная партия (Partido Revolucionario Institutional) разрешила выборы в Конгресс и выделила оппозиционным партиям несколько мест в нижней палате парламента.
В качестве показателя конкуренции я высчитал процент мест в парламенте, которые занимают мелкие партии и независимые кандидаты, как в работе Ванханена (Vanhanen, 2002). В случае, когда сведения о партийном составе органов законодательной власти недоступны, я брал долю голосов по всем мелким партиям, как у Ванханена (Vanhanen, 2002). Формально уровень политической конкуренции (ПК) можно вычислить по следующему уравнению:
ПК = (100 − % мест основной партии) ÷ 100.
В этой схеме политическая конкуренция варьируется от 0 (когда правящая партия контролирует все места в законодательных органах) до величин, близких к единице (когда представителей главной партии мало). Таким образом, низкие или высокие показатели ПК связаны с меньшей или большей степенью конкуренции. Для простоты государства, в которых в любой из рассматриваемых годов выборы в органы законодательной власти не проводились, обозначены как 0. Обратите внимание, что данные доступны за весь послевоенный период, так что мы можем проследить тенденции как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. На диаграмме на рисунке А.6 приводятся средние показатели по миру, на диаграмме на рисунке А. 7 – по регионам.
Как можно заметить из диаграмм, в послевоенные годы и во время холодной войны политическая конкуренция в целом снизилась. Эта же тенденция характерна и для конца 1970-х годов. А вот потом, в 1980-е, все изменилось, так что мы видим рост средних показателей политической конкуренции в мире. Эта положительная тенденция подтверждается диаграммами на рисунках с А.1 по А.4 включительно. Демократизация способствовала конкуренции между партиями и политическими фракциями (выросшими из оппозиционных групп) за места в органах избирательной власти.
Рис. А.6. Политическая конкуренция, средние показатели по миру: послевоенный период
Источник: данные взяты из работы Tatu Vanhanen. 2002. “Measures of Democratization 1999–2000”. Рукопись не опубликована.
Диаграмма на рисунке А.7 еще нагляднее демонстрирует снижение уровня политической конкуренции в мире в период с 1945 по 1975 год. На диаграмме приводятся данные по тем же регионам, что и в диаграммах на рисунках А.2 и А.3: Латинская Америка, Центральная и Западная Африка, Северная Африка и Ближний Восток, а также средний показатель для стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)[22]. Из диаграммы ясно, что снижение уровня политической конкуренции в мире было спровоцировано ее резким снижением в развивающихся странах. В то время как в странах-участницах ОЭСР уровень политической конкуренции оставался стабильным, в отдельных государствах Латинской Америки и Африки между 1945 и 1975 годами установились авторитарные режимы. Однако после 1970-х годов и в этих государствах наблюдается положительная тенденция к росту политической конкуренции, вызванная демократизацией, о которой мы говорили в предыдущем разделе.
Рис. А.7. Политическая конкуренция в среднем по регионам: послевоенный период
Источник: данные взяты из исследования Monty Marshall, К. Jaggers and T. Gurr, 2010. Polity IV Project, “Political Regime Characteristics and Transitions, 1800–2010”, .
Список литературы
Dahl, Robert a. 1971. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven.
Freedom House. 2010. Freedom in the World: Political Rights and Civil Liberties 2010. New York: Freedom House.
Huntington, Samuel P. 1991. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century.
Marshall, Monty G., K. Jaggers, and T. R. Gurr. 2010.
“Political Regime Characteristics and Transitions, 1800–2010.” Polity IV Project, .
Przeworski, a., M. Alvarez, J. a. Cheibub, and F. Li-MONGI. 2000. Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950–1990. New York.
Schumpeter, Joseph. 1964. Capitalism, Socialism, andDemoc-racy. New York.
Vanhanen, Tatu. 2002. “Measures of Democratization 1999–2000.” Неопубликованная рукопись.
Благодарности
Я начал писать эту книгу вскоре после 7 июня 2006 года. В тот день я опубликовал в журнале Foreign Policy колонку под заголовком “Суперигроки против микровласти”. Основная мысль ее была такая: “Тенденция, вследствие которой игроки стремительно накапливают огромную силу, традиционным суперигрокам успешно бросают вызов новички, а власть вообще становится все эфемернее и ее все труднее использовать, пронизывает все сферы человеческой жизни. Это один из определяющих и не до конца изученных признаков нашего времени”. Публика приняла колонку хорошо, и я решил замахнуться на книгу. У меня ушло семь лет на то, чтобы претворить намерение в жизнь… Да, я медленно пишу.
Но работа над книгой длилась так долго не только поэтому. Меня все время что-то отвлекало. До 2010 года я работал главным редактором журнала Foreign Policy – ответственная должность, из-за которой книга шла медленнее, чем мне того хотелось бы. Однако благодаря должности у меня была масса возможностей проверять, развивать и оттачивать рассуждения о том, как меняется власть. Общение с авторами, которые писали в журнал, также давало отличную пищу для размышлений, служило источником вдохновения и информации. Они натолкнули меня на мысли о том, о чем без их помощи я вряд ли задумался бы, и я им за это очень благодарен.
Больше всех я обязан Сиддхартхе Миттеру: он внес огромный вклад в работу над книгой. Его поддержка, идеи и помощь в целом бесценны. Талант Сиддхартхи сравним лишь с его щедростью. Джеймс Гибни, первый редактор, с которым я сотрудничал в FP (и один из лучших редакторов, с кем мне довелось работать), помог мне разобраться в собственных мыслях и изложить их максимально понятным языком. Мне невероятно повезло, что у меня такие замечательные коллеги и друзья.
Джессика Мэтьюз, президент Фонда Карнеги за международный мир, прочитала и очень подробно прокомментировала несколько черновых вариантов рукописи. Джессика служила мне неисчерпаемым источником идей, критики и наставлений. Ее статья 1997 года “Смена власти” – основополагающий труд, который повлиял на всех, кто пишет о власти и связанных с ней переменах. Джессика дала мне время закончить книгу в Фонде Карнеги, который в начале 1990-х годов был моим основным местом работы. Я глубоко обязан ей и Фонду Карнеги за помощь.
Также хочу поблагодарить Фила Беннетта, Хосе-Мануэля Калво, Мэтта Берроуза, Ури Дадуша, Фрэнка Фукуяму, Пола Лаудичину, Соли Озела и Стивена Уолта. Они прочли рукопись целиком и дали подробные комментарии, которые пошли книге на пользу. Спасибо моему давнему другу Стробу Талботту, ныне – президенту Института Брукинга, за то, что не только нашел время прочесть несколько черновых вариантов рукописи, но и помог мне точнее сформулировать выводы об упадке власти.
Я благодарен всем, кто за все те годы, что писалась книга, уделяли мне время, делились мнением, критиковали мои идеи, а в некоторых случаях читали первые черновики отдельных глав: спасибо Морту Абрамовитцу, Жаку Аттали, Рикардо Авиле, Карло де Бенедетти, Полу Баларану, Эндрю Берту, Фернанду Энрики Кардозу, Тому Карверу, Элкину Чапарро, Лурдес Кью, Уэсли Кларку, Тому Фридману, Лу Гудману, Виктору Холберстадту, Ивану Крастеву, Стивену Каллу, Рикардо Лагосу, Себастьяну Моллаби, Луису Альберто Морено, Евгению Морозову, Дику О’Нилу, Минксину Пею, Майте Рико, Джанне Риотта, Клаусу Швабу, Хавьеру Солане, Джорджу Соросу, Ларри Саммерсу, Герверу Торресу, Мартину Вольфу, Роберту Райту, Эрнесто Седильо и Бобу Зеллику.
Отдельная благодарность профессору Марио Чакону из Нью-Йоркского университета, подготовившему приложение – подробный анализ экспериментальных данных, который показывает проявления упадка власти в политике государств по всему миру.
Проводить исследования для книги мне помогали замечательные научные сотрудники. Хочу поблагодарить Джоша Китинга, Беннетта Стэнсила и Шимелсе Али за то, что книга получилась такой убедительной.
Тем, кто полагает, будто с появлением интернета и поисковых систем библиотеки стали не нужны, просто не доводилось работать с сотрудниками библиотеки Фонда Карнеги. Кэтлин Хиггс, Кристофер Скотт и Ки Хаммонд не только помогали мне искать необходимые источники и информацию, но и неоднократно знакомили меня с материалами, о существовании которых я даже не подозревал, а в некоторых случаях и повлияли на ход моих размышлений. Спасибо вам!
Отдельная благодарность Мелиссе Бетхейл, которая была и моим референтом, и помощницей в исследованиях: она проводила их настолько вдумчиво и виртуозно, что в это зачастую было трудно поверить. Доброте и профессионализму Лары Баллу я обязан тем, что мне все-таки удалось найти время для всех своих многочисленных занятий. Пару лет назад Лара присоединилась к “Группе 50-ти” (The Group of Fifty), неправительственной организации, которой я руковожу и делами которой управляет Марина Спиндлер; если бы не Марина и Лара, эта работа отнимала бы у меня куда больше времени. Огромное спасибо моим замечательным коллегам за неоценимую помощь.
Мне невероятно повезло с агентом и редактором: со мной сотрудничают два лучших профессионала своего дела. Раф Сагалин, литературный агент, с которым я работаю вот уже много лет, деликатно, но решительно помог мне определиться с тем, какой же я все-таки хочу видеть свою книгу, а потом нашел правильного издателя и редактора. Тим Бартлетт из Basic Books, редактировавший многие выдающиеся труды о власти и ее видоизменениях, заинтересовался моей работой и уделил немало времени чтению, редактуре и комментариям к моей рукописи. Я очень благодарен и Тиму, и Рафу. Помощники Тима по Basic Books Сара Розенталь и Кейтлин Зафонте оказали мне неоценимую поддержку. Сандра Берис и Кристин Дж. Арден из редакции издательства внесли существенный вклад в работу над книгой. Мишель Джейкоб, пиар-директор издательства, и Кейтлин Граф, агент по рекламе, приложили все усилия, чтобы книга добилась успеха. Я благодарен всем сотрудникам издательства за помощь.
Также хочу поблагодарить Луиса Альберто Морено, Нельсона Ортиза, Роберто Римериса и Альберто Слезингера. Они знают, за что.
Но больше всего я благодарен моей жене Сюзане и нашим детям, Адриане, Клаудии и Андресу, к которым не так давно прибавились Джонатан и Эндрю. Их любовь и безграничная преданность придают мне силы: ради них я живу и эту книгу посвящаю им.
Мойзес Наим Вашингтон, округ Колумбия Март 2013 г.Библиография
Примечание: Книги и статьи, которые не вошли в библиографию, упомянуты в примечаниях к главам.
Adams, Henry. The Education of Henry Adams: An Autobiography. Бостон, Houghton Mifflin, 1918.
Aday, Sean, Henry Farrell, Marc Lynch, John Sides, and Deen Freelon. “New Media and Conflict After the Arab Spring.” Peaceworks, no. 80 (2012).
Allen, John L., Jr. The Future Church. New York, Doubleday, 2009.
Al-Munajjed, Mona et al. “Divorce in Gulf Cooperation Council Countries: Risks and Implications.” Strategy+Business, Booz and Co., ноябрь 2010 г.
Ansell, Christopher, and Jane Gingrich. “Trends in Decentralization.” In Bruce Cain et al., eds., Democracy Transformed? Expanding Political Opportunities in Advanced Industrial Democracies. New York, Oxford University Press, 2003.
Aristovnik, Aleksander. “Fiscal Decentralization in Eastern Europe: A Twenty-Year Perspective.” MRPA Paper 39316, University Library of Munich (2012 г.). Arquilla, John. Insurgents, Raiders and Bandits: How Masters of Irregular Warfare Have Shaped Our World. Lanham, MD: Ivan R. Dee, 2011.
Arreguin-Toft, Ivan. “How a Superpower Can End Up Losing to the Little Guys.” Nieman Watchdog, март 2007 г.
Arreguin-Toft, Ivan. “How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric Conflict.” International Security 26, no. 1 (2001).
Arsenault, Amelia H., and Manuel Castells. “The Structure and Dynamics of Global Multi-Media Business Networks.” International Journal of Communication 2 (2008).
Aykut, Dilek, and Andrea Goldstein. “Developing Country Multinationals: South-South Investment Comes of Age.” In: David O’Connor and Monica Kjöllerström, eds., Industrial Development for the 21st Century. New York, Zed Books, 2008.
Bagdikian, Ben H. The New Media Monopoly. Boston, Beacon Press, 2004.
Baier, Scott L., and Jeffrey H. Bergstrand. “The Growth of World Trade: Tariffs, Transport Costs, and Income Similarity.” Journal of International Economics 53, no. 1 (2001).
Barnett, Michael, and Raymond Duvall. “Power in International Politics.” International Organization 59 (зима 2005 г.).
Bremmer, Ian. Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-Zero World. New York, Portfolio Penguin, 2012.
Brzezinski, Zbigniew. Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power. New York, Basic Books, 2012.
Bueno de Mesquita, Bruce, Alastair Smith, Randolph M. Siverson, and James D. Morrow. The Logic of Political Survival. Cambridge, MIT Press, 2003.
Burckhardt, Jacob. The Greeks and Greek Civilization. New York, St. Martin’s Griffin, 1999.
Burr, Barry. “Rise in CEO Turnover.” Pensions and Investments, 15 октября 2007 г. Burt, Andrew. “America’s Waning Military Edge.” Yale Journal of International Affairs, март 2012 г.
Carey, John M., and John Polga-Hecimovich. “Primary Elections and Candidate Strength in Latin America.” The Journal of Politics 68, no. 3 (2006).
Chandler, Alfred P Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism. Cambridge, Harvard University Press, 1990.
Chandler, Alfred P. The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business. Cambridge, Harvard University Press, 1977.
Chesbrough, Henry W. “The Era of Open Innovation.” MIT Sloan Management Review, апрель 2003 г.
Christensen, Clayton. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Cambridge, Harvard Business Review Press, 1997.
Chua, Amy. World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability. New York, Anchor, 2004.
Churchill, Winston. The Second World War. London, Mariner Books, 1948. Coase, Ronald H. “The Nature of the Firm.” Economica 4, no. 16 (1937 г.).
Comin, Diego, and Thomas Philippon. “The Rise in Firm-Level Volatility: Causes and Consequences.” NBER Macroeconomics Annual 20 (2005).
Cronin, Patrick M. Global Strategic Assessment 2009: America’s Security Role in a Changing World. Published for the Institute for National Strategic Studies by the National Defense University Press, 2009.
Dadush, Uri. Juggernaut. Washington, DC, Carnegie Endowment, 2011.
Dahl, Robert A. “The Concept of Power.” Behaviorial Science 2, no. 3 (1957 г.).
Dalton, Russell, and Mark Gray. “Expanding the Electoral Marketplace.” In: Bruce Cain et al., eds., Democracy Transformed? Expanding Political Opportunities in Advanced Industrial Democracies. New York, Oxford University Press, 2003.
Damgaard, Erik. “Cabinet Termination.” In: Kaare Strom, Wolfgang C. Muller, and Torbjorn Bergman, eds., Cabinets and Coalition Bargaining: The Democratic Life Cycle in Western Europe. New York, Oxford University Press, 2010.
De Lorenzo, Mauro, and Apoorva Shah. “Entrepreneurial Philanthropy in the Developing World.” American Enterprise Institute (2007).
Demsetz, Harold. “Barriers to Entry.” UCLA Department of Economics Discussion, Paper no. 192, январь 1981 г.
Desai, Raj M., and Homi Kharas. “Do Philanthropic Citizens Behave Like Governments? Internet-Based Platforms and the Diffusion of International Private Aid.” Washington, DC, Wolfensohn Center for Development Working Papers, октябрь 2009 г.
Dhar, Sujoy. “More Indian Women Postponing Motherhood.” InterPress Service, 28 мая 2012 г.
Diamond, Larry. “Can the Whole World Become Democratic? Democracy, Development and International Politics.” UC Irvine: Center for the Study of Democracy, апрель 2003 г.
Diamond, Larry, and Marc F. Plattner. Liberation Technology: Social Media and the Struggle for Democracy. Балтимор, Johns Hopkins University Press, 2012.
Domhoff, G. William. Who Rules America? Challenges to Corporate and Class Dominance. New York, McGraw-Hill, 2009.
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Monograph Series on Managing Globalization: Regional Shipping and Port Development Strategies (Container Traffic Forecast), 2011.
Eisenman, Joshua, and Joshua Kurlantzick. “China’s Africa Strategy.” Current History, май 2006 г.
Ferguson, Niall. Colossus. New York, Penguin Books, 2004.
Ferris, James M., and Hilary J. Harmssen. “California Foundations: 1999–2009 – Growth Amid Adversity.” The Center on Philanthropy and Public Policy, University of Southern California (2012).
Freedom House. Freedom in the World: Political Rights and Civil Liberties 1970–2008. New York, Freedom House, 2010.
Frey, William H. Diversity Explosion: How New Racial Demographics Are Remaking America. Washington, DC, Brookings Institution Press, 2013.
Friedman, Thomas. The Lexus and the Olive Tree. New York, Anchor Books, 2000.
Friedman, Thomas. The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century. New York, Farrar, Straus & Giroux, 2005 г.
Frydman, Carola, and Raven E. Sacks. “Executive Compensation: A New View from a Long-Term Perspective, 19362005,” FEDS Working Paper no. 2007-35, июль 2007 г.
Galbreath, Jeremy. “Twenty-First Century Management Rules: The Management of Relationships as Intangible Assets.” Management Decision 40, no. 2 (2002 г.). Gammeltoft, Peter. “Emerging Multinationals: Outward FDI from the BRICS Countries.” International Journal of Technology and Globalization 4, no. 1 (2008).
Ghemawat, Pankaj. World 3.0: Global Prosperity and How to Achieve It. Boston, Harvard Business Review Press, 2011.
Gibler, Douglas M. International Military Alliances from 1648 to 2008. Washington, DC, Congressional Quarterly Press, 2010.
Gitlin, Todd. Occupy Nation: The Roots, the Spirit, and the Promise of Occupy Wall Street. New York, HarperCollins, 2012.
Golder, Matt. “Democratic Electoral Systems Around the World.” Electoral Studies (2004).
Goldstein, Joshua, and Juliana Rotich. “Digitally Networked Technology in Kenya’s 2007–2008 Post-Election Crisis.” Berkman Center Research Publication, сентябрь 2008.
“Growth in United Nations Membership, 1945 – Present,” .
Habbel, Rolf, Paul Kocourek, and Chuck Lu-cier. “CEO Succession 2005: The Crest of the Wave.” Strategy + Business, Booz and Co., май 2006 г.
Hecker, Marc, and Thomas Rid. “Jihadistes de tous les pays, dispersez-vous.” Politique international 123 (2009).
Hecker, Marc, and Thomas Rid. War 2.0: Irregular Warfare in the Information Age. New York, Praeger Security International, 1999.
Hirschman, Albert о. “The Paternity of an Index.” American Economic Review 54, no. 5 (1964).
Hobbes, Thomas. Leviathan. London, Penguin, 1988.
Hooper, David, and Kenneth Whyld. Oxford Companion to Chess. New York и Oxford, Oxford University Press, 1992.
Horta, Loro. “China in Africa: Soft Power, Hard Results.” Yale Global Online, 13 ноября 2009 г.
Howe, Irving. “This Age of Conformity.” Partisan Review 21, no. 1 (1954). Huntington, Samuel. Political Order in Changing Societies. New Haven, Yale University Press, 1968.
Inglehart, Ronald, and Christian Welzel. Modernization, Cultural Change and Democracy. New York and Cambridge: Cambridge University Press, 2005 г.
Interbrand. “Best Global Brands 2011.” Brand Papers, 2011 г.
Interbrand. “Brand Valuation: The Financial Value of Brands.” Brand Papers, 2011 г. Jarvis, Michael, and Jeremy M. Goldberg. “Business and Philanthropy: The Blurring of Boundaries.” Business and Development, Discussion Paper no. 9 (2008).
Johnson, David E., et al., “Preparing and Training for the Full Spectrum of Military Challenges: Insights from the Experience of China, France, the United Kingdom, India and Israel.” National Defense Research Institute (2009).
Johnson, Simon, and James Kwak. 13 Bankers: The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown. New York, Pantheon, 2010.
Kaplan, Robert. The World America Made. New York, Knopf, 2012.
Kaplan, Robert D. Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power. New York, Random House, 2011.
Kaplan, Robert D. The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post – Cold War. New York, Vintage, 2001.
Kaplan, Steven N., and Bernadette a. Minton. “How Has CEO Turnover Changed? Increasingly Performance Sensitive Boards and Increasingly Uneasy CEOS.” NBER Working Paper 12465, август 2006 г.
Karlsson, Per-Ola, and Gary L. Neilson. “CEO Succession 2011: The New CEO’s First Year.” Strategy+Business, Booz and Co., лето 2012 г.
Kaza, Greg. “The Economics of Political Competition.” NRO Financial, 17 декабря 2004 г.
Kenig, Ofer. “The Democratization of Party Leaders’ Selection Methods: Canada in Comparative Perspective.” Canadian Political Science Association conference paper, май 2009 г.
Kharas, Homi. “Development Assistance in the 21st Century.” Contribution to the VIII Salamanca Forum: The Fight Against Hunger and Poverty, 2–4 июля 2009 г.
Kharas, Homi. “Trends and Issues in Development Aid.” Washington, DC, Brookings Institution, ноябрь 2007 г.
Kindleberger, Charles P The World in Depression, 19291939. Berkley, University of California Press, 1973.
Koeppel, Dan. Banana: The Fate of the Fruit That Changed the World. New York, Plume Publishing, 2008.
Korbel, Josef. “The Decline of Democracy.” Worldview, апрель 1962 г.
Kupchan, Charles a. No One’s World: The West, the Rising Rest, and the Coming Global Turn. New York, Oxford University Press, 2012.
Kurlantzick, Joshua. “China’s Charm: Implications of Chinese Soft Power.” Carnegie Endowment for International Peace Policy Brief 47, июнь 2006 г.
Kurlantzick, Joshua. “Chinese Soft Power in Southeast Asia.” The Globalist, июль 2007 г.
LaFeber, Walter. The Cambridge History of American Foreign Relations, Vol. 2: The American Search for Opportunity, 1865–1913. Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
Larkin, Philip. “Annus Mirabilis.” Collected Poems. New York, Farrar, Straus & Giroux, 1988.
Leebaert, Derek. The Fifty-Year Wound: The True Price of America’s Cold War Victory. Бостон, Little, Brown and Company, 2002.
Lewis, Myrddin John, Roger Lloyd-Jones, Josephine Maltby, and Mark Matthews. Personal Capitalism and Corporate Governance: British Manufacturing in the First Half of the Twentieth Century. Surrey, Ashgate Farnham, 2011.
Lind, William S., Keith Nightengale, John F. Schmitt, Joseph W. Sutton, and Gary I. Wilson. “The Changing Face of War: Into the Fourth Generation.” Marine Corps Gazette (1989).
Lynn, Barry. Cornered: The New Monopoly Capitalism and the Economics of Destruction. New York, Wiley, 2010.
Lynn, Barry, and Phillip Longman. “Who Broke America’s Jobs Machine?” Washington Monthly, март-апрель 2010 г.
Machiavelli, Niccolo. The Prince. New York, Bantam Books, 1984.
MacMillan, Ian. Strategy Formulation: Political Concepts. Сент-Пол, штат Миннесота, West Publishing, 1978.
Mallaby, Sebastian. More Money Than God. New York, Penguin, 2010.
Mann, Thomas, and Norman Ornstein. It’s Even Worse Than It Looks: How The American Constitutional System Collided with the New Politics of Extremism. New York, Basic Books, 2012.
Marshall, Monty G., Keith Jaggers, and Ted Robert Gurr. “Political Regime Characteristics and Transitions, 1800–2010” (2010), Polity IV Project, .
Marx, Karl, and Friedrich Engels. The Communist Manifesto. New York, Verso, reprint edition 1998.
Mathews, Jessica. “Saving America.” Thomas Jefferson Foundation Medal Lecture in Citizen Leadership, University of Virginia, 13 апреля 2012 г.
McLean, Iain, and Alistair McMillan. The Concise Oxford Dictionary of Politics. Oxford, Oxford University Press, 2009 г.
McNeill, William H. The Pursuit of Power. Чикаго, University of Chicago Press, 1982.
Micklethwait, John, and Adrian Wooldridge. The Company: A Short History of a Revolutionary Idea. New York, Random House, 2003.
Mills, C. Wright. The Power Elite. Oxford и New York, Oxford University Press, 2000.
Mills, с. Wright. White Collar: The American Middle Classes. New York, Oxford University Press, 2002.
Mommsen, Wolfgang. “Max Weber in America.” American Scholar, 22 июня 2000 г. Morozov, Evgeny. The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom. New York, PublicAffairs, 2011.
Moyers, Bill. A World of Ideas: Conversations with Thoughtful Men and Women About American Life Today and the Ideas Shaping Our Future. New York, Doubleday, 1989.
Moyo, Dambisa. Dead Aid: Why Aid Is Not Working and How There Is a Better Way for Africa. New York, Farrar, Straus & Giroux, 2009.
Murphy, Cullen. Are We Rome? The Fall of an Empire and the Fate of America. Бостон, Mariner Books, 2007.
Nadeem, Shehzad. Dead Ringers: How Outsourcing Is Changing the Way Indians Understand Themselves. Princeton, Princeton University Press, 2011.
Naim, MOISЁS. Illicit: How Smugglers, Traffickers and Copycats Are Hijacking the Global Economy. New York, Doubleday, 2005.
Narud, Hanne Marthe, and Henry Valen. “Coalition Membership and Electoral Performance.” In: Kaare Strom, Wolfgang C. Muller, and Torbjorn Bergman, eds., Cabinets and Coalition Bargaining: The Democratic Life Cycle in Western Europe. New York, Oxford University Press, 2010.
National Intelligence Council, Office of the Director of Central Intelligence, Global Trends 2030: Alternative Worlds. Washington, DC (2012).
Nietzsche, Friedrich. Thus Spake Zarathustra. Минеола, Dover Publications, 1999.
Norris, Pippa, ed. Critical Citizens: Global Support for Democratic Government. Oxford, Oxford University Press, 1999.
Nye, Joseph S., Jr. Bound To Lead: The Changing Nature of American Power. New York, Basic Books, 1991.
Nye, Joseph S., Jr. The Future of Power. New York, Public Affairs, 2011.
Nye, Joseph S., Jr. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York, Public Affairs, 2005.
Olson, Mancur. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge, Harvard University Press, 1971.
Pape, Robert A. “Soft Balancing Against the United States.” International Security 30, no. 1 (2005).
Patrick, Stewart. “Multilateralism and Its Discontents: The Causes and Consequences of U. S. Ambivalence.” In: Stewart Patrick and Shepard Forman, eds., Multilateralism and U. S. Foreign Policy. Boulder, CO: Lynne Reiner, 2001.
Pew Research Center. “State of the News Media 2012.” 19 марта 2012 г.
Pharr, Susan, and Robert Putnam. Disaffected Democracies: What’s Troubling the Trilateral Countries. Princeton, Princeton University Press, 2000.
Quinn, James Brian. “Outsourcing Innovation: The New Engine of Growth.” MIT Sloan Management Review, 15 июля 2000 г.
Reynolds, Glenn. An Army of Davids: How Markets and Technology Empower Ordinary People to Beat Big Media, Big Government, and Other Goliaths. New York, Thomas Nelson, 2006.
Rid, Thomas. “Cracks in the Jihad.” The Wilson Quarterly, зима 2010 г.
Riesman, David, Nathan Glazer, and Reuel Denney. The Lonely Crowd: A Study of the Changing American Character. New Haven, Yale University Press, 1950 г.
Robson, Gary. Chess Child: The Story of Ray Robson, America’s Youngest Grandmaster. Nipa Hut Press, 2010.
Runyon, Damon. On Broadway. New York, Picador, 1975.
Saez, Emmanuel. “Striking It Richer: The Evolution of Top Incomes in the United States.” Berkley, University of California Press, март 2012 г.
Sala-i-Martin, Xavier, and Maxim Pinkovskiy. “African Poverty Is Falling… Much Faster Than You Think!” NBER Working Paper no. 15775, февраль 2010 г.
Saxenian, AnnaLee. “The Age of the Agile.” In: S. Passow and M. Runnbeck, eds., What’s Next? Strategic Views on Foreign Direct Investment. ISA and UNCTAD, 2005.
Saxenian, AnnaLee. The New Argonauts: Regional Advantage in a Global Economy. Cambridge, Harvard University Press, 2006.
Saxenian, AnnaLee. “The International Mobility of Entrepreneurs and Regional Upgrading in India and China.” In: Andres Solimano, ed., The International Mobility of Talent: Types, Causes, and Development Impact. Oxford, Oxford University Press, 2008.
Saxenian, AnnaLee. “Venture Capital in the «Periphery»: The New Argonauts, Global Search and Local Institution Building.” Economic Geography 84, no. 4 (2008).
Scaff, Lawrence a. Max Weber in America. Princeton, Princeton University Press, 2011.
Schumpeter, J. a. Essays: On Entrepreneurs, Innovations, Business Cycles, and the Evolution of Capitalism. London, Transaction Books, 1949.
Shirky, Clay. Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organization. New York, Penguin Books, 2009.
Singer, P W. Wired for War: The Robotics Revolution and Conflict in the Twenty-First Century. London и New York, Penguin, 2011.
Sloan, Alfred. My Years with General Motors. New York, Doubleday, 1963. Stanko, Michael, et al. “Outsourcing Innovation.” MIT Sloan Management Review, 30 ноября 2009 г.
Stein, Ernesto. “Fiscal Decentralization and Government Size in Latin America.” Inter-American Development Bank, январь 1998 г.
Sullivan, Richard. “Organizing Workers in the Space Between Unions.” American Sociological Association, 17 января 2008 г.
Sutherland, Benjamin, ed. Modern Warfare, Intelligence and Deterrence. London, Profile Books, 2011.
Tharoor, Sashi. “Indian Strategic Power: «Soft.»” Global Brief, 13 мая 2009 г.
Tharoor, Sashi. “India’s Bollywood Power.” Project Syndicate, 16 января 2008 г.
Thom, Randall, and Toni Greif. “Intangible Assets in the Valuation Process: A Small Business Acquisition Study.” Journal of Academy of Business and Economics, 1 апреля 2008 г.
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). World Investment Report 2012.
United Nations Secretary General. Small Arms Report, 2011. United States Department of Defense. Fiscal Year 2012 Budget Request, февраль 2012 г.
United States Department of State. Treaties in Force: A List of Treaties and Other International Agreements of the United States in Force, 1 января 2012 г.
Waltz, Julie, and Vijaya Ramachandran. “Brave New World: A Literature Review of Emerging Donors and the Changing Nature of Foreign Assistance.” Center for Global Development, Working Paper No. 273, ноябрь 2011 г.
Weber, Marianne. Max Weber: A Biography. New York, Transaction Books, 1988. Tharoor, Sashi. Essays in Sociology, 5th ed. Routledge, 1970. Tharoor, Sashi. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkley, University of California Press, 1978.
Weber, Max. The Vocation Lectures: Science as a Vocation, Politics as a Vocation. Hackett Publishing Company, 2004. Williamson, Oliver. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. New York, The Free Press, 1975. Wohlforth, William C. “The Stability of a Unipolar World.” International Security 24, no. 1 (1999).
World Bank. “Aid Architecture: An Overview of the Main Trends in Official Development Assistance Flows.” International Development Association, Resource Mobilization, февраль 2007 г.
World Bank. “Doing Business,” 2011.
World Bank. “South-South FDI and Political Risk Insurance: Challenges and Opportunities.” MIGA Perspectives, январь 2008 г.
World Bank. “World Development Indicators Database,” 2011 г.
World Bank. “World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography” (2009 г.).
“World Championship” Oxford Companion to Chess. New York и Oxford, Oxford University Press, 1992 г.
Yang, Dean. “Migrant Remittances.” Journal of Economic Perspectives 25, no. 3 (лето 2011 г.).
Zakaria, Fareed. The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad. New York, W. W. Norton, 2003 г.
Zakaria, Fareed. The Post-American World: Release 2.0. New York, W. W. Norton, 2012 г.
Zedong, Mao. “The Relation of Guerrilla Hostilities to Regular Operations.” On Guerrilla Warfare. Шампейн, First Illinois Paperback, 2000 г.
Zimmerling, Ruth. Influence and Power: Variations on a Messy Theme. New York, Springer Verlag, 2005 г.
Zuil, Lilla. “AIG’s Title as World’s Largest Insurer Gone Forever.” Insurance Journal, 29 апреля 2009 г.
Zunz, Olivier. Philanthropy in America: A History. Princeton, Princeton University Press, 2012 г.
Сноски
1
Карл Филипп Готтлиб фон Клаузевиц (1780–1831) – прусский офицер. Книга Клаузевица “О войне” произвела переворот в теории и основах военной науки.
(обратно)2
Пер. с итальянского Г. Муравьевой.
(обратно)3
Пер. с английского С. В. Автократова.
(обратно)4
Пер. с немецкого В. В. Рынкевича.
(обратно)5
Пер. с английского С. В. Автократова.
(обратно)6
Перевод с английского М. Шерешевской.
(обратно)7
Уильям Джеймс (1842–1910) – американский философ и психолог, один из основателей прагматизма и функционализма.
(обратно)8
Перевод с английского М. Карп.
(обратно)9
Клэй Ширки (род. 1964) – американский писатель, преподаватель, исследователь воздействия интернета на общество.
(обратно)10
Евгений Морозов (род. 1984) – белорусско-американский журналист, писатель, исследователь, изучающий воздействие технологий на политическую и общественную жизнь.
(обратно)11
Малкольм Гладуэлл (род. 1963) – канадский журналист, социолог.
(обратно)12
Движение чаепития – консервативно-либертарианское политическое движение в США, возникшее в 2009 году как серия протестов на местном и федеральном уровне.
(обратно)13
ФАРК, “Революционные вооруженные силы Колумбии”, “Армия народа” – леворадикальная повстанческая группировка в Колумбии. США и Евросоюз внесли ее в список террористических организаций.
(обратно)14
Джузгорай, Афганистан, октябрь 2011 года: солдат американской морской пехоты во время патрулирования нашел самодельное взрывное устройство, зарытое неподалеку от хребта, название которого можно перевести как “Уродливый холм”. Стараясь обезвредить это устройство, он заметил другое СВУ, а пока доставал его, наступил на третье, которое взорвалось и раздробило ему правую ногу: так пехотинец стал одним из 240 американских военнослужащих.
(обратно)15
“Большая игра” (Great Game) – термин, введенный британским разведчиком Артуром Коннолли (1807–1842) и часто используемый политологами, означающий соперничество мировых держав за мировое или региональное лидерство.
(обратно)16
Цивилизаторская миссия (фр.).
(обратно)17
Членство России в G8 было приостановлено в 2014 г.
(обратно)18
Клятва дарения – филантропическая кампания, начатая в 2010 году американскими миллиардерами Уорреном Баффеттом и Биллом Гейтсом. Даритель волен сам выбирать страны и программы, которые он хочет поддержать.
(обратно)19
1972 год принят за начало отсчета в силу доступности данных. Исследование Freedom House охватывает период с 1972 по 2008 год.
(обратно)20
Региональная классификация Всемирного банка.
(обратно)21
Polity Project не учитывает страны с населением менее 100 тысяч человек.
(обратно)22
В интересах анализа я учитывал только те страны, которые изначально были в составе ОЭСР. К этой группе не относятся Мексика, Чили, Турция, Корея, Чехия и Польша.
(обратно) (обратно)Комментарии
1
Dylan Loeb McClain. “Masters of the Game and Leaders by Example”, New York Times, 12 ноября 2011 г.
(обратно)2
“Звание гроссмейстера вошло в обиход в 1838 году, но широкое распространение обрело только в начале XX века, когда проводились специальные гроссмейстерские турниры (как, например, в 1907 году в Остенде, а в 1912-м – в Сан-Себастьяне). Международная шахматная федерация (Federation Internationale des Echecs, сокращенно ФИДЕ) официально учредила звание «международного гроссмейстера» в 1950 году. За историю шахмат значение этого термина менялось. Если в начале XX столетия под гроссмейстером понимали игрока, который «может претендовать на участие в чемпионате мира», то восемьдесят лет спустя – того, у кого есть шансы выиграть у чемпиона мира” (“World Championship”, Oxford Companion to Chess, с. 450; Hooper and Whyld. Oxford Companion to Chess, с. 156).
(обратно)3
Robson. Chess Child: The Story of Ray Robson, America’s Youngest Grandmaster.
(обратно)4
Джеймс Блэк. Цитата из статьи: Michael Preston, “12-Year-Old Brooklyn Chess Champ Eyes Bold Move: Becoming Youngest Grandmaster Ever”, Daily News, 2 июня 2011 г.
(обратно)5
D. T Max. “The Prince’s Gambit”, The New Yorker, 21 марта 2011 г., .
(обратно)6
Там же, Mig Greengard.
(обратно)7
Edward Tenner. “Rook Dreams”, The Atlantic, декабрь 2008 г.
(обратно)8
Max. “The Prince’s Gambit”.
(обратно)9
Ivan Arreguin-Toft. “How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric Conflict”, International Security 26, № 1 (2001): 93-128; Ivan Arreguin-Toft. “How a Superpower Can End Up Losing to the Little Guys”, Nieman Watchdog, 23 марта 2007 г., . По поводу воздействия СВУ см. Tom Vander Brook. “IED Attacks in Afghanistan Set Record”, USA Today, 25 января 2012 г.
(обратно)10
Martin Wolf. “Egypt Has History on its Side”, Financial Times, 15 февраля 2011 г. Обновленные данные на 2011 год взяты из Global Report 2011 научно-исследовательского проекта Polity IV Project. Отчет был подготовлен в университете Джорджа Мейсона (первоисточник Вольфа).
(обратно)11
Emmanuel Saez. “Striking It Richer: The Evolution of Top Incomes in the United States (Updated with 2009 and 2010 Estimates)”, 2 марта 2012 г., /~saez/saez-UStopincomes-2010.pdf
(обратно)12
Robert Frank. “The Wild Ride of the 1 %”, Wall Street Journal, 22 октября 2011 г.
(обратно)13
Источники приводимых здесь фактов и данных статистики по сменяемости руководства и переходам компаний из рук в руки указаны в примечаниях к главе 8.
(обратно)14
Веб-адрес ArcelorMittal – .
(обратно)15
См. мою работу Illicit: How Smugglers, Traffickers and Copycats are Hijacking the Global Economy.
(обратно)16
Todd Gitlin. Occupy Nation: The Roots, the Spirit, and the Promise of Occupy Wall Street. (Нью-Йорк, 2012 г.)
(обратно)17
Joseph Marks. “TechRoundUp”, Government Executive, ноябрь 2011 г., с. 43.
(обратно)18
Aday и др. New Media and Conflict After the Arab Spring, с. 21.
(обратно)19
Machiavelli. The Prince, гл. 3, .
(обратно)20
Hobbes. Leviathan, гл. 11, .
(обратно)21
Nietzsche. Thus Spake Zarathustra, гл. 34, -Spake-Zarathustra/36-1; также см. Meacham. “The Story of Power”, Newsweek, 20 декабря 2008 г.
(обратно)22
Dahl. The Concept of Power; также см. Zimmerling. The Concept of Power, гл. 1. Другое, более традиционное определение, было предложено в 2005 году двумя ведущими учеными, Майклом Барнеттом и Реймондом Дюваллом: “Власть – это продукт социальных отношений, действий, которые формируют способность субъектов определять собственное положение и будущее”. На основе этого определения они предлагают классификацию типов власти: принудительная, институциональная, структурная и производительная. См. Barnett and Duvall. Power in International Politics.
(обратно)23
Hobbes. Leviathan, гл. 13, .
(обратно)24
Подробнее см. MacMillan. Strategy Formulation: Political Concepts, в особенности главу 2.
(обратно)25
Два других канала власти, принуждение и вознаграждение, меняют саму ситуацию.
(обратно)26
Попытки найти точное определение барьеров входа на рынок породили серьезные споры среди экономистов. Одна теория определяет барьеры как факторы, позволяющие представленным на рынке компаниям контролировать цены, которые оказываются выше, нежели в условиях свободной конкуренции, так что новые компании не стремятся выйти на рынок. Другая теория называет барьерами входа любые расходы, которые приходится нести каждому новому игроку, прежде чем выйти на рынок, в то время как компании, уже существующие на рынке, с такими расходами не сталкиваются. Иными словами, разница между гарантированным ценовым преимуществом для фирм, которые уже работают на рынке, и дополнительными затратами, такими как плата за вход, для их потенциальных соперников. У других экономистов встречаются и более сложные определения, однако главное в этих спорах – представление о том, что барьеры на вход необходимы для понимания динамики рынка и использования власти на рынке для обеспечения максимальной прибыли в долгосрочной перспективе (подробнее о различных теориях см. Demsetz. Barriers to Entry).
(обратно)27
О барьерах входа в политике см. Kaza. The Economics of Political Competition.
(обратно)28
LaFeber. The Cambridge History of American Foreign Relations, том 2: The American Search for Opportunity, 1865–1913, с. 186.
(обратно)29
Adams. The Education of Henry Adams: An Autobiography, с. 500.
(обратно)30
Chanler. The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business. Также см. Chandler. Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism.
(обратно)31
Lewis и др. Personal Capitalism and Corporate Governance: British Manufacturing in the First Half of the Twentieth Century. См. также Micklethwait and Wooldridge. The Company: A Short History of a Revolutionary Idea.
(обратно)32
Alan Wolfe. “The Visitor”, The New Republic, 21 апреля 2011 г.
(обратно)33
См. статью “Max Weber” в Concise Oxford Dictionary of Politics, с. 558.
(обратно)34
См. статью “Max Weber” в Encyclopaedia Britannica, том 12, с. 546.
(обратно)35
Wolfgang Mommsen. “Max Weber in America”, American Scholar, 22 июня 2000 г.
(обратно)36
Marianne Weber. Max Weber: A Biography (1988 г.).
(обратно)37
Scaff. Max Weber in America, с. 41–42.
(обратно)38
Mommsen. Max Weber in America.
(обратно)39
Weber. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology.
(обратно)40
Scaff. Max Weber in America, с. 45.
(обратно)41
Scaff. Max Weber in America, с. 45.
(обратно)42
Weber. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, c. 973.
(обратно)43
Weber. “Unequalled Models”, Essays on Sociology, с. 215.
(обратно)44
Weber. “Politics as a Vocation”, Economy and Society, с. 223.
(обратно)45
McNeill. The Pursuit of Power, с. 317.
(обратно)46
Информация в этом разделе позаимствована из книги Zunz. Philantropy in America: A History.
(обратно)47
Coase. The Nature of the Firm. Мотивы, побудившие Коуза написать эту книгу, он изложил в своей нобелевской речи, которая доступна в интернете: -ates/1991/coase-lecture.html.
(обратно)48
Более современная трактовка теории трансакционных издержек была предложена учеником Коуза Оливером Уильямсоном в его основополагающем труде Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. В 2009 году Уильямсон получил Нобелевскую премию по экономике.
(обратно)49
Leebaert. The Fifty-Year Wound: The True Price of America’s Cold War Victory, с. XIII.
(обратно)50
Sloan. My Years with General Motors.
(обратно)51
Howe. This Age of Conformity; Riesman, Glazer и Denney. The Lonely Crowd: A Study of the Changing American Character.
(обратно)52
К. Маркс, Ф. Энгельс. “Манифест коммунистической партии”.
(обратно)53
Mills. White Collar: The American Middle Classes.
(обратно)54
Mills. The Power Elite.
(обратно)55
Речь Эйзенхауэра доступна в интернете: -net.org/~hst306/documents/mdust.html.
(обратно)56
Domhoff. Who Rules America? Challenges to Corporate and Class Dominance.
(обратно)57
Christopher Lasch. “The Revolt of the Elites: Have They Cancelled Their Allegiance to America?”, Harper's, ноябрь 1994 г.
(обратно)58
Выступление Кляйн доступно в интернете: #fullprogram.
(обратно)59
Simon Johnson. “The Quiet Coup”, Atlantic, май 2009 г., -quiet-coup/7364/. Также см. Johnson and Kwak, “13 Bankers”.
(обратно)60
Интервью Хавьера Соланы, Вашингтон, округ Колумбия, май 2012 г.
(обратно)61
Larkin. Collected Poems.
(обратно)62
William Odom. “NATO’s Expansion: Why the Critics Are Wrong”, National Interest, весна 1995 г., с. 44.
(обратно)63
Charles Kenny. “Best. Decade. Ever”. Foreign Policy, сентябрь-октябрь 2010 г., .
(обратно)64
Xavier Sala-i-Martin and Maxim Pinkovskiy. “African Poverty Is Falling… Much Faster Than You Think!”, Рабочий доклад Национального бюро экономических исследований (NBER) № 15775, февраль 2010 г.
(обратно)65
Интервью Хоми Караса, Вашингтон, округ Колумбия, февраль 2012 г.
(обратно)66
Результаты этого исследования ОЭСР и прочих отчетов по данному вопросу можно найти на .
(обратно)67
Brzezinski. Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power.
(обратно)68
Jason DeParle. “Global Migration: A World Ever More on the Move”. New York Times, 26 июня 2010 г.
(обратно)69
Jorge G. Castaneda and Douglas S. Massey. “Do-It-Yourself Immigration Reform”, New York Times, 1 июня 2012 г.
(обратно)70
Данные по переводам взяты из базы данных по показателям развития Всемирного банка (сведения за 2011 г.).
(обратно)71
Dean Yang. “Migrant Remittances”, Journal of Economic Perspectives 25, № 3 (лето 2011 г.), п. 129–152 на с. 130.
(обратно)72
Richard Dobbs. “Megacities”, Foreign Policy, сентябрь-октябрь 2010 г., .
(обратно)73
Национальный совет по разведке, Управление директора национальной разведки, Global Trends 2030: Alternative Worlds (2012).
(обратно)74
Saxenian. The New Argonauts: Regional Advantage in a Global Economy.
(обратно)75
Данные по туристам взяты из базы данных по показателям развития Всемирного банка (сведения за 2011 г.).
(обратно)76
Всемирный банк, “Отчет о мировом развитии 2009: новые формы экономической географии” (2009).
(обратно)77
Данные по зарубежным переводам взяты из статистического отчета Банка международных расчетов за 2011 г., .
(обратно)78
“Somali Mobile Phone Firms Thrive Despite Chaos”, Reuters, 3 ноября 2009 г.
(обратно)79
Данные взяты из базы данных Всемирного банка по показателям развития (за разные годы) и базы данных по показателям Международного союза электросвязи.
(обратно)80
Данные взяты из базы данных Всемирного банка по показателям развития (за разные годы) и базы данных по показателям Международного союза электросвязи.
(обратно)81
Данные взяты из базы данных Всемирного банка по показателям развития (за разные годы) и базы данных по показателям Международного союза электросвязи.
(обратно)82
Данные предоставлены Facebook, Twitter и Skype.
(обратно)83
Long Distance Post. “The History of Prepaid Phone Cards”, -articles/.
(обратно)84
Ericsson (телекоммуникационная компания), Traffic and Market Report, июнь 2012 г.
(обратно)85
Huntington. Political Order in Changing Societies.
(обратно)86
Al-Munajjed et al. Divorce in Gulf Cooperation Council Countries: Risks and Implications 2010.
(обратно)87
Национальный совет по разведке, Управление директора национальной разведки, “Global Trends 2030: Alternative Worlds” (Вашингтон, округ Колумбия, 2012 г.), с. 12.
(обратно)88
Frey. Diversity Explosion: How New Racial Demographics Are Remaking America.
(обратно)89
William Frey. “A Boomlet of Change”, Washington Post, 10 июня 2012 г.
(обратно)90
Inglehart and Welzel. Modernization, Cultural Change and Democracy.
(обратно)91
Pharr and Putnam. Disaffected Democracies: What’s Troubling the Trilateral Countries. Обсуждение этого вопроса применительно к США см. в книге Mann and Ornstein. It’s Even Worse Than It Looks: How the American Constitutional System Collided with the New Politics of Extremism.
(обратно)92
Mathews. Saving America.
(обратно)93
Данные исследований Института Гэллапа по вопросам общественного доверия шестнадцати институтам между 1936 и 2012 г. см. -Institutions.aspx?utm_source=email-a-friend&utm_medium=email&utm_campaign=sharing&utm_content=morelink. Данные исследований Института Гэллапа по профсоюзам см. -Unions.aspx?utm_source=email-a-friend&utm_medium=email&utm_campaign=sharing&utm_content=morelink. Данные исследований Института Гэллапа о Конгрессе см. -Public.aspx?utm_source=email-a-friend&utm_medium=email&utm_campaign=sharing&utm_content=morelink. Данные исследований Института Гэллапа о правительстве см. -a-friend&utm_medium=email&utm_campaign=sharing&utm_content=morelink.
(обратно)94
“Americans’ Approval of the Supreme Court is Down in a New Poll”, New York Times, 8 июня 2012 г.
(обратно)95
См. /.
(обратно)96
Norris. Critical Citizens: Global Support for Democratic Government.
(обратно)97
“European Commission”, Eurobarometer, .
(обратно)98
Shelley Singh. “India Accounts for 51 % of Global IT-BPO Outsourcing: Survey”, Times of India, 28 апреля 2012 г., -accounts-for-51-of-global-IT-BPO-outsourcing-Survey/articleshow/12909972.cms.
(обратно)99
Nadeem. Dead Ringers: How Outsourcing Is Changing the Way Indians Understand Themselves.
(обратно)100
Dhar. More Indian Women Postponing Motherhood.
(обратно)101
Schumpeter. “The Historical Approach to the Analysis of Business Cycles”, в сборнике Essays: On Entrepreneurs, Innovations, Business Cycles, and the Evolution of Capitalism, с. 349.
(обратно)102
Изначально этот фрагмент встречается в речи, которую Вебер произнес в 1918 году в Мюнхенском университете. См. Weber. Essays in Sociology, с. 78.
(обратно)103
Ronald Brownstein. “The Age of Volatility”, The National Journal, 29 октября 2011 г.
(обратно)104
Интервью Минксина Пея, Вашингтон, округ Колумбия, июнь 2012 г.
(обратно)105
Интервью Лены Хьельм-Валлен, Брюссель, май 2011 г.
(обратно)106
Выступления Тиририки цит. по: “Ex-clown Elected to Brazil Congress Must Prove He Can Read and Write”, 11 ноября 2010 г., -10-05/brazilian-clown-elected-to-congress/2285224.
(обратно)107
Beppe Severgnini. “The Chirupping Allure of Italy’s Jiminy Cricket”, Financial Times, 4 июня 2012 г.
(обратно)108
Greh Sargent. “Sharron Angle Floated Possibility of Armed Insurrection”, Washington Post, 15 июня 2010 г., -lme/2010/06/sharron_angle_floated_possibil.html.
(обратно)109
Данные из статьи Matt Golder. “Democratic Electoral Systems Around the World, 1946–2000”, Electoral Studies (2004), . В той же работе см. таблицу 5.1 и 5.2, которые показывают увеличение числа суверенных государств, сокращение количества диктатур и рост демократий.
(обратно)110
См. Marshall и др., “Political Regime Characteristics and Transitions, 1800–2010” (2010 г.), Polity IV Project на сайте .
(обратно)111
Larry Diamond. “The Democratic Rollback”, Foreign Affairs, март-апрель 2008 г.; см. также Larry Diamond, “Can the Whole World Become Democratic? Democracy, Development and International Politics”, кандидатская диссертация, Калифорнийский университет в Ирвайне, 17 апреля 2003 г.
(обратно)112
Golder. Democratic Electoral Systems Around the World, 1946–2000. В 2004 году Голдер отождествил Бруней и ОАЭ: парламентские выборы в обеих странах прошли в 2011 году, однако на сайте, где представлен справочник по выборам Международного фонда поддержки избирательных систем, нет сведений о выборах в Брунее.
(обратно)113
Dalton and Gray. Expanding the Electoral Marketplace.
(обратно)114
Golder. Democratic Electoral Systems Around the World, 1946–2000.
(обратно)115
Интервью Билла Суини, Вашингтон, округ Колумбия, июнь 2012 г.
(обратно)116
Цифра основана на моих собственных вычислениях.
(обратно)117
Статистический анализ и более подробные данные см. в приложении к этой главе в конце книги.
(обратно)118
Ранее на президентских выборах Ричард Никсон, Линдон Джонсон, Франклин Д. Рузвельт и Уоррен Хардинг одерживали победу с куда большим преимуществом, нежели Рональд Рейган.
(обратно)119
Актуальная информация доступна на сайте BBC News, “Belgium Swears in New Government Headed by Elio di Rupo”, 6 декабря 2011 г., -europe-16042750.
(обратно)120
Narud and Valen. Coalition Membership and Electoral Performance.
(обратно)121
Damgaard. Cabinet Termination.
(обратно)122
Wil Longbottom. “Shiver Me Timbers! Pirate Party Wins 15 Seats in Berlin Parliamentary Elections”, Daily Mail, 19 сентября 2011 г., -2039073/Pirate-Party-wins-15-seats-Berlin-parliamentary-elections.html.
(обратно)123
Richard Chirgwin. “Pirate Party Takes Mayor’s Chair in Swiss City: Welcome to Eichberg, Pirate Politics Capital of the World”, The Register (Великобритания), 23 сентября 2012 Г., /.
(обратно)124
Понятие “селектората” взято из книги Bueno de Mesquita и др., The Logic of Political Survival.
(обратно)125
Kenig. The Democratization of Party Leaders’ Selection Methods: Canada in Comparative Perspective.
(обратно)126
Carey and Polga-Hecimovich. Primary Elections and Candidate Strength in Latin America.
(обратно)127
Цитата Джоэла М. Горы из книги Eggen. Financing Comes Full Circle After Watergate.
(обратно)128
Kane. Super PAC Targets Incumbents of Any Stripe.
(обратно)129
Blake. Anti-Incumbent Super PAC’s Funds Dry Up.
(обратно)130
См. Ansell and Gingrich. Trends in Decentralization.
(обратно)131
Stein. Fiscal Decentralization and Government Size in Latin America.
(обратно)132
Aristovnik. Fiscal Decentralization in Eastern Europe: A Twenty-Year Perspective.
(обратно)133
Stephen J. Kobrin. “Back to the Future: Neo-medievalism and the Post-modern Digital World Economy”, Journal of International Affairs, вып. 51, № 2 (весна 1998 г.): 361–286.
(обратно)134
Pilling. India’s Bumble Bee Defies Gravity.
(обратно)135
Goldstein and Rotich. Digitally Network Technologies in Kenya’s 2007–2008 Post-Election Crisis.
(обратно)136
Niknejad. How to Cover a Paranoid Regime from Your Laptop.
(обратно)137
Friedman. The Lexus and the Olive Tree, с. 101–111. Курсив мой.
(обратно)138
Elinor Mills. “Old-Time Hacktivists: Anonymous, You’ve Crossed the Line”, Cnet, 30 марта 2012 г., -27080_3-57406793-245/old-time-hacktivists-anonymous-youve-crossed-the-line.
(обратно)139
Diamond and Plattner. Liberation Technology: Social Media and the Struggle for Democracy, c. XI.
(обратно)140
Интервью Лены Хьельм-Валлен, Брюссель, май 2011 г.
(обратно)141
Интервью Рикардо Лагоса, Сантьяго, ноябрь 2012 г.
(обратно)142
Shan Charter and Amanda Cox. “One 9/11 Tally: $ 3.3 Trillion”, New York Times, 8 сентября 2011 г.; Tim Fernholtz and Jim Tankersley. “The Cost of bin Laden: $ 3 Trillion over 15 Years”, National Journal, 6 мая 2011 г.
(обратно)143
“Soldier Killed, 3 Missing After Navy Vessel Hit Off Beirut Coast”, Haaretz, 15 июня 2006 г.
(обратно)144
One Earth Future Foundation. The Economic Cost of Somali Piracy, 2011 г. (Boulder, CO: 2012).
(обратно)145
John Arquilla. Insurgents, Raiders and Bandits: How Masters of Irregular Warfare Have Shaped Our World, с. XV–XVI.
(обратно)146
Runyon. On Broadway, с. 87.
(обратно)147
Цитата из книги Winston Churchill. The Second World War, с. 105.
(обратно)148
“United States Department of Defense Fiscal Year 2012 Budget Request”, февраль 2012 г.,
(обратно)149
Edward Luce. “The Mirage of Obama’s Defense Cuts”, Financial Times, 30 января 2012 г.
(обратно)150
Все инвестиции в военную технику при Рейгане в 20102020 гг. будут постепенно сокращаться. Некоторые высокопоставленные офицеры ВМФ выступают против авианосцев, и если им удастся настоять на своем, то в следующие 10–20 лет у США останется меньше 11 авианосцев.
(обратно)151
Human Security Report Project (HSRP). Human Security Report 2009/2010: The Causes of Peace and the Shrinking Costs of War, 2 декабря 2010 г., -security-reports/20092010/overview.aspx.
(обратно)152
Human Security Report Project (HSRP). Human Security Report 2009/2010: The Causes of Peace and the Shrinking Costs of War, 2 декабря 2010 г., -security-reports/20092010/overview.aspx.
(обратно)153
Human Security Report Project (HSRP). Human Security Report 2009/2010: The Causes of Peace and the Shrinking Costs of War, 2 декабря 2010 г., -security-reports/20092010/overview.aspx.
(обратно)154
Происшествие, о котором я упомянул (см. также статью “Amputations Soared Among US Troops in 2011”, -soared-among-us-troops-in-2011/), подтверждается данными Пентагона: -chart.png. Данные по жертвам СВУ взяты из сводки по Афганистану Института Брукингса.
(обратно)155
ICC International Maritime Bureau (IMB), Piracy & Armed Robbery News & Figures, -ccs.org/piracy-reporting-centre/piracynewsafigures.
(обратно)156
Damon Poeter. “Report: Massive Chamber of Commerce Hack Originated in China”, PC Magazine, 21 декабря 2011 г., /0,2817,2397920,00.asp.
(обратно)157
Ann Scott Tyson. “US to Raise «Irregular War» Capabilities”, Washington Post, 4 декабря 2008 г.; Министерство обороны США, Quadrennial Defense Review, февраль 2010 г., /.
(обратно)158
Thomas Mahnken, цитата из статьи Andrew Burt. “America’s Waning Military Edge”, Yale Journal of International Affairs, март 2012 г., -content/uploads/2012/04/Op-ed-Andrew-Burt.pdf.
(обратно)159
Mao Zedong. “The Relation of Guerrilla Hostilities to Regular Operations”, -chive/mao/works/1937/guerrilla-warfare/ch01.htm.
(обратно)160
Global Security. “Second Chechnya War – 1999–2006”, .
(обратно)161
William Lynn. Цит. по Burt. America's 'Waning Military Edge.
(обратно)162
Ivan Arreguin-Toft. “How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric Conflict”, International Security 26, № 1 (2001): 93-128; Ivan Arreguin-Toft. “How a Superpower Can End Up Losing to the Little Guys”, Nieman Watchdog, 23 марта 2007 г., .
(обратно)163
Marc Hecker and Thomas Rid. “Jihadistes de tous les pays, dispersez-vous”, Politique Internationale 123 (2009): fn 1.
(обратно)164
John Arquilla. “The New Rules of Engagement”, Foreign Policy, февраль-март 2010 г.
(обратно)165
Rod Nordland. “War’s Risks Shift to Contractors”, New York Times, 12 февраля 2012 г.
(обратно)166
Singer. Wired for War: The Robotics Revolution and Conflict in the Twenty-First Century, с. 18.
(обратно)167
Lind et al. The Changing Face of War.
(обратно)168
Amos Harel and Avi Issacharov, “A New Kind of War”, Foreign Policy, 20 января 2010 г.
(обратно)169
Singer. Wired for War.
(обратно)170
Sutherland. Modern Warfare, Intelligence and Deterrence, с. 101.
(обратно)171
Scott Wilson. “Drones Cast a Pall of Fear”, Washington Post, 4 декабря 2011 г.
(обратно)172
Francis Fukuyama. “The End of Mystery: Why We All Need Drone of Our Own”, Financial Times, 25 февраля 2012 г.
(обратно)173
Christian Caryl. “America’s IED Nightmare”, Foreign Policy, 4 декабря 2009 г.; Thom Shanker. “Makeshift Bombs Spread Beyond Afghanistan, Iraq”, New York Times, 29 октября 2009 г.
(обратно)174
Tom Vanden Brook. “IED Attacks in Afghanistan Set Record”, USA Today, 25 января 2012 г., -oi-15/IEDS-afghanistan/52795302/1.
(обратно)175
Jarret Brachman. “Al Qaeda’s Armies of One”, Foreign Policy, 11 января 2010 г.; Reuel Marc Gerecht. “The Meaning of Al Qaeda’s Double Agent”, Wall Street Journal, 7 января 2010 г.
(обратно)176
Amos Yadlin. Цит. по Amir Oren. “IDF Dependence on Technology Spawns Whole New Battlefield”, Haaretz, 3 января 2010 г.
(обратно)177
Kaplan. The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post-Cold War.
(обратно)178
Chua. World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability.
(обратно)179
Hecker and Rid. War i. o: Irregular Warfare in the Information Age.
(обратно)180
Ann Scott Tyson. “New Pentagon Policy Says «Irregular Warfare» Will Get Same Attention as Traditional Combat”, Washington Post, 4 декабря 2008 г.
(обратно)181
Tony Capaccio. “Pentagon Bolstering Commandos After Success in Killing Bin Laden”, Bloomberg News, 9 февраля 1011 г.
(обратно)182
The Changing Character of War, глава 7, Институт национальных стратегических исследований, Global Strategic Assessment 1009, с. 148.
(обратно)183
David E. Johnson et al. Preparing and Training for the Full Spectrum of Military Challenges: Insights from the Experience of China, France, the United Kingdom, India and Israel, 2009 г.
(обратно)184
Интервью Джона Аркилла в программе “Cyber War!”, Frontline, 14 апреля 2003 г., .
(обратно)185
Amir Oren. “IDF Dependence on Technology Spawns Whole New Battlefield”, Haaretz, 3 января 2010 г.
(обратно)186
John Arquilla. “The New Rules of Engagement”, Foreign Policy, февраль-март 2010 г.
(обратно)187
Joseph S. Nye, Jr. “Is Military Power Becoming Obsolete?”, Project Syndicate, 13 января 2010 г.
(обратно)188
“Q and A: Mexico’s Drug-Related Violence”, BBC News, 30 марта 2012 г., -latin-america-10681249.
(обратно)189
Thomas Rid. “Cracks in the Jihad”, The Wilson Quarterly, зима 2010 г.
(обратно)190
Hecker and Rid. Jihadistes de tous les pays, dispersez-vous!
(обратно)191
Peter Hartcher. “Tipping Point from West to Rest Just Passed”, Sidney Morning Herald, 17 апреля 2012 г.
(обратно)192
Комментарии к колонке Хартчера от 17 апреля 2012 г.
(обратно)193
“Secret US Embassy Cables Revealed”, Al Jazeera, 29 ноября 2010 г.
(обратно)194
Интервью Джессики Мэтьюз, Вашингтон, сентябрь 2012 г.
(обратно)195
Интервью Збигнева Бжезинского, Вашингтон, май 2012 г.
(обратно)196
Murphy, C. Are We Rome? The Fall of an Empire and the Fate of America.
(обратно)197
“Bin-Laden’s Death One of Top News Stories of 21st Century”, Global Language Monitor, 6 мая 2011 г., -news/bin-ladens-death-one-of-top-news-stories-of-nth-century.
(обратно)198
Fogel, R. “123,000,000,000,000”, Foreign Policy, январь-февраль 2010 г. См. также Dadush, U., and Shaw W Juggernaut: How Emerging Markets Are Reshaping Globalization.
(обратно)199
Leahy, J., and Wagstyl, S. “Brazil Becomes Sixth Biggest Economy”, Financial Times, 7 марта 2012 г., с. 4.
(обратно)200
Pax Americana – американский мир (лат.). Внешнеполитическая идеология доминирующего положения США в мире.
(обратно)201
Kindleberger, Ch. The World in Depression, 1929–1939. См. также Milner, H. “International Political Economy: Beyond Hegemonic Stability”, Foreign Policy, № 110, весна 1998 г.
(обратно)202
Wohlforth, W C. “The Stability of a Unipolar World” International Security 24, № 1 (1999), с. 5–41.
(обратно)203
См. Nye. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power и Nye. Soft Power: The Means to Success in World Politics. В 2011 г. у Ная вышла еще одна книга, посвященная этой тематике, – The Future of Power.
(обратно)204
Patrick, S. “Multilateralism and Its Discontents: The Causes and Consequences of U. S. Ambivalence”, Multilateralism and U. S. Foreign Policy: Ambivalent Engagement.
(обратно)205
United States Department of State, Treaties in Force: A List of Treaties and Other International Agreements of the United States in Force on January 1, 2012.
(обратно)206
Liberman, P “What to Read on American Primacy”, Foreign Affairs, 12 марта 2009 г.; см. также Brooks, S. and Wohlforth, W “Hard Times for Soft Balancing”, International Security 30, № 1 (лето 2005 г.), с. 72–108.
(обратно)207
Ferguson, N. Colossus.
(обратно)208
Kagan, R. “The End of the End of History”, New Republic, 23 апреля 2008 г.
(обратно)209
Pape, R. “Soft Balancing Against the United States”, International Security 30, № 1 (лето 2005 г.), с. 7–45. О мягком балансировании см. также Brooks, S. and Wohlforth W “Hard Times for Soft Balancing”, International Security 30, № 1 (лето 2005 г.), с. 72–108.
(обратно)210
Zakaria, F. The Post-American World.
(обратно)211
Schweller, R. “Ennui Becomes Us”, The National Interest, январь-февраль 2010 г.
(обратно)212
Gibler, D. International Military Alliances from 1648 to 2008.
(обратно)213
На тему ISAF см. Mulrine, A. “In Afghanistan, the NATO-led Force Is «Underresourced» for the Fight Against the Taliban: When It Comes to Combat, It Is a Coalition of the Willing and Not-So-Willing”, U. S. News, 5 июня 2008 г.
(обратно)214
“Spanish Court says Venezuela Helped ETA, FARC”, Reuters, 1 марта 2010 г.
(обратно)215
“Small Arms Report by the UN Secretary General, 2011”, -arms-report-by-the-un-secretary-general-2011.
(обратно)216
Данные по Индии и Бразилии см. “Aid Architecture: An Overview of the Main Trends in Official Development Assistance Flows”, World Bank, май 2008 г.
(обратно)217
Kharas, H. “Development Assistance in the 21st Century”, /~/media/research/files/papers/2009/n/development-aid-kharas/11_development_aid_kharas.pdf. См. также Waltz, J. and Ramachandran, V “Brave New World: A Literature Review of Emerging Donors and the Changing Nature of Foreign Assistance”, .
(обратно)218
Kharas, “Development Assistance in the 21st Century”.
(обратно)219
Kharas, “Development Assistance in the 21st Century”.
(обратно)220
“Aid Architecture: An Overview of the Main Trends in Official Development Assistance Flows”, World Bank. См. также Kharas, H. “Trends and Issues in Development Aid”, /~/media/research/files/pa-pers/200//ii/development-aid-kharas/ii_development_aid_kharas.pdf
(обратно)221
Источники данных по инвестициям Юга в Юг см. в главе 8.
(обратно)222
Более подробные сведения о Pew Global Attitudes Project доступны на /.
(обратно)223
Hille, K. “Beijing Makes Voice Heard in US”, Financial Times, 14 февраля 2012 г.
(обратно)224
Kurlantzick, J. “China’s Charm: Implications of Chinese Soft Power”, CEIP Policy Brief № 47, июнь 2006 г. Kurlantzick, “Chinese Soft Power in Southeast Asia”, The Globalist, 7 июля 2007 г. Horta, L. “China in Africa: Soft Power, Hard Results”, Yale Global Online, 13 ноября 2009 г. Eisen-man, J., and Kurlantzick, J. “China’s Africa Strategy”, Current History, май 2006 г.
(обратно)225
Tharoor, Sh. “India’s Bollywood Power”, -syndicate.org/commentary/india-s-bolly-wood-power. См. также Tharoor, Sh. “Indian Strategic Power: «Soft»”, Huffington Post, 26 июня 2009 г.
(обратно)226
“India Projecting Its Soft Power Globally: ICCR Chief”, Deccan Herald (New Delhi), 7 октября 2011 г.
(обратно)227
Martinez, I. “Romancing the Globe”, Foreign Policy, 10 ноября 2005 г. Пример Кореи см. Nanda, A. “Korean Wave Now a Tsunami”, Straits Times, 13 декабря 2009 г.
(обратно)228
The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index (2012), .
(обратно)229
Dagher, S., Levinson, C., and Coker, M. “Tiny Kingdom’s Huge Role in Libya Draws Concern”, Wall Street Journal, 17 октября 2011 г.
(обратно)230
Adam, G. “Energy – and Ambition to Match”, Financial Times, 10 марта 2012 г.
(обратно)231
“Changing Patterns in the Use of the Veto in The Security Council”, Global Security Forum, 12 июня 2012 г.,
(обратно)232
“Copenhagen Summit Ends in Blood, Sweat and Recrimination”, The Telegraph, 20 декабря 2009 г.
(обратно)233
Chaffin, J., and Clark, P “Poland Vetoes EU’s Emissions Plan”, Financial Times, 10–11 марта 2012 г.
(обратно)234
Plischke, E. “American Ambassadors – An Obsolete Species? Some Alternatives to Traditional Diplomatic Representation”, World Affairs 147, № 1 (лето 1984 г.), с. 2–23.
(обратно)235
Korbel, J. “The Decline of Diplomacy: Have Traditional Methods Proved Unworkable in the Modern Era?”, Worldview, апрель 1962 г.
(обратно)236
Naim, M. “Democracy’s Dangerous Impostors”, Washington Post, 21 апреля 2007 г. Naim, M. “What Is a GONGO?”, Foreign Policy, 18 апреля 2007 г.
(обратно)237
Еще один пример – это Приднестровье. См. “Disinformation”, The Economist, 3 августа 2006 г.
(обратно)238
Цитируется по Naim, “Democracy’s Dangerous Impostors”.
(обратно)239
Доп. мат. по ALBA см. Hirst, J. “The Bolivarian Alliance of the Americas”, Council on Foreign Relations, декабрь 2010 г.
(обратно)240
Leahy, J., and Lamont, J. “BRICS to Debate Creation of Common Bank”, Financial Times, март 2012 г.
(обратно)241
О мини-латерализме см. Naim, M. “Minilateralism: The Magic Number to Get Real International Action”, Foreign Policy, июль-август 2009 г. Ответ Стивена Уолта см. “On Minilateralism”, Foreignpolicy.com, вторник 23 июня 2009 г., .
(обратно)242
Интервью Паоло Скарони, Барселона, июнь 2010 г.
(обратно)243
Данные о концентрации банков приводятся по Bloomberg’s Financial Database (август 2012 г.).
(обратно)244
Kahn, J. “Virgin Banker”, Bloomberg Markets, май 2012 г.
(обратно)245
Mackintosh, J. “Top 10 Hedge Funds Eclipse Banks with Profits of 28 bn for Clients”, Financial Times, 2 марта 2011 г.
(обратно)246
Gongloff, M. “Jamie Dimon Complains More, As JPMor-gan Chase Losses Eclipse $ 30 Billion”, The Huffington Post, 21 мая 2012 г.
(обратно)247
Moon, B. “Kodak Files for Bankruptcy”, Marketplace (NPR), 19 января 2012 г., -files-bankruptcy; Lilla Zuil. “AIG’s Title as World’s Largest Insurer Gone Forever”, Insurance Journal, 29 апреля 2009 г.
(обратно)248
Frydman, C., Sacks, R. “Executive Compensation: A New View from a Long-Term Perspective, 1936–2005”, FEDS Working Paper № 2007-35, 6 июля 2007 г.
(обратно)249
Комментарии Джона Челленджера цитируют Гари Строс и Лора Петрекка в “CEOs Stumble over Ethics Violations, Mismanagement”, USA TODAY, 15 мая 2012 г. Сводка о количестве президентов, уволенных досрочно, взята из обзора Conference Board и цитируется Дэвидом Виднером в “Why Your CEO Could Be in Trouble”, Wall Street Journal, 15 сентября 2011 г.
(обратно)250
Stoddard, N. “Expect Heavy CEO Turnover Very Soon”, Forbes, 16 декабря 2009 г.
(обратно)251
Karlsson, P-O., and Neilson, G. “CEO Succession 2011: The New CEO’s First Year”, Специальный отчет Booz and Company в Strategy + Business, № 67 (лето 2012 г.); см. также Booz, Allen, and Hamilton, “CEO Succession 2005: The Crest of the Wave”, Strategy+Business, № 43 (лето 2005 г.).
(обратно)252
Samuelson, R. “The Fears Under Our Prosperity”, Washington Post, 16 февраля 2006 г., цитируется работа Диего Комина и Томаса Филиппона “The Rise in Firm-Level Volatility: Causes and Consequences”, NBER Macroeconomics Annual 20 (2005): с. 167–201 (напечатано в University of Chicago Press), .
(обратно)253
“The World’s Biggest Companies”, Forbes, 18 апреля 2012 г., -worlds-biggest-companies/ и /.
(обратно)254
Lynn, B. Cornered: The New Monopoly Capitalism and the Economics of Destruction. Lynn and Longman. Who Broke America’s Jobs Machine?
(обратно)255
Ghemawat, World 3.0: Global Prosperity and How to Achieve It, с. 91.
(обратно)256
Wells, P. “Whatever Happened to Industrial Concentration?”, AutomotiveWorld.com, 19 апреля 2010 г.; Kay, J. “Survival of the Fittest, Not the Fattest”, Financial Times, 27 марта 2003 г.; Kay, J. “Where Size Is Not Everything”, Financial Times, 3 марта 1999 г.
(обратно)257
Lippert, J., Ohnsman, A., and Kim, R. “How Hyundai Scares the Competition”, Bloomberg Markets, апрель 2012 г., с. 28.
(обратно)258
Ghemawat. World 3.0: Global Prosperity and How to Achieve It, с. 95.
(обратно)259
“Brand Rehab”, Economist, 8 апреля 2010 г. “Oxford Metrica”, Reputation Review, 2010 г., /
(обратно)260
Kroll, L. “Forbes World’s Billionaires 2012”, Forbes, 7 марта 2012 г., -worlds-billionaires-2012/.
(обратно)261
Kroll, L. “Forbes World’s Billionaires 2012”, Forbes, 7 марта 2012 г., -worlds-billionaires-2012/.
(обратно)262
Naidu-Ghelani, R. “Chinese Billionaires Lost a Third of Wealth in Past Year, Study Shows”, CNBC.com, 17 сентября 2012 г., -aires_Lost_a_Third_of_Wealth_in_Past_Year_Study_Shows.
(обратно)263
Coase, The Nature of the Firm.
(обратно)264
Это объективный показатель, но он не отражает всей картины. Например, глядя на него, мы не можем сказать, насколько велики в этой подгруппе различия в рыночных долях, не будут ли в ней доминировать одна-две фирмы. Индекс Херфиндаля – Хиршмана, названный в честь экономистов Орриса Херфиндаля и Альберта Хиршмана, частично заполняет этот пробел, наделяя крупнейших игроков дополнительным весом. Например, Министерство юстиции США использует этот индекс, когда возникает потребность ответить на вопрос: оправдано ли применение в конкретной области того или иного антимонопольного действия? Более подробное рассмотрение вопроса см. в Hirschman, A. The Paternity of an Index.
(обратно)265
Baier, S., and Bergstrand, J. “The Growth of World Trade: Tariffs, Transport Costs, and Income Similarity”, Journal of International Economics 53, № 1 (февраль 2001 г.), с. 1–27.
(обратно)266
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific Monograph Series on Managing Globalization: Regional Shipping and Port Development Strategies (Container Traffic Forecast), 2011.
(обратно)267
26 Goldman, D. “Microsoft’s $ 6 Billion Whoopsie”, CNN Money, 12 июля 2012 г., -aquantive/index.htm.
(обратно)268
Thom, R., and Greif, T. Intangible Assets in the Valuation Process: A Small Business Acquisition Study; Galbreath. Twenty-First Century Management Rules: The Management of Relationships as Intangible Assets.
(обратно)269
Интервью Лоренсо Самбрано, Монтеррей, Мексика, 2011 г.
(обратно)270
См. годовые отчеты The Gap Inc. и Inditex с 2007 по 2011 г.
(обратно)271
Данные взяты с корпоративного сайта Zara: .
(обратно)272
“Zara: Taking the Lead in Fast-Fashion”, Businessweek, 4 апреля 2006 г.
(обратно)273
“Retail: Zara Bridges Gap to Become World’s Biggest Fashion Retailer”, Guardian, 11 августа 2008 г.
(обратно)274
Helyar, J., and Srivastava, M. “Outsourcing: A Passage Out of India”, Bloomberg Businessweek, 19–25 марта 2012 г., с. 36–37.
(обратно)275
Sills, B., Pearson, N., and Nicola, S. “Power to the People”, Bloomberg Markets, май 2012 г., с. 51.
(обратно)276
Koeppel, D. Banana: The Fate of the Fruit That Changed the World; см. также сайт компании (-Company/The-Chiquita-Story.aspx), а также рубрику Chiquita Brands на сайте Funding Universe (-universe.com/company-histories/Chiquita-Brands-Internation-al-Inc-Company-History.html).
(обратно)277
Interbrand, “Brand Valuation: The Financial Value of Brands”, Brand Papers, ; см. также Gapper, J. “Companies Feel Benefit of Intangibles”, Financial Times, 23 апреля 2007 г.
(обратно)278
Interbrand, “Best Global Brands 2011”, Brand Papers, -global-brands/best-global-brands-2008/best-global-brands-2011.aspx.
(обратно)279
Saxenian, A. Venture Capital in the “Periphery ”: The New Argonauts, Global Search and Local Institution Building. Saxenian, A. The Age of the Agile; Saxenian, A. The International Mobility of Entrepreneurs and Regional Upgrading in India and China.
(обратно)280
Maraganore, J., цитата приводится по Harris, G. “Bio-Europe 2007: As Big Pharma Model Falters, Biotech Rides to the Rescue”, Bioworld Today, 13 ноября 2007 г.
(обратно)281
Dolan, K. “The Drug Research War”, Forbes, 28 мая 2004 г.; “Big Pharma Isn’t Dead, But Long Live Small Pharma”, Pharmaceutical Executive Europe, 8 июля, 2009 г.; Danzon, P “Economics of the Pharmaceutical Industry”, NBER Reporter, осень 2006 г.
(обратно)282
Norton, Q. “The Rise of Backyard Biotech”, The Atlantic, июнь 2011 г., с. 32.
(обратно)283
Chesbrough, H. “The Era of Open Innovation”, MIT Sloan Management Review, 15 апреля 2003 г.
(обратно)284
Stanko, M., et al. “Outsourcing Innovation”, MIT Sloan Management Review, 30 ноября 2009 г.; Quinn, J. “Outsourcing Innovation: The New Engine of Growth”, MIT Sloan Management Review, 15 июля 2000 г.
(обратно)285
“Outsourcing Innovation”, Businessweek, 21 марта 2005 г.
(обратно)286
“Outsourcing Drug Discovery Market Experiencing Continued Growth, Says New Report”, M2 Presswire, 4 июля 2008 г.
(обратно)287
Christensen, C. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, с. xi.
(обратно)288
Там же, с. 233.
(обратно)289
Данные приводятся по “Data on Trade and Import Barriers” (см. ).
(обратно)290
The World Bank. “Doing Business 2011”; см. также .
(обратно)291
Akhouri, P “Mexico’s Cinepolis Targets 40 Screens in India This Year”, Financial Express (India), 1 января 2010 г.
(обратно)292
Интервью Алехандро Рамиреса, Картахена, Колумбия, январь 2012 г.
(обратно)293
Согласно данным ЮНКТАД – Конференции ООН по торговле и развитию (World Investment Report 2012), “Потоки в развитые страны выросли на 21 %, до 748 млрд долларов. В развивающихся странах ПИИ выросли на 11 %, достигнув рекордного показателя в 684 млрд долларов. ПИИ в странах с переходной экономикой выросли на 25 % – до 92 млрд долларов. Соответственно, на развивающиеся и переходные экономики приходится 45 и 6 процентов от глобальных потоков ПИИ. Прогнозы ЮНКТАД показывают, что указанные страны в течение ближайших трех лет будут поддерживать у себя высокий уровень инвестиций” (с. xi).
(обратно)294
Согласно данным ЮНКТАД – Конференции ООН по торговле и развитию (World Investment Report 2012), “Потоки в развитые страны выросли на 21 %, до 748 млрд долларов. В развивающихся странах ПИИ выросли на 11 %, достигнув рекордного показателя в 684 млрд долларов. ПИИ в странах с переходной экономикой выросли на 25 % – до 92 млрд долларов. Соответственно, на развивающиеся и переходные экономики приходится 45 и 6 процентов от глобальных потоков ПИИ. Прогнозы ЮНКТАД показывают, что указанные страны в течение ближайших трех лет будут поддерживать у себя высокий уровень инвестиций” (с. xi).
(обратно)295
Aykut, D., and Goldstein, A. “Developing Country Multinationals: South-South Investment Comes of Age; South-South Investment”, ; Gammeltoft, P “Emerging Multinationals: Outward FDI from the BRICS Countries”, International Journal of Technology and Globalization 4, № 1 (2008), с. 5–22.
(обратно)296
Интервью Антуана ван Агтмаэля, Вашингтон, май 2012 г.
(обратно)297
“Mexico’s CEMEX to Take Over Rinker”, Associated Press, 8 июня 2007 г.
(обратно)298
Kraus, C. “Latin American Companies Make Big US Gains”, New York Times, 2 мая 2007 г.; Ahrens, F., and Baribeau, S. “Bud’s Belgian Buyout”, Washington Post, 15 июля 2008 г.; Marsh, P “Mittal Fatigue”, Financial Times, 30 октября 2008 г.
(обратно)299
Bowley, G. “Rivals Pose Threat to New York Stock Exchange”, New York Times, 14 октября 2009 г.; Bunge, J. “BATS Exchange Overtakes Direct Edge in February US Stock Trade”, Dow Jones Newswires, 2 марта 2010 г.
(обратно)300
“Shining a Light on Dark Pools”, The Independent, 22 мая 2010 г.
(обратно)301
Mehta, N. “Dark Pools Win Record Stock Volume as NYSE Trading Slows to 1990 Levels”, Bloomberg News, 29 февраля 2012 г.
(обратно)302
Shunmugam, V. “Financial Markets Regulation: The Tipping Point”, 18 мая 2010 г., .
(обратно)303
“Institutional Investor”, Hedge Fund 100 (2012).
(обратно)304
Bloomberg Markets, февраль 2012 г., с. 36.
(обратно)305
Weiss, G. “The Man Who Made Too Much”, Portfolio.com, 7 января 2009 г.
(обратно)306
Mallaby, S. More Money Than God, с. 377–378.
(обратно)307
Mackintosh, J. “Dalio Takes Hedge Crown from Soros”, Financial Times, 28 февраля 2012 г.
(обратно)308
Mackintosh, J. “Dalio Takes Hedge Crown from Soros”, Financial Times, 28 февраля 2012 г.
(обратно)309
“Latin America Evangelism Is «Stealing» Catholic Flock”, Hispanic News, 16 апреля 2005 г.
(обратно)310
Cevallos, D. “Catholic Church Losing Followers in Droves”, IPS news agency, 21 октября 2004 г.
(обратно)311
Lakshmanan, I. “Evangelism Is Luring Latin America’s Catholics”, Boston Globe, 8 мая 2005 г.; “Hola, Luther”, Economist, 6 ноября 2008 г.; Cano, C. “Lutero avanza en America Latina”, El Pais, 30 июля 2010 г.
(обратно)312
Rosin, H. “Did Christianity Cause the Crash?”, The Atlantic, декабрь 2009 г.
(обратно)313
“Spirit and Power: A 10-Country Survey of Pentecostals”, Pew Forum on Religion and Public Life, октябрь 2006 г.
(обратно)314
Macedo, E., цитируется по Phillips, T. “Solomon’s Temple in Brazil Would Put Christ the Redeemer in the Shade”, Guardian, 21 июля 2010 г.
(обратно)315
Barrionuevo, A. “Fight Nights and Reggae Pack Brazilian Churches”, New York Times, 15 сентября 2009 г.
(обратно)316
Cimino, R. “Nigeria: Pentecostal Boom – Healing or Reflecting a Failing State?”, Religion Watch, 1 марта 2010 г.
(обратно)317
“Global Christianity: A Report on the Size and Distribution of the World’s Christian Population”, Pew Forum on Religion and Public Life, декабрь 2011 г.
(обратно)318
“Global Christianity: A Report on the Size and Distribution of the World’s Christian Population”, Pew Forum on Religion and Public Life, декабрь 2011 г.
(обратно)319
“Faith on the Move: The Religious Affiliation of International Migrants”, Pew Forum on Religion and Public Life, март 2012 г.
(обратно)320
Rohter, L. “As Pope Heads to Brazil, a Rival Theology Persists”, New York Times, 7 мая 2007 г.
(обратно)321
Cevallos, D. “Catholic Church Losing Followers in Droves”, IPS news agency, 21 октября 2004 г.; см. также “In Latin America, Catholics Down, Church’s Credibility Up”, Catholic News Service, 23 июня 2005 г.
(обратно)322
“The Battle for Latin America’s Soul”, Time, 24 июня 2001 г.
(обратно)323
Allen, J. “The Future Church”, с. 397.
(обратно)324
“Pentecostals Find Fertile Ground in Latin America”, BBC Radio 4 Crossing Continents, bbc.co.uk.
(обратно)325
Lakshmanan, I. “Evangelism Is Luring Latin America’s Catholics”, Boston Globe, 8 мая 2005 г.
(обратно)326
О появлении и преимуществах евангелистов см. Corten, A. “Explosion des pentecotismes africains et latino-americains”, Le Monde Diplomatique, декабрь 2001 г.; Berger, P. “Pentecostalism: Protestant Ethic or Cargo Cult?” The American Interest, 29 июля 2010 г.
(обратно)327
Smoltczyk, A. “The Voice of Egypt’s Muslim Brotherhood”, Spiegel, 15 февраля 2011 г. См. также Esposito, J., and Kalin, I. “The 500 Most Influential Muslims in the World in 2009”, Высшая школа дипломатической службы им. Эдмунда Уолша при Джорджтаунском университете (шейх д-р Юсуф аль Кардави, глава Международного союза мусульманских ученых, девятый в списке).
(обратно)328
Meyerson, H. “When Unions Disappear”, Washington Post, 13 июня 2012 г.
(обратно)329
Данные о тенденциях профсоюзного членства в Европе см. в McKay, S. “Union Membership and Density Levels in Decline”, EIROnline, Eurofound Document ID No. EU0603029I 01-09-2006 (загрузка по адресу ), а также Visser, J. “Union Membership Statistics in 24 Countries”, Monthly Labor Review 129, № 1 (январь 2006 г.),
(обратно)330
Roberts, A. “Can Occupy Wall Street Replace the Labor Movement?”, Bloomberg, 1 мая 2012 г.
(обратно)331
Для дополнительной информации об Энди Стерне см. Meyerson, H. “Andy Stern: A Union Maverick Clocks Out”, Washington Post, 14 апреля 2010 г.
(обратно)332
Greenhouse, S. “Janitors’ Union, Recently Organized, Strikes in Houston”, New York Times, 3 ноября 2006 г.
(обратно)333
О китайском рабочем движении см. Barboza, D., and Bradsher, K. “In China, Labor Movement Enabled by Technology”, New York Times, 16 июня 2010 г., и Wong E., “As China Aids Labor, Unrest Is Still Rising”, New York Times, 20 июня 2010 г.
(обратно)334
Sullivan, R. “Organizing Workers in the Space Between Unions”, American Sociological Association paper, 17 января 2008 г.
(обратно)335
“Development Aid: Total Official and Private Flows Net Disbursements at Current Prices and Exchange Rates” (Table 5), OECD, Париж, 4 апреля 2012 г., -ilibrary.org/development/development-aid-total-official-and-pnvate-flows_20743866-tables.
(обратно)336
“Giving USA 2011: The Annual Report on Philanthropy for the Year 2010”, Giving USA Foundation, .
(обратно)337
Приводимые цифры взяты из годового отчета Центра благотворительных организаций и фондов и доступны на сайте /.
(обратно)338
Ferris, J., and Harmssen, H. California Foundations: 19992009: Growth Amid Adversity, Центр благотворительности и общественных практик, Южно-Калифорнийский университет.
(обратно)339
См. Центр благотворительных организаций и фондов на сайте /.
(обратно)340
Lorenzo, Mauro de, and Shah, A. “Entrepreneurial Philanthropy in the Developing World”, AEI Online, American Enterprise Institute, 12 декабря 2007 г.; Jarvis, M., and Goldberg, J. “Business and Philanthropy: The Blurring of Boundaries”, Business and Development Discussion Papers 9, World Bank Institute, осень 2008 г.
(обратно)341
Desai, R., and Kharas, H. “Do Philanthropic Citizens Behave Like Governments? Internet-Based Platforms and the Diffusion of International Private Aid”, Центр развития Вольфен-зона в Брукингсе, рабочий доклад 12, октябрь 2009 г.
(обратно)342
Moyo, D. Dead Aid.
(обратно)343
Также Том Мюннеке высказывался на тему “микроблаготворительности”: см. Munnecke, T., and Ion, H. “Towards a Model of MicroPhilanthropy”, givingspace.org, 21 мая 2002 г.
(обратно)344
Novogratz, J., цитируется по Morais, R. “The New Activist Givers”, Forbes, 1 июня 2007 г., -wealthfoundation-pf-philo-in_rm_0601philanthropy_inl.html.
(обратно)345
“State of the News Media 2012”, Pew Research Center, 19 марта 2012 г.
(обратно)346
Bagdikian, B. “The New Media Monopoly”.
(обратно)347
Arsenault, A., and Castells, M., “The Structure and Dynamics of Global MultiMedia Business Networks”, International Journal of Communication 2 (2008), с. 707–748.
(обратно)348
Greenwald, B., Knee, J., and Seave, A. “The Moguls’ New Clothes”, The Atlantic, октябрь 2009 г.
(обратно)349
“State of the News Media 2012”, Pew Research Center, 19 марта 2012 г.
(обратно)350
Arsenault, A., and Castells, M. “The Structure and Dynamics of Global MultiMedia Business Networks”.
(обратно)351
Kinsley, M. “All the News That’s Fit to Pay For”, The Economist: The World in 2010, декабрь 2010 г., с. 50.
(обратно)352
Haughney, C. “Huffington Post Introduces Its Online Magazine”, New York Times, 12 июня 2012 г.
(обратно)353
“The Trafigura Fiasco Tears Up the Textbook”, Guardian, 14 октября 2009 г.; “Twitterers Thwart Effort to Gag Newspaper”, Time, 13 октября 2009 г.
(обратно)354
“State of the News Media 2012”, Pew Research Center, 19 марта 2012 г.
(обратно)355
Yu Liu and DingDing Chen. “Why China Will Democratize”, The Washington Quarterly (зима 2012 г.), с. 41–62; интервью профессора Миньсинь Пэя, Washington, DC, 15 июня 2012 г.
(обратно)356
Лучший анализ темы предложил Фарид Закир в своей книге 2003 г. The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad.
(обратно)357
Huntington. Political Order in Changing Societies, с. 8.
(обратно)358
Заглавие бестселлера Томаса Фридмана (Friedman) “Земля – плоская” (The World Is Flat) показывает, насколько эти перемены повсеместны: как глубоко распыление власти изменило деловой и экономический климат в мире. Фридман также красноречиво рассуждает о политических последствиях этих перемен (см. в особенности с. 371–414).
(обратно)359
Я описываю распространение новой разновидности транснациональных преступных сообществ и заметные последствия их распространения для мирового порядка и жизни обычных людей в “Illicit: How Smugglers, Traffickers and Copycats are Hijacking the Global Economy”. О следствиях планетарного финансового кризиса в преступном мире и о растущей криминализации правительств я рассуждаю в статье “Mafia States: Organized Crime Takes Office”, Foreign Affairs, май-июнь 2012 г.
(обратно)360
Francis Fukuyama. “Oh for a Democratic Dictatorship and Not a Vetocracy”, Financial Times, 22 ноября 2011 г.
(обратно)361
Peter Orszag. Too Much of a Good Thing: Why We Need Less Democracy.
(обратно)362
Olson. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups.
(обратно)363
Burckhardt. The Greeks and Greek Civilization.
(обратно)364
Morozov. “The Brave New World of Slacktivism”, Foreign Policy, 19 марта 2009 г., ; см. также Morozov. The Net Delusion: The Dark Side of Internet.
(обратно)365
Malcolm Gladwell. “Small Change: Why the Revolution Will Not Be Tweeted”, The New Yorker, 4 октября 2010 г., .
(обратно)366
Emile Durkheim. Suicide (New York: Free Press, 1951; впервые в 1897 г.).
(обратно)367
Stephen Marche. “Is Facebook Making Us Lonely?”, The Atlantic, май 2012 г.
(обратно)368
Ряд авторитетных мыслителей утверждает, что, несмотря на умножение сильных субъектов в международной политике, США будут и впредь доминировать благодаря тем или иным своим особенностям: военной мощи, сочетающейся с отсутствием территориальных притязаний (Robert D. Kaplan. Monsoon), комбинации “мягкой” и “умной” силы (Joseph Nye. The Future of Power), внутренней энергии и эволюции, обеспеченной предпринимательством, иммиграцией и свободой слова (как пишет другой Роберт Каплан (Robert Kaplan) в The World America Made).
В то же время Фарид Закария, автор “Постамериканского мира” (Fareed Zakaria. The PostAmerican World), считает, что Америка перестала быть главной силой на планете, хотя и остается лидером в многополярном мире, потому что сохраняет ведущие позиции, обладая одной из самых конкурентных экономик, самым большим в мире числом крупных университетов и другими уникальными достоинствами. Почему? Отчасти потому, что нынешнее поколение ее политиков не оправдывает возложенных на них надежд. (См. также Fareed Zakaria. “The Rise of the Rest,” Newsweek, 12 мая 2008 г.)
(обратно)369
Kupchan. No One’s World: The West, the Rising Rest, and the Coming Global Turn.
(обратно)370
Bremmer. Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-Zero World, с. 1.
(обратно)371
Brzezinski. Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power.
(обратно)372
Francis Fukuyama. “Oh for a Democratic Dictatorship and Not a Vetocracy”, Financial Times, 22 ноября 2011 г.
(обратно)373
Последняя из многосторонних инициатив, успешно воплощенных широкой группой государств, имела место в 2000 г., когда 192 страны подписали Декларацию тысячелетия Организации Объединенных Наций, масштабную программу, насчитывавшую восемь целей, от сокращения в два раза масштабов крайней нищеты до обуздания ВИЧ/СПИДа и обеспечения всем детям Земли начального образования, – все это к 2015 г. Последнее торговое соглашение, подписанное группой государств, датируется 1994 г., когда 123 страны собрались обсудить создание Всемирной торговой организации и договорились о новых правилах международной торговли. С тех пор любые попытки что-либо согласовать в этой области проваливаются. То же можно сказать о коллективных усилиях в сфере нераспространения ядерного оружия: последнее значимое международное соглашение на эту тему подписано в 1995 г.: 185 стран решили навечно сохранить ранее принятый договор о нераспространении. За полтора минувших десятилетия ни одна из коллективных инициатив не увенчалась успехом, более того, Индия, Пакистан и Северная Корея явно продемонстрировали миру свой статус ядерных держав. В сфере экологии Киотский протокол, международное соглашение, направленное на сокращение выбросов парниковых газов, после его принятия в 1997 г. ратифицирован 184 странами, но не США, вторым в мире после Китая загрязнителем атмосферы, и многие подписавшие его стороны не достигли своих целей. Подробнее об этих аспектах см. мою статью “Minilateralism: The Magic Number to Get Real International Action”, Foreign Policy, июль-август 2009 г.
(обратно)374
Mathews. Saving America.
(обратно)375
Gallup Inc., The World Poll (несколько лет); Pew Research Center, /, Program on International Policy Attitudes, University of Maryland; Eurobarometer, ; LatinoBarometro, .
(обратно)376
Генри Стил Коммаджер, цит. по Moyers. A World of Ideas: Conversations with Thoughtful Men and Women About American Life Today and the Ideas Shaping Our Future, с. 232.
(обратно) (обратно)







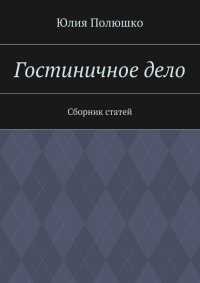
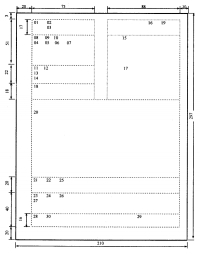
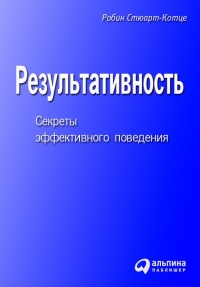
Комментарии к книге «Конец власти. От залов заседаний до полей сражений, от церкви до государства. Почему управлять сегодня нужно иначе», Мойзес Наим
Всего 0 комментариев