Грегори Бернс Что значит быть собакой И другие открытия в области нейробиологии животных
Посвящается Келли
О дружественности или враждебности человека, которого она видит, собака заключает по тому, знает она его или нет. Разве в этом нет стремления познавать, когда определение близкого или, напротив, чужого делается на основе понимания либо, наоборот, непонимания?.. А ведь стремление познавать и стремление к мудрости – это одно и то же[1].
Сократ (цит. по: Платон. Государство)Введение
До ликвидации бен Ладена я как-то не задумывался о сознании животных.
Правда, и тогда меня заинтересовал не столько бен Ладен, сколько служебный пес по кличке Каир, который участвовал в операции. Он умел делать поразительные вещи, например выпрыгивать из вертолета. Его способность переносить шум и суматоху натолкнула меня на мысль – настолько очевидную, что остается только изумляться, почему она никого не посетила раньше. Если собаку можно выдрессировать прыгать из вертолета, наверняка ее можно приучить и к процедуре МРТ. Зачем? Ну как зачем? Чтобы выяснить, наконец, что творится у собак в голове!
Озарение это пришло в самый что ни на есть подходящий момент. К тому времени я работал в соответствующей области науки уже тридцать лет: сперва получил биоинженерное образование, затем медицинское и теперь исследовал с помощью магнитно-резонансной томографии процесс принятия решений человеческим мозгом. Годом раньше умер мой любимый пес – мопс по кличке Ньютон, и где-то в глубине души я задавался вопросом: что же все-таки представляют собой взаимоотношения человека и собаки? Любил ли Ньютон меня так же, как я его? Или со стороны собаки это все лицемерие, невинное притворство – ты весь такой ласковый и плюшевый, а тебе за это дают еду и кров?
После смерти Ньютона мы взяли из приюта тощенькую черную помесь терьера, которую назвали Келли. По повадкам она была такой же полной противоположностью мопсу, как и внешне. Нервная и беспокойная, Келли пыталась задирать вторую нашу собаку – милягу ретривера, который даже не думал давать отпор. Однако та же беспокойная натура наделила Келли свойством, которое не проявляла больше ни одна из моих собак, – любознательностью. Келли обожала учиться. В два счета освоив стандартный набор команд и трюков, она принялась постигать разные хитрости, облегчающие жизнь в человеческом доме. Например, принцип действия дверной ручки. Теперь можно было не караулить никого из людей у входа в кладовку: оказывается, достаточно встать на задние лапы, надавить на ручку передними, слегка толкнуть, и дверь откроется. Келли проделывала этот фокус с ловкостью обезьяны, обладающей противопоставленным большим пальцем. Увы, новое умение обошлось ей дорого: за него пришлось заплатить поездкой к ветеринару и промыванием бог знает чем набитого желудка.
Келли нужно было чем-то занять. Что, если направить ее способности в более полезное русло, чем изощренные попытки добраться до еды? Например, научить ее проходить МРТ и самому выяснить, что у нее на уме.
Я обратился к Марку Спиваку, руководителю дрессировочного центра под названием «Общая помощь домашним животным». Марк согласился взяться за решение задачи, и мы начали думать над тем, как приучить Келли стоять в томографе смирно и достаточно долго, чтобы можно было последить за работой мозга. Наркоз исключался по двум причинам. Во-первых, собака должна находиться в полном сознании, тогда у нас будет возможность посмотреть, как ее мозг обрабатывает запахи, звуки и, самое главное, взаимодействие с хозяином, то есть со мной. А во-вторых, поскольку мы собирались обращаться с ней как с обычным участником магнитно-резонансных исследований, необходимо было оставить ей возможность покинуть аппарат в любой момент. Наша подопытная должна была принимать участие в эксперименте на таких же добровольных началах, как и человек. А это значит: никакого принуждения.
Я соорудил у себя в гостиной макет магнитно-резонансного томографа. Мы довольно скоро обучили Келли залезать в «головную катушку» – ту самую часть, которая считывает сигналы мозга. И хотя шли мы путем проб и ошибок, неизбежно спотыкаясь на колдобинах и ухабах, все получалось проще, чем мы думали. Каких-нибудь несколько месяцев – и бывшая беспризорная Келли становится первой собакой, в полном сознании, без всякого принуждения и обездвиживания участвующей в магнитно-резонансном исследовании мозга.
Окрыленные успехом, мы кинули клич среди местных собаководов, приглашая подключиться к революционному проекту по изучению работы собачьего мозга. К моему удивлению, от желающих не было отбоя. Их набралось столько, что мы с Марком разработали тесты, позволяющие отобрать из числа четвероногих претендентов наиболее перспективных для прохождения МРТ. Через год после первой томографии Келли в нашей команде насчитывалось почти двадцать собак. Чтобы избежать столпотворения, мы разделили их на две группы – «Команда А» и «Рота Браво», каждая из которых попадала к нам на воскресные занятия раз в две недели.
Эксперименты мы начали с самого простого: смотрели, как собачий мозг реагирует на жест, означающий выдачу лакомства. У человека, предвкушающего приятные для него явления (пищу, деньги, музыку), активируется одна из ключевых структур головного мозга – хвостатое ядро. И когда выяснилось, что у собак хвостатое ядро реагирует на движение руки схожим образом, то есть предвкушением лакомства, стало ясно: мы на пороге интересных открытий[2]. Собаки воспринимали эксперимент как очередную забаву, игру с хозяином, и их мозг откликался примерно так же, как человеческий в предвкушении удовольствия.
По мере того как собаки привыкали к томографу, мы постепенно усложняли задания. Предъявляя подопытным запахи людей и других животных, мы выяснили, что сигнал подкрепления в мозге собаки возникает только в качестве отклика на запах ее хозяев и остальных «домочадцев», а на запах других собак – нет. И поскольку запахи эти с едой напрямую связаны не были, у нас появилось первое надежное доказательство, что собаки действительно могут испытывать некое подобие любви к близким для них людям.
Вскоре «собачий проект» поглотил меня целиком, оттеснив на задний план исследования человеческого мозга. Увидев потенциал для совершенствования подготовки служебных собак, нам оказало поддержку Управление научно-исследовательских работ ВМС, после чего мы увеличили число испытуемых и продолжили усложнять задания, выполняемые собаками в томографе. Это было не просто увлекательно – я чувствовал, что мы вот-вот проникнем еще глубже в тайны сознания лучшего друга человека.
Чем больше я узнавал о собачьем мозге, тем больше убеждался, что у нас с собаками много общего. В частности, за эмоции и у человека, и у собаки отвечают одни и те же базовые структуры. В связи с этим возникал вопрос более глобальный, выходящий за рамки эмоций, но я предпочел задвинуть его подальше, пока собачий проект еще только вставал на ноги.
Вопрос этот всплыл на конференции по проблемам вегетарианства. Сперва я хотел отказаться от приглашения, поскольку к вегетарианцам не принадлежу, но организаторы заверили, что им просто интересно послушать, как продвигается изучение собачьего разума, и личные пищевые пристрастия никто обсуждать не планирует. В теории – возможно, однако на практике вышло по-другому. Закончив доклад, я получил от одного из выступающих обвинение в «видовой дискриминации», поскольку наделяю собак особым статусом и даже скармливаю им в форме сосисок переработанную плоть других животных. Момент был неловкий, я понял, что зря поддался на уговоры организаторов.
Совершал ли я видовую дискриминацию? Вероятно.
Плохо ли это? Не знаю.
Через четыре года работы над проектом пресловутый глобальный вопрос встал ребром: если у нас имеются доказательства, что собаки испытывают эмоции, схожие с человеческими, то как обстоит дело у других животных?
Меня начали спрашивать, нельзя ли приучить к прохождению МРТ кошку, – а иногда интересовались даже насчет свиней. Я понимал, что это едва ли возможно, а давать таким животным наркоз и неэтично, и не особенно целесообразно, если нас интересуют процессы сознания. Так я зашел в тупик: казалось, что об изучении других животных нечего и мечтать.
Переломный момент наступил, когда к проекту присоединился Питер Кук. Он переехал из калифорнийского Санта-Круза, завершив работу над диссертацией, посвященной особенностям памяти у морских львов, и был страстно увлечен проблемой устройства разума животных, особенно в естественной среде. Между тем в Калифорнии морские львы в больших количествах выбрасывались на побережье. Часть удавалось выходить, остальные страдали от непрекращающихся судорожных припадков, и этих львов приходилось усыплять. Питер договорился, чтобы их мозг передавали нам. Вот уж не предполагал, что когда-нибудь займусь сканированием мертвого мозга, но результаты оказались поразительными. Как выяснилось, даже после смерти животное способно поведать нам кое-что о своей прежней жизни, и эта мысль меня грела. Морские львы были только началом. Новые технологии МРТ позволили нам расширить границы исследований: другие животные; экспонаты, запертые в музейных витринах; и даже мозг представителей вымерших видов.
Что в человеческом мозге делает человека человеком и что в собачьем мозге делает собаку собакой? Много веков подряд анатомы ориентировались в первую очередь на размеры. Чем больше мозг, тем больше он вмещает нейронов, то есть «больше равно лучше». Этот принцип применялся и к мозгу в целом (чем больше мозг, тем выше интеллект), и к отдельным его участкам: считалось, что по размеру той или иной структуры можно судить о значимости ее функции для животного. Доля истины в этом есть. В частности, развитые обонятельные луковицы у собак подтверждают, насколько важны для них запахи.
Однако размер сам по себе мало что объясняет в работе мозга. В действительности значимо другое: как разные его области связаны между собой. Изучением этого вопроса занимается молодая отрасль нейронауки – коннектомика. Прогресс в магнитно-резонансной томографии дает нам возможность изучить схему нейронных связей человеческого мозга в мельчайших подробностях. Если мне или кому-то другому все же доведется разгадать разум животных, опираться мы будем на анализ этих связей и того, как они координируют активность мозга. Именно там рождаются все внутренние переживания, в том числе эмоции.
Это были благословенные времена для нейробиолога, и собачий проект оказался лишь первым шагом. Чем глубже я проникал в собачий мозг, тем сильнее становилось желание заняться и другими животными. Если мы расшифруем их ощущения, может быть, наше взаимодействие перейдет на новый уровень? Как на самом деле чувствует себя собака? Что свинья думает о бойне? Как воспринимает кит всепроникающий шум от кораблей и подводных лодок? В результате исследований нам неизбежно предстояло убедиться не только в том, что внутренний мир животных богаче любых представлений о нем, но и в необходимости пересмотреть свое обращение с ними.
Это книга о мозге, о разуме тех животных, чей мозг мы изучаем. В научной классификации эти исследования попадают в область сравнительной нейробиологии. В принципе, вся нейронаука носит в той или иной степени сравнительный характер, но мало кто из нейробиологов решает копнуть поглубже и поинтересоваться, почему мозг животного устроен именно так и насколько это устройство сопряжено с ментальными ощущениями. Это нелегкие вопросы. Они затрагивают самые основы того, что делает нас людьми, и заставляют задуматься, сильно ли мы отличаемся от многих из тех, с кем делим планету.
Мое повествование будет разворачиваться примерно в той же последовательности, в какой я переходил от изучения человеческого мозга к собачьему, а затем к другим животным, но все наши открытия будет связывать одна общая идея – сходство. Снова и снова я обнаруживал в животном мозге структуры, организованные так же, как соответствующие части нашего, человеческого. Эти структуры не только выглядели одинаково, но и функционировали аналогично.
Связь между структурами мозга и когнитивными функциями – явление сложное и часто зависит от координированного взаимодействия многочисленных областей мозга. До недавнего времени описать эти взаимосвязи в подробностях было невозможно. Но за считаные годы произошли существенные подвижки. Прогресс в нейровизуализации и программном оборудовании, которое используется для анализа нейронных сетей, пополнил наши знания о функционировании мозга человека, так почему же нельзя применить те же инструменты к мозгу животного?
Эти же технологии дают нам возможность постичь субъективные переживания других животных. Когда структурно-функциональная взаимосвязь в мозге животного схожа с нашей, велика вероятность, что оно испытывает те же ощущения, что и мы. Я думаю, это и есть путь к тому, чтобы узнать, каково живется собаке, кошке или, потенциально, любому другому животному.
В ряде глав основными героями будут собаки, поскольку с ними знакомы все читатели и поскольку именно их я считаю лучшими партнерами в исследованиях. Но мы погрузимся и в океан, чтобы узнать, как работает мозг наших морских сородичей. Несколько глав посвящены самым «собакоподобным» из морских животных – морским львам и котикам, а еще одна глава расскажет о наиболее загадочных существах на планете – дельфинах. Уже не первое десятилетие они интригуют и ученых, и широкую публику своим необычайным интеллектом и общительностью. Однако очень долго они оставались для нас тайной за семью печатями. Теперь, с помощью новых технологий визуализации, мы выясняем, как сплетены нейронные сети в мозге дельфина и как это соотносится с жизнью под водой. Возможно, недалек тот день, когда мы сможем пообщаться друг с другом.
Затем перед нами предстанет тасманийский волк, или тилацин. По официальным данным, этот сумчатый хищник, удивительно похожий на мелкого волка, вымер в 1936 году, когда последний известный представитель вида скончался в зоопарке австралийского города Хобарт. Однако иногда этого таинственного зверя наблюдают в дикой природе и по сей день. Я начал разыскивать нетронутые образцы мозга тилацина, чтобы попытаться проникнуть в его внутренний мир, и в конце концов обнаружил экземпляр в хранилище Смитсоновского института – один из четырех имеющихся в мире на данный момент. Мне дали разрешение просканировать его с помощью новейшей аппаратуры МРТ. Но это было лишь начало одиссеи, которая привела меня в Австралию в поисках других образцов, а также для работы с ближайшим ныне живущим родичем тилацина – тасманийским дьяволом.
Заканчивается книга так же, как и начинается, – собаками. И пусть я закоренелый шовинист, собака для меня не просто лучший друг человека, а проводник в мир животных. В собаках достаточно сохранилось от волка, чтобы судить по их мозгу о жизни в дикой природе. Главная сложность для нас – разработать способ общения друг с другом. И в этом, мне кажется, нам должен помочь мозг животного. Поэтому в завершающих главах речь пойдет о том, в какой степени собаки понимают человеческий язык и что это означает с точки зрения прав не только собак, но и всех остальных животных.
Глава 1 Что значит быть собакой
В начале весны 2014 года целеустремленные участники проекта отрабатывали с собаками заход в макет магнитно-резонансного томографа.
Дожидаясь своей очереди, большой палевый пес по кличке Дзен подскочил ко мне и, припав на передние лапы, завилял хвостом, настойчиво приглашая поиграть. Я не стал отказывать. Мы затеяли возню, но, повалявшись со мной на полу несколько минут, Дзен тут же сдался и продемонстрировал, что свою кличку оправдывает полностью. Сперва он уселся, потом вальяжно вытянул передние лапы и посмотрел на меня с безмятежностью и непроницаемостью сфинкса.
«Каково это – быть Дзеном?» – подумал я.
Дзен, помесь лабрадора и золотистого ретривера, был одним из ветеранов собачьего проекта. Из него собирались вырастить служебную собаку, но в подростковом возрасте выбраковали как неспособного к сосредоточению, исключили из программы подготовки и вернули в питомник. У заводчиков принято давать всему помету клички на одну и ту же букву – Дзену (Zen) и его однопометникам досталась Z. Тот, кто назвал его Дзеном, знать не знал, каким щенок вырастет. Может быть, собаки со временем вживаются в кличку, но настолько удивительное совпадение имени и характера смахивает на кармическую предопределенность.
Разношерстная группа наших испытуемых рассредоточилась вместе с хозяевами по тренировочной комнате. Рядом с Дзеном собралась компания таких же несостоявшихся служебных собак. Перл, крепко сбитую энергичную золотистую ретривершу, как и Дзена, отбраковали за неспособность сосредотачиваться. Эдди (если полностью – Эдмонд), метис лабрадора и золотистого ретривера, был копией Дзена во всем, кроме причины отбраковки – предрасположенности к дисплазии тазобедренного сустава. Охана, чистопородная золотистая ретриверша, лишь немного уступала живостью и подвижностью Перл. Кэйди, очаровательную помесь ретривера, исключили из программы служебной подготовки за чрезмерную робость. Ну а Большого Джека, флегматика-голдена с солидным весом в полцентнера и в достаточно солидных летах, больше всего в наших занятиях привлекало стабильное поступление сосисок.
В противоположном конце тренировочного помещения Питер Кук, наш коллега, защитивший в Санта-Крузе диссертацию по морским львам, занимался второй группой собак, менее покладистых, чем ретриверы. Эту компанию буйных возглавляла Либби, питбуль шоколадного окраса с переломанным хвостом, которая сейчас застыла как статуя, положив морду на опору для подбородка, сооруженную нами, чтобы собакам удобнее было удерживать нужную позу во время сканирования. Нынешняя хозяйка Либби, Клэр Пирс, подобрала ее когда-то на обочине калифорнийского шоссе и только благодаря своему опыту инструктора-дрессировщика смогла социализировать бойцовую собаку достаточно, чтобы ее можно было выводить на люди. Но люди – это полбеды, гораздо хуже дело обстояло с себе подобными. На других собак Либби по-прежнему кидалась и лаяла. Клэр отгородила в нашем тренировочном помещении закуток, чтобы держать Либби под присмотром и обезопасить остальных.
Я, в отличие от многих участвовавших в проекте людей, испытывал к Либби симпатию. Я находил у нее много общего с Келли – той самой помесью терьера, которую жена взяла в приюте. При всей своей недоверчивости, неуверенности в себе и задиристости, Келли рвалась работать. Ее первую приучили к томографу, и ни с одной собакой мне не доводилось подружиться так, как подружились мы с Келли в ходе проекта.
Дзен и остальная ретриверская компания – замечательные собаки, мечта любого ребенка, а Либби, Келли и им подобные – другие, не такие семейные и компанейские, в чем-то даже дикие. Словно пришельцы из последнего ледникового периода, когда наши пещерные предки только начинали приручать волков. Жить бок о бок с Либби или Келли – значит быть готовым к неожиданностям. Чем обусловлена такая разница характеров – генетикой, степенью социализации в щенячьем возрасте или чем-то в работе мозга, никто сказать не мог, но я задался целью выяснить, что в мозге Дзена делает его Дзеном, отличая от Либби и всех остальных собак.
Задача выглядела непростой. Многие ученые скептически относились к самой идее проникновения в разум животного, даже с помощью современных технологий нейровизуализации. Суть проблемы обозначил философ Томас Нагель в своей авторитетной статье «Что значит быть летучей мышью?»[3]. Нейронаука, утверждал Нагель, никогда не сможет объяснить субъективный опыт, воплощенный в мыслях и чувствах. Даже выяснив, как работает мозг летучей мыши, мы не приблизимся к пониманию, как ощущает себя сама мышь. Мы с ней слишком разные. Взять хотя бы эхолокацию. Поскольку человек способностью к эхолокации не обладает, мы даже представить себе не сможем, каково это – ориентироваться по отраженным высокочастотным звуковым сигналам. И про полеты забудьте. Если верить Нагелю, устройство мозга летучей мыши ничего не скажет нам о том, каково это – летать.
Статья Нагеля сильно омрачила возможные интерпретации нейробиологических данных. Нейронаука занималась измеряемыми свойствами мозга, тогда как субъективный опыт измерить трудновато. У нас не было прибора, способного выразить количественно, что мы ощущаем, нюхая розу, или что чувствует собака, когда хозяин возвращается домой. И чем больше мы пытались разложить эти ощущения на объективные величины, тем дальше мы уходили от них как от уникального субъективного переживания. Без инструментария, позволяющего исчислить субъективный опыт, союз с нейронаукой состояться не мог. Согласно Нагелю, можно препарировать мозг сколько угодно, однако пока у нас нет связки между субъективным и объективным, мы так и не приблизимся к пониманию, что это значит – быть животным. Да и человеком тоже. Как ни бейся, а постичь во всей полноте, что значит быть кем-то другим, можно, лишь оказавшись в его шкуре. По этой логике, копание в мозге нам ничего не даст.
На первый взгляд те два примера, которые приводит Нагель, – полеты и эхолокация – действительно чужды человеческому опыту. Однако современные любители острых ощущений регулярно скользят над альпийскими ущельями в так называемом костюме-крыле, напоминая самых настоящих летучих мышей. А значит, эти смельчаки вполне могут рассказать нам, каково оно – летать. И даже пример с эхолокацией не выдерживает критики. Все мы обладаем врожденной способностью оценивать размер помещения по звуку: достаточно произнести что-нибудь вслух, и мы без труда отличим ванную от танцпола или концертного зала.
Задаваясь вопросом, что значит быть летучей мышью или собакой, мы подразумеваем внутренние ощущения животного. Психическое состояние, скажем так. Это противопоставление внутренней и внешней точек зрения. Нагель доказывал, что невозможно узнать, что значит быть летучей мышью (или даже другим человеком), не побывав ею в действительности, поскольку субъективный опыт предполагает взгляд изнутри, внутреннее ощущение, которое совсем иначе выглядело бы в пересказе или при наблюдении со стороны. Да, ощущением можно поделиться, описав его другому человеку, но, как отмечает Нагель, это будет уже не само ощущение[4].
Однако невозможность влезть в чужую шкуру не означает, что мы совершенно не способны узнать, каково все-таки ее обладателю живется. У людей важную роль играет язык, позволяющий нам общаться, описывать свои переживания, но и наличие языка совсем не обязательно, чтобы делиться опытом. Обмениваться ощущениями нам помогает в первую очередь физическое сходство и обитание в одной среде. Мы настолько похожи между собой, что язык лишь дополняет эту общность, выступая символическим условным обозначением.
Данная общность распространяется и на остальных животных[5]. Базовые физиологические процессы у нас точно такие же, как у многих других представителей фауны, а внутри класса млекопитающих взаимного сходства еще больше. Все мы дышим воздухом. У нас по четыре конечности. Мы спим. Едим. Мы размножаемся половым путем, мы живородящие, и нашему потомству в течение определенного времени требуется родительская опека. Многим млекопитающим свойствен высокий уровень общественной организации. При таком физическом сходстве высока вероятность, что различия во внутренних ощущениях тоже будут не столь разительными, как принято считать.
Через эти области физического сходства и лежит путь к пониманию чужих внутренних ощущений. Совсем не обязательно пытаться сразу ответить на всеобъемлющий вопрос, что такое быть собакой, – можно конкретизировать. Как собака ощущает радость? Или еще прицельнее: как ощущает радость Дзен? Что испытывает Либби, когда ей не дают лаять на других собак? Самое очевидная область подобных вопросов – восприятие, эмоции, движение. Кроме них есть сфера, связанная с поддержанием жизненных функций, – сон, жажда, голод. Совокупность всех этих областей составляет психический опыт[6].
У человеческого разума имеются некоторые дополнительные элементы, в частности язык и символическое обозначение. Язык дает нам возможность не только общаться между собой, но и вести внутренний монолог. Он главенствует над остальными областями, присваивая обозначения прочим граням опыта. Это происходит помимо нашей воли. По мнению некоторых ученых, язык вплетен в человеческий опыт настолько прочно, что слова определяют наши поступки. Как писал Уильям Джеймс, отец американской психологии, человек боится медведя лишь потому, что чувствует учащающееся сердцебиение и мысленно кричит: «Мне страшно!»
Главенство языка часто вынуждало исследователей отказываться от возможности узнать, что испытывают животные. Неумение собаки произнести про себя: «Мне страшно» – дало ряду ученых повод переосмыслить изучаемую эмоцию – страх – как поведенческую программу, которая включается у животного, чтобы избежать чего-то пагубного[7]. Это был шаг назад – к картезианскому представлению о животных как об автоматах.
Считается, что ученый должен оставаться скептиком, пока не будет установлена окончательная истина, однако подобное выжидательное отношение, преобладавшее в дискуссиях об изменении климата, уже продемонстрировало свою несостоятельность. Да, истина пока не найдена, но в какой-то момент доказательства достигли критической массы, и ни один здравомыслящий человек сейчас не станет отрицать, что деятельность людей повышает общую температуру на планете. Точно так же обстоит дело с разумом животных. Как и в случае с климатическими изменениями, отрицание имело свои последствия. Упорно отрицая вероятность переживаний у животных и отказывая им даже в крупицах сознания, человек мог эксплуатировать их, как ему заблагорассудится. Но и здесь наметились перемены.
До появления современных технологий нейровизуализации судить о психическом состоянии можно было только по поведению или, применительно к человеку, спрашивая, что он чувствует или думает. Оба способа давали лишь приблизительную картину. Оценивая внутренние переживания по внешним поведенческим проявлениям, мы исходим из неких условных представлений. С людьми это работает неплохо благодаря физическому сходству и общему культурному коду, но у животных разрыв между поведением и внутренними переживаниями для нас гораздо шире. А если животное совсем ничего не делает? Как узнать, что оно чувствует – и чувствует ли вообще? Именно так и рассуждал Нагель, доказывая невозможность выяснить, что такое быть животным.
Да, у ученых наверняка имелись мотивы отрицать наличие осознаваемых эмоций у животных: необходимо было как-то оправдывать инвазивные исследовательские процедуры. Но я эти оправдания находил своекорыстными и лицемерными. Неспособность животных вербализировать свое внутреннее состояние не означает, что они не испытывают ничего схожего с ощущениями человека в аналогичной ситуации. И я не единственный ставил существующий порядок под сомнение. Благодаря прогрессу, произошедшему в нейронауке за сорок лет с момента публикации эссе Нагеля, сейчас перевес на ее стороне. Среди недавних ее достижений имеются два доказательства того, что из мозга все-таки можно извлечь информацию о психическом опыте даже при отсутствии внешних поведенческих проявлений.
В 2006 году Адриан Оуэн, нейробиолог из Кембриджа, исследовал с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) активность мозга у двадцатитрехлетней женщины, которая получила в ДТП серьезную травму мозга[8], повлекшую за собой утрату сознания. По всем клиническим параметрам пациентка находилась в вегетативном состоянии. Тем не менее, беседуя с ней, Оуэн и его коллеги обнаружили усиление активности в левой лобной доле, особенно в ответ на двусмысленные фразы. Что еще примечательнее, когда женщине давали указание представить себя за игрой в теннис или за обходом комнат своего дома, Оуэн наблюдал усиление активности в тех областях коры, которые связаны с пространственной ориентацией. Результаты его исследования имеют огромное значение. Он продемонстрировал, что внутренние субъективные переживания могут существовать в отрыве от внешних проявлений, однако нейровизуализация способна эти внутренние процессы выявить.
В 2008 году Джек Галлант, психолог из Калифорнийского университета в Беркли, раздвинул границы расшифровки сигналов мозга еще шире. Оказывается, по активности зрительной коры можно определить, на что смотрит человек. За последующие несколько лет Галлант усовершенствовал технологию – теперь она позволяет вычислить не только объект интереса, но и характер этого объекта (человек, предмет, сцена) и даже установить, находится этот объект перед глазами сейчас или всплыл в памяти[9]. Исследования Галланта доказали, что конкретные параметры физической активности мозга можно перевести в абстрактные психические состояния – в данном случае зрительные образы. Это был триумф материалистического редукционизма. Определенные психические состояния можно декодировать по активности мозга.
Если эта технология применима к людям, почему бы с таким же успехом не применить ее к животным и не декодировать их разум? Кажется, у нас наконец появилась реальная возможность выяснить, что такое быть летучей мышью или собакой.
Завершив разминочные задания, Клэр разрешила собаке убрать морду с опоры. Либби заметила мой взгляд и расценила его как приглашение поиграть. Она кинулась ко мне во всю прыть, подлетела, скользя на гладком полу, и подпрыгнула, чтобы лизнуть, – но я предусмотрительно увернулся, и Либби просвистела мимо. Только после этого я опустился на колени и позволил облизать себе лицо.
Подоспевшая Клэр взяла Либби на поводок: «Все, Либби, хватит!»
Либби уселась, вертя головой и глядя то на Клэр, то на меня. Ей стоило невероятных усилий и выдержки не обслюнявить меня вновь в порыве восторга. Не был бы ее хвост искалеченным, он бы сейчас бешено мел по полу.
«Так, а теперь давайте в трубу», – скомандовал Питер.
Труба представляла собой почти двухметровый отрезок картонной цилиндрической опалубки, которая обычно используется для возведения бетонных колонн. У нас она получила новое предназначение – имитировать капсулу томографа. Мы установили ее на столе посередине тренировочного зала, а лист фанеры внутри изображал выдвижной стол, на который кладут пациента.
Клэр подвела Либби к переносной лестнице, приставленной к створу трубы. Что делать дальше, Либби знала – как-никак три года в проекте. Взлетев по ступеням, она пристроилась к опоре – пенопластовому блоку, в котором была сделана выемка под собачью морду. Опора крепилась к имитации головной катушки – той части томографа, где считываются сигналы мозга. В обычном человеческом аппарате она напоминает шлем имперского штурмовика из «Звездных войн», но для собак мы использовали только нижнюю часть катушки, которая у человека обычно охватывает шею.
Убедившись, что Либби встала в требуемую стойку, Клэр приступила к новому этапу нашего эксперимента. До тех пор все испытания проходили в форме пассивного тестирования. Мы предъявляли стимулы в виде жестов, компьютерных изображений, лакомства и запахов. От собаки требовалось только стоять смирно, пока мы измеряем ответ мозга, и эксперименты шли с блеском. Мы приучили к таким процедурам двадцать собак и опубликовали несколько научных работ о функционировании центра подкрепления в собачьем мозге. Но теперь Клэр и Либби отрабатывали кое-что посложнее – активное задание. Впервые за все время Либби предстояло выполнить в процессе магнитно-резонансного сканирования некое действие.
Наблюдение за поведением собаки в ходе сканирования перечеркивало все наши прежние требования к неподвижности в томографе, однако именно здесь скрывался ключ к пониманию, что делает Дзена Дзеном и чем его мозг отличается от мозга Либби. По внешним проявлениям разница характеров была очевидна, но мы не могли запустить собаку в томограф и позволить реагировать привычным образом на других собак и людей. Если Дзену еще удалось бы продемонстрировать особенности своей натуры в неподвижности, то для Либби это было исключено.
Поэтому мы обратились к человеческой психологии и заимствовали оттуда эксперимент, применимый даже к детям. Называлось это задание «можно/нельзя».
Запустив Либби в симулятор, Клэр достала пластмассовый свисток.
И дунула в него.
Либби, не колеблясь ни секунды, ткнула маленькую пластиковую мишень, приклеенную скотчем к опоре в сантиметре от собачьего носа. Клэр нажала кнопку на зажатом в руке приборчике размером с ладонь – кликере. Звонкий щелчок сообщил Либби, что она все сделала правильно, и в награду Клэр выдала ей лакомство.
Пока все идет как надо. Либби выучила, что свисток означает: «Ткни носом мишень». Большинство собак освоило этот трюк моментально. Поначалу мы устанавливали мишень на полу и, указывая на нее, давали собаке разрешение обследовать незнакомый предмет, что все наши подопечные охотно проделывали. Главное было, указывая на мишень, одновременно дунуть в свисток. Дотронувшись до мишени, собака получала в награду лакомство. Вскоре на мишень можно было уже не указывать.
Дальше начинался сложный этап. Держа свисток во рту, Клэр подняла руки и скрестила на груди. Это значило: «Не шевелись. Даже когда услышишь свисток».
Не размыкая скрещенных рук, Клэр тихонько свистнула.
Либби даже ухом не повела.
– Хорошо, – одобрил Питер. – Похвалите ее.
Чтобы проверить, нет ли здесь случайного совпадения, Клэр опустила руки и снова дунула в свисток. На этот раз Либби ткнула мишень.
– Умница! – воскликнула Клэр, выдавая очередное заслуженное лакомство.
Судя по всему, Либби усвоила, что свисток означает «можно», а скрещенные руки означают «нельзя» и они главнее свистка.
– Отлично. Теперь увеличим громкость, – скомандовал Питер.
Повторное испытание, когда Клэр опять скрестила руки и засвистела, уже громче, Либби выдержала не шелохнувшись. Я был поражен. Это задание и людям не всегда легко дается.
В арсенале психологов задание «можно/нельзя» присутствует уже не первый десяток лет. У нас Либби тыкала в мишень носом по сигналу свистка, в человеческом варианте испытуемый должен нажимать кнопку на клавиатуре. Но и от человека это задание требует достаточного самоконтроля, не все выполняют его одинаково хорошо. Маленьким детям, например, в силу недостаточного развития лобных долей мозга, оно не дается совсем. Я надеялся, что и собаки продемонстрируют индивидуальные различия в прохождении этого теста, тем самым приоткрывая завесу над индивидуальными различиями в функционировании мозга.
Мозг у собаки не очень большой. Величиной он примерно с лимон, и лобные доли в пропорциональном соотношении гораздо меньше человеческих. Неудивительно, что самоконтроль у собак хромает. Да, их можно выдрессировать, можно даже приучить довольно долго высиживать в ожидании лакомства, но у меня дома, например, собаки только и ждут случая ухватить что-нибудь запрещенное, будь то еда или нижнее белье. Келли, даром что едва дотягивается до кухонного стола, виртуозно слизывает лакомые кусочки, наклоняя голову набок и вытягивая язык, словно муравьед. Либо она не в силах устоять перед соблазном, либо, наоборот, у нее невероятный самоконтроль и она просто знает, когда пора прекратить испытывать терпение хозяев, если не хочешь, чтобы на тебя наорали.
Из-за проблем с самоконтролем собаки нередко и попадают в приют. Покусы, лай, разгром и порча вещей, лужи по всему дому – самые распространенные причины отказа от собаки, так что определить, какие области собачьего мозга отвечают за контроль поведения и как они функционируют, стало одной из главных задач собачьего проекта. Если нам удастся продвинуться в этом вопросе, возможно, сократится число собак, попадающих в приют на усыпление.
Либби ставила нас в тупик. В компании других собак она едва себя сдерживала, но в томографе демонстрировала чудеса послушания и дисциплины. Наше исходное предположение, что самоконтроль у собаки либо есть, либо нет, явно требовало доработки. Если у Либби получается контролировать себя в одной ситуации и не получается в другой, значит, как-то влияет контекст. И нам нужно было выяснить как.
Многим нашим собакам, даже не таким легковозбудимым, как Либби, задание «можно/нельзя» давалось с трудом. У некоторых ушел не один месяц, прежде чем они достигли виртуозности Либби. Но они не виноваты. Все-таки многие из них участвовали в проекте с самого начала, и с первых дней от них требовалось и на тренировках, и в настоящем томографе не шевелиться, когда кладешь морду на опору в головной катушке. Задание «можно/нельзя» перечеркивало все, к чему их приучали. И если Либби сумела приспособиться к новым требованиям, то другие, более пассивные собаки оказались в плену старых привычек. Но упрямились они или попросту запутались, я не знаю.
Олицетворением этого ступора стала Кэйди. Как и Дзен, она была помесью золотистого ретривера с лабрадором – красавица с густой, почти белоснежной шерстью, оттеняющей большие шоколадные глаза. Кэйди была милейшим созданием, но, должен признать, довольно бездумным и витала где-то в облаках в ожидании команд от хозяйки, Патриции Кинг. Тут, безусловно, дело во многом было в генетике. Как потенциальная служебная собака, Кэйди имела длинную родословную, всех представителей которой отбирали для беспрекословного подчинения человеку и искореняли в них самостоятельность. Патриция выступала для Кэйди чем-то вроде внешнего мозга. У таких собак, как Кэйди, нам было трудновато отделить их собственные желания от хозяйских или понять, существует ли эта разница в принципе.
Чтобы выяснить, каково оно – быть Кэйди, одного только поведения недостаточно, поскольку поведением управляет множество разных мотиваций, и лишь отклик мозга мог позволить судить о причинах ее действий или бездействия. Имея среди испытуемых две такие полные противоположности в плане подчинения, как Либби и Кэйди, мы обрели идеальную возможность вычислить соотношение между желаемым и дозволенным у собаки.
Но для этого требовалось сперва включить Кэйди в работу в новой задаче.
Кэйди даже дотрагиваться до мишени не хотела – что странно, поскольку любимым ее занятием была игра в мячик. Мне казалось, что задание с мишенью похоже на беготню за мячом, ведь в обоих случаях собака тычется во что-то мордой. Но я снова попал впросак, рассуждая с человеческой, а не с собачьей точки зрения.
В головной катушке Кэйди застывала как статуя, поэтому до сих пор она была нашей самой лучшей и стабильной испытуемой. Сканирование у нее шло как по маслу. Но у медали оказалась и оборотная сторона: как только мы поменяли контекст задания, Кэйди выключилась. Судя по всему, она предпочла не догадываться, чего от нее хотят, а замереть и дожидаться подсказок от Патриции.
К счастью, нам ничто не мешало сыграть на сверхъестественной собачьей способности воспринимать указательный жест человека. Брайан Хэйр, специалист по эволюционной антропологии из Университета Дьюка, изучал эту способность у нескольких видов животных, включая собак и приматов. Как выяснилось, собака обычно понимает, что, если человек на что-то указывает, ей нужно посмотреть на соответствующий объект. Для человека это само собой разумеется, но другие приматы приходят к этому только после долгой тренировки, если вообще приходят. Обезьяна, скорее всего, попросту уставится на ваш палец. Насчет того, врожденная это способность или приобретенная, исследователи пока расходятся во мнениях. Моник Юделл из Орегонского университета, исследуя поведение псовых, продемонстрировала, что волки, с рождения выращенные людьми, с указательными заданиями справляются не хуже собак. Человеческая рука, считает Моник, имеет особое значение для собак и социализированных волков, поскольку псовые быстро привыкают видеть в ней руку кормящую. Поэтому для них вполне закономерно отслеживать, куда именно указывает эта рука, особенно когда в ней не оказывается лакомства. Хэйр же, наоборот, утверждает, что это врожденная способность, поскольку формировалась у собак тысячелетиями. Мы же, не углубляясь в споры, врожденная она или приобретенная, просто воспользовались ею, чтобы показать Кэйди, чего от нее хотят.
Сперва Патриция указала на установленную на полу пластиковую мишень. Кэйди сунулась под палец и стала увлеченно нюхать пол вокруг, задрав зад и виляя хвостом. Она явно выискивала лакомство. В процессе поисков Кэйди случайно уронила мишень. Это, разумеется, было засчитано за касание, Патриция тут же воскликнула: «Умница!» – и выдала награду.
Кэйди пока не понимала, что случилось, но играть ей понравилось.
Упражнение повторили еще раз, и еще, и еще.
Примерно через двадцать повторов у нее наконец щелкнуло. По очередному знаку Патриции Кэйди кинулась к мишени и опрокинула ее уже нарочно: свалив мишень, она оглянулась на Патрицию в ожидании похвалы и награды. Она усвоила, что лакомство закономерно появляется после опрокидывания мишени.
Когда Кэйди разобралась, что сбивать мишень – это такая забава, Патриция ввела в игру свисток. Теперь она не просто указывала на мишень, а добавляла к жесту свист. И снова понадобилось около двадцати повторов, чтобы Кэйди перенесла усвоенную закономерность на свисток, и жест стал излишним.
Теперь, когда Кэйди уверенно касалась мишени, пора было перенести отработку задания в головную катушку. Для выполнения эксперимента любой собаке, даже самой робкой, требовалось ткнуть носом мишень в головной катушке томографа. Но собаки на удивление чувствительны к контексту. Если Кэйди научилась касаться мишени на полу, это совсем не значит, что она готова проделать то же самое в головной катушке. И если для нас идентичность мишени очевидна, никто не гарантирует, что точно так же эту мишень воспринимает собака. Мы пока не знаем, каково оно – быть Кэйди.
Запустив Кэйди в головную катушку, где примерно в сантиметре от собачьего носа к опоре была прилеплена мишень, Патриция дунула в свисток. Кэйди в ответ просто уставилась на Патрицию. Абсолютно пустым взглядом.
Патриция попробовала еще несколько раз – без толку.
– И что теперь делать?
То же самое, что делали на полу, куда деваться. Указывать, а если понадобится, то и коснуться мишени, одновременно дуя в свисток, пока Кэйди не поймет, чего мы от нее хотим.
С такими, как Кэйди, дело продвигалось медленно. В отличие от Либби, они просто отказывались шевелиться, попав в головную катушку. Но в конце концов всех удалось научить тыкать носом в мишень по свистку и в той или иной степени воздерживаться от тычка при запрещающем жесте в виде скрещенных рук. Одни освоили этот фокус за пару месяцев, другим понадобилось полгода.
Теперь можно было переходить к сканированию. Если удача будет на нашей стороне и эксперимент спланирован правильно, то вскоре мы выясним, что же происходит у этих собак в голове.
Глава 2 Зефирный эксперимент
Патриция предпочитала приходить на томографию пораньше, поэтому прекрасным апрельским днем 2014 года они с Кэйди оказались в очереди первыми. Я приехал за полчаса до них, чтобы включить компьютеры и подготовить помещение. Застелил выдвижной стол свежей пеленкой, приставил лестницу, чтобы собаки могли забираться в аппарат сами. Через несколько минут пришел Питер и начал выкладывать свои приборы у дальнего торца томографа. Прежде всего – кнопочный счетчик, чтобы фиксировать время каждого испытания. Одну кнопку он будет нажимать, когда Патриция дунет в свисток, а вторую – когда Кэйди ткнет носом мишень. Затем Питер приклеил скотчем зеркальце к внутренней стенке тоннеля – отслеживать момент касания мишени. Наконец, закрепив в головной катушке опору для морды, мы отправили всю конструкцию вглубь аппарата.
В процедурную вбежала Кэйди, радостно виляя не просто хвостом, а всем задом. Она проходила это испытание уже в десятый раз. Ни намека на беспокойство. Через несколько минут, дав собаке слегка угомониться, Патриция скомандовала: «В катушку!»
Кэйди взбежала по лестнице и положила морду на опору, дожидаясь, когда Патриция обойдет аппарат и встанет у дальнего торца, прямо напротив Кэйди. По плану предполагалось для разминки прогнать десять раз «можно/нельзя», ничего пока не сканируя. Идеального исполнения мы не ожидали, но хотя бы 80 % правильных действий в обоих случаях получить хотелось бы.
Однако Кэйди впала в режим «в томографе шевелиться нельзя» и на свисток не реагировала вовсе. Надо было что-то делать. Марк предложил выпустить ее из томографа и ненадолго вернуться к игре.
– Гуляй! – велела Патриция.
Кэйди задом выползла из томографа и с абсолютно безмятежным видом, ничуть не обескураженная, спустилась по лестнице.
Мы расставили на полу несколько пластиковых мишеней, как в самом начале обучения. И хотя обычно от собаки нам требовалось спокойствие, тут я, подстраиваясь под характер Кэйди, затеял с ней возню, чтобы растормошить и настроить на игровой лад. Патриция свистнула и указала на мишень. Кэйди кинулась к ней, сбивая мишени на ходу. Мы дружно осыпали ее похвалами.
Посшибав мишени минут десять, Кэйди вроде бы созрела для повторного испытания в томографе. На этот раз дело пошло на лад. До идеала все равно было далеко, но все-таки примерно в 75 % случаев мишень она ткнула. Теперь можно было переходить к настоящему сканированию.
МРТ – удивительный метод исследования. Лучшего способа заглянуть внутрь организма пока еще не придумали. Для МРТ не требуется ни рентген, ни другое ионизирующее излучение, только мощнейший магнит и высокотехнологичная аппаратура, выстраивающая изображение. И поскольку радиация в процессе не участвует, МРТ безопасна для здоровья.
Но томографы капризны. Какие-то части вдруг отказывают, контрольная панель выдает загадочные ошибки, разобраться с которыми под силу только тайному техническому ордену наладчиков. Главная причина таких сложностей – необходимость держать магнит в холоде. Принцип работы томографа основан на генерации магнитного поля в 60 000 раз сильнее магнитного поля Земли. А для этого необходимо намотать на трубу много миль электрической проволоки и затем пустить по ней ток. Ток создает магнитное поле, ориентированное вдоль тоннеля томографа. Но для создания сильного магнитного поля требуется сильный ток – настолько сильный, что медная проволока плавится. Эту проблему удалось решить только в 1970-х годах, когда был открыт особый класс материалов под названием «сверхпроводники». В томографах используется проволока из ниобия и титана. При охлаждении до сверхнизких температур эти металлы приобретают нулевое электрическое сопротивление и способны выдержать ток какой угодно силы. При нулевом сопротивлении проволока не нагревается и ток не рассеивается. Сверхпроводимый магнит достаточно зарядить один раз, и он всегда будет в действии.
Сверхнизкие температуры удается обеспечить только с помощью жидкого гелия. В нормальных условиях этот газ легче воздуха, но, если хорошенько его охладить – до температуры –269 °С (–452 °F), он сконденсируется в жидкость. Оставлять его в открытом виде нельзя, иначе он выкипит, поэтому систему нужно держать герметично закупоренной, как скороварку. И даже в этом случае по законам термодинамики гелий постепенно будет превращаться обратно в газ. Соответственно, нужен насос, чтобы сжимать его и как можно дольше удерживать в жидком состоянии.
Из-за всех эти насосов и трубок кажется, будто томограф живет собственной жизнью. Компрессор – так называемая охлаждающая головка – гудит, как вентилятор. Первое, что вы замечаете, заходя в процедурную МРТ, – «чавканье» охлаждающей головки. Оно не смолкает никогда. По крайней мере, не должно. Наш новый аппарат, установленный на факультете психологии в Университете Эмори, успел пережить внезапную утечку гелия, которая привела к так называемому квенчу – потере сверхпроводимости и исчезновению магнитного поля. Очень разорительная неисправность. За капризный характер мы прозвали наш томограф Пенни – в честь такой же непредсказуемой героини сериала «Теория большого взрыва».
Хотя магнитное поле в томографе есть всегда, непосредственно во время сканирования необходимо создавать на определенных участках дополнительные поля. Они контролируются дополнительными магнитами – градиентными катушками, которые расположены в тоннеле сканера. Направляя электрический ток на градиентную катушку, можно изолировать для исследования требуемую область мозга. Управляет градиентами сложное программное оборудование, позволяющее быстро чередовать изолируемые области.
Если бы градиенты переключались где-то «за сценой», они не требовали бы отдельного упоминания. Но быстрая смена градиентов – процесс шумный. При каждом переключении градиентных полей катушки вибрируют, и вибрация эта передается всему аппарату. Томограф ведет себя как огромный динамик – и в самом его центре помещается наш четвероногий испытуемый.
В начале занятий мы приучали собак к шуму томографа, проигрывая этот звук в записи на нужной громкости. Но градиентные катушки все равно шумят так сильно, что приходится принимать дополнительные меры. Собачьи уши мы защищали обычными полиуретановыми берушами, которые применяют для проведения МРТ у людей, только фиксировали дополнительно цветной повязкой. А тем, кому категорически не нравились посторонние предметы в ушах, заменяли беруши шумоподавляющими наушниками.
Экипировав испытуемую и дождавшись, пока Питер займет свой пост, Патриция скомандовала: «Кэйди, в катушку!»
Мне из пультовой виден был только зад Кэйди. Когда она устроилась поудобнее, я проверил правильность положения с помощью предварительного – локализационного – сканирования. Это короткий десятисекундный прогон, дающий моментальный снимок того, что находится в катушке. При таком тесте градиентная обмотка издает только низкий гул, который у большинства собак никакого беспокойства не вызывает. Как и ожидалось, мозг Кэйди оказался точно в центре области визуализации.
Переходим к функциональному сканированию. Вот теперь мы получим снимок мозга Кэйди в действии. При фМРТ томограф запрограммирован на получение быстрой непрерывной череды изображений. Насколько быстрой, зависит от величины мозга. У человека на охват всего мозга уходит около двух секунд, но, поскольку у собаки мозг не крупнее лимона, времени на нее требуется в два раза меньше. В результате мы получаем серию снимков, напоминающих фильм. Поскольку при фМРТ градиенты меняются на высокой скорости, шум достигает девяноста пяти децибел – это примерно как отбойный молоток, работающий в пятнадцати метрах от вас. Поэтому уши защищать надо.
Я нажал кнопку сканирования на пульте. Звук отбойного молотка подсказал Кэйди и Питеру, что процесс пошел.
Когда Патриция подала первую жестовую команду, на дисплей операторской консоли полился поток снимков мозга Кэйди. Функциональные снимки не особенно подробны. При этом типе сканирования аппарат считывает изменения в насыщенности кислородом кровеносных сосудов, окружающих нейроны. При возбуждении нейронов прилегающие кровеносные сосуды расширяются, чтобы приток свежей крови позволил нейронам пополнить энергетические запасы. В ходе фМРТ сканер считывает изменения в кровотоке, выявляя участки нейронной активности, – это называется «ответная реакция зависимости уровня кислорода в крови», или BOLD.
BOLD-ответ составляет меньше 1 % от общего сигнала, а сигнал фМРТ, наоборот, активен и колеблется от 5 до 10 %. Частично эта активность вызвана тепловым движением молекул воды, но в основном обусловлена физиологическими процессами. Из-за пульсации крови мозг тоже пульсирует с каждым ударом сердца. Вызывает движение и дыхательный цикл за счет чередования концентрации кислорода и углекислого газа в крови. Все это заглушает BOLD-сигнал. К счастью, закон больших чисел позволяет преодолеть помехи, усредняя результаты множества повторов. Случайное искажение снижается в соотношении «корень квадратный от числа повторов». Так что за сто прогонов сканера фоновые помехи снизятся в десять раз.
Разглядеть, что происходит в тоннеле аппарата, я не мог: Кэйди заслоняла собой створ, но свисток доносился до меня через интерком отчетливо. Если Патриция не давала запрещающую команду, Кэйди, как правило, тыкала носом мишень, и поток снимков моментально отражал резкое движение головы. Я смотрел внимательно, проверяя после каждого тычка, вернулась ли голова в прежнее положение.
Спустя десять минут Питер вышел из-за аппарата и помахал мне рукой. Первая серия испытаний завершилась, и я остановил сканирование. Кэйди задом выбралась из тоннеля и, не переставая вилять хвостом, спустилась по лестнице.
– Ну как? – спросил Питер.
– Хорошо, – ответил я. – Между заданиями никаких лишних движений головой.
– Это у нее консервативность.
Консервативность в данном случае означала, что Кэйди склонна замирать, даже когда требуется действие. Вот она, ее робость и осторожность. У Кэйди наблюдалась явная нехватка инициативы.
После пятиминутного перерыва мы вновь приступили к работе. Повторили весь цикл еще три раза, и на этом для Патриции и Кэйди сегодняшний сеанс закончился. В итоге Кэйди выдала 75 % верных откликов по сигналу «можно», но при этом поразительно высокий (56 %) процент неправильных по сигналу «нельзя». То есть она касалась мишени примерно в половине тех случаев, когда этого делать было нельзя. Так что к недостатку самостоятельности добавлялись проблемы с самоконтролем. Мы надеялись, что ее мозг поведает нам, в чем тут дело.
Тем временем как раз подъехали Клэр и Либби, которая тут же принялась радостно прыгать на всех присутствующих. Я думал, что при таком темпераменте самоконтроль у Либби будет еще ниже, чем у Кэйди. И снова интуиция меня обманула.
Либби оказалась еще консервативнее Кэйди и тоже норовила замереть в томографе. Мы провели для нее такую же разминку с мишенями на полу, как для Кэйди, чтобы настроить на касание носом, затем запустили в аппарат. Результаты у Либби получились неоднозначные. Если на тренировке она отрабатывала «можно/нельзя» почти идеально, то в томографе касалась мишени по команде «можно» лишь в 46 % случаев. Зато команду «нельзя» она выполняла с той же почти идеальной точностью – 96 %. Таким образом, в отличие от Кэйди, у которой в томографе показатели ухудшались в обоих типах заданий, у Либби просто усиливался консерватизм, от чего страдало только выполнение команды «можно». А показатели выполнения команды «нельзя» улучшались.
К числу тех, кто одинаково хорошо справлялся с обеими командами, принадлежал Большой Джек. В свои девять лет он был самым старшим из участников проекта, и теперь солидную медлительность ему придавал не только лишний вес, но и возраст. Запускать его в томограф было делом рискованным. Я стоял рядом с выдвижным столом и страховал на случай, если Большой Джек вздумает свалиться. Зато, забравшись на стол, он уже не слезал с него до конца сеанса.
Разминку Джек отработал почти идеально, поэтому мы сразу перешли к сканированию. Джек и его хозяйка Синди Кин справились с заданиями на ура, и нам понадобился всего один перерыв. Итоговый результат – 70 % на команде «можно» и выдающиеся 96 % на команде «нельзя».
За несколько месяцев фМРТ во время выполнения теста «можно/нельзя» прошли тринадцать наших собак. Учитывая, что их стаж в проекте (в том числе и у моей Келли) не превышал пары лет, я гордился нашими успехами. Число собак, обученных нахождению в томографе, постепенно росло, а сложность выполняемых заданий приближалась к уровню тех, которые даются в процессе фМРТ людям. Хотя Келли продолжала участвовать во всех экспериментах, в том числе в тестировании «можно/нельзя», я предпочитал сидеть в пультовой и управлять томографом, а не выступать ее напарником в выполнении заданий. Отчасти дело было в том, что руководство проектом требовало все большей отдачи и отнимало время от наших тренировок с Келли. Но, поскольку мы с ней представляли команду первопроходцев в функциональном сканировании мозга полностью бодрствующих собак, я чувствовал себя обязанным служить для остальных примером.
С «можно/нельзя» Келли справилась замечательно: 83 % касаний мишени в случае «можно» и 89 % выполнения запрета в случае «нельзя». В этом ее превзошел только Эдди. Но, когда мы посмотрели снимки, оказалось, что Келли слишком много шевелится в промежутках между заданиями и польза от полученных данных невелика.
Движение сильно затрудняет расшифровку результатов фМРТ. Когда собака во время сканирования дергает головой, сигналы из соседних областей мозга накладываются друг на друга. Приемлемая степень подвижности зависит от разрешения получаемых изображений. В ходе большинства экспериментов фМРТ мозг сканируется с разрешением 3 мм, то есть он виртуально «нарезается» на кубики со стороной 3 мм. Эти кубики называются воксели (сокращение от volume elements – «объемные элементы») и представляют собой трехмерный аналог пикселей. Когда амплитуда движений диагностируемого приближается к размеру вокселей, на снимке возникают искажения. На всякий случай мы отсеивали все сканы, на которых мозг сдвигался больше чем на 1 мм по сравнению с предыдущим изображением.
У Келли, как сообщил Питер, улов оказался небогатым: «После обработки осталось меньше трети».
Для анализа этого недостаточно. Придется отстранять Келли от участия в этом этапе эксперимента. Обидно, однако я не вправе смешивать работу и личную жизнь. И потом, Келли не одна такая. Охана тоже слишком много шевелилась.
У оставшихся одиннадцати собак Питер вычислил средний BOLD-ответ при успешном выполнении команды «нельзя». Поскольку собака в данном случае должна воздержаться от касания мишени, голова остается неподвижной, что дает возможность считывать активность мозга, обеспечивающую исполнение запрета. Для сравнения мы ввели задания, в которых хозяин собаки давал жестовую команду поднятием руки. Этот сигнал все наши участники выучили с самого начала подготовки в рамках проекта. Поднятая рука означала «замри, получишь лакомство». Команда идеально контрастировала с сигналом «нельзя» – скрещенными руками, означавшими «замри и не двигайся, даже когда слышишь свисток, тогда получишь лакомство». В обоих случаях использовались жестовые команды и в обоих случаях правильное исполнение вознаграждалось. Единственное отличие – необходимость проявить самоконтроль, когда слышишь свисток.
Сравнив усредненный отклик при успешном выполнении задания «нельзя» с усредненным откликом во время контрольных заданий, Питер изолировал те участки мозга, которые включались во время активного торможения.
В результате выявился один-единственный участок – небольшая область лобной доли.
В отличие от человеческой головы, собачья состоит в основном из мышц, костной ткани и воздушных полостей. Челюстные и шейные мышцы обеспечивают силу укуса, а полости в черепе – это пазухи, входящие в систему обоняния. Мозг, надежно укрытый всеми этими слоями, занимает не больше четверти объема головы. Лобные доли представляют собой крошечный отдел мозга сразу за глазными яблоками. Если у человека под лобные доли отведена вся передняя треть мозга (это много, даже для приматов), то у собаки на них приходится лишь одна десятая общего объема мозга.
У человека на лобные доли возложено немало разных функций: это и речевая деятельность, и абстрактное мышление, и планирование, и социальное взаимодействие, а также множество других когнитивных процессов, которые мы пока не понимаем. Но небольшой размер лобных долей у собак не означает, что эти когнитивные процессы у них исключены (хотя речь очевидно отсутствует). Лобные доли располагаются в передней части мозга и отделяются анатомической границей в виде глубокой борозды. У приматов эта борозда проходит от темени к околоушной области и называется центральной, или роландовой. Спереди от этой борозды находятся нейроны, контролирующие движение, а позади – нейроны, отвечающие за тактильные ощущения. Таким образом, по центральной борозде проходит граница между ощущениями и действием.
У собак центральной борозды нет. Вместо этого у них имеется глубокая борозда, проходящая через темя и похожая на перевернутую скобку, – эта борозда называется крестообразной. Выявленный Питером участок расположен у ее нижнего конца. Другие исследователи отмечали во время выполнения схожих заданий активность в аналогичной области как у людей, так и у других приматов[10], а значит, мы, по сути, идентифицировали ту часть собачьего мозга, которая, как и у приматов, тормозит двигательный порыв.
Однако обнаружение этого участка в собачьем мозге просто подтверждало, что мы на верном пути, не более. Теперь требовалось сделать следующий шаг – разобраться, как эта зона осуществляет самоконтроль. Вот тогда нам, возможно, станут понятнее различия между Кэйди, Либби, Джеком и Келли. Может быть, мы даже сумеем помочь собакам, которые страдают недостатком самоконтроля, что обрекает их на заточение в приюте.
Первой зацепкой для нас стала разница в выполнении задания «можно/нельзя». Как и люди, одни собаки справлялись лучше других, и у нас выстраивалась довольно четкая корреляция между уровнем активности префронтальной коры и результатами испытания. Чем выше активность префронтальной коры, тем ниже процент ошибочных реакций. Это соотношение позволяло предположить, что собаки, которые задействовали при выполнении задания более обширную площадь своей невеликой префронтальной коры, справлялись лучше, чем задействовавшие меньшую. Дальнейшей нашей задачей было проверить, подтвердят ли свой успех отличившиеся в задании «можно/нельзя» в других испытаниях на самоконтроль.
Наиболее известные эксперименты по самоконтролю у человека ставил стэнфордский психолог Уолтер Мишел[11]. С начала 1970-х годов он с коллегами изучал способность к отсроченному удовольствию (вознаграждению) у детей. В ходе эксперимента, который впоследствии назвали зефирным, Мишел предлагал четырехлетним детям на выбор два угощения – любимое (печенье, например) и менее любимое. Но с условием: экспериментатор выходил из комнаты – обычно минут на пятнадцать, и, чтобы получить любимое угощение, ребенку нужно было его дождаться. Или можно было позвать его обратно звонком колокольчика, и тогда экспериментатор сразу возвращался, но с менее любимым угощением.
Годы спустя, когда дети стали подростками, Мишел обнаружил, что четырехлетки, сумевшие дождаться отсроченного вознаграждения, оказались – по оценкам родителей – более целеустремленными в учебе, чем не дождавшиеся. Кроме того, терпеливые были менее склонны к фрустрации и лучше умели противостоять искушениям. Нетерпеливые же дети, как, наверное, и следовало ожидать, выросли в нетерпеливых подростков.
Дальнейшая работа показала, что способность откладывать вознаграждение определялась совокупностью нескольких когнитивных факторов, самым, наверное, важным из которых выступает умение осознано переводить эмоционально заряженную реакцию немедленного удовольствия в нечто более абстрактное. Мишел научил некоторых из детей представлять картинку желанной награды, и тогда ожидание давалось им легче. И наоборот, когда угощение оставляли где-то рядом с ребенком, дождаться становилось почти невозможно.
Почти сорок лет спустя психолог из Корнеллского университета Б. Кейси провела первую нейровизуализацию мозга бывших участников эксперимента Мишела[12]. Испытуемые проходили эмоционально-ориентированную разновидность теста «можно/нельзя». Находящимся в томографе показывали изображения человеческих лиц. Лица одного пола выступали стимулом «можно», который требовал нажатия кнопки, а другого – стимулом «нельзя», нажатие исключающим. На лицах было то нейтральное выражение, то радостное или грустное. Поразительно, однако те участники, которые сорок лет назад в эксперименте Мишела не смогли отсрочить удовольствие, выдавали больший процент ошибок при реакции на эмоциональные лица, чем способные к отложенному вознаграждению участники.
Анализируя полученную картину активации областей мозга, Кейси обнаружила, что при правильном отклике на сигнал «нельзя» активируется небольшой участок префронтальной коры, называемый нижней лобной извилиной (НЛИ). Более того, у тех участников, которым в детстве отсрочка удовольствия давалась лучше, активность НЛИ при выполнении теста «можно/нельзя» оказалась выше, чем у менее терпеливых ровесников. На основании этих результатов Кейси вывела взаимосвязь между пожизненной способностью к отложенному вознаграждению и реактивностью НЛИ.
Результаты нейровизуализации в экспериментах Кейси совпадали с тем, что мы выявили у собак. Участок мозга, идентифицированный нами как связанный с правильным выполнением теста «можно/нельзя», выглядел явным аналогом той области, которую Кейси идентифицировала у человека. И теперь, чтобы проверить эту связь, нам нужно было провести собачью версию зефирного эксперимента.
Объяснить собаке, что нужно подождать, как объяснял Мишел детям, мы не могли: поди растолкуй нашим испытуемым, что, не дождавшись, они получат менее желаемое лакомство. И вообще, не факт, что собакам важно, какое там лакомство – лишь бы его давали. Так что зефирный эксперимент требовалось упростить.
Питер предлагал что-то в духе «положить лакомство перед собакой и заставить дожидаться разрешения». Все мы видели ролики с собаками, которые удерживают лакомство на носу, пока хозяин не разрешит съесть. Но никто из участвующих в проекте собак этого делать не умел, нужно было их научить.
Чтобы упростить задачу, мы просили хозяина уложить собаку, затем ставили лакомство в неглубокой плошке на расстоянии полутора-двух метров от ее морды. Питер прикрепил к плошке веревку, перекинутую через блок, и, если собака, не выдержав, кидалась к лакомству, просто выдергивал плошку у нее из-под носа. Собака получала награду лишь тогда, когда покидала место по команде.
Мы планировали выяснить, сколько продержится каждая из собак, прежде чем кинется к лакомству. Полученные результаты предполагалось взять за отправную точку как показатели самоконтроля у испытуемых. Но сложности возникли с самого начала.
Кэйди никуда не сорвалась. Она просто положила голову на лапы и смотрела на Патрицию в ожидании следующей команды. Через пять минут Кэйди заснула. А лакомство съела, только когда Патриция подманила ее к плошке.
Точно так же, но по совершенно иным причинам повел себя буйный португальский вассерхунд, носивший очень подходящую ему кличку Рывок (Tug)[13]. Он участвовал в проекте третий год и принадлежал к числу тех, кого оказалось труднее всего обучить замирать в томографе. В проект он попал двухлетним, поэтому, возможно, свою роль сыграла молодость, но в основном дело было в его неуемной энергии. И только благодаря чудесам дрессировки (заслуга его хозяйки, Джессы Фейган) ему удалось все же поучаствовать в нашем проекте. В зефирном эксперименте Рывок мгновенно улегся по команде Джессы, но, учитывая его непоседливость, я думал, что он тут же вскочит и кинется к лакомству. Ему очень хотелось. Он буквально поедал плошку взглядом. Потом он посмотрел на Джессу и начал лаять. Но с места не сдвинулся.
Кэйди и Рывок обозначили более обширную проблему. В собачьем варианте зефирного эксперимента у нас не получалось отделить самоконтроль от дрессировки. Нечестно было бы наказывать собаку, которая просто не понимала, что делать. И, хотя ни тот ни другая не нарушили команду «Лежать!», мотивы у Кэйди и Рывка, судя по поведению, отличались. Рывок очень хотел получить лакомство, но удержался на месте, выразив при этом свою досаду лаем. Кэйди либо осталась равнодушна к лакомству, либо была слишком заторможена, чтобы что-то предпринять без команды Патриции. Ни тот ни другой случай не требует самоконтроля.
Проработав так какое-то время, мы решили от зефирного эксперимента отказаться. Нам требовалось некое испытание на самоконтроль, которое не зависело бы от того, насколько выдрессирована собака.
И снова мы обратились к литературе по психологии развития человека. На этот раз подсказку нам дал предшественник Мишела – не кто иной, как сам «дедушка» возрастной психологии Жан Пиаже. Наибольшую известность ему принесла комплексная теория когнитивного развития, в рамках которой он сформулировал концепцию поэтапного формирования когнитивных навыков. На сенсомоторной стадии – от рождения до появления зачатков речи (то есть примерно до двух лет) – ребенок познает окружающий мир путем взаимодействия. Где-то к году он усваивает, что пропавший из поля зрения предмет не исчезает безвозвратно. «Постоянство объекта» – важная веха в развитии. После нее игра в «ку-ку» уже не приносит такого удовольствия, потому что появление маминого лица из-за разомкнутых ладоней больше не является неожиданностью.
На основе «ку-ку» точного эксперимента не проведешь, поэтому Пиаже придумал кое-что посерьезнее. В опыте «А или Б» перед ребенком ставят две коробки. Экспериментатор прячет под коробку А игрушку, потом, после небольшой паузы, достает – к восторгу ребенка. Так повторяется несколько раз, и ребенок нередко начинает сам тянуться к коробке, чтобы достать игрушку. Затем экспериментатор ломает шаблон – прячет игрушку под коробкой Б. Дети младше десяти месяцев продолжают тянуться к коробке А, хотя совершенно ясно видят, как экспериментатор убирал игрушку под другую коробку. К году почти все дети определяют местонахождение игрушки правильно.
Ошибки участников эксперимента «А или Б» свидетельствуют о несогласованности между сенсорным восприятием ребенка (он видит, куда кладут игрушку) и моторной деятельностью (тянется не к той коробке). У наблюдателя складывается впечатление, будто ребенок выбирает неправильную коробку по привычке, машинально. Этот ошибочный повтор называется персеверацией, и связан он с незрелостью лобных долей[14]. Сравнительные исследования подтверждают наличие этого явления и у животных. Обезьяны резусы легко выполняют задание на поиск еды, но, если у них повреждена префронтальная кора, они ошибаются в точности как девятимесячные человеческие дети[15].
Прелесть эксперимента «А или Б» в его простоте. Ребенку-участнику не нужно объяснять, что от него требуется, а заменив игрушку на лакомство, можно проводить такие эксперименты с очень многими видами животных. В знаковом исследовании 2014 года группа ученых-исследователей совместными усилиями провела через эксперимент «А или Б» тридцать шесть видов животных, в том числе обычных и человекообразных обезьян, лемуров, птиц, слонов, грызунов и собак[16]. В среднем 89 % собак отслеживали перемещение лакомства в емкость Б и выбирали ее при первой же подмене. Эти показатели сравнимы с результатами человекообразных (шимпанзе – 87 %, бонобо – 100 %, гориллы – 100 %), значительно выше, чем у койотов (29 %) и многих обычных обезьян (капуцины – 86 %, макаки-крабоеды – 67 %, саймири – 16 %). Птицы в большинстве своем справились не блестяще, кроме разве что некоторых видов голубей (55 %). Как ни странно, из слонов с «А или Б» не справился никто.
Анализируя полученные данные, исследователи обнаружили, что надежнее всего предсказать успех представителя того или иного вида в эксперименте «А или Б» позволяет размер мозга. Обладатели более крупного мозга (за исключением слонов), как правило, справлялись лучше. Правда, здесь имелся подвох, поскольку величина мозга в данном случае зависит от размеров самого животного. При сравнении в пересчете на массу тела связь между размером мозга и результатами сохранялась, но не такая четкая. У средовых факторов (доля фруктов в рационе, размер сообщества у данного вида и т. п.) такой корреляции с результатами эксперимента, как у размеров мозга, не наблюдалось.
Но размер мозга как таковой всех отличий не объясняет. Собаки, несмотря на относительно небольшой мозг, в «А или Б» почти не отставали от приматов. Зато от собак значительно отставали койоты, даром что близкие родственники и обладатели почти такого же мозга. А о чем говорит тот факт, что не все представители вида справлялись с заданием? Возможно, как и в зефирном эксперименте Мишела, одним особям испытание дается лучше, чем другим. Если так, не исключено, что между активностью лобных долей в «можно/нельзя» и успехами в «А или Б» существует связь. Таким образом мы нашли задание для нашего следующего эксперимента.
Через несколько месяцев после завершения томографической стадии экспериментов «можно/нельзя» мы разработали свою вариацию на тему «А или Б». Отгородив детскими воротцами часть комнаты, соорудили коридор метра два шириной и метра три длиной, на дальнем конце которого закрепили три ведерка. Среднее будет служить дистрактором (заведомо неправильным, отвлекающим вариантом), чтобы видно было, осознанно собака выбирает или наугад. Правое и левое ведра – это А и Б. Чтобы исключить вероятность поиска по запаху, мы приклеили лакомство скотчем позади каждого из ведер.
Начинать выпало золотистой ретриверше Перл. Под напряженным предвкушающим взглядом собаки моя дочь Хелен положила угощение в одно из ведер. И отвернулась, чтобы не давать визуальных подсказок.
Показывая, что съесть лакомство можно, Марк подвел Перл к нужному ведерку, и собака, виляя хвостом, тут же съела угощение.
Убедившись, что Перл поняла суть игры, мы повторили опыт еще два раза, но теперь Марк впускал Перл с дальнего конца коридора, чтобы она добиралась до ведерка А сама. На четвертый раз Хелен сперва поместила угощение в ведро А, затем переложила в ведро Б. Стоя позади Перл я видел, как она повернула голову, следя за рукой Хелен. Перл знала, где теперь находится лакомство.
Марк пустил ее в коридор.
Перл подбежала к среднему ведру. Ничего там не найдя, она сунулась в ведро А – и тут ее тоже постигло разочарование.
Я посмотрел на Питера и пожал плечами. По классическим правилам Перл испытание «А или Б» провалила. Не полностью – все-таки она почти добралась до ведра Б, выбрав сперва среднее, – но провалила.
Чтобы избежать подобной неопределенности в дальнейшем, мы решили, что у собаки должно быть несколько попыток после перекладывания лакомства. И результаты будут оцениваться по совокупности. Перл соображала хорошо: на второй попытке она двинулась прямиком к ведру Б. В целом эксперимент «А или Б» принес поразительный разброс в результатах. Дзен и Большой Джек выбрали ведро Б сразу после первой подмены, Кэйди и Эдди справились хуже всех: правильное ведро они выбрали только с одиннадцатой попытки.
Собакам, чаще других ошибавшимся в «можно/нельзя», как правило, требовалось больше попыток в «А или Б». И поскольку в обоих испытаниях измерялся, хоть и разными способами, самоконтроль, совпадение результатов свидетельствовало, что мы на верном пути к определению главной особенности каждой из наших собак.
Результаты эксперимента можно обобщить в виде простой схемы-цепочки: низкая активность лобных долей – высокий процент ошибок в «можно/нельзя» – более упорная персеверация в «А или Б». Пока это просто корреляция, делать выводы о прямой причинно-следственной взаимосвязи нельзя, но данные о функционировании лобных долей у человека и у животных убедительно свидетельствуют в пользу ключевой роли лобной коры и у собак тоже. В экспериментах по мотивам опытов Мишела/Кейси собаки с более высокой активностью лобной коры лучше справлялись с когнитивными заданиями на самоконтроль, чем собаки с менее активной лобной корой. А значит, ответ на вопрос, что испытывает собака, проявляя самоконтроль, кроется где-то в нашем собственном мозге. Мы все с этим ощущением встречались, отказываясь кто от второй порции десерта, кто от спонтанной покупки, а кто от вредной привычки. Судя по данным нейровизуализации, собаки испытывают примерно то же самое.
Результаты наших экспериментов были важны по двум причинам.
Во-первых, с практической точки зрения. Чего только не делают и к каким только приемам не прибегают хозяева собак, отучая их таскать еду со стола, раскапывать клумбы и мусолить всевозможные предметы гардероба! Собаки есть собаки, им это все очень нравится. Однако и они тоже разные. Я спокойно оставляю Келли бегать одну по всему дому, когда ухожу на работу, но отпустить ее с поводка на неогороженной территории не решусь никогда. Никакой самоконтроль не победит склонность терьера срываться за любым мелким зверьком или, что гораздо опаснее, за машиной. Ее привилегии определяются не только тем, что она собака, но и особенностями характера. Другие наши собаки пользуются другими привилегиями, тоже в зависимости от своих склонностей.
Во-вторых, связь между активностью лобных долей и поведением собаки выглядит аналогом схожей связи у человека. Аналогичные области в человеческом и собачьем мозге выполняют, судя по всему, аналогичные функции. Это важно, поскольку параллели в структурно-функциональной взаимосвязи приближают нас к ответу на вопрос, каково это – быть собакой или каким-нибудь другим животным. Я подозревал, что при активации у животного структур мозга, аналогичных нашим, оно испытывает аналогичные нашим ощущения. И проявление у собак индивидуальных особенностей точно так же, как и у людей, такую вероятность подтверждало. В конце концов, область нейробиологии человека тоже движется в сторону персонализированного подхода в лечении, когда на первый план выходит понимание индивидуальных различий в физиологии.
Наш проект начал выходить за рамки общих принципов функционирования собачьего мозга. Мы всё больше сосредоточивались на нюансах различий между собаками и на том, чтó эти различия говорят об их индивидуальном опыте. Но тот же подход к индивидуальным особенностям внутри вида можно распространить и на межвидовое сравнение. Расширяя границы исследования, мы могли перейти от выяснения, каково оно – быть Либби или Кэйди, к выяснению, каково быть собакой или каким-нибудь другим четвероногим (или двуногим) хищником.
Чтобы преодолеть разрыв между индивидуальными особенностями и видовыми, нужно на более глубоком уровне проследить взаимосвязь между структурой и функциями мозга. Какие структуры мозга являются общими для разных видов и насколько они различаются в пределах одного вида? Но, прежде чем переходить к этим вопросам, необходимо сперва разобраться с главным: зачем, собственно, нужен мозг?
Глава 3 Зачем нужен мозг?
Мозг – механизм довольно затратный в обслуживании. У человека его вес составляет скромные 2 % от массы тела, но зато он перекачивает 20 % кровотока и потребляет 20 % вдыхаемого нами кислорода. Он настолько чувствителен, что не выдерживает даже малейших перебоев в кровоснабжении. Резкий перепад давления может привести к обмороку, а отсутствие притока крови и кислорода свыше пяти минут чревато необратимыми нарушениями. Десять минут без кислорода – летальный исход.
Вы сели бы за руль автомобиля, обладающего такой же «надежностью»? Кому нужен механизм, который при малейшей неполадке выходит из строя и ремонту не подлежит? У такого капризного произведения природы преимущества явно должны перевешивать недостатки и затраты в обслуживании. Так зачем все-таки нужен мозг?
С наивной дарвиновской точки зрения мозг позволяет животному выжить и дать потомство, но это не объясняет, почему у одних животных он крупнее, чем у других, или почему у человека настолько развиты лобные доли. На этих различиях в структуре мозга основана разница в функционировании разных видов живых существ. Задача в том, чтобы эту структурно-функциональную взаимосвязь расшифровать. Задача колоссальная, учитывая, что человеческий мозг содержит не менее восьмидесяти миллиардов нейронов – точное количество установить не удается. Соответственно, собачий мозг, если исходить из соотношения размеров, содержит не менее пяти миллиардов.
И где-то в этом переплетении нейронов скрыт ключ к постижению психического опыта других животных. Ряд исследователей и философов утверждают, что понять переживания животного невозможно. Я считал иначе. Собачий проект указывал на сходство, как структурное, так и функциональное, собачьего мозга и человеческого. Однако одной лишь фМРТ ограничиваться было нельзя. Пусть она великолепно демонстрирует изменения, связанные с нейронной активностью, разрешение у нее все же ограниченное. Очень многое остается «за кадром». Чтобы добраться до физической, материальной основы того, как ощущает себя собака или любое другое животное (в том числе человек), нам нужно проникнуть глубже в устройство мозга.
За последнюю сотню лет наши представления о мозге изменились радикально. И хотя я не мог согласиться с утверждением, что мы никогда не узнаем, каково быть собакой, оглядываясь на историю нейронауки, должен признать, что в 1970-х перспективы и впрямь выглядели мрачными. Теперь все иначе. Прогресс в нейробиологии не ограничился стремительным пополнением массива данных – с каждым технологическим прорывом развивались и теории функционирования мозга.
Технология не только диктует нам, что можно измерять, но и служит источником метафор для описания деятельности биологических систем. Так было всегда. В описании функций мозга выделяются три основные метафорические темы: электрические переключатели как метафора связи «стимул – реакция», первые компьютеры как метафора символьных операций и интегральная схема как метафора нейронных сетей. Обратившись к истокам возникновения этих тем, мы можем определить контекст современных теорий функционирования мозга и сформулировать некоторые общие принципы, касающиеся его деятельности. Отсюда можно перейти к рассмотрению деятельности собачьего мозга и ее отличиям от деятельности человеческого.
Как серьезная наука нейробиология ведет отсчет с начала XX столетия – в этот же период мир переживал электротехническую революцию. В 1879 году Томас Эдисон запатентовал свою лампочку, к 1900 году Гульельмо Маркони уже испытывал радио. Еще до Маркони приемник, реагирующий на электромагнитные волны, сконструировал А. С. Попов. Ученый работал в Санкт-Петербурге, где в ту пору кипела научная жизнь, и там же трудился И. П. Павлов – основоположник рефлекторной теории поведения. И хотя мы не знаем, был ли Павлов знаком с Поповым, в работах Павлова электрическим приборам отводится заметная роль. Самое главное, Павлов продемонстрировал, что рефлексы бывают не только врожденными. Они могут вырабатываться в процессе так называемого обусловливания. Аналогия с электрической цепью прослеживалась безошибочная. Как и электрический распределительный щит, рефлексы можно перенастроить.
Следующие пятьдесят лет в психологии господствовали открытые Павловым условные рефлексы[17]. В 1911 году психолог Эдвард Торндайк обнародовал свой «закон эффекта», согласно которому действие, за которым следует реакция удовольствия, имеет склонность стать повторяющимся. На этом незамысловатом наблюдении другой психолог, Беррес Скиннер, впоследствии построит свою теорию оперантного научения.
Хотя уже тогда было хорошо известно, что в основе работы мозга лежат некие электрохимические процессы, теория, которую развивали последовательно Павлов, Торндайк и Скиннер, была, по сути, механистической. Мозг считали «черным ящиком» – непроницаемым и к изучению поведения никак не относящимся. Первый шаг за рамки этого скиннерианского убеждения был сделан в 1950-х, когда ученые обратились к мозгу (точнее, к его способам хранения информации) за новыми подсказками. Представления о мозге значительно усложнились по сравнению с примитивной схемой «стимул – реакция», главенствовавшей в предыдущую эпоху.
В значительной мере новый всплеск интереса к мозгу был спровоцирован изобретением компьютеров – теперь психологи рассматривали мозг как биологическое вычислительное устройство. Этот новый подход – «когнитивная психология» – сосредоточился на отображении знаний и информации в мозге и операциях с ними[18]. Тем не менее, поскольку основное внимание уделялось «программному обеспечению», то есть психике, мозг снова отошел на второй план, воспринимаясь как некая биологическая аппаратура. Многие исследователи грезили о светлом будущем, когда мы научимся обходиться без мозга и будем просто загружать его программу в компьютер. Вероятность крупных прорывов в области изучения мозга и создания искусственного интеллекта обеспечила неослабевающий интерес к когнитивному направлению в следующие тридцать лет.
Однако к середине 1970-х все больше ученых начали осознавать, что мозг хранит информацию совсем не так, как это делают компьютеры. В мозге, в отличие от компьютера, нет разделения на блок памяти и центральный процессор. Не имея базовых представлений о том, как аккумулируются знания в мозге, исследователи оказывались в тупике, пытаясь отделить программное оборудование (разум) от аппаратного (мозга). Статья Томаса Нагеля попросту подогрела эту неудовлетворенность. Нагель утверждал, что разбором мозга на составляющие разум не постичь. И хотя Нагель лишь откликался на явное бессилие редукционистского подхода к изучению разума, его статья расколола ученых на верящих и не верящих в пользу нейронауки, и этот раскол существует до сих пор.
В защиту биологического подхода к изучению разума выступили ученые новой формации, развернувшие проблему на сто восемьдесят градусов. Вместо того чтобы выискивать в мозге аналогии с компьютером, они, вдохновляясь достижениями нейронауки, начали разрабатывать компьютерные алгоритмы, имитирующие работу мозга. И первое, что они заметили, – высокая степень параллелизации в мозге, когда миллиарды нейронов работают одновременно. Массивная параллельная обработка данных происходит совсем не так, как в компьютере, где процессор исполняет команды последовательно. Эти новаторы – так называемые коннекционисты – показали, что простые сети, состоящие из нейроноподобных модулей, могут выполнять на удивление сложные задачи. Более того, нейронные сети способны самообучаться, не требуя божественного вмешательства программиста[19].
Эти ранние модели нейронных сетей поражали умением справляться с «человеческими» заданиями: распознавать почерк, обыгрывать человека в нарды. Развитие нейронных сетей совпало с технологическим прорывом в изготовлении интегральных схем, и очень скоро начали появляться нейронно-сетевые чипы. Тогда, пользуясь широтой информационного доступа и безграничностью вычислительных мощностей, нейронные сети объединили с алгоритмами искусственного интеллекта и получили гибрид под названием «глубокое обучение». Однако нейронные сети – это по-прежнему не более чем устройство ввода – вывода. Они моделируют определенный тип ввода данных из окружающей среды, преобразуют эти данные и выводят в необходимом виде.
Аналогия между работой мозга и устройствами ввода – вывода выглядит вполне разумной. Мы постоянно воспринимаем информацию, обдумываем ее и иногда действуем на основании обдуманного. Но в действительности аналогия эта должна быть прямо противоположной. Мозг возник не для того, чтобы обрабатывать информацию. Мозг у живых существ развивался для контроля над движениями. И действительно, у всех животных, обладающих мускулатурой, имеется нервная система, а у всех обладателей нервной системы имеется мускулатура[20]. Из этого взаимно однозначного соответствия между нервной системой и мускулатурой следует один неизбежный вывод, составляющий первый принцип функционирования мозга:
Наличие мозга у животных связано с необходимостью выполнять действия.
Однако действия эти зависят не только от строения животного, но и от среды его обитания[21]. И хотя обработкой информации мозг, несомненно, занимается, она необходима лишь постольку, поскольку облегчает действие. Более того, животное может контролировать обрабатываемую информацию – это называется активным восприятием[22]. И где-то в этой тесной взаимосвязи между мозгом и остальным организмом скрывается разум животного[23].
Чтобы разобраться, почему сложилось именно так, давайте вернемся к происхождению животных и их нервной системы.
Хотя первые формы жизни возникли четыре миллиарда лет назад (вскоре после образования самой планеты), прошло три миллиарда лет, прежде чем появились животные. До этого в атмосфере, вероятно, не хватало кислорода, чтобы обеспечивать потребности сложных жизненных форм. Но примерно шестьсот миллионов лет назад кислорода накопилось достаточно, и биоразнообразие на планете стало резко увеличиваться (произошел так называемый кембрийский взрыв). Многоклеточные организмы стремительно усложнялись, возникли первые представители тех, кого уже можно считать животными. Выглядели они примерно как современные медузы.
У медузы имеется нервная система и мышечное кольцо для реактивного движения. Но мозга у медузы нет. У нее и ее родственников, относящихся к биологическому типу стрекающих, есть нервная сеть. Разница между мозгом и нервной сетью – в степени централизации. Нервная сеть – это довольно простая нервная система, встречающаяся обычно у тех животных, которым не свойственны сложные движения.
Между тем, несмотря на отсутствие централизованного диспетчерского центра, нервные сети медузы позволяют ей предпринимать на удивление разнообразные действия. Хищные медузы чуют добычу, коснувшуюся шлейфа их стрекательных органов – нематоцистов. Сигнал о контакте идет по нервной сети, провоцируя срабатывание нематоциста и загарпунивание добычи. Сознание в этом не участвует. Собственно, осознавать происходящее просто некому и нечем ввиду отсутствия централизованной системы, которая отслеживала бы деятельность систем организма. Медузы – это, по сути, океанские зомби.
Что обычно хорошо заметно в строении медузы – радиальная симметрия. Это живая труба. Благодаря такой геометрической форме нервная сеть тоже имеет трубчатую конфигурацию.
Следующий крупный скачок в ходе эволюции нервной системы случился, когда от радиальной симметрии животные перешли к двусторонней. Представьте себе трубу, которую сплющили по всей длине. Радиальная симметрия у нее исчезает, остается лишь симметрия по отношению к продольной оси, и тем самым создается противопоставление лево – право, перед – зад. С таксономической точки зрения именно эти сплющенные трубки и были первыми двусторонне-симметричными животными. В простейшей форме они выглядели как плоские черви.
Вместе с двусторонне-симметричным организмом делалась плоской и нервная сеть. То, что прежде было радиально симметричным, сжималось в две жилы, проходящие вдоль левого и правого боков и связанные между собой редкой поперечной сетью. Как и у медузы, один конец трубы отличался от другого. У этих новых живых существ отчетливо выделялись голова и хвост. Двусторонне-симметричная нервная система – это наглядная демонстрация того, что происходит, когда нейроны ужимаются до непосредственной близости друг с другом. У них появляется возможность сформировать больше связей. А рост числа связей ведет к более сложным вычислениям. Одна из важнейших задач нервной системы двусторонне-симметричного живого существа – координировать действия левой и правой сторон. Нельзя, чтобы лево и право действовали наперекор друг другу. Так у первых двусторонне-симметричных существ появился первый примитивный центр управления.
Даже на этой ранней стадии эволюции животных заметно, как неразрывно нервная система связана с движением. Для того чтобы всего лишь извиваться в одном направлении, требуется высокая степень координации. Координация настолько важна, что у человека за нее по-прежнему отвечают значительные участки спинного мозга и стволовой области головного – напоминание о нашем бесхребетном прошлом.
Но чтобы разобраться в нескольких ключевых принципах функционирования мозга, нам не нужно восстанавливать весь ход эволюции от червей до современных видов животных. Во-первых, хотя эволюционное развитие и нелинейно, координация левой и правой сторон настолько значима, что это решение, единожды найденное и опробованное, «внедрялось» у всех последующих видов. Во-вторых, как только нервная система обрела функцию контроля над телом, следующей жизненно важной функцией стало принятие решений. Для этого животному потребовался мозг. Таким образом, мы возвращаемся к принципу первому:
Наличие мозга у животных связано с необходимостью выполнять действия.
Эволюция – это единственный основополагающий принцип для всей биологии, однако осознать, как в ходе эволюции появился современный мозг, не так уж просто. В самом строгом смысле, как предполагал Дарвин, эволюцию проходит весь организм целиком. Животное должно дожить до половой зрелости и успеть оставить потомство. Отдельные части организма, например мозг, эволюционируют лишь благодаря изменениям, которые дают животному преимущество либо в борьбе за выживание, либо в размножении. Соответственно, хоть мы и вправе говорить об эволюции мозга, нужно учесть, как изменения в его структурах повышают приспособленность животного к условиям окружающей среды, а не просто проследить, как эти изменения делают мозг все больше похожим на человеческий. Отсюда следующий принцип функционирования мозга:
Мозг нужен животным, чтобы приспосабливать свои действия к условиям окружающей среды.
Другими словами, животные существуют не в вакууме. Они – часть окружающего их мира, и одна из функций мозга заключается в том, чтобы выстраивать связь между окружающей средой и системами принятия решений у животного, а также в конечном итоге его организмом.
После червей животные начали становиться интереснее: у них образовался хребет. Первые позвоночные появились пятьсот миллионов лет назад. Поначалу они не слишком отличались от червей, разве что были чуть крупнее, но именно в силу увеличения в размерах им и потребовалось в качестве внутренней опоры нечто более основательное, чем мягкая ткань. Так возникла хорда – стержневидное утолщение, проходившее у этих животных вдоль всего тела. По мере увеличения животных в размерах необходимость контроля и координирования требовала еще большего усложнения нервной системы, что вело к дальнейшей ее консолидации и централизации.
Современным живым примером таких организмов служат миноги и миксины – придонные бесчелюстные обитатели океана. В зависимости от личного восприятия, они могут показаться вам либо самыми восхитительными, либо самыми страшными из океанских существ. Миксины довольно безобидны и большую часть жизни проводят, извиваясь в донном иле. При угрозе выделяют густую слизь. Миноги же выглядят как персонажи научно-фантастического фильма (собственно, миногами и вдохновлялись художники «Звездных войн» и «Дюны», придумывая песчаных червей). Миноги прикрепляются к более крупным рыбам с помощью большой ротовой присоски, за присоской расположено кольцо зубов, которыми этот хищник вгрызается в плоть жертвы. Поскольку первые миноги появились в океане задолго до рыб, зубы у них, скорее всего, возникли как более позднее приспособление.
У ранних бесчелюстных позвоночных уже имелось то, что можно расценивать как первый выраженный мозг. Выпуклость на головном конце спинного мозга содержала все базовые области, имеющиеся в мозге каждого позвоночного: обонятельную луковицу, примитивную кору для принятия решений, область обработки сенсорной информации и область координации и управления системами жизнеобеспечения.
У этих первых позвоночных и тело, и мозг были приспособлены для контроля над действиями в немыслимой для беспозвоночных степени. Однако такое разнообразие населяющих океан животных неизбежно подогревало конкуренцию. Одними рефлексами тут было не обойтись. Выжить в древнем океане могло животное, превосходившее соперников в гибкости принятия решений. Способность варьировать поведение давала виду существенное преимущество перед теми, кого ограничивала намертво вшитая моторная программа. Потребность в гибкости поведения выводит нас на третий принцип функционирования мозга:
Мозг нужен животному, чтобы учиться.
В действительности учиться способны даже животные с простой нервной системой, но степень обучаемости при этом будет соответствующая. Связь стимул – реакция – это тоже форма научения, для которой достаточно нескольких нейронов. Научение, осуществляемое полноценно развитым мозгом, гораздо глубже. Разумное существо может и должно осознавать, что окружающая среда таит в себе как блага, так и опасности – в основном второе. Вероятность выжить и дать потомство зависит во многом от умения выстроить длинную цепочку правильных решений и избежать неправильных, чреватых гибелью. Вторую попытку никто не даст. Как же тогда животное учится на собственном опыте, не расставаясь с жизнью?
Дело в том, что в ходе эволюции мозг достиг большего, чем просто способности воспринимать информацию и соответственно действовать. Высокоразвитый мозг постоянно прокручивает модели возможных действий и их последствий, как мы просчитываем ходы при игре в шахматы. По мере расширения поведенческого репертуара у позвоночных вынужден был усложняться и мозг. Частично это усовершенствование было направлено на то, чтобы угнаться за усложнением действий, но в основном увеличение размеров мозга отражало растущую потребность обыграть соперников в дарвиновской борьбе за выживание. И хотя научение строится на прошлом опыте, необходимость смотреть вперед и прогнозировать вероятные сценарии ведет к четвертому принципу функционирования мозга:
Мозг моделирует возможные действия и будущие последствия, чтобы принять оптимальное решение в конкретной ситуации.
Спустя еще восемьдесят миллионов лет эволюционного развития появились рыбы. Это были хрящевые – класс, в который входят в том числе акулы и скаты. В ходе дарвиновской борьбы за выживание они становились всё крупнее и сильнее, что, в свою очередь, требовало укрепления скелета. Около четырехсот миллионов лет назад среди обитателей океана уже наблюдалось огромное разнообразие как хрящевых, так и костных рыб. Эволюция костяка привела к возникновению более сложных форм тела[24]. Увеличивалось количество плавников в разных местах, благодаря чему возрастали скорость и маневренность. И наконец, около трехсот девяноста миллионов лет назад произошел, пожалуй, самый важный скачок в эволюции позвоночных: часть плавников окрепла настолько, чтобы выдерживать вес тела на суше. Так произошли четвероногие.
Сначала они были похожи на тритонов и жили в основном в воде, лишь изредка отваживаясь выползать на берег. А тот, несомненно, изобиловал растительностью, и, когда все это изобилие оказалось в единоличном распоряжении земноводных, неудивительно, что они получили в борьбе за выживание огромное преимущество перед соперниками, не способными покинуть водную среду.
Икру земноводные откладывали в воде, поскольку на суше без защитной оболочки она бы погибла. В итоге образовалась еще одна эволюционная ниша – преимущество для тех четвероногих, которые будут откладывать яйца, способные уцелеть на суше, подальше от океанских любителей ими полакомиться. Такие яйца, с достаточной твердой оболочкой в виде скорлупы, появились около трехсот двадцати миллионов лет назад, и от животных, которые их откладывали (завропсид), произошли впоследствии пресмыкающиеся и птицы. Вскоре завропсиды стали царями планеты. Состав у этого класса был достаточно пестрым и отличался большим видовым разнообразием. Но примерно двести пятьдесят миллионов лет назад их сладкая жизнь внезапно оборвалась – в результате массового вымирания, так называемой пермской катастрофы. Причина ее неизвестна, гипотезы выдвигаются многочисленные – от метеоритных ливней до извержения вулканов и безудержного парникового эффекта. После этой катастрофы жизнь на планете восстанавливалась около десяти миллионов лет.
Из класса завропсид уцелели крокодилы и динозавры. У последних бум видообразования случился двести миллионов лет назад, когда большинство их соперников погибло в очередном массовом вымирании (триасово-юрском). Оставшиеся сухопутные, не принадлежащие к динозаврам, вынуждены были мельчать и умнеть, чтобы превзойти гигантов изворотливостью. Именно от них затем произошли млекопитающие.
Древнейшие предки млекопитающих, цинодонты, откладывали яйца, как пресмыкающиеся и птицы[25]. Цинодонты обитали на Земле со времен пермской катастрофы и выглядели как помесь крысы и ящерицы. Конечности у них были прямее, чем у рептилий, и это повышало их мобильность. Не исключено, что у цинодонтов имелись даже примитивные механизмы терморегуляции. В этом случае их можно считать первыми теплокровными. Если самым крупным из цинодонтов хватало массы тела, чтобы сохранять тепло, то более мелких в холода, вероятно, согревала шерсть. Дальнейшая эволюция привела к появлению новой репродуктивной стратегии, позволявшей яйцу развиваться внутри организма, что уберегало зародыш от гибели в зубах хищника. Эта ветвь млекопитающих – терии, или настоящие звери, – рождала детенышей живыми, и именно от них ведут свою историю все ныне живущие млекопитающие.
Динозавры, возможно, обитали бы на Земле по сей день, если бы не астероид, столкнувшийся с нашей планетой шестьдесят шесть миллионов лет назад и погубивший всех динозавров, кроме птиц. Мел-третичная катастрофа стала пятой и самой недавней в череде массовых вымираний, и, хотя потери понесли все виды, во время восстановительного периода млекопитающие получили заметное преимущество. После исчезновения динозавров они стремительно расширили видовое разнообразие, заполнив пустующие экологические ниши.
А еще млекопитающие выросли в размерах – и тут мы снова возвращаемся к разговору о мозге.
Чем крупнее тело, тем крупнее мозг. Вроде бы очевидно, однако споры о предпосылках и последствиях этого факта не утихают уже более ста лет[26]. Чтобы рассмотреть сознание животного с биологической точки зрения, сперва нужно объяснить различия в размерах мозга и понять, что дает – и дает ли – крупным животным вся эта дополнительная нервная ткань.
В 1973 году психолог Гарри Джерисон выдвинул гипотезу – простое правило, объясняющее межвидовую разницу в размерах мозга. Он писал: «Масса нервной ткани, отвечающей за определенную функцию, соответствует количеству обрабатываемой информации, требуемой для выполнения этой функции»[27]. Он назвал это «принципом надлежащей массы». Поскольку биологической системе требуется постоянный источник энергии, рассуждал Джерисон, та или иная область мозга способна развиться лишь до тех размеров, которые необходимы для выполнения возложенных на нее задач. Дальнейшее увеличение – это уже расточительство. В таком случае должно быть верно и обратное: размер той или иной структуры мозга позволяет судить об относительном (в сравнении с другими отделами мозга) объеме выполняемой ею работы.
По логике Джерисона, более крупный мозг должен в таком случае обрабатывать больше информации, чем уступающий ему в размерах. Но чем это обусловлено?
Первые подсказки нам дает геометрия тела животных и математическая зависимость между весом тела и мозга. У мелких птиц соотношение веса мозга и тела составляет 1:10, у собак и кошек – примерно 1:100, у слона – около 1:500, у синего кита – приблизительно 1:14 000. Так что хотя у больших животных мозг действительно крупный, увеличивается он не строго пропорционально размерам тела. Его вес пропорционален весу тела примерно в степени 2/3[28].
Данный показатель степени важен нам, потому что согласно фундаментальным геометрическим законам площадь поверхности объекта пропорциональна его объему в степени 2/3[29]. Эта математическая зависимость обусловлена вовсе не тем, что у более крупного животного больше мышц, а значит, больше объектов для контроля. У насекомых, например, количество мышц примерно совпадает с нашим. Дело не в этом, а в том, что, как проницательно подметил Джерисон, с увеличением площади поверхности увеличивается объем поступающих от кожи сенсорных данных, которые мозгу нужно обрабатывать.
Ученые любят объяснять биологические явления с помощью математических правил, однако лучше все же воспринимать эти правила как ориентиры, а не как непреложные законы. У таких правил всегда бывают исключения (и в данном случае исключение довольно примечательное – человек)[30]. Наш мозг гораздо крупнее, чем следовало бы предполагать, исходя из правила площади поверхности. Более того, это объяснение не принимает в расчет другие сенсорные системы, в частности зрительную, роль которой сильно различается у разных видов.
В результате появилась новая мера – коэффициент энцефализации, EQ, который выводится из соотношения объемов мозга и организма в целом. Соответственно, несмотря на то что абсолютный размер мозга у слона огромен, EQ покажет, действительно ли он велик в пропорции к гигантскому слоновьему телу. Джерисон определил средний EQ для млекопитающих равным единице. Если у того или иного вида EQ выше единицы, значит, мозг у него достаточно крупный относительно тела, и, наоборот, при EQ меньше единицы мозг для тела таких габаритов мелковат. У кошек показатель составляет ту самую среднюю единицу, у собак чуть выше – 1,2. У обычных обезьян, шимпанзе и слонов EQ равен примерно 2, а вот у дельфина афалины достигает 4. Человек занимает верхнюю ступень этой иерархии с EQ равным 7.
Напрашивается вывод: чем выше EQ, тем умнее животное, однако это верно лишь в грубом приближении. Если расценивать интеллект как владение речью и способность оперировать отвлеченными понятиями, то человек, разумеется, и тут окажется впереди всех, и проще простого объяснить это тем, что наш мозг имеет размер выше среднего. Но, даже если сравнивать между собой только людей, зависимость интеллекта от EQ не выдерживает критики. Возьмем двух человек с одинаковым размером мозга. Предположим, один весит 70 кг, а второй – 110 кг, и тогда у первого EQ будет равен 7, а у второго – 5. Но вроде бы никем пока не доказано, что, похудев, человек становится умнее[31].
В последнее время EQ вызывает все больше сомнений, поскольку его расчеты основаны на том, что вещество мозга у всех животных одинаково, а это, возможно, не так. Бразильский нейрофизиолог Сюзана Эркулано-Хузель с 2006 года разрабатывает способ измерения числа нейронов в мозге[32]. Прежде надежного способа не существовало, все сводилось к исследованию случайных образцов разных участков мозга, а затем результаты распространялись на весь остальной мозг. Эркулано-Хузель придумала, как превратить целый мозг в «бульон», из которого затем можно отфильтровать нейроны. И, подсчитав число нейронов в мозге разных животных, она обнаружила, что показатели у человека не такие уж и выдающиеся. Хотя нейронов у человека и вправду много – около восьмидесяти шести миллиардов, количество это вполне соответствует размерам нашего тела в сравнении с другими приматами. А вот между приматами и всеми остальными млекопитающими разрыв действительно большой. Нейроны у приматов мельче и благодаря своей микроскопичности укладываются в мозге заданного объема более плотно. Эркулано-Хузель доказывает, что интеллект определяется именно числом нейронов, особенно в коре мозга, а вовсе не коэффициентом энцефализации.
Однако и объем мозга, и число нейронов – это лишь общие параметры, сообщающие нам ненамного больше, чем сообщает о человеке его рост или вес. Чтобы понять субъективные ощущения животного, нужно проникнуть глубже в устройство его мозга.
Поскольку общие размеры мозга мало что объясняют, придется обратиться к другим переменным, и следующая такая переменная – это размер определенных его частей. Отдельные области мозга все равно должны подчиняться принципу надлежащей массы, то есть более обширные зоны обрабатывают больше данных, и на этом основании можно судить о внутренних ощущениях животного. А поскольку обслуживание нейронов требует от организма крупных затрат, размер области мозга может рассказать и о том, насколько выполняемая ею функция важна для животного.
Но, прежде чем углубиться в изучение отдельных областей мозга, нам нужно уточнить один момент, касающийся размеров. Измерять можно тремя способами. Первый, самый прямолинейный, – вычислить абсолютный размер области, то есть ее объем. Второй – вычислить пропорциональный размер области, то есть ее долю в общем объеме мозга. Этот показатель довольно интересен, поскольку у каждого отдела соотношение с общим размером мозга индивидуально. Так, например, по мере увеличения объема мозга все больше и больше становилась доля коры. Другие отделы, такие как мозжечок и стволовая часть, тоже росли, но менее стремительными темпами, чем кора. Пропорциональные размеры коры, мозжечка и стволовой части отличаются у разных видов удивительным постоянством, особенно у млекопитающих, – на этот счет существует теория, утверждающая, что главные отделы мозга развивались согласованно[33]. Логика в этом есть. Поскольку в мозге все взаимосвязано, то происходящее с одним отделом отражается и на других.
Но, если отделы мозга развивались согласованно, как же тогда в ходе эволюции расширялись или сокращались те или иные функции? Ведь эта дифференциация и лежит в основе того, что отличает мозг кошки от мозга собаки или мозг человека от мозга шимпанзе. Данный парадокс приводит нас к третьему способу определения размера отдельных областей мозга.
Если пропорциональный размер – это отношение отдела мозга к общему объему, то относительный размер – это соотношение отделов между собой. У собак большие обонятельные луковицы, но что значит в данном случае «большие»? На долю обонятельной луковицы у собаки приходится около 0,3 % общего объема мозга. Если мы добавим прилегающую нервную ткань (обонятельные пути и обонятельную полоску), доля вырастет до 2 % от общего объема. У человека эта доля составляет 0,01 и 0,03 % соответственно, однако пропорциональный размер может быть небольшим, поскольку значительную долю объема забрали остальные отделы коры. Поэтому нам нужно определить объем обонятельной системы по отношению к другим сенсорным системам, например зрительной. Только тогда можно будет сравнивать обоняние собаки с человеческим. Если в ходе эволюции менялись относительные размеры областей мозга, может быть, мозг развивался как мозаика, каждый элемент которой подвергался индивидуальному эволюционному воздействию[34].
Еще одним примером мозаичной эволюции может служить относительность роли слуховой и зрительной информации. В процессе слушания звуковые волны улавливаются ушной раковиной и преображаются в колебания мельчайших косточек внутреннего уха. Волоски особых нейронов внутреннего уха трансформируют эти колебания в электрические импульсы, которые передаются по слуховому нерву в ствол головного мозга. По дороге к мозгу слуховые сигналы проходят через ряд структур, самая заметная из которых носит название «нижнее двухолмие». Левый и правый «холмики» образуют пару выпуклостей на задней поверхности среднего мозга. Как вы, наверное, догадываетесь, если есть нижнее двухолмие, должно быть и верхнее – оно действительно имеется, расположено выше нижнего и представляет собой аналогичную структуру, но для приема зрительной информации. Анатомы давно поняли, что относительные размеры нижнего и верхнего двухолмий соответствуют относительной важности слуховой и зрительной информации для животного. У летучих мышей и дельфинов, пользующихся эхолокацией, нижнее двухолмие крупнее верхнего, тогда как у животных, больше полагающихся на зрение, в том числе у многих приматов, крупнее верхнее двухолмие.
Один из самых убедительных примеров взаимосвязи между относительным размером и функцией того или иного отдела дает нам птичий мозг, а точнее, структура под названием гиппокамп, находящаяся между корой и стволом. У млекопитающих она образует восходящую дугу с внутренней части височной доли. У птиц – скобку в верхушечной части больших полушарий[35]. В одном из классических исследований Джон Кребс, зоолог из Оксфордского университета, измерил относительный размер гиппокампа у птиц, которые запасают еду (например, ворон), и не запасающих (таких, как зяблики). Сравнив в том числе размер тела и общий объем мозга, Кребс обнаружил, что у запасающих гиппокамп крупнее, чем у не запасающих[36].
Гиппокамп уже достаточно давно известен как одна из ключевых структур, отвечающих за формирование памяти. В 1950-х годах некому Генри Молисону, страдавшему эпилепсией, удалили обе части гиппокампа в надежде тем самым избавить его от заболевания. В этом смысле операция увенчалась успехом. Но Генри Молисона (точнее, пациента Г. M., как его до самой кончины называли во всех научных работах) ждал и другой «успех» – слава самого знаменитого больного в истории неврологии, поскольку после операции он лишился способности формировать новые воспоминания. У животных гиппокамп важен, прежде всего, для пространственной памяти – помнить, где что расположено. Поэтому вполне логично, что в мозге птиц, запасающих еду впрок, ему должно быть отведено больше места.
В поддержку теории мозаичной эволюции мозга эти примеры приводят чаще всего. Примеры убедительные и хорошо иллюстрируют основополагающую взаимосвязь между относительным размером отделов мозга и их функцией. Однако в большинстве остальных случаев доказательство получается не особенно убедительным. Вариации в размерах других отделов мозга в основном соотносятся с общим его размером. Животные становились крупнее, а значит, рос и мозг вместе со всеми его составляющими.
Но, как и повсюду в жизни, размер – это не главное. Главное – связи.
Хотя нейронам достается львиная доля внимания исследователей, толщина серого вещества коры головного мозга, в котором находятся клеточные тела нейронов, составляет ничтожные три миллиметра. Бóльшая часть мозга состоит вообще из другого – из глиальных клеток, служащих нейронам опорой и метаболическим проводником. Спинномозговая жидкость (ликвор) создает что-то вроде подушки безопасности, поддерживая мозг на плаву. Далее идет белое вещество, которое тоже занимает существенную часть объема. Белый цвет ему придает похожая на воск субстанция под названием миелин, выполняющая роль электроизолирующей оболочки у аксонов. Синапсы, где происходит передача информации между нейронами, расположены в сером веществе, однако наличие белого вещества позволяет сообщаться и нейронам, находящимся на значительном расстоянии друг от друга – в разных отделах мозга или в головном и спинном мозге. Длина аксонов в белом веществе спинного мозга может достигать метра.
Джерисон изучал серое вещество, потому что именно там располагаются нейроны. До недавнего времени мало кто из нейробиологов интересовался белым веществом, поэтому обнаруженная Кэчэнем Чжаном и Терренсом Сейновски (специалистами из Института биологических исследований Солка) значимая связь между белым и серым веществом оказалась для всех полной неожиданностью[37]. Чжан и Сейновски измерили объем серого и белого вещества в мозге пятидесяти девяти разных млекопитающих – от крохотной малой бурозубки до слона и дельфина гринды. Отраженные на логарифмической шкале результаты измерений выстроились в прямую линию. На таком типе графиков крутизна кривой дает показатель степени для пересчета – в данном случае объем белого вещества оказался равен объему серого в степени 1,23.
Эта величина представляет интерес по двум причинам.
Во-первых, степень больше единицы, то есть объем белого вещества увеличивается быстрее, чем объем серого. По мере увеличения мозга белое вещество занимает все больше места. Вполне закономерно, ведь чем больше в мозге нейронов, тем больше связей друг с другом им требуется. Поверхность коры в основном покрыта полотном нейронов, поэтому чем крупнее становится мозг, тем обширнее площадь этого полотна. Если бы все нейроны были связаны между собой, прирост числа соединений должен был бы составлять квадрат от количества нейронов. Но это не так.
Соответственно, во-вторых: степень меньше квадрата, то есть белое вещество увеличивается быстрее серого, но не настолько, чтобы все нейроны оставались связаны между собой. Неспособность обеспечить полную связь означает, что более крупный мозг распадается на обособленные отделы. Иными словами:
Увеличение мозга ведет к увеличению его модульности.
Чжан и Сейновски пришли к выводу, что взаимосвязь между объемом серого и белого вещества можно объяснить простым принципом, согласно которому мозг минимизирует количество дальних связей. Если волокно тянется на дальнее расстояние, оно занимает много места и грозит замедлением проводимости. Тракты в белом веществе похожи на автострады, по которым гонят дальнобойные фуры, – полезная штука, но очень дорогая в обслуживании. Представьте, что вам нужно разослать некое количество товаров по всей стране. Можно отправлять каждый отдельно из центрального отделения, а можно накапливать на местных складах и рассылать по окрестностям. Расходы на дальнюю пересылку минимизируются за счет объединения отправок на местные склады.
В математической зависимости, ничего нам не говорящей при других обстоятельствах, скрывалась труднопостижимая истина, касающаяся организации мозга. До Чжана и Сейновски ученые спорили о том, почему у разных животных отличается внешнее устройство мозга. Согласно принципу надлежащей массы, размер того или иного отдела связывали с объемом выполняемой работы – либо пропорционально, либо относительно. Чжан и Сейновски доказали, что размер связан, кроме того, с определенными затратами. По мере увеличения отделов объем тех областей мозга, которые отвечают за сообщение между этими отделами, увеличивался еще быстрее. В результате возник парадокс. Эволюция стремилась к централизации управления организмом, но по мере увеличения животных в размерах мозг становился все более дискретным. Современный большой мозг представляет собой уже не единое целое, а совокупность полуавтономных модулей.
Но, хотя взаимосвязь между объемами белого и серого вещества имеет основополагающее значение для понимания принципов устройства мозга, она все же относится лишь к размеру. Она не объясняет, почему мозг собаки не похож на мозг обезьяны резуса, хотя и тот и другой весят по сто граммов. Чтобы разобраться, за счет чего собачий мозг делает собаку собакой, а не обезьяной, нам нужно проникнуть в его устройство еще глубже и посмотреть, как распределены в нем белое и серое вещество. Нам нужна подробная карта взаимосвязей между разными частями.
Анализировать, как связаны между собой части мозга, – это примерно как вычислять принципы устройства экономики той или иной страны, глядя из космоса. Представьте, что вы находитесь на орбитальной Международной космической станции в двухстах пятидесяти милях от поверхности Земли. Как вы будете изучать Соединенные Штаты? Наверное, для начала присмотритесь к самым заметным элементам ландшафта – океанам, горам, рекам, городам. Они подскажут вам, где сосредоточена наибольшая активность, но и только. Если у вас острый глаз, возможно, вы разглядите магистрали, по которым осуществляется сообщение между центрами активности. Постепенно у вас сложится представление о том, как функционирует эта страна.
В конце XX века нейронаука занималась, прежде всего, «заметными элементами» – размером разных отделов мозга и предпосылками их активности. В XXI веке парадигма сместилась в сторону построения карты магистралей, и нейробиологи этого поколения уклонились в картографию. Эта область исследований называется коннектомикой[38].
Коннектомика, которая, разумеется, не сводится к простому построению карт, имела неплохие перспективы проникнуть, наконец, в разум животных. Связи между нейронами в разных отделах мозга выполняют важную функцию. Они координируют активность, и только благодаря этим связям животное воспринимает окружающую среду и осознает собственные действия. Соответственно, карта этих связей будет для нас чем-то вроде атласа, в котором можно наметить путь к разуму. Точно так же, как отличаются дорожные атласы Соединенных Штатов и Канады, будут отличаться эти карты у собаки и обезьяны. И чтобы понять, каково это – быть собакой, нам нужно взглянуть на ее «атлас автодорог».
Соединения в мозге настолько тесно связаны с психическими состояниями, что расстройства, вызванные их сбоями, в медицине описываются как «синдром разъединения». Когда связь между отделами мозга нарушается, они начинают функционировать обособленно, что приводит к возникновению ряда неврологических заболеваний. Так, например, левое и правое полушарие вполне тянут на два отдельных мозга. Эксперименты по разделению полушарий в 1950-х годах показали, что каждое из них способно обрабатывать информацию и управлять противоположной стороной тела. Однако без сплетения нервных волокон под названием «мозолистое тело», соединяющего полушария, человек уже не может объяснить, почему одна его рука делает одно, а другая – другое. При разъединении снижается осознанность. И если разделение полушарий – это результат хирургического вмешательства, то другие расстройства часто возникают из-за инсульта или травмы. Так, например, поражение пучка волокон, связывающего область восприятия речи с областью, отвечающей за порождение речи, ведет к синдрому разъединения, называемому проводниковой афазией. Больные, страдающие этим расстройством, говорят свободно, однако в силу отключения области, отвечающей за обработку услышанного, не отслеживают сказанное, поэтому речь их представляет бессвязный поток сознания.
Черепно-мозговая травма, например в результате резкого торможения при автомобильной аварии, приводит к обширному повреждению белого вещества. Если повреждение достаточно сильное, может нарушиться связь между корой и стволом. А поскольку в стволе находятся скопления клеток, ответственных за бодрствование, разрыв этой связи заканчивается для человека комой. Через какое-то время пострадавший может от таких повреждений оправиться, однако процесс восстановления идет неравномерно. Какие-то связи уже функционируют, а другие по-прежнему разорваны. И когда такое происходит, даже крошечная сенсорная стимуляция способна вызвать шквал активности в коре. Эта активность, в свою очередь, может проявляться буйством, воплями, бесцельной беготней. Больной зачастую не отдает себе отчета в своих действиях. В прошлом такое поведение купировали сильными успокоительными, теперь же, благодаря открытиям коннектомики, врачи научились минимизировать сенсорное раздражение для больных, выходящих из комы, а не глушить их транквилизаторами, и восстановление при таком подходе продвигается быстрее.
Травмы мозга и их лечение немало могут поведать нам о том, каково быть животным, поскольку при таких травмах выявляются связи между согласованной электрической активностью мозга и сознанием[39]. Собственно, сознание и есть не что иное, как согласованная электрическая активность. Из этого также следует, что сознание – это континуум осознанности, варьирующейся в зависимости от физического состояния организма и внешних стимулов. Даже в здоровом человеческом мозге сознание может колебаться от минимального восприятия внешнего мира, как во сне например, до высочайшей сосредоточенности во время целенаправленной деятельности, как, скажем, во время операции на мозге. Разница кроется в степени согласованности электрической активности. Когда части мозга разъединяются, пропадает способность согласовывать деятельность, и это ведет к расстройству сознания.
И хотя такие колебания характерны для всех животных, модель связей в мозге животного может послужить нам дорожной картой, которая укажет путь к возможному уровню сознания. Где-то между нервной сетью медузы и человеческой корой головного мозга располагается карта нейронных соединений, достаточно сложная и разветвленная, чтобы обеспечить возникновение ключевых составляющих сознания – восприятия, эмоций, движения, памяти и коммуникации. А за ними лежат те области сознания, которые позволяют преодолеть границы субъективного восприятия, например признать, что у других животных тоже есть психический опыт.
Пожалуй, главным условием наличия высших уровней сознания является память. Лишь сохраняя воспоминания о событиях прошлого, можно осознавать себя во времени. Память позволяет, просыпаясь поутру, ощущать себя тем же, кем ты был вчера. В мозге нет единого центра памяти, ее функции рассредоточены в разных областях коры и в других структурах мозга, и только благодаря координации их активности воспоминаниями можно пользоваться. Когда этот процесс нарушается, как, например, при болезни Альцгеймера, нарушается и самоощущение. При деградации мозга гибнут нейроны и нейронные связи, а с ними и воспоминания. Личный опыт в буквальном смысле слова идет прахом.
И хотя у животных, насколько нам известно, болезнь Альцгеймера не встречается, при определенных обстоятельствах их система памяти может пострадать под воздействием экзогенных (полученных из окружающей среды) токсинов. Известен случай, когда воздействию того же токсина подверглись и люди, – параллели между возникшими нарушениями у человека и животных изумляли. Расстройства памяти, как и расстройства сознания, многое могут поведать о том, каково это – быть человеком или, применительно к животному, каково быть этим животным.
Глава 4 Понять морских львов
Вконце 1987 года, в канун праздников, канадское здравоохранение столкнулось с эпидемией невиданных масштабов. Сотни людей наводняли приемные покои больниц. Они жаловались на тошноту и рвоту – логично было бы заподозрить некое пищевое отравление, но при этом у многих пациентов отмечалась спутанность сознания, а это для гастроэнтерита уже не характерно. Причем болезнь принимала серьезные формы. У нескольких пациентов дошло до припадков и комы. Четверо так и не очнулись и в течение недели скончались. А для тех, кто в конце концов вышел из комы, жизнь перестала быть прежней, поскольку они утратили способность формировать новые воспоминания[40].
С 4 ноября по 5 декабря 1987 года заболело сто семь человек. Источник заболевания власти вскоре определили: все больные незадолго до этого ели мидии. И все эти мидии были выловлены в устье реки на острове Принца Эдуарда, чуть севернее Новой Шотландии. Чтобы убедиться, что вспышка болезни действительно была вызвана мидиями, ученые ввели немного полученного из этих мидий экстракта мышам. Через десять минут мыши начали отчаянно чесаться. Затем у них возникли нарушения координации движений. Через час все они были мертвы.
Никаких экзогенных токсинов в мидиях не обнаружилось. Однако токсикологический анализ выявил высокий уровень домоевой кислоты. О домоевой кислоте тогда почти ничего не знали, но в химическом отношении она вела себя во многом похоже на нейромедиатор глутамат. Глутамат – самый распространенный из нейромедиаторов в мозге, он высвобождается одними нейронами и возбуждает другие. Избыток глутамата ведет к перевозбуждению и припадкам. Когда из нейронов хлещет глутамат, взрыв метаболизма буквально выжигает прилегающие к ним клетки[41]. Домоевой кислоты для аналогичного разрушительного воздействия требуется совсем немного. А еще домоевая кислота устойчива к термообработке, поэтому сохранялась в мидиях даже после варки.
При вскрытии тел отравившихся особое внимание уделялось мозгу. Перед патологоанатомами предстала впечатляющая картина гибели клеток в медиальных отделах височных долей, включающих гиппокамп и миндалину[42]. С тех самых пор, как пациент Г. M. после операции по избавлению от эпилепсии потерял способность формировать новые воспоминания, было известно, что нарушения в этой области вызывают серьезные расстройства памяти. Расстройство, с которым столкнулись монреальские врачи, было названо амнестическим отравлением моллюсками.
Вспышка заболевания представляла собой серьезную угрозу здоровью населения и могла привести к закрытию всего промысла моллюсков в Атлантике. Источник домоевой кислоты нужно было отыскать как можно быстрее, пока трагедия не повторилась.
Команда биологов рассредоточилась по всему острову Принца Эдуарда[43]. Под руководством биолога Стивена Бейтса из Департамента рыболовства и океанических ресурсов Канады они брали пробы воды и образцы моллюсков из всех бухт, то есть с двадцати пяти отдельных участков. Мидии питаются фитопланктоном, поэтому биологи исследовали прежде всего поверхностные воды, где скапливаются водоросли. Бухты тралили мелкоячеистой частой сетью, а в устьях рек, куда нельзя было зайти на тральщике, набирали воду насосом. Биологи работали наперегонки со временем, потому что бухты могли вот-вот замерзнуть.
Скопление вредоносных мидий обнаружилось на восточном побережье острова, в окрестностях селения Кардиган. Если не считать повышенного до токсических уровней содержания домоевой кислоты в мидиях, единственным отличием этого участка оказалась высокая концентрация фитопланктона под названием псевдоницшия. Бейтс отвез пробы в лабораторию и высадил их. Как и следовало ожидать, при анализе культивированных образцов псевдоницшии выявилось зашкаливающе высокое содержание домоевой кислоты.
Таким образом, токсическую дозу домоевой кислоты пострадавшие получили из мидий, питавшихся этим самым планктоном. Чем было вызвано появление псевдоницшии, выяснить не удалось, но вскоре она так же внезапно исчезла. Коварная водоросль спровоцировала один из самых трагических случаев массового отравления людей моллюсками. Следующее подобное происшествие произошло в Монтерее в 1998 году, но теперь жертвами оказались не люди, а морские львы.
Фрэнсис Галлэнд работала ветеринаром в Центре реабилитации морских млекопитающих в калифорнийском Саусалито. Об отравлении мидиями в Канаде она в свое время слышала, но особого значения не придала, поскольку тогда пострадавшими оказались только люди. Вспомнить об этом случае Фрэнсис пришлось в конце весны 1998-го, на пятый год работы в центре. Именно тогда ее телефон раскалился от звонков.
Обычно в год через центр проходило несколько сотен морских львов и тюленей. Как правило, это были истощенные детеныши, которые попадали на реабилитацию летом, через какое-то время после появления на свет. В центре их откармливали и выпускали обратно в океан. Но предшествующая зима выдалась нелегкой – не из-за холода, а из-за Эль-Ниньо, и к маю, когда самки начали рожать, у Восточного побережья уже полгода аккумулировались теплые водные массы. Понянчив детенышей каких-нибудь семь – десять дней, матери отправились в море за рыбой. Но далеко они не уплыли. В сотне миль к югу, в заливе Монтерей, были отмечены массовые выбрасывания морских львов на берег, причем на этот раз речь шла вовсе не об истощенных детенышах. Это были взрослые самки. И, как сообщалось, вели они себя словно пьяные.
Смотреть на это было горько. Путаясь в ластах, они заваливались на бок. Выписывали странные петли головой. Пытались чесаться ластами, но никак не могли унять зуд. Самые безнадежные просто лежали, сотрясаемые дрожью.
К середине июня в центре Галлэнд оказались семьдесят взрослых морских львов, все из залива Монтерей. Пятьдесят четыре из этих семидесяти – взрослые самки, половина из которых беременные. Заметного истощения у этих животных не наблюдалось, но помимо них Галлэнд выхаживала истощенных тюленят, число которых к июню перевалило за три сотни.
Это была тяжелая битва. Галлэнд и сотрудники центра старались, как могли, помочь пострадавшим. Они ставили капельницы обезвоженным, не способным есть и пить из-за эпилептических припадков. Они накачивали морских львов валиумом и фенобарбиталом, чтобы снять судороги, которые у самых тяжелых становились непрерывными, переходя в эпилептический статус (эпистатус). Видеть такое у животного не менее страшно, чем у человека. Обычно эпистатус длится не больше десяти минут, но прекращение судорог означает, что в мозге наступило кислородное голодание. В этот момент мозг начинает распухать. Галлэнд пыталась остановить процесс, вводя пострадавшим ударные дозы стероидов, но помогало это редко, и вскоре у животных останавливалось дыхание. Сделанное беременным самкам УЗИ показывало, что у многих плод уже мертв. И поскольку это неизбежно должно было привести к инфицированию и гибели матери, Галлэнд приходилось вызывать искусственные роды, чтобы спасти самок.
Ничего подобного в предыдущей практике Галлэнд не случалось. К концу июня ей удалось спасти лишь двадцать два пострадавших из семидесяти. Из пятидесяти четырех самок выжили только двенадцать. Задавшись целью выяснить причину массовой гибели морских львов, Галлэнд начала медицинскую экспертизу, которой посвящала все свое свободное время в ближайшие два года.
Судороги указывали на некое нарушение в мозге. Исследуя мозг погибших морских львов, Галлэнд обнаружила повторяющуюся картину некроза тканей. В медиальном отделе височных долей, непосредственно вокруг гиппокампа, мозг был весь усеян крошечными дырами, словно сыр. Сперва Галлэнд заподозрила химическое воздействие. Но анализ спинномозговой жидкости погибших не выявил никаких следов свинца или ртути, выступавших типичными подозреваемыми в подобных случаях.
Значит, пора было переключаться на нетипичные. К счастью, залив Монтерей относится к самым строго контролируемым морским заказникам в Соединенных Штатах – и береговая охрана США, и Океанариум залива Монтерей много лет регулярно брали там пробы воды. Возможно, надеялась Галлэнд, где-то в этих пробах скрывается и смертельная улика.
Каждый год еще до наступления календарной весны солнце встает над заливом достаточно высоко, чтобы стимулировать рост планктона. Первое его цветение обычно приходится на начало апреля. Планктон служит основным источником питания для многих видов рыб и китов, поэтому любые изменения в планктоне дают цепную реакцию. В том году приход Эль-Ниньо повлек за собой непредвиденные последствия.
В апреле средняя температура в Монтерее обычно составляет 12 °С. В 1998 году она подскочила до 16 °С. Обычно апрель – месяц засушливый, дождей выпадает не больше 2,5 миллиметра. Но в первой половине апреля 1998 года дождь шел почти каждый день, и к концу месяца количество осадков составило 75 миллиметров, то есть в тридцать раз больше среднего.
Дождь повлиял на планктон больше, чем потепление. Фрэнсис Галлэнд пришла к выводу, что из-за дождей увеличился объем сельскохозяйственных стоков в залив. Эти стоки, насыщенные удобрениями, несли с собой огромное количество питательного азота, вызвавшего буйное цветение планктона. К концу апреля в пробах, взятых береговой охраной, обнаружились новые виды водорослей.
Псевдоницшия вернулась.
Увидев доклады о цветении псевдоницшии в заливе Монтерей, Галлэнд не сразу связала ее с морскими львами. Морские львы не едят планктон. И не обладают необходимой мелкой моторикой, чтобы питаться моллюсками, как, например, каланы, поэтому в данном случае, в отличие от происходившего на острове Принца Эдуарда, моллюски как источник отпадали. Морские львы едят рыбу – и в выборе не привередничают, поэтому Галлэнд начала с самых распространенных видов в местах трагедии – с анчоусов и сардин. Как и следовало ожидать, брюхо у них оказалось под завязку набито псевдоницшией, которая под электронным микроскопом напоминала осколки стекла. Как ни странно, у рыбы домоевая кислота из планктона сосредоточивалась только в кишечнике, но для морских львов это неважно, поскольку они съедали рыбу целиком, получая таким образом критическую дозу токсина.
Когда Галлэнд наконец увязала все это между собой, ее открытие произвело эффект разорвавшейся бомбы[44]. Единственное различие между канадской трагедией и событиями в заливе Монтерей составлял носитель домоевой кислоты. И хотя катализатором послужил приход Эль-Ниньо, скорее всего, токсическое цветение было вызвано сельскохозяйственными стоками. До тех пор никто не связывал домоевую кислоту с массовой гибелью морских млекопитающих. В каком-то смысле можно считать везением, что Галлэнд обнаружила ее именно у калифорнийских морских львов. Их большая жизнеспособная популяция, насчитывающая около ста семидесяти пяти тысяч особей, отделалась малой кровью. Однако невозможно было предугадать, где псевдоницшия нанесет удар в следующий раз. На Гавайях, например, она могла полностью уничтожить всю крошечную популяцию белобрюхих тюленей, насчитывающую всего тысячу четыреста голов. После доклада Галлэнд встревоженная международная общественность принялась следить за прибрежными водами – и ради людей, и ради морских млекопитающих.
С каждым годом возвращение псевдоницшии в Калифорнию казалось все менее вероятным, и Галлэнд надеялась, что эта история осталась в прошлом. Но ее надежды не оправдались.
Залив Монтерей оказался эпицентром гибели морских львов не случайно. Его живописное побережье – это гребень величественного подводного каньона, уходящего в глубину почти на два километра. Перед бесстрашными аквалангистами почти у самого берега разверзается пропасть, о которой знают и морские львы: для них это удобное место охоты, где не надо заплывать далеко в море. Однако подобная конфигурация превращает залив в воронку, собирающую стоки с окрестных склонов.
Обилие и разнообразие морских форм жизни давало все основания разместить на берегу залива Монтерей океанологическую лабораторию. В 1965 году, когда Калифорнийский университет открывал филиал в Санта-Крузе, на северной оконечности залива, лаборатория уже входила в планы. Строительство началось в 1972 году после получения в дар участка, и в 1978 году Институт морских наук приступил к работе.
В задачи института входило всестороннее исследование морских форм жизни, однако в 1985 году Рон Шустерман учредил специальное отделение, занимающееся морскими львами и их филогенетическими родичами из группы ластоногих. Шустерман опроверг существовавшую прежде теорию, будто морские львы обладают способностью к эхолокации, как дельфины, и развернул на новой площадке амбициозную исследовательскую программу с целью выяснить, какие способности у морских львов все-таки имеются, включая любую гипотетическую возможность понимать речь. В то время рудиментарными способностями к языку наделяли только человекообразных обезьян, но Шустерману удалось в конце концов доказать, что морские львы понимают язык жестов. Бывшая его ученица Коллин Райхмут расширила программу исследований, приняла руководство лабораторией ластоногих после ухода Шустермана в 2003 году и заведует ею до сих пор.
Коллин Райхмут – воплощенное дружеское тепло и участие, при встрече и прощании она сердечно обнимается со всеми, на морской биологической конференции она нарасхват, и вокруг нее всегда толпа увлеченно слушающих студентов. Но за этой улыбчивостью и добродушием скрывается железная воля, с которой Райхмут руководит лабораторией ластоногих. На первом месте у Райхмут животные. Бывает, что в лаборатории одновременно содержатся морские львы, каланы и несколько видов тюленей – у каждого из животных собственный график ухода, включающий кормление и регулярный осмотр ветеринара. Высокоразвитый мозг ластоногих требует постоянной интеллектуальной стимуляции. Лаборатория функционирует круглые сутки без выходных, в ее штате – специалисты по поведению животных, ветеринары, исследователи, а также стажеры самых разных уровней подготовки. Никого из новичков к животным не допустят. Начнешь с самого низа, нарезки рыбы, и постепенно будешь продвигаться выше и выше, учась работать и взаимодействовать с животными.
Обычно Райхмут принимала стажеров на работу лишь после личного собеседования. Она знала, как важно отсеять обычных фанатов – с ластоногими это особенно актуально: сколько наивных сердец покорили их плавные изгибы и огромные выразительные глаза. Биологи называют такое свойство (сохранение у взрослой особи умилительных детских черт) неотенией, и против нее бывает невозможно устоять, особенно человеку с сильным материнским инстинктом. Однако обаяние неотении – это беда для серьезного ученого, поэтому Райхмут выставила плотные кордоны против сентиментальных студентов, норовящих очеловечивать животных.
Питер Кук почти ничем не напоминал типичного стажера лаборатории ластоногих. Образование у него было философское, а не биологическое или психологическое, как у большинства. Правда, его всегда интересовали исследования сознания у животных, но, с учетом строгих требований Райхмут, этого было мало. Чтобы повысить квалификацию, он год отучился по программе второго высшего образования на факультете психологии Колумбийского университета, а в свободное время работал в Нью-Йоркском аквариуме на Кони-Айленде, наблюдая за моржами. Эти наблюдения были для него тогда наилучшим возможным аналогом экспериментов с дикими животными, хотя тех моржей можно было назвать дикими лишь условно.
Завершив обучение в Колумбийском, Питер поступил в аспирантуру по специальности «психология» в Калифорнийский университет в Санта-Крузе. Теперь Райхмут не рисковала ничем, разве что получить очередного слепого обожателя ластоногих. Лаборатория относится к Институту морских наук, а с Питером пусть, если что, разбирается факультет психологии. Сработается с лабораторией – отлично. Не сработается – значит, будет искать себя на психологическом поприще. Вот с такими слегка расплывчатыми перспективами Питер и его жена Лила перебрались в 2007 году на Западное побережье.
В Санта-Крузе Питер и Лила устроились прекрасно. Из кампуса в лабораторию Питер мог ездить на велосипеде, в центре города на каждом шагу попадались вегетарианские рестораны, на рынке «Нью Лиф» торговали органическими фермерскими продуктами.
В коллектив лаборатории Питер, общительный и дружелюбный, вписался легко. Как и все остальные, он начал с низов – готовил корм для подопечных. Основы обучения животных он освоил быстро, несмотря на полное отсутствие предшествующего опыта, даже дрессировки собак.
Первые два года в Санта-Крузе пролетели стремительно. Все свободное от занятий на психологическом факультете время Питер проводил в лаборатории, постепенно продвигаясь по служебной лестнице. Ему было крайне важно научиться дрессировать морских львов, чтобы потом заставить их выполнять задания, с помощью которых предполагалось исследовать мыслительную деятельность.
В рамках работы над диссертацией Питеру предстояло протестировать память морских львов в лаборатории ластоногих. После массовой гибели животных в 1998 году было установлено, что нарушения в работе мозга морских львов вызвала домоевая кислота. Самые тяжелые случаи проявились припадками, но что происходило в менее тяжелых? Сказались ли каким-то образом нарушения, не выражавшиеся припадками? Ведь морской лев, перенесший воздействие токсина, все равно рискует погибнуть, например от истощения, поскольку разучится искать пищу. Или просто заблудится в море и утонет. Если гипотеза Питера верна, животные, подвергшиеся воздействию домоевой кислоты, должны были испытывать трудности при выполнении заданий, требующих запоминать местонахождение, даже если до припадков у этих животных дело не дошло. Умеренному воздействию домоевоей кислоты морские львы могли подвергаться в заливе и без Эль-Ниньо.
Поиски ответа на эти вопросы требовали серьезных усилий. Галлэнд, ставшая к тому времени старшим ветеринаром Центра реабилитации морских млекопитающих, должна была сообщать Питеру о поступлении пострадавших морских львов. Питеру предстояло забирать их после периода восстановления и перевозить в лабораторию Санта-Круза. Под руководством Райхмут он должен был учить этих диких животных выполнять задания на проверку функционирования памяти. Кроме того, чтобы изолировать результаты воздействия домоевой кислоты, Питеру требовалась контрольная группа – морские львы, поступившие в центр по другим причинам, не из-за отравления.
Домоевая кислота в организме надолго не задерживается. Она выводится с мочой и испражнениями за сорок восемь часов. Поэтому, если только животное не наелось токсичных анчоусов непосредственно перед поступлением в центр, сложно определить, страдает оно от домоевой кислоты или от чего-то другого. Тяжелые случаи сопровождаются характерными неврологическими симптомами, но только тяжелые. Так что лишь МРТ мозга может показать, поврежден ли гиппокамп.
Морским львам МРТ никто не делал, по крайней мере на регулярной основе. Однако оно было необходимо, чтобы выяснить, у кого имеется отравление домоевой кислотой, а у кого – нет. МРТ человеческого мозга можно провести в любом медицинском учреждении с соответствующим оборудованием, но морским львам для этой процедуры нужен наркоз. А у морских млекопитающих толстенная жировая прослойка, которая впитывает некоторые анестетики, словно губка. Кроме того, дыхательная система морских львов рассчитана на долгие задержки дыхания, поэтому, чтобы насыщать кровь кислородом под наркозом, нужны особые приемы. Ветеринаров, специализирующихся на морских млекопитающих, достаточно мало, а уж разбирающихся в анестезии и рентгенодиагностике – и вовсе не сыскать.
К счастью для Питера, почти к самому началу работы над проектом в центр прибыла Софи Деннисон, которая именно тогда проходила врачебную резидентуру как специалист по рентгенодиагностике. Деннисон организовала для морских львов МРТ в Редвуд-Сити – примерно посередине между Санта-Крузом и Центром реабилитации морских млекопитающих. А еще, к счастью для стесненного в средствах аспиранта, в Редвуд-Сити оценили неординарность проекта и согласились бесплатно предоставить помещение и оборудование для сканирования в нерабочие часы.
Первый подопытный у Питера появился в апреле 2009 года – молодой морской лев, попавший в Центр реабилитации из-за истощения. Его назвали Джеттихорн.
Питер выехал из Санта-Круза – забирать морского льва из Центра реабилитации. Через пару часов он миновал мост Золотые Ворота и свернул налево, к национальному парку Марин-Хедлендс.
В центре Питер загнал Джеттихорна в большую собачью клетку. Загрузить ее в кузов пикапа труда не составило, поскольку лев был еще совсем юный и некрупный. Но нужно было не задерживаться: переезд и так мог стать нелегким испытанием для Джеттихорна, сидящего в кузове. Чтобы минимизировать стресс, Питер решил ехать не по автостраде, а по живописной дороге вдоль побережья. В районе бухты Хаф-Мун-Бей, у излюбленного серфингистами пятачка под неофициальным названием Маверик, Джеттихорн оживился, услышав шум прибоя. Он пританцовывал в клетке, выгибая шею, пытаясь разглядеть океан. «Прости, не сейчас», – огорчил его Питер.
В лаборатории Джеттихорна, как прибывшего из дикой среды, поместили в карантинный бассейн, который Питер превратил в гигантский лабиринт. В рамках проекта для морских львов было запланировано два испытания, в обоих требовалось пробраться через простой лабиринт, чтобы добыть кусок рыбы. Питер понимал, что времени на каждого подопечного у него будет мало, поэтому испытание подбиралось с таким расчетом, чтобы можно было быстро обучить нужным действиям даже дикого морского льва, непривычного к работе в неволе.
Первое испытание имитировало естественный процесс добывания пищи. Морские львы – собиратели, им свойственна любознательность, поэтому лабиринты как тип заданий подходили для них идеально. Если морской лев знает, что где-то его ждет рыба, он пустится на поиски. Раз в день Питер ставил по периметру ограды, окружавшей карантинный бассейн, четыре ведра, но рыба находилась только в одном из них, и это ведро всегда было в одном и том же месте. Чтобы испытуемые не видели, как Питер закладывает рыбу, он подвесил все четыре ведра на веревке через блок и, подтянув наверх, помещал рыбину в одно, то самое, неизменное, а потом опускал все четыре одновременно.
В первый день, когда Питер опустил ведра, Джеттихорн выпрыгнул из бассейна и отправился на разведку. Может, просто не повезло, но двинулся он сперва к тому ведру, которое стояло дальше всех от содержащего рыбу, а потом начал обходить бассейн против часовой стрелки, проверяя каждое ведро, пока, наконец, не добрался до нужного. Секундомер Питера показал тридцать две секунды.
На следующий день Джеттихорн, выпрыгнув из бассейна, кажется, призадумался. Постоял на мостках, покачиваясь вперед-назад. Спустя двадцать восемь секунд он пополз к правильному ведру, не заглядывая в остальные. На третий день он справился еще быстрее, добыв рыбу за двенадцать секунд, а на пятый день показал высший пилотаж, метнувшись напрямик к нужному ведру в рекордные три секунды.
Дальнейшее ежедневное испытание на поиски корма Джеттихорн проходил с блеском, поэтому Питер усложнил эксперимент. За основу был взят стандартный тест для лабораторных крыс – так называемое «отсроченное чередование». В этом испытании крысу запускают в Т-образный лабиринт с дальнего конца. В одном из рукавов лабиринта находится приманка, и крысе нужно просто ее найти. Если крыса выходит через неправильный рукав, в правильный ей уже не попасть, эта попытка исчерпана. Рукава с приманкой чередуются от попытки к попытке, так что если крыса хочет есть, ей необходимо помнить, где она побывала в предыдущий раз.
Для морских львов Питер соорудил в карантинном загоне огромную копию крысиного лабиринта – бассейн располагался в торце ножки «Т». На первом этапе морской лев должен был выпрыгнуть из бассейна в лабиринт, проследовать по рукаву, а затем свернуть либо налево, либо направо. Чтобы исключить возможность поисков приманки по запаху, Питер прятался за шторой в конце правильного отсека и подкидывал туда рыбу, если морской лев сворачивал в нужном направлении.
Это было оперантное научение в чистом виде. Джеттихорн не знал, что от него ожидается, но естественное любопытство побуждало его исследовать лабиринт. Если он сворачивал в правильную сторону, получал рыбу. При этом войти в лабиринт снова можно было только через бассейн – вернуться обратным путем подопытному не удалось бы.
Эксперимент требовал большого терпения. Предварительно Питер и Коллин Райхмут решили, что переводить подопытного на следующий этап будут только после того, как он наберет 85 % правильных попыток в предыдущем. Изо дня в день Питер приходил в часы кормления и заставлял Джеттихорна добывать пищу упорным умственным трудом.
Наконец, спустя пару недель и четыреста двадцать одну попытку, Джеттихорн, кажется, понял, что происходит. Пора было вновь усложнить задание и устроить свойствам памяти подопытного серьезную проверку.
На тренировочном этапе отсрочка определялась только скоростью, с которой Джеттихорн выходил через один из рукавов лабиринта, съедал свою рыбу и возвращался в лабиринт через «вход» – от гиппокампа такая отсрочка напряжения не требует. Теперь же Питер собирался перекрывать вход на семь секунд. И Джеттихорну все это время нужно было помнить, через какой отсек он только что выходил. Ему должны были дать сорок попыток, чтобы потом Питер высчитал процент правильных.
День эксперимента стал для Питера большим событием. Он шел к этому два года. Позади несколько недель тренировочных тестов с Джеттихорном, и Питер волновался, как все пройдет теперь. На идеальные результаты он не рассчитывал, но к Джеттихорну уже успел привязаться и надеялся, что тот не подкачает.
Джеттихорн не подвел. Не имея ни малейшего понятия, чем этот день отличается от любого другого, он выдал тридцать семь правильных попыток из сорока – больше 90 %. Райхсмут результаты тоже порадовали. Революционная идея Питера явно обретала перспективы.
Однако к радости примешивалась горечь: эксперимент проведен, Джеттихорна нужно возвращать в Центр реабилитации. Здоровье у морского льва в норме, память, судя по результатам теста, тоже не нарушена, а значит, его, видимо, можно выпускать обратно в океан. Победа победой, но Питер знал, что все равно будет скучать по Джеттихорну.
За весну и лето в Центр реабилитации – а оттуда к Питеру – поступило еще несколько ослабленных животных. Для морских львов отсутствие Эль-Ниньо, разумеется, было благом, а вот для экспериментов Питера – совсем наоборот. Иногда за целые месяцы не появлялось ни одного подопытного. На то, чтобы набрать заявленные сорок испытуемых, у Питера ушло почти шесть лет, но в конце концов ему все же удалось доказать наличие связи между воздействием домоевой кислоты и функцией памяти у морских львов.
Недостающее звено обеспечила МРТ.
Сравнивая размер гиппокампа с результатами теста на отсроченное чередование, Питер обнаружил следующее: чем меньше гиппокамп, тем больше ошибок у морского льва при прохождении этого испытания[45]. Почти через двадцать лет после открытия, сделанного Галлэнд, Питер с коллегами раскрыли механизм, побуждающий морских львов выбрасываться на берег. В годы цветения токсичной водоросли ее поедают анчоусы, накапливая в кишечнике домоевую кислоту. Морские львы едят анчоусов, каждый раз нанося небольшое поражение гиппокампу, и так до тех пор, пока ущерб не приведет к неспособности животного искать пищу и ориентироваться в море. В конце концов пострадавший морской лев погибает или выбрасывается на берег в истощенном состоянии. Это был настоящий научный подвиг – проследить путь экологического токсина по всей пищевой цепочке вплоть до воздействия на мозг и когнитивные способности.
И хотя команда Питера не спешила обвинять кого-то напрямую, было ясно, что возлагать ответственность за «необычные происшествия со смертельным исходом» только на Эль-Ниньо и прочие природные явления нельзя. Затяжные дожди послужили катализатором, но главной причиной цветения водорослей стали сельскохозяйственные стоки. Бурный рост фитопланктона произошел из-за повышения содержания азота в воде, которое, в свою очередь, было вызвано сельскохозяйственной деятельностью человека.
Была ли канадская трагедия также спровоцирована человеческой деятельностью, неизвестно, однако по воздействию домоевой кислоты на пострадавших в Новой Шотландии можно судить о том, что испытывает при подобном расстройстве сознания морской лев. И поскольку у людей припадки – явление достаточно распространенное, мы точно знаем, каково это[46]. Генерализованный судорожный припадок затрагивает весь мозг, парциальный – отдельные участки.
Чаще всего очаги парциальных припадков локализуются в височных долях, в непосредственной близости от гиппокампа – именно эта область поражается и у морских львов. Страдавший от височной эпилепсии русский писатель XIX века Федор Михайлович Достоевский оставил нам красочные описания своих припадков[47]. В «Идиоте» у князя Мышкина, персонажа во многом автобиографичного, это происходило так:
‹…›в эпилептическом состоянии его была одна степень почти пред самым припадком (если только припадок приходил наяву), когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг, и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. ‹…›
В самый последний сознательный момент пред припадком ему случалось успевать ясно и сознательно сказать себе: «Да, за этот момент можно отдать всю жизнь!» ‹…›
Это мгновение продолжалось, может быть, полсекунды; но он, однако же, ясно и сознательно помнил начало, самый первый звук своего страшного вопля, который вырвался из груди его сам собой и который никакою силой он не мог бы остановить. Затем сознание его угасло мгновенно, и наступил полный мрак. ‹…›
Князя перенесли в его номер; он хоть и очнулся, но в полное сознание довольно долго не приходил[48].
Тонкостью душевной организации князя Мышкина морской лев, может, и не обладает, однако, учитывая сходство анатомии мозга, не исключено, что в ходе височного припадка он испытывает аналогичные ощущения, равно как и последующую дезориентацию. И если припадок настигнет морского льва в море, он, скорее всего, утонет.
Благодаря проекту Питера была установлена корреляция между воздействием домоевой кислоты и повреждением гиппокампа у морских львов, но многое еще оставалось неизвестным. В самых тяжелых случаях у морских львов наблюдалось очевидное усыхание гиппокампа, но нужно было понять, ограничиваются ли нарушения только этим. Гиппокамп связан со многими частями мозга. Как сказывается его повреждение на этих связях? Возможно, одним из первых последствий воздействия домоевой кислоты, еще до удара по гиппокампу, оказывается разрыв сообщения между областями мозга.
И хотя Питер проводил своим морским львам МРТ, простое структурное сканирование ответа на эти вопросы не давало. Здесь начиналась область коннектомики – связей и соединений. Требовался другой тип томографии. Тогда-то и пришла пора подключиться мне.
На второй год работы в моей лаборатории в Эмори Питер договорился с Центром реабилитации морских млекопитающих, чтобы они присылали нам мозг морских львов, которых не удастся спасти. Первый экземпляр прибыл запакованным в два слоя полиэтилена, бултыхаясь в паре ложек бурой жидкости, налитой для защиты от пересыхания. Размером он был примерно с приплюснутый грейпфрут. На пакете кто-то надписал кличку морского льва – Совенок (Little Hoot).
Я попытался представить, каким он был. Некрупный. Невероятно обаятельный. Наверное, слегка дурашливый.
Мне стало грустно. Конечно, это был не первый мозг, который мне довелось держать в руках, – я их уже навидался, и человеческих, и звериных, нередко зная и имя бывшего обладателя. Но если человеческое имя мало что сообщает о личных особенностях носителя, то у животных клички обычно говорящие. По крайней мере, так нам кажется.
– Небольшой, – констатировал я.
– Наверное, детеныш, – предположил Питер.
Оплакивать гибель Совенка смысла не было. Я его даже не знал. Лучше попытаться сделать его смерть не столь напрасной, узнав немного больше об устройстве и функционировании мозга морских львов. Мы с Питером намеревались картировать связи гиппокампа при помощи методики, которая к тому времени уже широко применялась в нейровизуализации человеческого мозга. Называется она диффузионно-тензорная визуализация, или ДТВ.
ДТВ является разновидностью МРТ и построена на том, что движение молекул воды в мозге происходит неравномерно. Будь мозг однородной массой, молекулы воды перемещались бы внутри него беспорядочно, им было бы безразлично, в каком направлении двигаться. Однако мозг – это высокоорганизованная структура. Белое вещество, заключающее в себе аксоны нейронов, образует шоссе и автострады мозга. Молекуле воды, попавшей в белое вещество, двигаться поперек волокон затруднительно, поскольку это вещество состоит в основном из жира и холестерина – субстанций, которые не смешиваются с водой. Поэтому молекула воды выбирает путь наименьшего сопротивления и движется вдоль аксонов. Определяя преимущественное направление движения воды в том или ином участке мозга, диффузионная МРТ позволяет картировать белое вещество.
Чтобы оценить воздействие нарушения работы гиппокампа на остальные отделы мозга, нам требовалось сперва составить карту всех соединений в белом веществе. Для мозга морского льва этого еще никто не делал, поэтому у нас не было даже отправных точек.
План Питера состоял в том, чтобы собрать максимальное количество образцов мозга, как попавшего под токсическое воздействие домоевой кислоты, так и не попавшего. Тогда мы сможем посмотреть, как домоевая кислота разрушает нормальную схему соединений. Выполнить картирование такого типа на мертвом мозге – задача непростая. Без циркуляции крови по сосудам мозг при сканировании не выдаст и малую долю того сигнала, который выдает живой. С другой стороны, шевелиться испытуемый уж точно не будет.
Несмотря на достаточно узкую специализацию подобных исследований, посмертную ДТВ человеческого мозга успешно проводили уже несколько научных групп. Времени на это уходило много – от двенадцати часов и больше, и сигналы поступали слабые, что сказывалось на качестве реконструкции путей в белом веществе. В надежде улучшить качество получаемого изображения специалист по физике МРТ из Оксфордского университета Карла Миллер принялась экспериментировать с альтернативными способами настройки программного обеспечения МРТ. К 2012 году она уже достаточно преуспела и продемонстрировала возможность получить с помощью своего метода высококачественные изображения диффузионной МРТ мертвого мозга вдвое быстрее, чем при обычной процедуре. Как ни странно, ее достижения остались почти незамеченными, поскольку очень немногих интересовало сканирование мертвого мозга в принципе. Однако меня эти новости привели в восторг, и я связался с Карлой, чтобы узнать, не поможет ли она нам в работе с мозгом морских львов. Обрадовавшись, что ее программы все-таки кому-то нужны, она немедленно выслала инструкции по установке их на наш томограф.
Готовясь к сканированию, Питер поместил мозг Совенка в герметичный пластиковый контейнер и залил агаром, который предварительно обработал небольшим количеством гадолиния, чтобы вода в желатине не заглушала сигналы мозга. Гадолиний – это редкоземельный металл с крайне ценными для нас магнитными свойствами. Чаще всего он вводится внутривенно в качестве контрастного препарата при клинических обследованиях с помощью МРТ и особенно полезен оказывается при выявлении места расположения опухолей. Однако нам гадолиний нужен был, чтобы приглушить сигнал, исходящий от агара, и выделить на общем фоне сигнал мозга.
Нам предстояло провести около восьмидесяти разных сканирований. Часть из них – улучшенные структурные сканы, позволяющие получить подробное анатомическое изображение, но основную массу будет составлять ДТВ. Для каждого из этих сканов будет создано свое направление магнитного поля, а затем сканер измерит на каждом участке мозга, как в этом направлении просачивается вода. И так пятьдесят два раза, с постоянной сменой направления. Само сканирование займет около шести часов. А потом мы сопоставим все сканы и вычислим преимущественные диффузионные пути в белом веществе.
Структурные сканы выглядели замечательно, все вроде бы шло как по писаному. Предварительные исследования позади, пора переходить к главному – диффузионной МРТ. Загрузив программу в соответствии с выданным Карлой протоколом, мы нажали «сканировать».
Аппарат щелкнул несколько раз и принялся за работу, возвестив об этом громким жужжанием. Но уже через секунду остановился. На мониторе появилась красная линия, сигнализирующая о каком-то сбое.
– Что случилось? – спросил Питер.
– Кажется, превышена допустимая мощность градиента, – ответил я.
Градиентная катушка потребляет много энергии, и тепло должно куда-то уходить. Если оно не рассеется, медь воспламенит окружающие материалы. Чтобы возгорания не случилось, в градиентах проложены охлаждающие трубки, но катушки все равно нагреваются, даже с системой охлаждения. Если они нагреются слишком сильно, сработают внутренние датчики температуры и автоматически отключат томограф. По крайней мере, так предполагается. Кроме того, в томографе имеется дополнительная встроенная защита, которая не позволяет оператору по неведению задать опасную программу. Видимо, она и сработала.
Диффузионная МРТ создает большую нагрузку на градиентные катушки. Чем сильнее магнитное поле, тем точнее мы отслеживаем диффузию воды. Но программное обеспечение томографа только что сообщило нам, что полученное задание несет угрозу для оборудования. И если мы попытаемся это предупреждение обойти, есть опасность повредить магнит.
– Придется снизить мощность градиента, – сказал я.
– Насколько?
Я пожал плечами.
– Пока не перестанем получать предупреждения.
Достигнув безопасного предела, мы включили сканирование, на которое отводилось шесть часов. К вечеру снимки были готовы – и градиентные катушки целы. На то, чтобы загрузить все данные в лабораторный компьютер, требовался еще час, так что мы запустили загрузку и отправились домой.
Ключевая часть анализа состояла в том, чтобы, сопоставив все пятьдесят два изображения ДТВ, высчитать расстояние, на которое просачиваются молекулы воды, и преимущественное направление движения. Такие расчеты проводились для каждого участка мозга, что в совокупности давало триста пятьдесят тысяч вокселей. Программу для этих расчетов Карла написала, но предупредила, что при отсутствии суперкомпьютера времени на обработку нужно закладывать много. Хотя суперкомпьютера у нас не было, лабораторный располагал достаточным объемом памяти (72 Гб) и шестнадцатью процессорами. При параллельном запуске каждый из них мог просчитывать отдельный участок мозга, позволяя вести расчеты одновременно. Тем не менее на обработку сканов мозга Совенка у нас ушло два дня.
Для наглядности мы обозначали преимущественные направления волокон в результатах ДТВ разными цветами: красным – идущие слева направо, зеленым – спереди назад (или, в научной терминологии, в ростро-каудальном направлении) и синим – сверху вниз (в дорсо-вентральном). Изображения получились роскошные и превзошли все наши с Питером ожидания. В центре мозга располагался пучок красных волокон, четко обозначая мозолистое тело, соединяющее левое и правое полушария. Сбоку виднелись тракты (проводящие пути), идущие через переднюю и заднюю часть мозга и переплетающиеся с волокнами, которые шли сверху вниз.
К 2015 году, когда мы занялись диффузионной МРТ, снова нагрянул Эль-Ниньо. Масштабы бедствия затмили даже 1998 год. На этот раз морские львы выбрасывались на сушу по всему побережью к югу от Сан-Диего, и из Центра реабилитации нам один за другим присылали образцы мозга тех, кого пришлось усыпить. У многих из погибших, но не у всех отмечались припадки. К концу лета у нас набралось восемь образцов, и мы принялись выяснять степень ущерба, вызванного воздействием домоевой кислоты.
При височной эпилепсии гиппокамп постепенно покрывается шрамами и усыхает. Но мозг пытается компенсировать ущерб. И чем больше страдает гиппокамп, тем большая нагрузка ложится на оставшиеся нейроны. Как ни парадоксально, выливается это в рост числа соединений[49]. Если воздействие домоевой кислоты проявляется главным образом в виде судорожных припадков, то, по всем расчетам, мы должны были увидеть в области гиппокампа те же парадоксальные последствия, что и в человеческом мозге при эпилепсии.
Хотя трехмерные реконструкции проводящих путей в белом веществе морских львов получились прекрасно, нам нужно было более точно определить, куда тянутся тракты от гиппокампа. В нейровизуализации человеческого мозга получила распространение технология под названием «вероятностная трактография». Метод ее заключается в следующем: на том или ином участке мозга помещается цифровая метка, и с учетом преимущественных направлений просачивания воды симулируется движение гипотетической водяной молекулы от этой метки. Затем, на новом участке, процедура повторяется, и так далее. Что-то вроде игры в классики на белом веществе. Поскольку преимущественные направления не абсолютны, предугадать со стопроцентной уверенностью, куда двинется гипотетическая молекула, невозможно. Таких симуляций проводились тысячи, затем высчитывался усредненный результат. Питер разместил цифровые метки в гиппокампе и запустил программу воспроизведения исходящих оттуда трактов.
Итог не заставил себя ждать. У морских львов, подвергшихся воздействию домоевой кислоты, количество проводящих путей к таламусу было выше – в точности как у людей, страдающих эпилепсией. Сходство в картине патологий мозга у морских львов и человека указывало на сходство ощущений. Следовательно, теперь мы знали, что испытывает морской лев при отравлении домоевой кислотой. То же самое, что и человек. Но может быть, найдутся и другие, более глубокие аналогии в ощущениях?
Ответ на этот вопрос нам дал мозг очень необычного морского льва – обладающего особой чувствительностью к музыкальному ритму.
Глава 5 Зачатки способностей
Ронан родилась где-то на побережье северной Калифорнии в 2008 году. К годовалому возрасту она уже была виртуозной причальной попрошайкой: видимо слишком рано оставшись без матери, молодая морская львица постоянно болталась на пирсе и клянчила подачки. Иногда она выползала на шоссе – к радости туристов и негодованию водителей. Может, она заблудилась и не могла вернуться обратно в океан, а может, просто искала мать, но из-за этих регулярных вылазок на оживленную проезжую часть Ронан в конце концов очутилась в Центре реабилитации морских млекопитающих.
Никаких видимых отклонений у Ронан не обнаружилось, так что ее подкормили по стандартной программе и выпустили в океан.
А потом она объявилась снова – уже на другом отрезке Тихоокеанского шоссе.
Когда Ронан угодила в Центр реабилитации в третий раз, пришлось задуматься о ее будущем. Самостоятельно добывать пищу она явно не умела, и спасатели сомневались, что она выживет в дикой природе. В отличие от многих других морских львов, Ронан была относительно здорова, поэтому спустя неделю, отведенную на откорм, оснований держать ее в реабилитационном центре не осталось.
Старшему ветеринару Фрэнсис Галлэнд предстояло принять нелегкое решение. В центр постоянно – и с каждым годом все больше – поступали морские львы, тюлени, котики и даже гигантские морские слоны, основное лежбище которых находилось в национальном парке Аньо-Нуэво. Вместить всех было попросту невозможно.
Ронан нравилась всем, и, видимо, взаимно, ведь в центр ее раз за разом приводила бесконечная тяга к людям. Но задача центра заключалась не в том, чтобы потакать симпатиям людей и животных. Если Ронан не удалось бы куда-то пристроить, ее пришлось бы выпустить в заповедник. Или усыпить.
Питеру Куку для проекта по исследованию воздействия домоевой кислоты требовались контрольные испытуемые. Найти их было трудновато: здоровые морские львы, как правило, на берег не выбрасываются. Поэтому Питер пришел в восторг, когда ему позвонила Галлэнд с предложением забрать Ронан. Участие в экспериментах Питера в лаборатории ластоногих позволяло еще немного повременить с решением ее дальнейшей судьбы.
Ронан училась быстро, и с отсроченным чередованием справилась играючи. Если у некоторых морских львов, пострадавших от домоевой кислоты, на это уходило несколько месяцев, то Ронан отстрелялась за один. На этом ее помощь науке закончилась, и вновь встал вопрос о пристанище.
Морские львы способны жить в неволе до тридцати лет, так что оставить Ронан в лаборатории означало связать себя надолго – за такой срок в центре может смениться руководитель. Кроме того, общей любимицей сделалась еще одна подопытная – Джи-Док, взявшая в привычку разгуливать по своему загону с нахлобученным на голову ведерком, которое использовалось как инвентарь в экспериментах. Дурачества Джи-Док покорили сердца инструкторов, и Райхмут подумывала забрать ее насовсем. Но Ронан лучше справлялась с тестами Питера. В конце концов в лаборатории все-таки оставили ее, а «классную клоунессу» Джи-Док взяла другая организация.
Повезло в результате не только Ронан, но и всем нам. Вскоре у этой морской львицы обнаружились уникальные способности, изменившие наше представление об эволюции языка.
На вопрос, что отличает человека от других животных, большинство из нас ответит: язык и речь. И действительно, как бы мы ни очеловечивали поведение разных животных и издаваемые ими звуки, полноценные языковые способности имеются только у Homo sapiens. Многие высказывают гипотезу, что так называемый «языковой инстинкт» и послужил тем самым основополагающим эволюционным шагом, который привел к появлению гоминид[50]. И поскольку другие животные не описывают свои переживания словами, некоторые ученые сомневаются, узнаем ли мы когда-нибудь, каково это – быть другим животным.
Но, как мне предстояло узнать благодаря Ронан, язык – это лишь вершина айсберга. А в глубине скрыта громада когнитивных процессов, которые роднят человека с животными.
У человека слово обладает определенной смысловой нагрузкой, и даже самое простое, «цветок» например, тянет за собой калейдоскоп образов. Едва научившись говорить, мы быстро усваиваем, что слова – это лишь «стенография», значки для выражения идей и за этими значками кроется целая вселенная из животных, предметов, действий и тому подобного. Язык в основе своей – это абстрактное выражение тех или иных понятий. Слово – вербальная замена обозначаемого. И хотя животные не разговаривают, многие из них способны усваивать словесные команды. А теперь вопрос на миллион: они просто реагируют рефлекторно на знакомый набор звуков или понимают смысл сказанного? Все зависит от символической репрезентации в мозге.
Слово может иметь разные формы выражения – устную, письменную, знаковую, и какие-то из этих форм животным воспринимать легче. В 1980-х годах Рон Шустерман начал изучать способность к восприятию символов у морских львов при помощи жестовых сигналов. Оперируя произвольным языком жестов, он сформировал у этих животных достаточно обширный словарный запас, включающий обозначения предметов (мячи, кольца, биты), качеств (большой, маленький, белый) и действий (принести, коснуться хвостом, коснуться ластой). Любимица Шустермана, Рокки, узнавала более семи тысяч жестовых комбинаций. Поскольку заучить наизусть каждую из этих комбинаций она вряд ли могла, Шустерман пришел к выводу, что на каком-то уровне она усвоила значение отдельных жестов и получила возможность понимать простые фразы[51].
Райхмут считала, что подопытные морские львицы – Рокки, а потом еще одна, по кличке Рио, – выполняют гораздо более сложную операцию, чем банальное увязывание звука с действием, но все же не до такой степени, чтобы слово превращалось в символ. Она тестировала у морских львов способность понимать не жестовые сигналы, а графические обозначения[52]. Восприимчивость к жестам Шустерман доказал, но пиктограммы – это бесспорно более высокий уровень абстракции, и в силу большей отвлеченности они как нельзя лучше подходили для изучения логических операций, которые могут лежать в основе понимания языка. Пиктограммы рисовали на квадратных кусках фанеры со стороной тридцать сантиметров, черной краской на белом фоне. Эта коллекция, напоминающая обширную фонотеку на виниловых пластинках, до сих пор заполняет стеллажи в лаборатории ластоногих.
Райхмут установила, что морские львы способны усвоить простое правило «если… то». В одном из экспериментов Рокки, увидев спиральную пиктограмму, должна была ткнуть носом другую пиктограмму – прямоугольник, и она справлялась даже при наличии третьей пиктограммы-дистрактора. Отметим, что Райхмут делала упор на произвольные ассоциации. Когда вводились новые пиктограммы, Рокки быстрее выучивала логические связки, игнорируя те пиктограммы, которые уже с чем-то ассоциировались. Это «научение методом исключения» – достаточно сложный когнитивный процесс, требующий от животного понимания общего контекста задания и удержания в памяти освоенного ранее. Райхмут удалось показать нечто еще более поразительное: Рио выстраивала логические цепочки. Выучив «если спираль… то прямоугольник» и «если прямоугольник… то круг», Рио приходила к совершенно верному выводу «если спираль… то круг». Эта логическая операция построена на законе транзитивности и является основополагающей для человеческого языка. Более того, Рио применяла и обратную логику, правильно откликаясь на «если прямоугольник… то спираль». Эта операция называется логической симметрией, именно благодаря ей человек воспринимает высказывания «Джек построил этот дом» и «дом был построен Джеком» как равнозначные.
Рокки и Рио продемонстрировали способность к логическим операциям, свидетельствующую о том, что логические задачи они решают примерно так же, как и человек. Но, хотя логика и необходима для языка, это еще не все. У языка, особенно в устной речи, имеется ритм[53]. В утрированном, преувеличенном виде естественный ритм речи превращается в зачатки музыки. Если Рокки и Рио способны на логические операции, лежащие в основе языка, может быть, у морских львов проявятся и зачаточные музыкальные способности? Вот тут-то и настал звездный час Ронан и Питера.
Чарльз Дарвин глубоко интересовался музыкой и считал, что, как и все остальное у Homo sapiens, музыкальные способности тоже должны восходить к другим видам животных[54]. В «Происхождении человека» он писал: «Пусть не наслаждение, но восприятие музыкальных каденций и ритма присуще, вероятно, всем животным и, несомненно, обусловлено общностью физиологической природы их нервной системы»[55]. С дарвиновской точкой зрения на истоки музыкальных способностей готовы были согласиться не все. В 1857 году его современник Герберт Спенсер написал трактат под названием «Происхождение и функции музыки», в котором доказывал, что необходимой предпосылкой к музыке выступает речь, а значит, это исключительно человеческая прерогатива. Спор между Дарвином и Спенсером довольно долго оставался неразрешенным. Чтобы подтвердить гипотезу Дарвина, требовалось обнаружить у животных наличие музыкальных способностей.
Вряд ли кому-нибудь удастся отыскать поющего морского льва. Вести мелодию не дано даже лучшим подражателям человеческому голосу среди животных. Но пение – это уже высший пилотаж. Питер считал, что кроме мелодии в музыке достаточно других составляющих, которые можно поискать у животных. Самая простая из них – ритм. Без ритма нет музыки, хотя, разумеется, великолепная музыка – это намного больше, чем ритм. Хорошая музыка «качает». Все великие гитаристы – Джими Хендрикс, Карлос Сантана, Кит Ричардс, Стиви Рэй Вон – были виртуозами «кача» и умели создавать оттяг от общего ритма, против которого слушатель не мог устоять. Музыка с хорошим качем заставляет нас двигаться в такт.
Попадание в ритм называется синхронизацией, или иногда захватом ритма. Проверяя, способны ли на это животные, мы делаем шаг к разрешению спора между Дарвином и Спенсером. Как ни странно, таких попыток никто не предпринимал до 2006 года – именно тогда Анирудд Пател, нейробиолог из Сан-Диего, выдвинул звукоподражательную гипотезу ритма[56]. Пател предположил, что имитационное научение в форме звукоподражания, будь то у человека или, скажем, у попугая, требует точной синхронизации между входящими слуховыми сигналами и моторной реакцией. Для речевой деятельности требуется и восприятие присущего речи точного ритмического рисунка, и способность воспроизвести этот рисунок с помощью голосовых связок. Кажется сложным, однако человек проделывает все это не задумываясь. И если этот механизм работает для порождения речи, то должен работать и для воспроизведения ритма. Согласно принципу минимизации усилий, рассуждал Пател, за синхронизацию ритма и звукоподражание в мозге должен отвечать один и тот же механизм.
Гипотеза Патела позволяет с большой долей вероятности предположить, что улавливать ритм могут лишь те животные, которые способны к звукоподражанию. Мысль интересная, но несколько умозрительная. В конце концов, никто пока не документировал точность попадания животного в ритм.
Идея так и оставалась невостребованной, пока несколько лет спустя YouTube не взорвал ролик с одной забавной птицей. Звездой YouTube, а затем и многочисленных ток-шоу стал большой желтохохлый какаду – топавший ногами и кивавший головой в такт популярным песням. Охотнее всего какаду Снежок оттягивался под «Everybody» от Backstreet Boys.
По видео сложно было понять, как обстояло дело – раскачивался Снежок произвольно или действительно двигался под музыку. Проанализировав ролики кадр за кадром, Питер пришел к выводу, что попугай и вправду попадает в такт. Конечно, наличие у композиций четкого ритма сильно облегчало ему задачу.
Именно тогда Питер заинтересовался ритмическим слухом у морских львов. Согласно звукоподражательной теории Патела, улавливать ритм они не должны. Лаять и фыркать морские львы умеют, но ничего похожего на звукоподражание ни один из них до сих пор не демонстрировал. Питер, у которого из-за отсутствия испытуемых наметился перерыв в экспериментах на свойства памяти, решил пока научить Ронан качаться в такт музыке. Если получится, то звукоподражательную теорию можно будет считать опровергнутой.
В дрессировке лучше всего отталкиваться от естественного поведения животного и постепенно формировать на его основе нужные дрессировщику навыки. Это как игра в «горячо – холодно»: можно только подсказывать животному, где «теплее», а где «мороз-мороз». Морские львы поразительно ловко работают плавниками, но еще виртуознее – мышцами шеи. Кивать головой, по расчетам Питера, Ронан должна была научиться почти моментально. И действительно, вскоре она вовсю кивала головой, повинуясь дирижерским взмахам Питера. Каждый раз, когда направление кивка совпадало с движением руки, Питер свистел в свисток, давая Ронан понять, что она действует правильно, то есть словно говорил ей: «Теплее!» И после каждого свистка Ронан получала рыбу.
У большинства животных очень непродолжительная устойчивость внимания, поэтому дрессировочные занятия лучше делать короткими и частыми. Но к морским львам это, судя по всему, не относится: Ронан готова была заниматься бесконечно, уставая, лишь когда у нее что-то не получалось. Через несколько недель занятий по выходным Ронан благополучно освоила кивание в такт взмахам руки, пора было переходить к звуковым сигналам. Питер рассчитывал, что Ронан перенесет полученный навык на тиканье метронома, и визуальный жестовый стимул постепенно можно будет убрать.
Запустив электронный метроном через динамик, Питер дирижировал морской львицей, словно оркестром из одного исполнителя. Они начали с умеренного темпа в сто двадцать ударов в минуту. Спустя еще несколько недель Ронан наконец уловила связь между щелчками метронома и кивками, и Питер начал прекращать дирижирование.
Теперь ему нужно было исключить вероятность, что Ронан попросту научилась кивать в темпе сто двадцать ударов в минуту, а не подстроилась под метроном. Для этого Питер ввел новый темп – восемьдесят ударов в минуту – и принялся чередовать более быстрый с более медленным, чтобы приучить Ронан к изменчивости темпа[57].
Новый темп привел Ронан в замешательство. Вместо того чтобы подхватить его, она стала кивать с разной частотой на протяжении всего занятия. И поскольку синхронизации не происходило, никакой награды в виде рыбы Ронан не получала. Без подкрепления она быстро теряла интерес и удалялась в бассейн.
Видя растерянность Ронан, Питер упростил задание: теперь на каждом занятии включался только один темп, а награду морская львица получала не за двадцать синхронных кивков, как раньше, а за два. Затем в течение нескольких месяцев Питер постепенно увеличивал число правильных кивков, требующихся для получения награды.
Через полгода занятий Ронан наконец научилась подхватывать оба темпа – и восемьдесят ударов в минуту, и сто двадцать. Тогда Питер продолжил выяснять, действительно ли она синхронизируется, и стал включать другие темпы, совсем новые для Ронан. Она подхватывала все, кроме самых медленных. Этого было бы достаточно, чтобы опровергнуть звукоподражательную гипотезу, но Питеру хотелось проверить, сможет ли Ронан, как попугай Снежок, уловить музыкальный ритм.
Хотя танец большинству людей дается довольно легко, на самом деле это достаточно непростое умение. Чтобы танцевать в ритме, человеческий мозг должен вычленить его из сложного полифонического аудиосигнала. Несколько облегчает задачу наличие у музыки размера, как правило трех-четырехдольного. Для поп-музыки характерен размер четыре четверти, в первой и третьей доле акцент идет на бас-бочку, а во второй и четвертой (на слабой доле) – на малый барабан. Джеймс Браун акцентировал на первой доле («Get Up Off of That Thing» или «Sex Machine»), тогда как в ранних рок-н-ролльных композициях подчеркивалась слабая доля, как, например, в «Hound Dog» у Элвиса Пресли. В джазе и блюзе между долями часто накладывается синкопа – смещение акцента, или, как ее еще называют, свинг, качание.
Готовя Ронан к первому балу, Питер начал включать на занятиях слабую долю – чередующуюся с сильной и отличающуюся от нее громкостью. Ронан нововведение не смутило ничуть. Она продолжала кивать, не сбиваясь с такта.
Окончательно подтвердить способность Ронан подхватывать ритм должна была, как и у какаду Снежка, композиция «Everybody». Но для чистоты эксперимента слышать ее на предварительных занятиях Ронан не полагалось, поэтому нужно было подобрать что-то другое, не из Backstreet Boys. Питеру предстояло принять судьбоносное решение. Какую песню поставить Ронан первой?
«Ковбелл усильте!» – требовал Кристофер Уокен в знаменитом комедийном монологе на Saturday Night Live.
Да, вот оно! Для музыкального дебюта Ронан нужен был четкий ритм ковбелла, выделяющийся на фоне мелодии и довольно близкий к щелчкам метронома, на которых обучалась морская львица. Однако взять из Saturday Night Live тот самый «(Don’t Fear) The Reaper» группы Blue Öyster Cult Питер не мог: слишком насыщенная и сложная там была мелодия, да и потом, это все-таки не танцевальная композиция. Нужно было подыскать что-то еще с хорошо различимым ритмом ковбелла. В конце концов выбор пал на песню «Down on the Corner» в исполнении Creedence Clearwater Revival. Она начинается с четырех отсчетов по хай-хэту (педальным тарелкам), затем вступает ковбелл и размеренно отбивает ритм до самого конца. Никаких синкоп, никаких наворотов, четкий размер четыре четверти на всем протяжении. То, что надо для танцующих морских львов.
Увы, синхронизироваться с «Down on the Corner» сразу Ронан не удалось. Услышав музыку, она начала кивать, но не попала, и рыбу Питер ей не кинул. И хотя мотивация у морских львов обычно высокая, на это раз Ронан, видимо, решила: «Нет рыбы – обойдетесь без зрелищ!» – и удалилась в бассейн.
Однако Питер за время работы с Ронан достаточно поднаторел в дрессировке и уже знал все фокусы своей подопечной. Например, что вскоре она передумает и вернется: рыбу-то, в конце концов, по-прежнему предлагают. И действительно, минут через десять Ронан вылезла из бассейна, готовая повторить попытку. Теперь Питер включил ей простую «минусовку», без вокала.
Примерно на десятом занятии Ронан поймала волну и уверенно держала ритм в течение пяти тактов. Питер решил, что можно переходить и к Backstreet Boys, – и Ронан не подвела. Правильно подхватив темп в сто восемь ударов в минуту, она выдерживала его весь полутораминутный клип. Текст, припев, проигрыш – она не сбилась ни на чем, ни разу не отстав и не убежав вперед.
Скептики могли усомниться: поскольку темп в «Everybody» остается неизменным, какова вероятность, что Ронан вовсе не движется под музыку, а просто кивает в своем собственном ритме? Чтобы развеять подобные подозрения, Питер протестировал Ронан на «Boogie Wonderland» группы Earth, Wind and Fire. В этой песне темп непостоянный, от ста двадцати трех до ста тридцати восьми ударов в минуту. Ронан и тут показала класс. Когда о ее достижении сообщили в прессе, один из музыкантов группы заявил, что пора переименовываться в Earth, Wind, Fire and Water («Земля, ветер, огонь – и вода»)[58].
Сделать нейровизуализацию мозга танцующего морского льва невозможно, однако мы уже достаточно много знаем о том, что происходит в мозге человека при выполнении неких ритмичных действий. В 1990-х, когда я только начинал исследования с помощью фМРТ, популярностью пользовались эксперименты с постукиванием пальцами. Испытуемые перебирали пальцами сомкнутых «домиком» рук, а исследователи картировали моторную область коры мозга. Если испытуемый постукивал пальцами правой руки, активировалась моторная кора левого полушария, прилегающая к центральной борозде. Меня особенно интересовало, что происходит, когда человек, перебирая пальцами, постепенно усложняет ритмический рисунок.
Надеясь получить ответ на этот вопрос, в начале 2000-х мы с коллегами набрали группу испытуемых и дали им задание выстукивать во время МРТ простой размеренный ритм[59]. Через пять тактов я давал сигнал усложнить рисунок – синкопировать ритм, чередуя четверть с точкой и одну восьмую, что-то вроде «та-а-ти-та-а-ти-та-а». Затем рисунок усложнялся еще раз, до трехчастной структуры – «ти-та-а-та-а-а-ти-та-а-та-а-а». Сами того не зная, испытуемые выстукивали азбуку Морзе. И, анализируя впоследствии происходящее в мозге, мы сделали два наблюдения. Во-первых, чем быстрее барабанили испытуемые, тем отчетливее возрастала активность моторной коры. Во-вторых, что гораздо интереснее, усложнение ритма соотносилось с активностью мозжечка. У млекопитающих на мозжечок приходится 80 % нейронов мозга, и его роль считается ключевой в синхронизации и координации движений. Кроме того, мозжечок связан с когнитивными процессами и даже с таким расстройством, как аутизм[60].
В общей сложности на то, чтобы научить Ронан улавливать ритм, Питер потратил больше года. Это исследование, начинавшееся как воскресные занятия «для разнообразия», потеснило его основную работу по изучению воздействия домоевой кислоты и заставило отложить на год завершение диссертации. Но Питер ни о чем не жалел. Необходимо было доказать, что синхронизация с ритмом не зависит от способности к звукоподражанию, а значит, представляет собой более общую предрасположенность, встречающуюся у разных представителей животного царства. И даже подключившись к нашему собачьему проекту, Питер продолжал сотрудничать с Коллин Райхмут. Поэтому, когда ему понадобилось вернуться и посмотреть, как продвигается новый эксперимент по улавливанию ритма с участием Ронан, я напросился с ним. Это был удобный повод съездить в Санта-Круз и познакомиться с Ронан.
Морские львы и тюлени содержались в расположенных бок о бок загонах с низкой оградой – почти как в собачьем приюте, с той лишь разницей, что в каждом загоне имелся бассейн с океанской водой и мостки, где можно было греться на солнце. И никто не лаял.
Питер волновался. Последний раз он видел Ронан три года назад и, хотя называл ее в шутку своей суррогатной дочкой, не особенно рассчитывал, что она его вспомнит.
Он обвел взглядом загоны.
– Посмотрим, узнает ли она меня.
Вокруг по-прежнему было тихо, никаких признаков того, что морские львы ощущают растущее в атмосфере напряжение.
– Я совершенно не обижусь, – заверил Питер. – Ну разве что самую малость.
Он двинулся к загонам, настраиваясь на долгожданную встречу. В первом отсеке вальяжно плавала в бассейне Рио.
– Рио, привет! – поздоровался Питер.
Морская львица выпрыгнула из бассейна и устремилась к ограде, выяснить, кто пришел. Дружелюбно обнюхав Питера, она вернулась к своим делам.
Следующий загон принадлежал Ронан. Более молодая и энергичная, чем Рио, она то ныряла в бассейне, то выползала на мостки.
– Ронан! – окликнул ее Питер. – Какая ты стала большая!
Было непонятно, услышала ли она его. Признаков визуального узнавания, свойственных, например, собакам, она не подавала.
Питер обернулся к Эндрю Раусу, с которым они вместе проводили эксперименты на улавливание ритма.
– Эндрю, можешь позвать Ронан?
Эндрю похлопал по загородке, как будто предлагая рыбу. Ронан тут же выскочила из бассейна и подобралась поближе, узнать, что дают.
Питер уткнулся в решетку и подул Ронан в нос.
– Такое у морских львов приветствие, – пояснил он.
Ронан с шумом втянула воздух и фыркнула. Явно удовлетворившись унюханным, она развернулась и отправилась обратно в бассейн. Вот и пойми, узнала или нет. Ни малейшего сходства с тем, как приветствует хозяина собака после долгой разлуки.
Питер явно был уязвлен.
– Ну ладно, что тут поделаешь.
На этом дежурные приветствия завершились, и Эндрю подключил динамик, готовясь к новому эксперименту. На этот раз предполагалось посмотреть, как Ронан будет подстраиваться под нарушение ритма.
У людей такие эксперименты уже проводились – в этом случае ритм сбивают, либо опережая, либо запаздывая с очередной долей такта. Чем сильнее сбой, тем дольше испытуемый перестраивается. Чтобы представить себе процесс, вообразите мозг и тело как совокупность пружин, олицетворяющих колебания нейронной сети. Акустический стимул запускает колебание, пружины сжимаются и растягиваются, обеспечивая отстукивание удара в нужный момент. При сбитом ритме, когда доля запаздывает или опережает общий темп, в системе тоже наступает сбой и, чтобы синхронизироваться заново, требуется некоторое время. Динамику процесса определяет натяжение и смыкание пружин, диктуемое, в свою очередь, мозгом и мускулатурой. Исследуя, как человек подстраивается под нарушение ритма, можно вычислить самые простые параметры взаимодействия слуховой и двигательной систем мозга.
Эндрю пустил через динамик стук метронома. Это была синусоида, в которой звук то нарастал, то слабел, как в полицейской сирене, только медленнее. Ронан уже знала, что делать. Встав перед динамиком, она принялась кивать головой. Синхронизация впечатляла. Примерно через пять тактов Эндрю кинул Ронан рыбу.
Спустя несколько раундов Эндрю поставил запись, которая начиналась так же, а затем менялась. В данном испытании перемена состояла в неожиданном ускорении темпа. Ронан сбилась, но через несколько счетов подстроилась заново. В следующем раунде темп не менялся, зато одна из долей звучала с опережением. Этот фазовый сдвиг тоже поначалу выбил Ронан из колеи, однако и теперь она так же быстро перестроилась.
Впоследствии Питер с коллегами проанализируют реакцию Ронан на фазовый и темповый сдвиг и обнаружат, что она схожа с человеческой. И это примечательно, учитывая, насколько отличаются организмы человека и морского льва. Ронан кивает головой, человек отстукивает ритм пальцами (хотя иногда и головой тоже кивает). Независимо от того, какие мышцы участвуют в этом занятии, анализ показывает, что динамика у нейронного механизма, увязывающего ритмичный слуховой стимул с ритмичной двигательной реакцией, у человека и морского льва одинакова[61]. Ронан продемонстрировала, что эта способность не зависит ни от дара речи, ни от степени развития речевых органов. А зависит она, скорее всего, от мозжечковой системы, в чем я имел возможность убедиться в своих исследованиях с участием людей десятью годами ранее.
Если Коллин Райхмут показала, что у морских львов имеются некие логические компоненты, необходимые для развития языка, то Питер обнаружил у них зачатки синхронизации слуховой и двигательной систем при восприятии ритма. Так что, несмотря на отсутствие в мозге морских львов полноценной речевой структуры, у них имеются по крайней мере две составляющие, участвующие в производстве речи у человека. Мы, люди, понимаем, что такое следовать логике «если… то», и даже самые неритмичные знают, что такое танцевать. И снова аналогии в навыках и аналогии в нейронных сетях головного мозга указывают на сходство ощущений.
Наблюдая за Ронан, кивающей в такт, я поймал себя на том, что киваю тоже. Наверное, это получилось подсознательно, но стоило мне отдать себе отчет в своих действиях, и я понял, что ощущает Ронан. Вполне закономерно, ведь наш мозг реагировал на один и тот же звуковой стимул. Как на концерте, где все танцуют под одну музыку. Ничего сложного на самом деле.
Где-то на одиннадцатом раунде кивков и танцев Ронан решила, что на сегодня с нее хватит, и направилась в бассейн, но я успел урвать поцелуй на прощание. Это был прекрасный день. Солнце уходило за океан, и на фоне закатного зарева мелькнули силуэты двух дельфинов, прочертивших дугу над водой.
Интересно было бы узнать, как устроен их мозг.
Глава 6 Рисование звуком
Моя давняя коллега по Университету Эмори, Лори Марино, знает о дельфинах все. В своей диссертации она сравнивала анатомию черепа китообразных и приматов и пришла к неожиданному выводу: зубатые киты, к которым относятся и дельфины, обладают одним из самых высоких коэффициентов энцефализации в животном мире.
Почти на всем протяжении нулевых Лори занималась изучением мозга дельфинов. Она подключилась к сети оповещений о выбрасывании морских млекопитающих на берег и, когда на атлантическом побережье погибал дельфин, всеми правдами и неправдами старалась раздобыть его мозг. Так, упорными усилиями ей удалось собрать небольшую коллекцию образцов, которые она начала исследовать с помощью МРТ. Именно ей, Лори Марино, мы во многом обязаны современными представлениями об анатомии мозга дельфинов[62].
Помимо анатомических исследований Лори прославилась сотрудничеством с Дианой Рейс, профессором психологии из Городского университета Нью-Йорка, – в ходе совместной работы они выясняли, узнаю́т ли дельфины себя в зеркале. Зеркальный тест еще в 1960-х разработал психолог Гордон Гэллап, исследовавший степень самосознания у шимпанзе. Для этого на лбу шимпанзе делали отметку мелом и наблюдали за реакцией подопытного, когда тот смотрел в зеркало. Касание отметки пальцем свидетельствовало о наличии самосознания. Шимпанзе у Гэллапа этот тест успешно проходили, как проходят его человеческие дети с полутора лет.
Лори и Рейс протестировали двух живших в неволе дельфинов и обнаружили, что при наличии метки на какой-либо части тела, в том числе по бокам головы, они проводили перед зеркалом больше времени, чем при отсутствии метки[63]. Это открытие сильно повлияло на Лори. Если дельфины обладают самосознанием, может быть, у них и когнитивная сфера, как у человека? Какое тогда мы имеем право держать их в неволе?
Когда я обратился к Лори по поводу нейровизуализации мозга дельфинов, она сразу осознала огромный потенциал диффузионной МРТ как способа ответить на давние вопросы о психическом опыте дельфинов. Эти животные поражают невероятной широтой диапазона издаваемых звуков. Часть из них выполняет коммуникативную функцию, остальные используются для подводной эхолокации. Однако, несмотря на то что эхолокационную способность дельфинов изучали уже не первое десятилетие, по-прежнему оставалось неясным, как их мозг обрабатывает эти данные, создавая когнитивную карту окружающей морской среды.
Томас Нагель счел бы нашу затею заведомо бессмысленной, поскольку различия между дельфином и человеком слишком велики и мы никогда не поймем, каково это – жить в море или пользоваться эхолокацией. Я считал иначе. Если мы выясним, как работает мозг дельфина при эхолокации, то еще на шаг приблизимся к пониманию субъективных ощущений этих животных. Кроме того, зачаточная способность к эхолокации у человека имеется. А значит, мозг дельфина может что-то рассказать нам и о человеке.
– Замечательно! – обрадовалась Лори. – Никто еще не делал диффузионную МРТ мозга дельфина.
Разделив ее восторг, я перешел к более насущным вопросам.
– Может быть, вы подскажете, где раздобыть мозг дельфина?
– Конечно. У меня остались все образцы, которые я сканировала десять лет назад. Они в вашем полном распоряжении.
Все складывалось даже удачнее, чем я ожидал. Но меня смущал возраст образцов. Диффузионную МРТ на мертвом мозге проводить и без того довольно трудно, а уж тут… Кто знает, какой сигнал мы получим от препарата, более десяти лет пролежавшего в формалине.
Мои размышления о возможных трудностях прервала Лори:
– Вы же знаете, я ухожу, – сообщила она, понизив голос.
В Университете Эмори она постоянно переводилась с кафедры на кафедру, собственно, как и я. Когда твоя исследовательская работа не вписывается в четкие рамки, найти постоянное прибежище зачастую бывает сложно. Это не значит, что коллеги принимают тебя в штыки, но собеседника иногда не хватает.
У Лори все больше и больше времени отнимала зоозащитная деятельность, которой она занялась, когда узнала о ежегодном жестоком истреблении дельфинов в японской бухте Тайдзи. Лори включилась в борьбу за китов и дельфинов, а затем выступила в документальном фильме 2013 года под названием «Черный плавник». В итоге она оказалась на распутье: либо целиком и полностью посвятить себя защите дельфинов и других животных, либо продолжить преподавать основы нейронауки и пытаться выкроить время на исследования. Выбор был очевиден.
Только теперь я заметил стоящие в кабинете коробки. Она уезжала через неделю.
– И куда вы? – спросил я.
– В Юту.
В Юту? Странно. А что там?
– У меня большие планы. Я учреждаю новый фонд – зоозащитный центр «Киммела». Мы намерены постепенно стирать границу между изучением животных и их защитой. Эти две области не должны противопоставляться.
Я мысленно снял шляпу перед Лори. Чтобы принять такое радикальное решение, нужно огромное мужество. И хотя сам я мыслить подобным образом еще не привык, когда-нибудь и я к этому приду, это лишь вопрос времени.
Согласно полученным от Лори инструкциям, за образцами мозга предстояло наведаться в подвалы одного из самых мрачных зданий кампуса. В обиходе оно было известно как «старая стоматология», поскольку именно там до закрытия в 1990 году располагался стоматологический факультет Эмори. Антисемитская политика факультета получила широкую огласку, руководство принесло официальные извинения в документальном фильме, снятом, чтобы рассказать о темном прошлом университета. Однако, сколько бы факультет ни извинялся, на его здании все равно останется клеймо. Если приведения существуют, то по коридорам старой стоматологии они слоняются наверняка.
Мы с Питером отправились за образцами. Кабинет, где они хранились, никаких опознавательных знаков не имел, и, если бы Лори не дала нам подробных указаний, мы бы его ни за что не нашли. Открыв тугую дверь, мы включили свет.
Перед нами оказалась бывшая лаборатория, превращенная в банальную кладовку. На скамейках громоздились коробки, все было покрыто слоем пыли. Вытяжной шкаф, служащий для поглощения опасных газов и едких запахов, стоял приоткрытым, но характерного гудения, которое издает вытяжка в рабочем режиме, я не услышал. Внутри виднелся десяток поставленных друг на друга пластиковых ведерок. Сквозь пожелтевшие от времени стенки просматривалась налитая до половины темно-коричневая жидкость. Бумажные этикетки, прилепленные много лет назад, держались на последних молекулах клея.
– Кажется, это оно, – сказал я.
Питер кивнул.
Перчатки мы взять не додумались, но посмотреть, что в ведерках, было необходимо. Приподняв стеклянную дверцу шкафа, я вытащил одно из ведерок. В коричневой жидкости за выцветшим пластиком явно что-то плавало.
Когда я открыл крышку, в нос мне ударил запах формальдегида, глаза моментально заслезились, но даже сквозь пелену я разглядел внутри большой мозг. Не похожий ни на какой из виденных мной прежде. Крупный – по крайней мере раза в полтора крупнее человеческого. И круглый, как футбольный мяч. На этикетке значилось: «афалина». Перед нами был мозг бутылконосого дельфина, или афалины. Если не обращать внимания на мерзкую коричневую жидкость, выглядел он вполне прилично сохранившимся, особенно для образца, пролежавшего в этой гадости больше десяти лет.
– Неплохо, – сказал я. – Формалин нужно будет поменять, но, по крайней мере, мозг не расползся в кашу.
Мы вскрыли все контейнеры и отметили самые перспективные на вид экземпляры. Намереваясь проводить посмертную магнитно-резонансную томографию на образцах такой давности, мы вступали на неизведанную территорию. Ничего, скоро будет ясно, обогатит ли она нас сведениями об устройстве мозга дельфинов.
Погрузив полдесятка ведерок на тележку, мы с Питером покатили их в лабораторию, чтобы рассмотреть получше. Размер образцов в коллекции Лори варьировался от грейпфрута до футбольного мяча. Самые впечатляющие принадлежали афалинам: мало того что крупные, но и рисунок извилин гораздо более замысловатый, чем у человеческого мозга. Чем больше складок, тем больше площадь поверхности, а значит, эти извилины заключают в себе еще больше нервной ткани, однако среди них не было ничего похожего на центральную борозду – основной ориентир в мозге приматов, отделяющий лобные доли от всего остального.
До меня постепенно доходило, насколько трудную мы поставили перед собой задачу, и первоначальное мое воодушевление начало таять. Если мы не можем распознать даже основные части дельфиньего мозга, то как будем изучать его работу?
Как показало строение лобных долей, мозг дельфина лучше сравнивать с мозгом хищников, а не приматов. Присмотревшись повнимательнее, мы почти сразу разглядели крестообразную борозду, однако настолько сдвинутую вперед, что на лобную долю приходилось не более 10 % общего объема[64]. Это озадачивало. Как может животное, обладающее невероятным умом, иметь такие маленькие лобные доли? Либо специалисты по анатомии китообразных что-то напутали, либо мы ничего не знаем об отделах мозга, выполняющих когнитивные функции.
У нас было четыре образца мозга афалин и два поменьше – от дельфина-белобочки и пятнистого продельфина. Афалины считаются самыми умными и общительными из всех дельфинов, так что их мозг мы собирались сканировать в первую очередь. И хотя снаружи они выглядели вполне сохранными, главное скрывалось внутри. Быстрое сканирование покажет, не разжижена ли сердцевина.
Питер достал образцы мозга афалин из ведерок и подождал, пока стечет вязкая жидкость. Мы упаковали каждый в два запаивающихся пакета и направились к томографу, прижимая образцы к себе, словно жутковатые мячи для регби.
Выбрав самый приличный на вид, я уложил его в головную катушку томографа. Оно был хоть и крупнее человеческого, но зато без черепа, поэтому отлично поместился. Питер подложил под него куски пенопласта для устойчивости, и мы отправили мозг в тоннель томографа.
Я провел быстрое локализационное сканирование.
– Вроде неплохо. Серое и белое вещество видно по всей толщине.
Меня охватил азарт. Эти образцы, больше десяти лет пролежавшие в формалине, по-прежнему давали различимый сигнал. Воспрянув духом, я задал настройки для сканирования в высоком разрешении и нажал «пуск».
Аппарат начал предварительное сканирование. С щелчками и жужжанием он перестраивался на непривычную форму объекта, находящегося в его недрах. Спустя полминуты громкий гул возвестил о переходе к полноценному сканированию. Обычно оно длится минуты две, но, поскольку мозг афалины слишком большой и круглый, на него уйдет минут пять, не меньше. Нам оставалось только запастись терпением.
Наконец, по прошествии невероятно долгих пяти минут на экране появились снимки. Я принялся листать срезы, продвигаясь с самой нижней части мозга вверх.
– Вот мозжечок, – определил Питер. – Потрясающе подробно.
И действительно. Мозжечок выглядел как покрытый мелкой сеткой папоротник.
Когда мы дошли до коры, у меня снова опустились руки. Дыра на дыре. Даже невеликий специалист в анатомии мозга заметил бы, что образец явно некондиционный. Проследить нейронные связи в этом швейцарском сыре не представлялось возможным.
Мы просканировали еще два мозга афалины – в обоих обнаружилась такая же дистрофия тканей. Неудивительно, конечно, учитывая возраст образцов. Изъеденная дырами область располагалась ровно посередине между внешней поверхностью и желудочками. Судя по всему, из-за большого размера препарата формалин не смог пропитать его равномерно и выполнить свою консервирующую функцию, поэтому мозг со временем подвергся разложению.
Оставался только образец мозга белобочки. Примерно вдвое меньше мозга афалины, круглый, компактный, но заметно крупнее мозга морского льва. Мы поместили его в головную катушку и просканировали. К нашему огромному восторгу, он оказался целым и сохранным. Никаких дыр! Тогда мы запустили ДТВ – на всю ночь, до утра, так как процедура эта долгая.
Поскольку мозг был крупнее, чем у морского льва, на анализ данных потребовалось около недели. В первую очередь, проверяя, не ошиблись ли мы где-нибудь, проанализировали векторные карты. Мозг дельфина был настолько не похож на мозг сухопутных животных, что с таким же успехом мог принадлежать космическому пришельцу. Все сбито в большой круглый ком, все привычные ориентиры сдвинуты. Даже мозолистое тело выглядит странно. Неожиданно тонкое для мозга таких размеров, то есть связи между полушариями относительно немногочисленны.
Чтобы легче было сориентироваться, мы отобразили векторные поля в трех измерениях, убирая со снимков все, кроме белого вещества, и оставляя только подробную карту соединений. Заключенные в сферу нейронные тракты сложно было бы разглядеть без программного оборудования, способного сделать виртуальную «прозрачную» модель. И мы ее сделали.
Я смотрел на экран, где вращалось анимированное изображение, и испытывал благоговейный трепет – возбуждение ученого, которому удалось проникнуть в глубины неведомого. Вот нервные волокна, соединяющие кору со стволом мозга, они тянутся вертикально и на снимке раскрашены синим. Вот модель развернулась анфас, расправляя перед нами крылья височных долей, и мы увидели красные побеги черепных нервов, ответвляющиеся от ствола.
– Кажется, получилось, – сказал Питер.
Меня хватило только на то, чтобы кивнуть.
Убедившись, что результаты ДТВ выглядят многообещающе, мы обратились к волнующим нас научным вопросам. Мозг дельфина настолько отличался от всего виденного нами прежде, что мы с Питером слабо представляли, с чего начать и с какой стороны подступиться. Даже с мозгом морских львов было проще. Поскольку морские львы много времени проводят на суше, их мозг больше похож на мозг сухопутных млекопитающих, и мы не заметили там ничего непривычного по сравнению с собачьим. А вот дельфиний – это нечто совершенно иное.
Эхолокация не такое уж чуждое нам явление, как может показаться. Для нее необходимы две составляющие, и обе они у человека имеются – это производство звука и слух. Дельфины, разумеется, пользуются ею более виртуозно, чем человек, но за последние двадцать лет до нашего с Питером проекта в изучении эхолокации у дельфинов наметился большой прогресс, и теперь эта способность представлялась уже не такой загадочной, как прежде.
Эхолокация – биологический аналог системы гидролокации. Принцип ее довольно прост: издаваемый акустический сигнал отражается от подводных объектов и возвращается в виде эха. Время возвращения позволяет оценить расстояние до объекта, а по звуку эха можно определить размер объекта и его структуру. Искусственные гидролокационные системы достигли высокой степени технического совершенства, однако до точности дельфиньей эхолокации им по-прежнему далеко. Поэтому неудивительно, что ВМС США уже не первое десятилетие усиленно изучают дельфинов.
Дельфины и киты издают звук точно так же, как мы, с участием воздуха, но есть одно существенное отличие. Мы, как и остальные сухопутные животные, порождаем звук за счет вибрации воздуха в гортани. На выдохе воздушный столб проходит через голосовые связки, которые смыкаются и размыкаются, выпуская струи воздуха. Дальнейшее оформление этих потоков происходит при помощи горла, языка и губ. У дельфинов тоже есть гортань и голосовые связки, способные производить звук, однако в их случае это не главный механизм звукообразования. У всех зубатых китов, к которым относятся и дельфины, под дыхалом имеется пара органов, фамильярно называемых «обезьяньи губы» (или, в официальной терминологии, воздушные мешки)[65]. Когда дельфин выталкивает воздух через дыхало, воздушные мешки открываются и закрываются, вибрируя примерно как голосовые связки у сухопутных млекопитающих. Но в данном случае вибрирующий поток воздуха подается не в ротовую полость, а на жировую прослойку в лобной части головы, так называемый мелон. Он работает как акустическая линза, фокусируя и усиливая звуковой луч. Репертуар дельфинов поражает богатством и разнообразием. Помимо щелчков – коротких связок высокочастотных звуков, используемых для эхолокации, – в нем присутствуют свист и жужжание, которые, судя по всему, служат дельфинам для общения друг с другом.
Дельфинье щелканье попадает в ту часть звукового спектра, которая находится за пределами слышимости человека. Подросток способен различать частоты до 20 килогерц (кГц), тогда как преобладающая частота дельфиньих щелчков – более 100 кГц. Даже у кошек и собак предел слышимости ультразвука наступает где-то на 40 кГц. Однако при подводном звукоулавливании без высоких частот не обойтись. Если в воздухе звук распространяется со скоростью 340 м/с, то в морской воде – с запредельной 1500 м/с. Сухопутные млекопитающие определяют местонахождение источника звука по разнице во времени его улавливания каждым из ушей, но под водой это время настолько ничтожно, что разницы между прибытием низкочастотных звуков фактически нет. Поэтому для человека звук под водой доносится словно со всех сторон сразу. А вот с ультразвуком, которым пользуются дельфины, такой проблемы не возникает.
У дельфинов имеются уши, но слуховое отверстие у них шириной с булавочный прокол. Слышат они челюстью – звук передается через кости. В этом на самом деле нет ничего странного. У человека такой механизм слуха тоже есть. Если приложить что-нибудь вибрирующее, телефон например, к челюстной дуге, вы разберете звук. Форма головы дельфина не только обеспечивает ему стремительность, но и фокусирует встречные звуковые волны на широкой части челюсти. Такое устройство наделяет дельфинов максимальной восприимчивостью к звуку, поступающему спереди.
Исследования эхолокации у дельфинов неоднократно демонстрировали невероятные способности этих животных к распознаванию. В одном из экспериментов они различали толщину алюминиевых сфер, даже когда разница составляла не более 0,3 мм[66]. Подобную чувствительность обеспечивает не только использование ультразвука, но и молниеносная работа мозга. Скорость обработки слуховых сигналов можно проверить, например, с помощью двух щелчков, постепенно сокращая разрыв между ними до тех пор, пока они не сольются в восприятии в один. Величина разрыва при слиянии и выступает показателем времени, которое требуется нервной системе, чтобы обработать входящую информацию. У человека оно составляет от 30 до 50 миллисекунд. У дельфинов – 264 микросекунды, то есть дельфин обрабатывает звук в сто с лишним раз быстрее, чем человек.
Хотя пока еще не до конца понятно, как именно дельфинам удается различать звуки с таким микроскопическим временным интервалом, можно предположить, что до того, как сигнал доберется до коры или даже до таламуса, он проходит тщательную обработку в стволе мозга. Возьмем оркестр, который традиционно настраивается по ноте ля первой октавы. Эта нота обозначается как А440, поскольку ее частота – 440 Гц. Но даже музыканту с абсолютным слухом сложно будет определить без сопоставления с камертонным эталоном, не сползает ли его инструмент на 439 Гц. При совместной игре разница частот составляет 1 Гц и называется частотой биений, потому что мы слышим при этом легкое биение, в данном случае раз в секунду. Исходя из времени обработки звука у дельфинов, можно вычислить, что они различают частоту биения до 4 кГц.
Как видим, все эти компоненты слуховой системы, которые поначалу кажутся такими непривычными, вполне соотносятся с компонентами нашего собственного мозга. А значит, вопреки тому, что утверждал Нагель, не так уж и трудно представить себе, каково быть летучей мышью или дельфином.
По сути, эхолокация не только не делает дельфинов непостижимыми, а, наоборот, предоставляет нам идеальную возможность определить, что можно узнать о субъективных ощущениях животного по его мозгу. Еще в середине XX века анатомы установили, что проводящие слуховые пути в мозге дельфина достаточно обширны. Однако до сих пор было мало изучено, как дельфины при помощи отраженного звука создают когнитивную картину окружающего их мира, если, конечно, здесь уместно слово «картина».
Нам нужно было узнать, какая область коры головного мозга принимает звуковые данные. У сухопутных млекопитающих слуховой нерв передает всю акустическую информацию в ствол мозга. Там звуковой поток расщепляется надвое, одна часть остается на той же стороне, откуда поступила, другая направляется на противоположную сторону ствола. Затем, проходя через цепочку ядер, эти потоки движутся вверх к таламусу.
Непосредственно перед тем, как достичь таламуса, звуковые импульсы направляются в сферическое ядро под названием «нижнее двухолмие». У млекопитающих оно настолько крупное, что правая и левая его части образуют пару внушительных выпуклостей на тыльной части ствола. Прямо над ним находится верхнее двухолмие, принимающее зрительную информацию, и по соотношению размеров нижнего и верхнего двухолмия можно примерно представить себе относительную роль слухового и зрительного восприятия у данного животного. У дельфинов нижнее двухолмие очень крупное, и оттуда уже совсем близко до таламуса.
Таламус располагается в центре мозга, между стволом и корой. У человека он величиной примерно с небольшую сливу. Таламус четко отделен от коры, а внутренняя структура представляет собой десятки отдельных ядер. Эти ядра служат промежуточными станциями при передаче сигналов между корой и другими отделами нервной системы. Часть ядер получает сигналы от спинного мозга, передающего сенсорные импульсы от органов тела к мозгу. Другие обеспечивают кольцевое взаимодействие импульсов, принимая информацию от базальных ядер и мозжечка и ретранслируя в кору, – так, судя по всему, мозгу проще координировать передачу. У приматов внушительная задняя часть таламуса, называющаяся подушкой, отвечает за зрение. Слуховая информация поступает в медиальное коленчатое тело.
Слуховые пути достаточно хорошо картированы у человека и крысы, однако у дельфинов к тому моменту, как мы с Питером ими занялись, в этом направлении сделано было мало. Федеральный Закон об охране морских млекопитающих жестко ограничивает научную работу с дельфинами и другими китообразными, и инвазивное исследование мозга дельфинов под эти ограничения тоже подпадало. В начале 1970-х годов советские ученые попытались картировать мозг дельфина, внедряя в него электроды и наблюдая, какие области реагируют на звук. Кроме того, они сделали попытку разметить связи между корой и таламусом у дельфинов, вводя им радиоактивные вещества и прослеживая путь этой радиоактивной метки вдоль аксонов[67].
В результате этих обрывочных исследований дельфиньих слуховых путей складывалась довольно странная картина. У всех сухопутных млекопитающих слуховая информация передается от медиального коленчатого тела в латеральном направлении, к височным долям. У человека, например, в верхней части височной доли имеется область под названием «извилина Гешля», которая эту информацию принимает. Существует даже карта волокон, несущих импульсы различных частот. Но, как свидетельствовали данные советских исследований, у дельфинов слуховая информация поступает в ту область коры, которая расположена ближе к макушке головы, почти в самой дальней части мозга, и у остальных обычно принимает поток зрительной информации. Согласно одной из теорий, поскольку слуховые данные имеют для дельфина первостепенное значение, в ходе эволюции слуховая кора его мозга значительно разрослась и сместилась в те области, которые у сухопутных млекопитающих отданы под обработку зрительных данных[68].
Мы с Питером не знали, где у дельфинов располагается слуховая кора, однако нижнее двухолмие распознали без труда. Его трудно было не заметить. Оно находилось непосредственно над стволом и представляло собой две четко выделяющиеся сферические структуры диаметром около сантиметра. Как и при работе с мозгом морских львов, мы прибегли к помощи цифровых меток, только теперь поместили их не в гиппокампе, а в нижнем двухолмии и дали программе задание воспроизвести отслеживаемые ими тракты.
Тракты шли в двух направлениях. Симулятор превосходно отследил нисходящие пути, устремляющиеся вниз по стволу обратно к слуховому нерву, тем самым подтвердив правильность нашего подхода. В противоположном направлении тянулся толстый пучок волокон, связывающий нижнее двухолмие с таламусом, – тоже в полном соответствии с нашими прогнозами. Но дальше тракты, повернув вбок, вели в латеральном направлении – к височным долям. В точности как у сухопутных млекопитающих.
Когда Питер показал мне снимки, я обрадовался: «Это же замечательно! Слуховые пути совсем как у остальных».
Однако Лори, которой мы отослали сканы, перезвонила мне в недоумении.
– Так не должно быть. У вас все не по учебнику.
– То есть?
– Слуховые тракты должны вести к темени, – объяснила она. – А не к височным долям.
Но я был уверен в правильности полученных результатов.
– Может, это учебники ошибаются?
Вопрос был принципиальный. «По учебникам» у дельфинов идет крупная нервная магистраль от слуховой системы в зрительную часть коры, что кардинальным образом отличается от устройства человеческого мозга. Однако результаты нашей ДТВ говорили о том, что разница не так велика. Мы обнаружили слуховой проводящий путь, идущий к височной доле, а это значит, что дельфины не «видят» звук, а слышат точно так же, как мы. Между тем эхолокация не сводится к одному лишь слуху. Эхолокация – это активный процесс, включающий и порождение, и восприятие сигнала. Дельфины звуком не видят, а «рисуют».
Пока мы просканировали только один мозг. И хотя результаты оказались сенсационными, нам требовалось убедиться, что это не случайность. Необходимо было исследовать еще один образец.
Единственный оставшийся в нашем распоряжении прилично сохранившийся мозг представлял собой экземпляр размером примерно с грейпфрут, принадлежавший пантропическому пятнистому продельфину. Как следует из названия, пантропические продельфины обитают в теплых водах по обе стороны экватора. В восточной части США они, следуя за Гольфстримом, иногда забираются достаточно далеко на север – к штату Мэн. Наряду с белобочкой пятнистый продельфин – самый многочисленный из обитающих здесь китообразных. Его популяция пережила даже массовое истребление в восточной части Тихого океана. С 1950-х до конца 1980-х годов миллионы дельфинов гибли при промышленном вылове тунца сетями. До применения этого способа популяция дельфинов исчислялась тремя или четырьмя миллионами. Сейчас она насчитывает пятьсот тысяч особей.
За время нашей работы с мозгом морских львов и дельфинов Питер достаточно поднаторел в заливке образцов желатином и запуске сканирования на всю ночь. На обработку мозга пятнистого продельфина ушло несколько дней. Сигнал получился не таким четким, как у белобочки, то есть диффузионные показатели сильнее искажались тепловым движением. И тем не менее, когда мы поместили виртуальные метки в нижнее двухолмие, симулятор выдал точно такой же путь к таламусу и височным долям, как у белобочки. Если рассматривать левую и правую стороны мозга по отдельности, то височный слуховой путь обнаруживался в четырех полушариях из четырех. Наше открытие подтверждалось.
Результаты ДТВ дали нам дорожную карту воспринимающей стороны слуха дельфинов. В обоих просканированных образцах мозга основной путь от таламуса шел к височным долям, а не к теменной части. В целом этот тракт достаточно типичен для мозга млекопитающих, и, соответственно, там, где он заканчивается, располагается слуховая кора.
Но куда поступает информация оттуда?
Чтобы это выяснить, мы попросту поместили очередную виртуальную метку в обнаруженную нами область слуховой коры и принялись отслеживать идущие оттуда тракты. Теперь они вели назад и вверх.
Получившаяся карта указывала на две слуховые области – одна в височных долях, как у сухопутных млекопитающих, а другая ближе к темени, рядом со зрительной корой. Среди млекопитающих схожая организация наблюдается только у летучих мышей. Поскольку летучие мыши пользуются эхолокацией на суше, механизм ее вполне понятен. У летучих мышей имеется первичная слуховая зона в височных долях, точно такая же, как у дельфинов, но кроме нее есть еще вторичная и третичная слуховая кора непосредственно над височными долями и позади. У некоторых видов летучих мышей содержащиеся в этих вспомогательных слуховых областях нейроны специфически активируются на разные интервалы возвращения эха, формируя в итоге когнитивную карту расстояний до окружающих объектов[69]. У некоторых летучих мышей присутствует еще одна прилегающая область, которая реагирует на изменение звука эха. Эти мыши умеют регулировать издаваемый ими звук, подстраиваясь под объект эхолокации. Это называется «частотная модуляция», как в радиовещании в диапазоне УКВ (FM).
Самое примечательное, что при всем сходстве между мозгом летучих мышей и дельфинов эти животные не связаны близким родством. Чтобы отыскать у них общего предка, придется вернуться в прошлое минимум на восемьдесят миллионов лет[70]. Ближайшие сухопутные родственники дельфинов – парнокопытные, то есть свиньи, коровы, козы, овцы, и у них эхолокации не обнаруживается (хотя другие представители копытных, гиппопотамы, общаются при помощи издаваемых под водой щелчков). В данном случае перед нами классический пример параллельной эволюции. Эхолокация развивалась у летучих мышей и дельфинов независимо, но, поскольку задача стояла одинаковая, решения тоже получились аналогичными, только одно – для воздушной среды, а другое – для водной. Эту картину подтверждает и исследование генома дельфинов и летучих мышей. Гены, связанные со слухом и зрением, роднят этих животных между собой гораздо больше, чем следовало бы ожидать при таком далеком общем предке.
Сознавать, что мы отыскали еще один кусочек мозаики, еще одно звено цепи, соединяющей дельфинов с сухопутными животными, было приятно. Отчасти нас воодушевляла просто радость познания. Древо земной жизни поражает великолепием, и, когда удается обнаружить очередную связь между его ветвями, становится яснее, где на нем располагаюсь лично я, представитель семейства гоминид. Результаты исследования мозга животных при помощи таких сложных инструментов, как диффузионная МРТ, говорят, что сходства между нами больше, чем различий. Даже такое чуждое, казалось бы, явление, как эхолокация, на самом деле не так уж и необычно, если разобрать его на составляющие. Нагель выступал против редукционизма, но ведь именно с помощью редукции к проводящим путям в белом веществе нам удалось обнаружить нечто общее между дельфинами и человеком.
А еще радостно было от того, что наша работа имела и философское значение. Философы любят рассуждать о «квалиа» – субъективном ощущении какого-то понятия, например красного цвета. Представьте себе орхидею, переливающуюся всеми оттенками от розового до фиолетового. Ни в одном языке не хватит слов, чтобы передать ощущения от этого цветка целиком и полностью. Даже названий оттенков не хватит, а уж о запахе и говорить нечего. Так что если квалиа существует, каждый из нас навеки заперт в мире собственных ощущений, не имея ни малейшей возможности проверить, ощущает ли он то же самое, что и остальные. Если в нашем распоряжении только слова, как убедиться, что мой «красный» не выглядит для вас «синим»?
Доводы любого, кто тянет из рукава козырь квалиа, всегда предсказуемы: как ни совершенствуй знания о физической стороне того или иного процесса, ощущения от него мы все равно не сможем передать. И не важно, что красный цвет точно и досконально описан как электромагнитное излучение с длиной волны 700 нанометров. Физика не передает ощущение красного.
Но я считал иначе. Физика и биология вполне способны передать то, что не выразишь словами. Свидетельством тому – нашумевший интернет-прикол 2015 года с платьем – то ли сине-черным, то ли бело-золотым. Диванные философы ухватились за него как за доказательство квалиа, ведь для каждого из нас платье существовало в своей собственной версии. Однако научное объяснение оказалось куда более прозаичным. Рэндалл Манро в своем блоге XKCD с помощью простой иллюстрации показал, как на наше восприятие платья влияет фоновый цвет изображения. Как и большинство систем организма, цветовое восприятие оперирует величинами относительными, а не абсолютными. Объект воспринимается как синий или золотой в сравнении с чем-то еще. И самое логичное объяснение разницы восприятия заключается в том, что смотрящие брали за ориентир разные элементы фона. Редукция к этим элементам уничтожает весь таинственный флер квалиа. Собственно, даже свое собственное восприятие вы можете изменить, если попробуете сосредоточить взгляд на разных участках изображения.
То же самое и с мозгом дельфина. Эхолокация – это не чужеродная способность, которую нам ни за что не осознать. Эхолокация – это всего-навсего усиленный вариант неких навыков восприятия, которые имеются и у человека. Однако не пора ли нам перейти от органов чувств к чему-нибудь более глубинному? Поискать межвидовое родство в когнитивных процессах? Например, в области общения и социальных отношений.
Глава 7 Буриданов осел
На заре нейровизуализации, примерно с 1995 по 2005 год, невероятную популярность в когнитивной нейробиологии приобрела функциональная МРТ. В отличие от предшественницы, позитронно-эмиссионной томографии, она не требовала введения в организм радиоактивных изотопов. Метод подкупал быстротой и безопасностью. Центры нейровизуализации открывались во всех крупных исследовательских университетах, сперва на кафедрах рентгенологии медицинских институтов, затем на факультетах психологии. У немедиков впервые оказались в распоряжении инструменты, прежде имевшиеся лишь у рентгенологов. ФМРТ демократизировала нейровизуализацию. В целом, я думаю, это к лучшему. Чем шире доступ к технологии, тем выше вероятность открытий и прогресса.
С появлением нового инструмента в этой области начали тысячами возникать разовые исследовательские проекты. В научных журналах и прессе то и дело мелькали красочные изображения человеческого мозга с обозначенной областью нейронной активности для какого-нибудь взятого наобум психического процесса. Много внимания уделялось эмоциям – в духе «а это у нас центр счастья». Каюсь, угораздило и меня, пусть и не по личной инициативе. Мои ранние исследования отдельных частей мозга, связанных с принятием решений, попали на обложку Forbes с броским заголовком «В поисках кнопки “Купить”»[71]. Доступ к томографу обходился дорого, поэтому в ранних исследованиях испытуемых обычно было не больше двенадцати – двадцати. Однако из-за такой маленькой выборки результаты этих ранних исследований, скорее всего, были ошибочными. Очень немногие из этих исследований воспроизводились повторно в основном потому, что никому не хотелось тратить время и деньги на подтверждение чужих открытий и опытов, когда в мозге еще столько неизведанного.
Из-за этих красочных картинок с очагами активности самые суровые критики нейровизуализации дали ей прозвище «блобология» (от blob – клякса, шишка) – с отсылкой к существовавшей больше столетия псевдонауке френологии, в рамках которой особенности характера пытались определять по шишкам на черепе. В глазах критиков фМРТ была все той же френологией, только в новой упаковке – для аудитории XXI века.
Но для нас, тех, кто этим занимался, тот ранний период истории нейровизуализации был сплошным упоением. Мы чувствовали себя покорителями прерий, первопроходцами, храбро проникавшими туда, где еще никто не бывал. Что может быть проще – придумать эксперимент, набрать студентов-испытуемых и за пару вечеров или выходных нагрести вагон данных? Вопрос лишь в доступе к сканеру и финансировании этого доступа.
Раздолье для ковбоев от нейронауки закончилось где-то в 2008 году. Сперва Крейг Беннет, тогда постдокторант в Дартмутском колледже, сунул в томограф мертвую семгу. И обнаружил, что при отсутствии необходимых статистических поправок получается, будто в мертвой тушке наблюдается активность нейронов. Это привело к моментальному пересмотру требований к представляемым результатам в области нейровизуализации. Затем Эд Вул, тогда студент Массачусетского технологического института, написал статью с провокационным названием «Вуду-корреляции в социальной нейробиологии»[72]. Вул показал, что авторы многих авторитетных научных работ с использованием фМРТ непреднамеренно анализировали одни и те же данные дважды, что делало результаты более убедительными, чем они были в действительности.
Однако у науки есть способность к самокоррекции. Иногда на это требуется время, но в конце концов люди осознают ошибки ранних экспериментов и начинают вырабатывать стандарты правильного применения технологии. В нейровизуализации величина выборки постепенно подросла, хотя по-прежнему остается удручающе маленькой. А благодаря таким критикам, как Беннет и Вул, самая значительная перемена заключалась в осознании того, насколько легко получить при исследовании мозга ложные результаты. Такие результаты возникают, когда исследователь заявляет, что некая область мозга активируется при выполнении когнитивной задачи, тогда как на самом деле он видит лишь случайный всплеск в море беспорядочных флуктуаций. Отличить одно от другого не всегда удается, однако, по крайней мере, планка теперь поднята выше.
Во многих смыслах наш собачий проект был возвращением к тем временам «Дикого Запада». Когда мы с Марком начинали его в 2011 году, к нейровизуализации уже относились прохладно. Научные журналы предъявляли все более строгие требования к величине выборки и статистическим поправкам. Поэтому, когда мы обучили смирно лежать в томографе всю нашу подопытную группу из двух собак, мои коллеги отнеслись к происходящему с оправданным скепсисом.
Но мы не сдавались. Мы привлекли к участию других хозяев с собаками. Мы воспроизвели наши первоначальные эксперименты на большей выборке. Мы усовершенствовали статистические методы в соответствии с требованиями нашей научной области. И тем не менее одна неразрешимая трудность продолжала нас преследовать.
Многие ученые по-прежнему ставили под вопрос нашу интерпретацию активности мозга. Критике подвергался не только собачий проект. В рамках отхода от нейровизуализации Расс Полдрак, нейробиолог из Техасского университета в Остине, написал важную статью о сложностях определения психических процессов на основании наблюдаемой активности мозга[73]. Он доказывал, что в силу тесной взаимосвязи областей мозга тот или иной его участок может выполнять не одну функцию. И функция определенного участка в любой момент времени зависит не только от его активности, но и от происходящего в связанных с ним областях. Из-за этой тесной взаимосвязи, утверждал Полдрак, нельзя делать выводы о психическом процессе на основании одной лишь активности в определенной области мозга. Он назвал это «проблемой обратного вывода».
Способов борьбы с этой проблемой предлагалось несколько. Первый – интерпретируя психические процессы, рассматривать согласованную активность сразу во многих областях мозга. Этот подход привел к появлению коннектомики. На практике коннектомные исследования требуют огромного количества данных и терпеливых испытуемых, готовых долго сохранять неподвижность в томографе. Наши собаки, как бы хорошо они ни были выдрессированы, таким терпением не обладали, и для них эти исследования оказались бы непосильным испытанием. Второй способ – ставить такие эксперименты, чтобы они были сфокусированы на одном определенном когнитивном процессе. Иногда такой подход требует серии экспериментов. Мы с Марком и Питером решили пойти по этому пути.
Самая суровая критика в адрес собачьего проекта исходила от представителей лагеря консервативных бихевиористов. Надо признать, мало кто из ученых по-прежнему исповедовал сформулированные Скиннером принципы в чистом виде, однако именно в бихевиористском ключе норовили истолковать любое наше открытие.
Претензии – вариации на тему «проблемы обратного вывода» – сводились к тому, что, может быть, у собак просто формируют цепочку условно-рефлекторных связей. Ведь мы приучали их к томографу, награждая за смирное лежание сначала в головной катушке, потом в симуляторе томографа, потом в симуляторе с добавлением шума и, наконец, в настоящем томографе. И даже в эксперименте «можно/нельзя» они получали лакомство за неподвижность. Что, если, с собачьей точки зрения, все это просто последовательность действий, ведущая к награде? Тогда любая наблюдавшаяся нами активность в их мозге обусловлена обыкновенным ассоциативным обучением. И незачем приплетать сюда мышление, эмоции и даже разум![74]
Честно говоря, я сам бросил бихевиористам вызов в статье для The New York Times, в которой писал: «Благодаря возможности заглянуть непосредственно в мозг и обойти бихевиористские ограничения, МРТ может рассказать нам о внутренних ощущениях собаки»[75].
Дерзкое высказывание. Но я был убежден в своих словах, когда писал ту статью, и готов был отстаивать их перед бихевиористской критикой. В то время у нас было еще мало доказательств, что мы регистрируем именно эмоции, пока все сводилось к нескольким собакам, реагирующим в томографе на жестовые сигналы. Изначальный эксперимент был выполнен как классический условный рефлекс по Павлову, поэтому неудивительно, что бихевиористов задели за живое мои выводы о чувствах у животных. Но я всю сознательную жизнь держал собак и не готов был признавать, что наши собратья представляют собой бесчувственные механизмы. У каждого из них свой характер, свои симпатии и антипатии, они совершают целенаправленные поступки, которые предполагают более высокий уровень мышления, чем отводят им бихевиористские модели.
По мере того как собачий проект разрастался, участников становилось больше, а эксперименты усложнялись, вопрос о мотивации испытуемых вставал все острее. Одной только искренней убежденностью неопределенность «обратного вывода» не преодолеть. Пришло время разобраться.
Неужели они и вправду все делают только ради сосисок?
За четыре года работы над проектом я успел узнать наших собак как своих собственных. У каждой имелись особенности. Кто-то любит играть. Кто-то осторожничает. Кто-то, как Либби например, кидается на других собак, а кто-то безразличен. И хотя лакомство любили все, кого-то, как Кэйди, явно больше интересовало настроение хозяина, по крайней мере пока хозяин был рядом. Многие охотно меняли угощение на беготню за мячиком или перетягивание каната.
Разумеется, в томографе мы играть с собаками не могли, но излить на испытуемого бурный поток похвал хозяину ничего не мешало. Соответственно, нам предстояло узнать, насколько ценна для собаки социальная награда сама по себе. Сравнится ли она с куском сосиски? Мы назвали этот эксперимент «лакомство или похвала».
Одна из главных трудностей заключалась в необходимости соблюдать неподвижность. Сравнивать похвалу и лакомство напрямую было невозможно, поскольку, поедая пищу, собака в любом случае двигается, а значит, нужно каким-то образом обеспечить неподвижность при получении обоих типов наград. Несколько недель мы ломали голову, ища выход. Рассматривали вариант держать лакомство у собаки перед носом – как в зефирном эксперименте, – но в этом случае, даже если собака не шевельнется, все равно возникнет путаница в ощущениях. Поскольку у вербальной похвалы запаха нет, мы рискуем противопоставить не лакомство и похвалу, а запах пищи и его отсутствие.
Нам требовался эксперимент, который исключал бы все сенсорные различия между лакомством и похвалой, оставляя только ценность поощрения как таковую. Несколько недель мы бились над неразрешимой, как нам казалось, проблемой, а потом нас озарило. И предпосылки для этого решения присутствовали в проекте с самого начала.
На всем протяжении проекта наши испытуемые реагировали на жестовые сигналы, обозначавшие тот или иной исход. Одна поднятая ладонь означала «будет сосиска». Две ладони, развернутые пальцами друг к другу, означали «сосиски не будет». Скрещенные на груди руки значили: «Не шевелись, даже если услышишь свисток». Чтобы получить пригодные для интерпретации данные фМРТ, необходимо было сосредоточиться на отклике на жестовый сигнал, а не на то, что за ним последует, поскольку последующее обычно искажалось на сканах артефактами движения. Активность мозга при реакции на жестовый сигнал отражала степень предвкушения. У человека, как уже известно ученым, одной из ключевых структур мозга, активирующихся при предвкушении чего-либо приятного для него – например пищи, денег, музыки – является хвостатое ядро. Поэтому, когда еще в самых ранних экспериментах мы обнаружили, что и у собак хвостатое ядро реагирует схожим образом на жестовые сигналы в предвкушении лакомства, стало ясно: мы на пороге какого-то интересного открытия.
Предвкушение крайне интересно тем, что это внутренний процесс, нечто происходящее в сознании собаки. Прямого внешнего проявления оно не получает, поэтому нам предоставляется идеальная возможность использовать нейровизуализацию для понимания психического процесса, который в противном случае оказался бы для нас недоступным. Нам, людям, предвкушение или предугадывание знакомо хорошо, хотя описать его словами несколько затруднительно. Предвкушение вызывает восторг и дарит иногда больше радости, чем само предвкушаемое, а предчувствие чего-то плохого нередко пугает и нервирует сильнее, чем непосредственное событие. Взять хотя бы визит к стоматологу[76].
Жестовые сигналы выручали нас во многих экспериментах. Поскольку хозяин всегда в поле зрения, внимание собаки сосредоточено на нем. С помощью жестовых сигналов мы подкрепляли интерес испытуемых, мотивировали оставаться в томографе, рядом с хозяином и во взаимодействии с ним. Но противопоставить лакомство и похвалу с помощью жестовых сигналов мы не могли. Если хозяин будет постоянно оставаться на виду, собака получит непрерывный поток социального вознаграждения, тогда как лакомство будет поступать дискретно, а значит, противопоставление окажется неравным. Кроме того, лакомство обычно выдает хозяин, поэтому в таком взаимодействии пища и социальное вознаграждение будут получены одновременно.
В данном эксперименте хозяина необходимо было убрать с глаз собаки. По-другому никак. Чтобы обеспечить равенство условий, появление хозяина и вербальная похвала должны были быть, как и пищевая награда, эпизодическими. Однако нам все равно требовалось вызвать состояние предвкушения для обоих типов наград.
Если хозяина в поле зрения собаки быть не должно, единственная альтернатива – ввести новые зрительные сигналы – один для лакомства, другой для похвалы. Можно было бы выводить их изображение на экран в створе тоннеля томографа (допустим, на компьютерный монитор), но тогда хозяин не смог бы взаимодействовать с собакой лично. Кроме того, дома никто из собак не проявлял интереса ни к телевизору, ни к интернету (возможно, правда, все дело в отсутствии контента, ориентированного на четвероногих).
Как-то вечером Келли откопала во дворе сокровище. Я узнал об этом по отчаянному лаю Като. Сам по себе лай еще ничего не значил: Като лаял по любому поводу – такой у него был универсальный способ общения. Разница заключалась только в энергии, которую он в этот лай вкладывал: чем интереснее добыча у другой собаки, тем сильнее надрывался Като.
Судя по тому, как он заходился в этот раз, Келли добыла что-то исключительно ценное – обычно это оказывался какой-нибудь мелкий зверек вроде крота.
Не успел я выйти наружу и выяснить, что у них там происходит, как на кухню ворвалась вся собачья стая во главе с Келли, гордо сжимающей в пасти не крота, а перепачканную Барби – привет из детства моих дочерей, надо полагать. Кукла знавала лучшие времена. Однако теперь, оказавшись в роли собачьего трофея, она подсказала нам решение для эксперимента с похвалой и лакомством.
Будем использовать игрушки!
На следующий день мы с Питером устроили мозговой штурм.
– И как будем их предъявлять? – спросил Питер.
– На палке? Приклеить яркую цветную игрушку на деревянный штырь.
– Да, это хорошо. Показываем игрушку на десять секунд, а затем выдаем награду.
Мне эта мысль тоже понравилась.
– Одна игрушка означает выдачу сосиски, другая – похвалу от хозяина.
Питер в раздумье наморщил лоб.
– Но хозяин при демонстрации игрушки все равно должен оставаться вне поля зрения, по крайней мере до того момента, как будет хвалить собаку.
Да, он прав. Чтобы соблюсти чистоту эксперимента, нам нужно сформировать у собак ассоциации между игрушкой и соответствующим вознаграждением. Устоят ли собаки в томографе, наблюдая кукольный спектакль, который мы собираемся перед ними разыгрывать? Был только один способ выяснить.
Мы с Питером разошлись по домам – рыться в детских корзинах на предмет чего-нибудь яркого. Сперва я хотел взять ту самую Барби, которую добыла Келли, но вовремя сообразил, что насаживать пластиковую красотку на палку, пожалуй, не лучшая идея. Вместо Барби я выбрал рыцаря на коне. Около пятнадцати сантиметров длиной и десяти сантиметров высотой, насыщенного кобальтового цвета – как раз то что надо, чтобы воздействовать на цветовые рецепторы, максимально чувствительные к синему цвету. Даже если самого всадника собака не идентифицирует, от других игрушек он будет отличаться по окраске. Копаясь среди детских вещей, я наткнулся на щетку для волос – такую цилиндрическую, с щетиной во все стороны. Ни в игрушке, ни в щетке не было металла, а значит, отсутствовал риск засасывания их в магнит.
Питер позаимствовал у своего сына машинку – малышовую версию «Фольксвагена-жука» цвета фуксии с желтыми колесами. Она будет воздействовать на другой цветовой рецептор, максимально чувствительный к желтой части спектра.
Я просверлил на станке отверстия во всех игрушках и закрепил наш инвентарь эпоксидным клеем на метровых деревянных стержнях.
Первой поучаствовать в новом эксперименте выпало Кэйди, флегматичной помеси лабрадора. Мы установили на тренировочной площадке симулятор томографа и придвинули лестницу, а хозяйка Кэйди, Патриция Кинг, поставила в тоннель головную катушку.
Услышав команду забираться, Кэйди взбежала по ступенькам и, как положено, водрузила морду на стойку.
Я принес камеру на штативе и нацелил ее в створ тоннеля. За исключением тех недолгих моментов, когда Патриция будет появляться, чтобы похвалить Кэйди, никого из людей в поле зрения собаки быть не должно, поэтому реакцию Кэйди нам предстояло отслеживать с помощью камеры.
Это нужно было делать вдвоем. Я уселся на пол за тоннелем томографа, чтобы Кэйди меня не видела. У нас было три типа попыток, заранее расставленных компьютером в случайном порядке. Синий рыцарь будет означать выдачу сосиски. Розовая машинка – похвалу. А щетка для волос нужна только для зрительного контроля и не означает ничего.
Для первого раза я быстро продемонстрировал Кэйди все три стимула, высовывая каждую игрушку секунды на три. Показав синего рыцаря, я нанизал кусок сосиски на длинный стержень, который моя дочка окрестила наградным шампуром, и поднес его, словно бильярдный кий, к морде Кэйди. Судя по жадному чавканью, лакомство пошло на ура. Показав розовую машинку, я кивнул Патриции, и она появилась перед Кэйди с бурными: «Умница! Молодец!»
После десяти повторов попыток каждого типа мы сделали перерыв и посмотрели отснятое видео. Кэйди оставалась абсолютной загадкой. Все это время собака выдерживала требуемую стойку, и по выражению ее морды никак нельзя было угадать, что она думает или чувствует. Впрочем, это даже хорошо, иначе зачем нам вообще делать МРТ. Чтобы закрепить у Кэйди ассоциации между игрушками и наградами, мы провели еще два раунда, а потом повторили все это через две недели, проверяя устойчивость ассоциаций. Теперь можно было экспериментировать в настоящем томографе.
На сканировании Кэйди тоже не подвела. В пассивных заданиях, когда требовалось лишь смирно лежать в головной катушке, ей не было равных. Поэтому именно с Кэйди мы начинали «обкатку» экспериментов. Не сомневаясь, что это задание окажется по силам и остальным нашим испытуемым, мы по той же схеме, что и с Кэйди, приучили их к условным сигналам в виде игрушек. За несколько месяцев нам удалось пропустить через томограф всех.
Анализ результатов фМРТ затруднений не вызывал. Как и в изначальных экспериментах, мы намеревались сосредоточить внимание на хвостатом ядре. Это ядро образует большую перевернутую «С», дуга которой, начавшись крутым изгибом у лобных долей мозга, тянется почти до самой затылочной части. У человека передняя часть этой дуги связана с теми отделами лобной коры, которые отвечают за такие когнитивные функции, как планирование, или, как мы наблюдали в эксперименте «можно/нельзя», за самоконтроль. Далее хвостатое ядро сливается со структурой под названием прилежащее ядро, входящей в системы, отвечающие за подкрепление и мотивацию. Вот в этой части хвостатого ядра мы и будем измерять активность при предъявлении разных стимулов. Ключевым будет сравнение реакций на синего рыцаря и розовую машинку. Если один из стимулов вызовет бóльшую активацию, значит, соответствующая ему награда вызывает большее предвкушение.
Сперва, чтобы проверить, закрепилось ли отдельное значение за каждым из стимулов, мы сравнили активность при предъявлении машинки и рыцаря с активностью при предъявлении щетки. Все, как и предполагалось: игрушки вызывали сильную активность в хвостатом ядре, а щетка – нет.
Однако, когда мы сравнили ответы на рыцаря и щетку друг с другом, оказалось, что между ними нет значимой разницы. Активность в хвостатом ядре возрастала как при предъявлении рыцаря, так и при предъявлении машинки. То есть собаки усвоили, что рыцарь означает лакомство, а машинка – похвалу, однако предвкушали оба поощрения в равной степени.
Тоже, в общем-то, интересное открытие, но изначально мы замахивались на нечто более существенное. Всего в этом эксперименте поучаствовали пятнадцать собак – рекордное число для проекта и достаточное, чтобы удовлетворить требования критиков, которые будут с пристрастием изучать наши результаты.
Каждый день мы с Питером разглядывали карту активности мозга. На разницу в реакции на лакомство и похвалу не наблюдалось даже намека.
– Может, одни собаки любят пищу, а другие похвалу… – начал я.
– И, объединяя результаты, мы нивелируем разницу, – закончил мою мысль Питер.
В эксперименте с когнитивным самоконтролем мы обнаружили устойчивую корреляцию между активностью лобных долей и способностью собаки проявлять самоконтроль в самых разных контекстах. И теперь, объединив в эксперименте с похвалой и лакомством данные по активности мозга для увеличения выборки, мы обеспечили необходимую статистическую мощность, однако индивидуальные различия между собаками пока оставались за кадром. Как и в зефирном эксперименте, здесь нельзя было стричь всех под одну гребенку.
Питер отобрал из общей массы результаты активности хвостатого ядра для каждой из собак и ранжировал их по величине расхождения между реакцией на лакомство и на похвалу. Самые высокие показатели в реакции на похвалу принадлежали Перл, Кэйди и Велкро, тогда как Большой Джек, Трюфель и Оззи выдали самые высокие результаты на лакомство. Большой Джек свою кличку получил неспроста. «Большим» его стали называть не с рождения. А что касается прелестного йоркширского терьера Оззи – вот уж кто готов был душу продать за угощение! Даже его хозяйка, Патти Руди, не питала иллюзий насчет своего ненаглядного: «У Оззи всегда только вкусненькое на уме».
На другом конце спектра находились собаки с наиболее сильной привязанностью к хозяевам: добродушные миляги Перл, Кэйди, Велкро. Наблюдая за ними на подготовительных занятиях, я не мог отделаться от ощущения, что главное для них – настроение хозяина. А еда – это так, заодно.
Распределение по степени активизации хвостатого ядра примерно соответствовало характерам собак, но нам требовался менее субъективный способ измерения.
Мы привыкли считать предпочтения человеческой прерогативой, но они имеются и у животных. Измерять собачьи предпочтения можно по-разному. Людей, будь они участниками нашего эксперимента, достаточно было бы попросить сделать выбор. Как, например, в Pepsi Challenge, рекламной кампании, начатой еще в 1970-х, где кока-кола противопоставлялась пепси – типичная задача с принудительным выбором. Нам требовался аналог Pepsi Challenge для собак, только чтобы вместо кока-колы и пепси у нас соревновались лакомство и похвала. И поскольку собаки о своих предпочтениях сообщить не могут, нужен был такой тест, в котором предпочтение выразилось бы в поведении.
Задания на выбор из нескольких вариантов используются в экспериментах с животными достаточно часто. Приматов – человекообразных и обычных обезьян – можно без труда научить указывать на предметы или стучать по ним пальцем, а крыс и голубей – нажимать на клавиши для получения желаемого. И хотя мы могли научить наших собак указывать на предпочтительный предмет носом, трудности вызывала механика обеспечения соответствующей награды. Если лакомство еще можно было без труда доставлять по какому-нибудь желобу, то похвала от хозяина требовала иного способа доставки. Хозяин мог бы прятаться за дверью и показываться, когда собака выбирает похвалу, но на тренировочной площадке такое организовать трудно.
Поэтому, чтобы не усложнять, мы решили остановиться на лабиринте.
Соединив в основном тренировочном помещении несколько детских воротец, мы сделали барьер в форме буквы V, направленной углом к двери, за которой предстояло дожидаться собакам. Когда дверь откроется, собака выйдет в основное помещение и окажется на «развилке», где должна будет решить, куда свернуть. В конце одного рукава будет сидеть на стуле хозяин – спиной к собаке, чтобы избежать дополнительного поощрения мимикой. В конце другого рукава будет миска с лакомством.
Поскольку до сих пор собаки ни с чем таким не сталкивались, нужно было сперва познакомить их с «правилами», иначе лабиринт не поможет нам проанализировать предпочтения.
Роль первопроходца в этот раз досталась Перл – энергичной золотистой ретриверше. Марк четырежды провел Перл от двери по каждому из рукавов – дважды к лакомству, дважды к хозяину и похвале, один раз поменяв два варианта вознаграждения местами. Затем наступил этап свободного выбора. В отличие от Pepsi Challenge, где участники выбирали только один раз, мы решили, что у каждой из собак будет несколько попыток выразить свои предпочтения. Отчасти это объяснялось невозможностью удостовериться, что собаке понятно задание, – чтобы разобраться в происходящем, ей может потребоваться несколько попыток. Мы решили, что двадцати будет достаточно.
Приступая к первой попытке, Марк открыл дверь, и Перл увидела в правом рукаве лабиринта свою хозяйку – Вики Д’Амико. Посмотрела налево, еще раз оглянулась на Вики, но все-таки бодрой рысцой двинулась к миске с лакомством. На все про все ушло пять секунд.
Вики пересела налево, миску переставили направо. Чтобы у собак не вырабатывалось предпочтение одной стороны, лакомство и похвалу необходимо было каждый раз менять местами. На второй попытке Перл сразу направилась к Вики. На третьей она наконец свернула направо, где Вики сидела в этот раз. По итогам двадцати попыток стало ясно, что Перл предпочитает левую сторону (75 % от общего количества попыток), но при этом в 70 % случаев она все же сворачивает к хозяйке. В ряде попыток Перл не могла определиться с выбором и просто кружила по комнате.
За несколько месяцев мы протестировали всех наших собак – разброс в результатах оказался широчайшим. Кто-то в 100 % случаев выбирал лакомство, кто-то в целых 85 % попыток устремлялся к хозяину. Большинство держалось где-то посередине.
Одним только подсчетом процентных соотношений этот эксперимент для нас не ограничился. При первых попытках многие собаки без колебаний кидались к хозяину, как будто забывали о лакомстве, ожидающем по другую сторону разделительного барьера. Иногда на полпути к хозяину они замечали миску, но, не понимая, как до нее добраться, назад уже не поворачивали. Хозяева, конечно, радовались, что их предпочли сосиске.
Однако рано или поздно большинство собак усваивало, что лакомство находится в свободном доступе и что свернуть к миске не возбраняется. Иногда мы отчетливо видели, как собаку осеняет: «О, так это ж просто супер! И сосиску съем, и хозяин вон он там, рядом!» (Надо было, конечно, сделать перегородку непрозрачной, но это мы поняли только потом.) Некоторые собаки, например Большой Джек, обнаруживали подвох почти сразу. На первых трех попытках Джек устремлялся к хозяйке, Синди Кин, но на четвертой понял, что упускает добычу и свернул к миске. После этого он чередовал выбор в примерном соотношении «три раза к миске, один раз к хозяйке». Абсолютной его противоположностью оказался Велкро, действовавший в полном соответствии со своей кличкой[77]. Лишь на шестнадцатой попытке он свернул не к хозяину, а к миске, но даже тогда видно было, как нелегко ему далось это решение. Примерно так же вела себя Кэйди. Как и следовало ожидать при ее осторожности, к лакомству она отважилась свернуть только через семнадцать попыток.
Сухие цифры выбора между лакомством и похвалой не отражали сложного процесса принятия решения у собак. Проблема заключалась в том, что мы неправильно понимали предпочтение. Разрабатывая этот эксперимент, мы рассчитывали по соотношению результатов выбора увидеть, что для каждой из собак предпочтительнее – лакомство или похвала. С 1960-х годов ученые оценивали предпочтения животных по соотношению их реакций на предлагаемый выбор. Это называлось законом соответствия, который изначально демонстрировался на голубях[78]. Закон соответствия предполагал, что выбор у подопытного животного распределяется пропорционально удовлетворению результатом этого выбора. Голубь будет чаще клевать тот выключатель, который выдает больше корма, предпочитая его тому, который выдает меньше. Соотношение клевков этих двух выключателей будет соответствовать соотношению выданного корма. Точно так же вели себя крысы. На первый взгляд, то же самое происходило и у собак.
Не буду преуменьшать когнитивные способности голубей и крыс, но у собак все оказалось несколько сложнее. Их волнует кое-что еще кроме еды, например хозяйское одобрение. А мы невольно поставили их в положение буриданова осла.
Жан Буридан – французский философ XIV века – иллюстрировал парадокс свободы воли на примере осла. В этом парадоксе перед ослом, который одновременно хочет и есть, и пить, оказывается копна сена и бадья воды. Не в силах сделать выбор, он погибает от голода и жажды[79]. Неспособность выбрать рассматривается как доказательство отсутствия свободы воли. Некоторые доказывают, что ситуация эта чисто умозрительная, и альтернативные варианты не могут быть равнозначными настолько, чтобы вогнать выбирающего в ступор[80].
Мне же положение буриданова осла не казалось умозрительным. В каждой из попыток наши собаки в той или иной степени желали бы получить и лакомство, и внимание хозяина, однако доставалось им только что-то одно. Нам, людям, такое положение знакомо. Выбор спутника жизни, учебного заведения, карьеры вполне способен парализовать нас в ответственный момент. Сколько друзей и коллег на моей памяти тянули с принятием важного решения, пока в результате не упускали возможность окончательно. Это, правда, проблема не столько равнозначности альтернативы, сколько боязни пожалеть впоследствии о принятом решении. Однако, на мой взгляд, в патологической прокрастинации и заключается суть дилеммы буриданова осла.
Судя по всему, собаки испытывали что-то похожее. Не зря некоторые в ряде попыток просто не могли сделать выбор и кружили по комнате, так и не определившись. И хотя изначально нас интересовало только итоговое соотношение, стало понятно, что и чередование вариантов немало говорит о том, как собаки разрешают свои дилеммы.
У Джека последовательность выглядела так: лакомство – хозяин – лакомство – хозяин. У Оханы и Перл, при точно таком же итоговом соотношении, последовательность выстраивалась совершенно другая: лакомство – лакомство – хозяин – хозяин. Джек любил разнообразие, тогда как Перл и Охана проявляли чуть большее постоянство.
Самый простой способ проанализировать последовательность вариантов выбора – разбить ее на пары. Это называется «смена состояний», и в нашем эксперименте она была представлена в четырех вариантах: лакомство – лакомство, лакомство – хозяин, хозяин – лакомство, хозяин – хозяин. Подсчитав эти переходы, можно вычислить, с какой вероятностью собака, в зависимости от предыдущего выбора, предпочтет в следующий раз лакомство или хозяина. Постоянство проявлялось как значительное преобладание вариантов лакомство – лакомство или хозяин – хозяин. Разница между ними двумя позволяла оценить, насколько собака предпочитает лакомство похвале и какой стратегии придерживается, чтобы разрешить дилемму.
Степень постоянства вполне соответствовала характерам собак. Велкро продемонстрировал высокую степень постоянства в выборе похвалы – 82 % – и нулевую по отношению к лакомству. Другое дело Джек. Несмотря на непоколебимую веру Синди в его любовь, поесть Джек тоже любил. Постоянство в выборе лакомства составило 62 % и только 43 % – в выборе Синди. Такой вот ветреник.
Сравнивая результаты эксперимента в лабиринте с данными фМРТ, мы с Питером выявили закономерность. Чем сильнее реакция хвостатого ядра на хозяина собаки, тем большую преданность хозяину эта собака демонстрировала в эксперименте с выбором. То есть данные фМРТ, судя по всему, отражали соотношение между любовью к человеку и лакомству.
Казалось бы, ничего неожиданного, однако выявить связь между активностью мозга и поведением, особенно вне томографа, было невероятно сложно. Контексты отличались кардинально. В томографе собака просто лежала смирно, наблюдая предъявление неодушевленных стимулов, а затем дожидаясь либо лакомства, либо похвалы. По отклику хвостатого ядра можно было как-то судить об относительной степени предвкушения. Но в эксперименте с выбором на ситуацию влияло множество факторов, и самый главный из них заключался в одновременной доступности обоих вариантов.
Согласно классической теории поведенческой экономики, доступность нескольких потенциальных вариантов не влияет на удовлетворение, которое человек получает от того варианта, который в итоге выбирает. По теории ожидаемой полезности, в выборе человек руководствуется стремлением максимизировать будущую выгоду. То есть, если я люблю ванильное мороженое, важно ли мне, что приходится выбирать между ванильным, фисташковым и шоколадным, которые нравятся мне одинаково? Если я выбрал ванильное, значит, в данный момент мне больше захотелось именно его. Однако, несмотря на основополагающую роль теории ожидаемой полезности в любом современном экономическом анализе, она зачастую не передает внутреннюю психологию принятия решений.
Разумеется, не все решения приводят к ожидаемым результатам. Разочарование – важнейший пусковой механизм обучения в мозге. Разочарование ведет к сожалению – раздумьям об упущенном варианте. Какое бы мороженое я ни выбрал, всегда останется вероятность, что другой вкус понравился бы мне больше. Однако к 1980-м годам экономисты начали выдвигать другие теории принятия решений, учитывающие и такой фактор, как сожаление. Теория сожаления утверждала, что иногда человек выбирает менее желаемый вариант лишь для того, чтобы впоследствии не жалеть[81].
На первый взгляд сожаление кажется исключительно человеческой способностью. По самой своей природе оно подразумевает учет существования альтернативных вариантов развития событий, что требует сложной работы воображения. Чтобы сожаление выступило фактором принятия решений, нужно не только испытывать его, но и прогнозировать возможность его ощутить. В 2004 году было установлено, что орбитофронтальная кора является критически важной областью мозга для ощущения сожаления, поскольку те, у кого эта область оказывалась поражена в результате инсульта, сожаление испытывать переставали[82]. И когда в 2014 году нейробиолог из Миннесотского университета Дэвид Редиш продемонстрировал нейронные основы сожаления у крыс[83], его открытие стало сенсацией.
Редиш предложил подопытным крысам «шведский стол». Это был круглый лабиринт с четырьмя радиально отходящими от него рукавами, в конце каждого из которых находился корм одного из четырех вкусов – банановый, вишневый, шоколадный или обычный. Когда крыса входила в отсек лабиринта, прилегающий к одному из рукавов, начинался звуковой обратный отсчет – с каждой секундой тон сигнала понижался. Если крыса дожидалась конца отсчета в этом отсеке, получала соответствующий корм. Если переходила дальше, отсчет в этом отсеке прекращался и больше не возобновлялся, то есть этот корм крыса получить уже не могла. Если крысе какой-то из вкусов нравится больше остальных, полагал Редиш, в соответствующих отсеках она просидит дольше, дожидаясь конца отсчета. Но, поскольку продолжительность отсчета каждый раз была произвольной, перед крысой всегда стоял выбор: дождаться предпочитаемого корма или перейти к менее желанному. «Шведский стол» сильно напоминал зефирный эксперимент Мишела.
Наиболее чреватый сожалениями результат возникал, когда крыса проявляла нетерпение и решала не дожидаться любимого корма. Она переходила в следующий отсек – но оказывалось, что там придется ждать (уже не самого любимого корма) еще дольше. В этом случае крысы часто оглядывались назад, на отсек, где они упустили возможность. И как выяснил Редиш, во время этих оглядок нейроны хвостатого ядра и орбитофронтальной коры крыс были высоко активны. Бесспорный вывод: крысы, как и человек, внутренне проигрывают и возможные будущие события.
Если сожаление свойственно крысам, не исключено, что его испытывают и собаки. Результаты проведенной у наших собак МРТ указывали на решающую роль хвостатого ядра в обозначении ценности предвкушаемого варианта. И хотя во время МРТ-сканирования собакам не требовалось делать выбор, можно предположить, что хвостатое ядро, связанное к тому же с орбитофронтальной корой, оперирует данными о гипотетических возможностях. Так же как и в человеческом мозге.
Да, нам, разумеется, сложно представить во всей полноте, как именно ощущается сожаление у собаки или крысы. Однако полученные данные ясно показывают, что мозг этих животных способен проигрывать вероятные исходы, и это согласуется с четвертым принципом функционирования мозга:
Мозг моделирует возможные действия и будущие последствия, чтобы принять оптимальное решение в имеющейся ситуации.
Если у человека имеется словесное обозначение для сожаления, а у животных нет, это еще не значит, что животные его не испытывают. Судя по активности нейронов, испытывают, и еще как! Это открытие заставляет задуматься, так ли неотъемлема роль языка в субъективных переживаниях.
Кроме того, отказывать животным в языковых способностях не совсем корректно. Животные не говорят, но фрагментарное понимание человеческой речи у живущих рядом с людьми присутствует. И тогда возникает следующий важный вопрос: что значат слова для животного?
Глава 8 Разговоры с животными
– Келли! Ищи ежика! – скомандовал я.
Она завиляла всем задом, а на ее морде было написано: «Ура! Играем!» Развернувшись, Келли побежала к шеренге предметов, которую я выстроил на полу. Не удостоив вниманием кофейные кружки, она ткнула носом плюшевого зверя с торчащими во все стороны мягкими шипами, которого я для простоты назвал ежом.
Я щелкнул кликером, подтверждая правильность находки, и Келли метнулась обратно ко мне за наградой в виде куска сосиски.
Теперь ей предстояло отыскать брусок синего пенопласта.
– Келли, ищи синий! – велел я.
Она посмотрела на меня, затем, виляя хвостом, на разложенные по комнате предметы.
– Келли! Синий! Ищи синий.
Просеменив к ежу, Келли несколько раз ткнула его носом, но поскольку кликерного щелчка не последовало, оглянулась на меня.
Я постарался сохранить непроницаемое выражение лица.
Через несколько секунд Келли отстала от ежа, однако и пенопласт найти не сумела, вместо этого направившись к ограничителю двери.
– Нет, девочка, не то. – Я жестом позвал ее обратно.
Мы сделали еще три попытки. Хотя связь между словом «синий» и пенопластовым бруском закреплялась не единожды, Келли по-прежнему упорно шла к ежу. Может, конечно, с ежом ей просто было интереснее играть. Но мы подозревали, что за ошибками Келли стоит нечто большее, проливающее свет на некоторые особенности восприятия речи собаками.
Хотя Келли частично отстранили от участия в собачьем проекте, я по-прежнему прогонял с ней новые эксперименты, чтобы выявить возможные недочеты. Сейчас я пытался закрепить у нее связь между словесным обозначением и предметом. Получалось не очень.
К этому эксперименту нас подтолкнули все чаще встречавшиеся упоминания о собаках с большим словарным запасом. В 2004 году известность получил бордер-колли по кличке Рико, знавший больше двухсот названий разных предметов[84]. Затем в 2011 году профессор психологии Джон Пилли научил свою бордер-колли Чейзер тысяче с лишним слов[85]. Чейзер вызвала ажиотаж в научных кругах. Означает ли ее внушительный словарный запас, что и остальные собаки способны выучить столько же? И более принципиальный вопрос: Чейзер просто увязывает произвольный набор звуков с определенным предметом или у нее действительно имеется некое зачаточное понимание, что «Бинки» – это наименование объекта?
Вопрос этот – о семантическом знании.
Есть ли в мозге собаки семантические системы? Было бы замечательно обнаружить, что Чейзер понимает: у слов есть значения. А еще лучше было бы, если бы она понимала, что эти значения могут меняться в зависимости от контекста. До сих пор никому не приходило в голову это проверить. Исследование языковых способностей у животных в основном проводилось на приматах – шимпанзе и бонобо. Но, если не считать отдельных случаев, наличие языковых способностей или семантического знания даже у наших ближайших родственников пока не особенно подтверждалось. Отчасти проблема заключалась в том, чтобы выяснить, что именно знает животное.
Мне хотелось не просто определить, что знает Келли, я надеялся пойти дальше и сделать свою речь более доступной для нее. Чтобы разговаривать с животными, необходимы три условия. Во-первых, установить, чтó они понимают из человеческого языка. Во-вторых, научиться истолковывать их коммуникационные сигналы. И наконец, разработать систему, обеспечивающую двустороннее общение – переводящую наши идеи в понятную животным форму и соответственно облекающую их коммуникацию в приемлемую для нас форму.
Это не такая уж утопия, как может показаться.
На своей самой знаменитой картине французский художник Рене Магритт изобразил курительную трубку. И подписал: Ceci n’est pas une pipe («Это не трубка»). Магритт провозглашал, что перед зрителем лишь изображение трубки, а не сама трубка. Точно так же работает и наш мозг – выстраивая мысленную картину мира на основе данных, получаемых от органов чувств. Однако не надо путать эту мысленную репрезентацию с ее реальным прототипом.
Утверждение это несколько сбивает с толку, но, если мы действительно хотим когда-нибудь разговаривать с животными, нужно как-то разрешить проблему репрезентации. Когда Келли видит плюшевого ежа, внутренняя репрезентация у нее совсем иная, чем у меня, хотя смотрим мы на один и тот же предмет. Она воспринимает игрушку своим, собачьим, зрением и мозгом, а я своим, человеческим. И, произнося слово «еж», я знаю, что это слово относится к определенному предмету. Но, судя по поведению Келли, особенно при поисках «синего», она не понимала, что слово – это обозначение. Я надеялся, что с помощью фМРТ мы разберемся, как представлены в мозге моей собаки слова и предметы. Это будет шаг к первому условию коммуникации – выяснению, что известно собаке.
Идею эту мы почерпнули в революционной работе Джека Галланта, нейробиолога из Калифорнийского университета в Беркли. Галлант использовал фМРТ, чтобы расшифровать человеческий мозг. Изначально его интересовало, как мозг кодирует визуальные сцены. Ученые уже давно выяснили, что при обработке зрительной информации сперва распознаются самые «грубые» составляющие – контраст, границы, цвет, движение. В остальном было по-прежнему непонятно, как человеческий мозг преобразует зрительное изображение в представление о предмете.
Галлант пошел напролом. В течение нескольких часов он сканировал мозг испытуемого в процессе просмотра фильма, в котором вместе со своими студентами вручную разметил содержание каждого кадра. После этого они внесли полученные данные об активности каждого участка мозга в каждую секунду просмотра фильма в компьютерную программу. Такой огромный массив данных позволил программе обнаружить паттерны активности мозга, устойчиво проявлявшиеся при восприятии испытуемым неких изображений. Команде удалось даже воспроизвести увиденное испытуемым в тот или иной момент, основываясь исключительно на данных активности мозга[86].
Позже лаборатория Галланта провела схожий эксперимент с языком[87]. Вместо просмотра фильма испытуемые в процессе МРТ-сканирования несколько часов слушали подкасты. Затем исследователи проделали титанический труд – представили каждое из десяти тысяч слов в подкастах в виде семантической репрезентации (это, по сути, математическое представление смысла слова). После чего, вновь прибегнув к помощи компьютерной программы, определили, как распределяются в мозге значения слов. Это уже само по себе огромное достижение, но помимо него было сделано еще одно важное открытие – существование семантических кластеров в мозге. Слова, означающие действие, были привязаны к одному участку, количественные обозначения – к другому, социальные категории – к третьему и так далее. Нередко одно и то же слово отмечалось в разных кластерах в зависимости от значения, менявшегося вместе с контекстом.
Такого богатства семантической репрезентации у собак, конечно, не предполагалось, но хотя бы что-то у них обнаружить я рассчитывал. Мы планировали применить тот же подход, что и Галлант, только с меньшим количеством слов. Если точнее, с двумя.
Поначалу все собаки справлялись прекрасно: никому не составляло труда найти названную игрушку. Но стоило нам познакомить их со второй, и почти все начали путаться. Как и Келли, многие упорно стремились к первой, но, не получая за это ни лакомства, ни похвалы, принимались перебирать все подряд. Мы называли это «гадание за сосиску». Почему же у Чейзер все получалось виртуозно, а наши собаки терялись?
Может, Чейзер просто уникум. Все-таки она бордер-колли, а бордеры в таких заданиях признанные чемпионы. Тем более что и среди наших собак единственной, кому вроде бы удалось понять задачу, тоже была бордер-колли, Кейлин. Но нашим собакам не тысячу слов требовалось выучить, а всего два, поэтому мы никак не ожидали, что задача окажется для них непосильной.
Что-то где-то не клеилось. Собаки вполне успешно отыскивали называемый предмет среди дистракторов, но, когда в поле зрения находились оба называемых предмета, начиналась путаница. Возможно, собаки не могли понять связь между словом и предметом и в выборе руководствовались только знакомством с объектом. Когда этих знакомых объектов оказывалось два, собаки либо тыкали наугад, либо хватали тот, который выучили первым. А может, предметы недостаточно сильно отличались и собаки просто не видели разницы между плюшевыми игрушками. Чтобы минимизировать эту вероятность, вторую игрушку мы заменили на сделанную из другого материала или пищащую. Не особенно помогло. Кто-то из собак стал справляться лучше, кто-то – нет. В общем и целом дело шло туго.
Не исключено также, что собаки понимали разницу между словами, просто мы неправильно тестировали это понимание. Неправильный выбор ничем не грозил, животные прекрасно знали, что будет следующая попытка, поэтому, возможно, у них не было достаточного стимула стараться отыскать требуемое.
Или, может быть, мы ожидали от них человеческой логики. Очень показательны в этом смысле были ошибочные ходы Келли. Кроме того, что она в принципе предпочитала пенопластовому блоку плюшевого ежа, Келли, кажется, считала определяющей характеристикой блока угол. В ряде попыток она явно выискивала по комнате остроконечные предметы и в «гадательном» режиме нередко тыкала носом ограничитель двери или угол журнального столика. Что если в сознании Келли «синий» означало «остроконечный»?
Для нас, людей, само собой разумеется, что наименование относится ко всему предмету в целом. Но почему животные должны мыслить так же? Там, где человек воспринимает объект в целом, собака может сосредоточиваться на его отдельных свойствах. Доказательств набиралось мало, но все-таки несколько исследований подтверждали мое подозрение, что собаки связывают слова с обозначаемыми предметами принципиально иначе, чем мы.
В 2012 году психолог из английского Университета Линкольна Дэниел Миллс, на счету которого немало научных публикаций на тему когнитивных способностей у собак, описал процесс обобщения на основе усвоенных слов у одной из подопытных[88]. Ею снова оказалась бордер-колли. Собаку обучили ассоциировать выдуманное слово «дэкс» с пушистой игрушкой в форме объемной подковы. Затем исследователи предъявляли собаке слегка отличающиеся предметы, чтобы выяснить, какие она сочтет наиболее похожими. Предметы отличались размерами, формой, материалом, но остальные черты сохраняли. Человек при выполнении такого задания обычно обобщает по форме – такая тенденция отмечается у детей уже с двух лет[89]. Но у Миллса собака обобщала сперва по размеру, затем по материалу и никогда – по форме. Размер и форма – совокупные характеристики, поскольку определяются свойствами предмета в целом. А вот материал – это уже частность, распознаваемая только при ближайшем рассмотрении.
К неразрешенному пока вопросу о противопоставлении совокупных и частных характеристик добавлялся еще один: понимают ли собаки, что слова обозначают предмет? В большинстве языковых тестов фигурируют существительные, которые человек без труда опознает как наименование объектов. Это понимают даже двухлетние дети. Но что, если слово «еж» Келли воспринимала не как существительное, а как некую глагольно-объектную конструкцию – «найди ежа»? Разница вроде бы незначительная, но, чтобы наладить общение с животными, необходимо выяснить, как они расценивают слова – как обозначение действий или как обозначение предметов.
Собаки легко обучаются командам. Но команда подразумевает действие. Втолковать собакам, что слово может обозначать предмет, оказалось гораздо сложнее, чем научить их выполнять определенное действие по вербальному сигналу. Может быть, большинство собак просто не понимают, что слова могут относиться к предметам[90]. В конце концов, для собаки единственный способ продемонстрировать понимание слова – вступить в какое-то взаимодействие с объектом. Собака может воспринимать слово как команду что-то сделать.
Это, в общем-то, не удивительно. Все-таки мозг нужен животным для того, чтобы действовать. Даже собак, которые первыми из животных начали жить с человеком и потому с наибольшей вероятностью способны понять наш язык, отбирали именно за рабочие качества, то есть действие. Они не разговаривают и не читают книг.
Пока только Чейзер продемонстрировала документально подтвержденное понимание разницы между существительным и глаголом. Однако даже при таком феноменальном словарном запасе она не продвинулась дальше понимания простых комбинаций «предмет + действие», поскольку ничего иного она не показала. По сути, Чейзер освоила простейший пиджин.
Пиджин – явление частое. Он возникает там, где имеется потребность в общении у людей, не владеющих языком друг друга. Грамматика у пиджинов крайне примитивная, или ее нет совсем, а лексика включает слова из материнских языков и их искаженные варианты. В отличие от полноценного языка, порядок слов в пиджине обычно не важен. Лингвист Рэй Джекендофф утверждает, что именно пиджин был первой ступенью в формировании человеческого языка[91]. Не исключено, что у собак в процессе одомашнивания развивались аналогичные способности.
Способности к пониманию на уровне пиджина демонстрируют не только собаки в лице Чейзер. Рон Шустерман обучил морскую львицу Роки сотням сочетаний «глагол + существительное» и даже обозначениям цвета и размера[92]. Бонобо по кличке Канзи тоже накопил впечатляющий словарный запас из существительных и глаголов, однако не подавал никаких признаков понимания синтаксиса.
Умение усваивать что-то сложнее пиджина пока обнаружилось только у дельфинов. Начиная с революционных попыток Джона Лилли наладить с ними коммуникацию, постепенно растет массив данных, подтверждающих наличие у китообразных высоких языковых способностей[93]. В 1980-х годах две афалины, Феникс и Акеакамаи, освоили гораздо больше, чем сочетание «предмет + действие». Инструкторы показали, что дельфины понимают порядок слов и атрибутивные конструкции, то есть воспринимают слова как символы. В ходе дальнейшей работы обнаружилось, что Акеакамаи понимает и простые грамматические правила – или, по крайней мере, распознает нарушение синтаксиса[94].
Но какой объем смысла способен осилить мозг животного? Для полноценного владения языком требуется наличие в мозге структур, обеспечивающих не только выучивание большого количества слов, но и умение правильно связывать их между собой. Самая, пожалуй, важная функция языка – обмен мнениями. Для этого собеседники должны понимать, что слова могут обозначать действия, предметы или и то и другое. Опыт Чейзер, Роки и Акеакамаи показывает, что некоторые животные осваивают довольно много слов и даже ряд логических правил, однако дается им это с огромным трудом. Чтобы разговаривать с животными, нам, людям, нужно осознавать ограничения со стороны собеседника.
Возьмем, например, имя.
Имена собственные – это существительные, обозначающие определенного человека, животное, организацию, место и так далее. С помощью имени мы уточняем, о каком представителе огромного человечества идет речь. Кроме того, мы знаем, что наше собственное имя выделяет нас как личность из общей массы, служит маркером нашего самосознания. Разумеется, сами о себе в третьем лице мы обычно не говорим, но, слыша свое имя от кого-то другого, преобразуем его мысленно в «я», «меня» и так далее.
Но как воспринимают имена животные? Если у животного отсутствует способность осознавать слова как символы, маловероятно, что оно трансформирует свою кличку в элемент самосознания. Скорее всего, оно просто усваивает, что определенное сочетание звуков сулит нечто интересное, поэтому на него хорошо бы отреагировать. Внимание Келли обеспечено любому, кто ее окликнет, у меня никогда не возникало ощущения, что кличка для нее равнозначна «я».
Функцию клички как сигнала для привлечения внимания подтверждает и опыт дрессировщиков. «Келли, сидеть!» действует более эффективно, чем «Сядь, Келли!» Человеку не составляет труда распознать равнозначность обеих фраз (хотя первая больше похожа на приказ, а вторая ближе к просьбе). Келли лучше реагирует на первую, поскольку кличка привлекает ее внимание к действию, которое необходимо выполнить. А обратный порядок требует от нее вспомнить, какое действие скрывается за словом, предшествующим кличке.
Казалось бы, ничего особенного, для нас многое из этого в порядке вещей. Но, если мы хотим заложить основы общения с животными, нужно говорить так, чтобы нас понимали. Я немало писал о сходстве между мозгом человека и других животных, но в том, что касается языка, приходится признать фундаментальную разницу.
Я прихожу к выводу, что коммуникацию с животными наладить можно, однако пропускная способность у этого канала будет низкой. Максимум, на что имеет смысл надеяться, – это простые конструкции типа «действие + объект». Большинству животных, скорее всего, не хватит ресурсов мозга, чтобы уловить разницу между подлежащим и дополнением в предложении. И хотя самоощущение у многих животных имеется, оно, вероятнее всего, чисто физическое. Собака, скажем Келли, ощущает собственное тело и его границы. Она не перепутает себя с другой собакой. Но вряд ли она связывает свою кличку со своим физическим или психическим «я».
Семантическое пространство у человека огромно. В ходе экспериментов с фМРТ Галлант с коллегами, анализируя большие объемы текста, определил слова и понятия, связанные друг с другом по смыслу, а затем создал карты семантических полей – их потенциальное графическое изображение[95]. Хотя карта Галланта представляла семантическое пространство в упрощенном виде, по насыщенности с ним не могло тягаться семантическое пространство ни одного животного. Чтобы сделать аналогичную карту для животных, нужно знать, чтó для них значимо и как это отображается в их мозге. Коммуникация возможна только на пересечении понятийного пространства животных с нашим. Бессмысленно рассказывать собаке, как вы сегодня замучились на работе, поскольку само понятие работы ей безнадежно чуждо. У нее, в отличие от нас, отсутствует соответствующая семантическая репрезентация. Но, может быть, эта репрезентация найдется у лошади, которая возит тележку вокруг Центрального парка? Чтобы ответить на подобные вопросы, нам понадобится карта, но не лингвистическая. У собаки может сложиться своя семантическая карта, примерно как та, что я привожу ниже. Карта крайне упрощенная, однако она иллюстрирует человеческое семантическое пространство и его возможное наложение на семантическое пространство собаки, в то же время показывая, что у собаки могут иметься понятия, которых нет у нас или которые для нас по крайней мере никак не маркированы.
Должен уточнить, что в данном случае термин «семантика» я использую достаточно вольно. Многие возразят, что семантика относится только к языку, я же понимаю ее шире. Семантика изучает репрезентацию знания. Мы облекаем факты в слова: «В 1969 году человек высадился на Луну». Однако знание способно существовать в разных формах: тот же самый факт можно представить визуально, как на старой эмблеме MTV с человеком, водружающим флаг на Луне. Соответственно, у животных репрезентация и передача знаний тоже невербальная.
Одна из понятийных областей, поддающихся репрезентации в собачьем мозге, связана с эмоциональными состояниями – не только собачьими, но и человеческими. В 2015 году Людвиг Губер, заведующей лабораторией «Умный пес» в Венском университете, протестировал восемнадцать собак, обученных тыкать носом сенсорный экран. Собаки получали награду за касание картинки со смеющимся или сердитым человеческим лицом. Затем Губер протестировал, как собаки реагируют на изображения, которые видят впервые. Причем в этом случае показывалась только половина лица – либо верхняя с глазами, либо нижняя со ртом, и тем не менее собаки по-прежнему выбирали картинки правильно. Губер пришел к выводу, что собаки способны обобщать понятия «радостный» и «сердитый» по совокупности отдельных признаков, считываемых по выражению глаз либо губ, и затем применять это знание к лицам, не виденным прежде[96].
То есть распознавать нашу мимику собаки умеют, но как именно представлено человеческое лицо в их мозге? Большинство животных, судя по всему, воспринимают направленный на них прямой взгляд лишь как угрозу. Но не собаки. Они принадлежат к тем немногим, у кого выработалась способность встречать взгляд человека без страха и агрессии и даже истолковывать выражение лица, в том числе эмоции.
Одна из гипотез заключается в том, что благодаря многократному повторению в ходе постоянного взаимодействия с человеком у собак сформировались в мозге «справочные таблицы». То есть если уголки губ у человека приподняты, а глаза прищурены, обычно происходит что-то хорошее. Но это нельзя считать семантической репрезентацией выражения лица, означающего радость. Согласно другой гипотезе, собаки обладают такими же нейрональными механизмами распознавания выражения лиц, как и мы. Если так, то способность считывать мимику заложена у них с рождения, как и у человеческих младенцев, пусть менее совершенная.
Вопросами восприятия мимики у собак я заинтересовался с подачи моей дочери Хелен, которая помогала нам в собачьем проекте с самого начала. В седьмом классе ей понадобилось разработать эксперимент для участия в школьной ярмарке знаний.
– Как думаешь, собаки узнают лица хозяев? – спросила она меня.
– Не знаю. Проведи эксперимент, выяснишь.
Замысел в итоге получился достаточно простой. Взять фотографии хозяев и показывать их собакам в ходе МРТ-сканирования. Как и во всех экспериментах с фМРТ, требовалось еще и контрольное условие. После дальнейших обсуждений мы сошлись на том, что лучше всего для этой задачи подойдут фотографии незнакомых собакам лиц. И уже просто потехи ради было решено включить фото знакомых и незнакомых собак – может, представителей собственного вида наши испытуемые будут узнавать лучше.
Мы раздобыли экран, чтобы проецировать на него фотографии во время МРТ – хозяин на это время должен скрыться с глаз питомца. Поскольку к тому моменту собаки уже вполне привыкли к томографу и сканированию, мы надеялись, что изображения на экране они воспримут даже при полном отсутствии интереса к компьютерным и телевизионным экранам в домашней обстановке.
Увы, надежды не оправдывались. Многие собаки, не видя рядом хозяина, тревожились или теряли интерес. Только половина наших испытуемых продержалась в томографе достаточно долго, чтобы обеспечить требуемый объем данных для анализа. Эксперимент у Хелен получился неубедительным, и в школе она заняла лишь второе место. Тем не менее, как и положено хорошему замыслу, этот проект задал новое направление для научной работы.
Не желая сдаваться, я обратился к своему коллеге Дэнни Дилксу, который посредством фМРТ исследует механизм распознавания лиц в человеческом мозге. За эту задачу в нем отвечают довольно обширные области. И у человека, и у обезьян в височных долях имеется область, реагирующая преимущественно на изображение лиц (в противовес изображениям неодушевленных предметов)[97]. За свою узкую специализацию этот участок – веретенообразная извилина – получил название «область распознавания лиц». Дэнни как свои пять пальцев знал и эту область, и другие выполняющие ту же функцию участки мозга, список которых постепенно ширился. Мы доработали придуманный Хелен эксперимент, приближая задания к тем, которые зарекомендовали себя при сканировании человеческого мозга. Хелен проверяла узнавание лиц, а это, как выяснилось, слишком сложный процесс, включающий не только обработку информации о лице как таковом. Дэнни предлагал сделать шаг назад и выяснить, есть ли у собак некий эквивалент человеческой области распознавания лиц.
Вместо фотографий знакомых и незнакомых мы показывали картинки ничем не примечательных человеческих лиц, собачьи морды, предметы повседневного быта, пейзажи и бессмысленные изображения. Область распознавания лиц должна откликаться на соответствующие картинки, и только на них, не реагируя на остальные. Эксперимент по-прежнему получался непростым, поскольку вместо настоящего объекта собакам предъявлялось двумерное изображение, и сканирование в результате прошли не все собаки.
Тем не менее результат оказался бесспорным: участок височной доли собачьего мозга выдавал характерную реакцию на лица. Чтобы убедиться, мы протестировали эту область и на статичных изображениях, и на коротких видеороликах. Результаты остались прежними, и мы назвали выявленный участок «собачьей областью распознавания лиц»[98]. Год спустя наше открытие подтвердила еще одна исследовательская группа[99].
Вопрос о распознавании лиц имеет самое непосредственное отношение к коммуникации. Что представлено в собачьем мозге? У собак определенно заложен нейрональный механизм распознавания лиц, а теперь все больше исследователей обнаруживают у них и способность считывать эмоции. Лица и эмоции – это одна из областей пересечения семантических карт человека и собаки. Судя по всему, эти категории важны и для нас, и для них.
Как выясняется, лица имеют значение не только для собак и приматов. Для овец тоже[100]. И для коз[101]. И, что самое поразительное, для некоторых видов птиц[102]. В замечательной статье, опубликованной в 2012 году, исследователи описывают эксперимент с двенадцатью воронами, пойманными под Сиэтлом. В момент поимки на ловцах были одинаковые маски, в неволе же за воронами ухаживали люди в разных масках. Так продолжалось месяц. Затем воронам вводили радиоизотопную метку и показывали им человека либо в маске ловца, либо в маске смотрителя. Радиоизотопы на какое-то время скапливались в тех частях мозга, которые активизировались во время нахождения рядом с этим человеком. Затем воронам вводили легкий наркоз и проводили позитронно-эмиссионную томографию мозга, выявлявшую области недавней активности. Маска ловца вызывала активность в миндалине и некоторых участках ствола, то есть это лицо было связано у птицы со страхом и необходимостью спасаться. Маска смотрителя активировала область, аналогичную хвостатому ядру, которое у собак связано с положительными эмоциями, мотивацией и желанием приблизиться.
Наличие у этих животных способности распознавать лица не так уж удивительно. Судя по всему, она имеется у многих общественных видов. Коровы по-разному реагируют на изображения знакомых и незнакомых соплеменниц[103], слоны, как и дельфины, узнают себя в зеркале[104]. Вот у кошек пока не очень понятно, различают они лица или нет. Может, им просто все равно[105].
Эксперимент с предметной отнесенностью слов затянулся на гораздо более долгий срок, чем мы рассчитывали. И только когда мы предельно упростили задания, собаки начали демонстрировать что-то выходящее за рамки случайного тыка. Два слова, два предмета, но даже на такую малость у нас ушло полгода. Хозяева тренировали собак дома, и каждые две недели мы отслеживали их успехи, давая каждый раз по десять попыток. Два объекта помещались у стены, и собака должна была выбрать названный хозяином. Когда у собаки получалось правильно указать восемь из десяти, мы переходили к томографии.
Келли отбор не прошла.
Я был слишком занят разработкой эксперимента, и на то, чтобы дрессировать собственную собаку, выводя ее на требуемый уровень, не оставалось ни времени, ни сил. Но обкатка, проведенная с ее участием, помогла облегчить задачу остальным испытуемым.
Даже у тех собак, которые достигли 80-процентной планки, трудно было определить, что именно они понимают. В ходе тестирования у каждой выработались собственные «заскоки»: кто-то упорно выбирал одну и ту же сторону, хотя мы каждый раз меняли предметы местами, другие выбирали один и тот же предмет. Причем предпочтения варьировались от тренировки к тренировке. Тем не менее нужно было переходить к сканированию, дальнейшее промедление грозило бунтом: хозяевам уже надоело отрабатывать это задание, и черепаший темп эксперимента снижал общую мотивацию. Поэтому мы назначили дату сканирования для первой группы испытуемых.
Поскольку я не мог предсказать, как пройдет этот этап эксперимента, важно было разработать его с учетом нескольких возможных исходов. Основная задача состояла в том, чтобы с помощью фМРТ посмотреть, как испытуемые обрабатывают те два слова, которым их научили. Задача не из легких. Даже если собаки понимают разницу между словами, на снимках мозга она может быть выражена недостаточно четко. Она и у человека не всегда выражена, а в нашем случае, в отличие от экспериментов Галланта, все осложнялось тем, что слова были семантически схожими – оба обозначали предметы. Возможно, резкое различие между предметами по какому-то параметру – материалу или размерам – позволило бы выявить разницу в тех участках мозга, которые эти параметры обрабатывают. Но рассчитывать на это не стоило.
Поэтому мы добавили контрольное условие, которое часто используется в человеческих языковых экспериментах, – бессмысленные слова. Мы взяли названия всех предметов, на которых хозяева тренировали своих собак, и обработали с помощью компьютерной программы, которая генерирует бессмыслицу, совпадающую со значащими словами по числу слогов и диграфов (диграфы в английском – это двухбуквенные сочетания типа sh или ng). В результате у нас получились такие наборы звуков, как «боббу», «пранг», «клофт» и «зельв». Теперь можно было сравнивать отклики не только на выученные собаками слова, но и на бессмысленные.
Собаки, разумеется, понятия не имели, какие слова существуют в английском языке на самом деле, а какие просто сгенерированы. Если мы увидим разницу в отклике мозга на реальные и бессмысленные слова, это будет означать, что животные по крайней мере отличают часто повторяемое от услышанного впервые.
И наконец, мы добавили еще одно контрольное условие. После каждого произнесенного слова собакам будут демонстрировать предмет. В большинстве случаев – именно названный, но примерно в трети попыток предмет будет незнакомым. Если собака понимает значение произнесенного слова, замена предмета ее удивит, и удивление будет заметно по активности мозга. Кроме того, после бессмысленных слов предмет всегда будет предъявляться незнакомый – для дополнительного контроля.
С этапом МРТ-сканирования большинство собак справились хорошо. Разве что бессмыслицу людям было интереснее произносить, чем собакам слушать. Нескольких собак знакомые слова приводили в возбуждение – вплоть до выскакивания из томографа на поиски названного предмета. Увы, несмотря на очевидное доказательство понимания слова, в этом случае мы лишались возможности получить данные нейровизуализации. Однако в основном собаки находили в себе силы удержаться на месте, обеспечив нам в итоге выборку из двенадцати сканов
Мы правильно сделали, что включили в тестирование бессмыслицу. Псевдослова десятилетиями использовались в исследованиях языка у человека, но там отклики на них зависят от заданий. В отличие от реальных слов, псевдослова не возбуждают задние языковые области височных долей, отвечающие, судя по всему, за анализ семантики. Поскольку семантическое значение у псевдослов отсутствует, анализа не происходит. Однако они вызывают более выраженную активность в верхней височной доле, чем реально существующие. Верхняя височная доля – первичная слуховая область, где обрабатываются самые общие аспекты слуховой информации, такие как громкость и тембр. Именно эта зона, как мы обнаружили, получает слуховые входы и у дельфинов. Повышенная активность в верхней височной доле при отклике на несуществующие слова объясняется их новизной. Незнакомое слово привлекает внимание и требует бóльших усилий для обработки[106].
Ровно то же самое мы наблюдали и у собак. Бессмысленные слова провоцировали бóльшую активность в верхней части височных долей, чем знакомые. Это доказывает, что собаки могут отличить усвоенное слово от услышанного впервые.
Помимо этого, результаты подчеркнули фундаментальную разницу между собаками и людьми. Несмотря на наличие у собак зачаточной способности отличать значимые слова от бессмыслицы, эксперимент никак не подтвердил, что они воспринимают знакомые слова как обозначения предметов. Будь это так, мы наблюдали бы повышение активности в какой-нибудь зоне, связанной с узнаванием, – в другой части слуховой системы или в зрительной коре. Однако выученные слова, наоборот, вызывают меньшую активность. То есть знакомые слова – это уже нечто привычное и освоенное, а вот новые требуют повышенного внимания.
Новизна активизирует когнитивные процессы, имеющие первостепенное значение для выживания. Для животного новизна может подразумевать и новый источник пищи, и встречу с незнакомым хищником. Непривычные события требуют немедленной реакции, а также изменяют связи между нейронами – так животное обучается на своем опыте. У человека происходит то же самое, однако новизна, кроме того, приводит в действие системы обработки символических и семантических значений. Сталкиваясь с чем-то новым, мы невольно пытаемся его классифицировать. У собак же, судя по результатам нашего фМРТ, обработка лингвистической информации не заходит дальше распознавания новизны. По крайней мере, в ходе нашего эксперимента в собачьем мозге ничего похожего на процессы восприятия языка у человека не обнаружилось.
Помимо новизны, мозг собаки, судя по всему, обрабатывает услышанное слово в контексте связанного с объектом действия. В нашем эксперименте оба предмета можно было ткнуть носом или взять в зубы. Поэтому, хотя мы и научили собак двум словам, не исключено, что мы не увидели разницы в семантической репрезентации, поскольку с ними было связаны одни и те же действия. Ориентация семантической системы на действие для животного вполне логична. При отсутствии речи у него и в самом деле нет нужды в символической репрезентации наименований предметов. А вот знать, как с тем или иным объектом обращаться – хватать, съедать, избегать, – крайне важно.
Возможно, в собачьем семантическом пространстве действия и объекты сильно сближены – именно поэтому нашим подопытным было так трудно выучить названия предметов. Семантическая репрезентация слова «белка» может выглядеть как «догнать и загрызть», а «мяч» может быть представлен как «догнать и принести». Раз в итоге наши собаки все же усвоили названия предметов, значит, понять разницу между двумя словами им все-таки по силам, но результаты фМРТ показывали, что механизм кодирования значения слов при этом сильно отличается от человеческого.
Человек выстраивает картину мира с помощью существительных. Мы именуем все, что видим. Скажем, в английском языке существительных примерно в десять раз больше, чем глаголов[107]. Дети усваивают обозначения предметов раньше, чем обозначения действий, правда, не совсем понятно почему[108]. В данном случае разница в языковом восприятии, бесспорно, ведет к разнице субъективных ощущений у собак и человека, однако она не лишает нас возможности понять, каково быть собакой.
Совсем наоборот.
Умение эту разницу обнаружить и объяснить доказывает, что мы все-таки способны узнать, как ощущает себя собака. Как мы постоянно убеждались в ходе исследования мозга животных, для этого достаточно иногда просто сменить угол зрения – в данном случае с восприятия мира через предметы/существительные на восприятие через действие.
Если семантическое пространство у собак строится на действиях, а не на объектах, то понятно, почему они не проходят тесты на самосознание, например зеркальный. Человек знает, что отражение – это зрительная репрезентация одушевленного или неодушевленного объекта. Для нас само собой разумеется, что это не сам объект. Однако такая когнитивная операция требует наличия в мозге нейронального обеспечения для символического восприятия. Если в собачьем мозге отсутствуют механизмы символической репрезентации, у собаки не получится связать свое отражение с собой.
Но это не значит, что у собаки нет самоощущения. У нее нет способности представить это ощущение абстрактно – в слове или зрительном образе. Вряд ли у моей обожаемой Келли наличествует абстрактная репрезентация меня или моей жены и дочерей. Нет, я всего-навсего «тот, который кормит меня сосисками в шумной трубе, и поэтому я с ним определенным образом взаимодействую». А моя жена – «та, другая, которая кормит меня и тискает, но не играет со мной, и с ней я взаимодействую иначе». Возможно, ментальные репрезентации Келли построены целиком и полностью на взаимодействии, и тогда можно назвать их операциональными.
В восприятии через действие операциональный характер носит всё. Даже эмоции могут быть представлены как действия. Страх – «ощущение, при котором нужно срочно спасаться бегством». Одиночество – «ощущение, которое слабеет, если ждать у двери, и пропадает, когда дверь открывается».
Я не пытаюсь очеловечить собак, просто без слов у меня не получилось бы донести до вас свою идею в письменной форме. Собака свое ощущение в слова облечь не может, поскольку устройство мозга не позволяет ей мыслить вербально. Однако семантическая система, базирующаяся на действии, не означает, что страх – это лишь комплекс моторных программ, необходимых для бегства от опасности. Двигательные составляющие важны, но не менее важно и субъективное осознание происходящего, и именно тут у нас с животными появляется общая почва.
Я заподозрил, что семантический крен в сторону действия характерен для всех животных, за исключением, может быть, некоторых человекообразных обезьян и дельфинов. Если так, мне нужно пересмотреть свои попытки наладить с ними коммуникацию. Пусть животные не способны встать на нашу точку зрения, зато мы способны посмотреть их глазами. Что будет, если сместить акценты в коммуникации с имен и названий на действия? Тогда, может статься, мы лучше поймем, каково быть собакой, летучей мышью или дельфином.
Возможно, мы даже выясним, что они могли бы поведать.
Увы, есть опасность, что, пока мы будем налаживать коммуникацию, многие из животных успеют исчезнуть с лица земли. И тогда кому-то из них придется выступить от лица вымерших.
Глава 9 Смерть в Тасмании
Тигр кружил по вольеру. Прежнюю постоянную смотрительницу он не видел уже несколько месяцев. Хотя у него и не было такого понятия, как месяц, он знал, что времени прошло много. Последний раз та двуногая кормила его и открывала дверцу в укрытие для ночлега где-то в разгар зимы. С тех пор у него перебывало много других смотрителей. Дни становились длиннее[109].
Дверь в логово была закрыта, чтобы тигр оставался в открытой части вольера, на виду у посетителей – как и остальные хищники в зоопарке. Солнце припекало, поэтому тигру оставалось только выписывать круги по вольеру в поисках хоть какой-то прохлады. Большой эвкалипт, накрывавший когда-то своей кроной угол вольера, пропал, и прилечь в тени было негде. Может, кто-то из двуногих сжалится и попросит, чтобы открыли логово? Но двуногих теперь мало, а если кто и приходит, то им интереснее в другой части зоопарка, где можно поглазеть на больших, настоящих тигров, а не на облезлое полосатое недоразумение.
Потому что на самом деле тигром он не был, крайней мере в научном смысле. Он был тилацином, сумчатым волком. Тигром его назвали сотню лет назад британские переселенцы и каторжники, полагавшие, что все полосатые хищники относятся к одному семейству.
Перед теми из посетителей, кто все же забредал в этот угол зоопарка, представало разношерстное стадо кенгуру и несколько оленей, которые топтались в своих загонах напротив вольера тилацина. Но кого удивишь в тасманийском зоопарке кенгуру и оленями? Любой бывающий в буше и так встречается с ними регулярно, да и тилацин для публики не диковинка. Иногда в тасманийскую зону зоопарка никто не заходил по несколько дней. Свалявшаяся шкура тилацина покрылась проплешинами, хвост уныло волочился по земле. Случайному посетителю, удостоившему его вниманием, пришлось бы сильно напрячь зрение, чтобы разглядеть знаменитые полоски.
Палящее в безоблачном небе солнце раскалило твердую, как цемент, землю вольера так, что больно было ступать. Единственный выход – прилечь на солнцепеке и ждать, пока остынет клочок земли под брюхом. Солнечные ванны – противоестественное для сумчатого волка занятие. Тилацин по природе своей животное сумеречное, он предпочитает рассветные и предзакатные часы, когда эвкалипты накрывают буш сетью чернильных теней. И вот тогда становится ясно, зачем волку полосатая шкура: почти невидимый в этом переплетении, тилацин незаметно подкрадывается к беспечным валлаби и вомбатам.
Последний раз он добывал валлаби три года назад. Три года прошло с тех пор, как он последний раз видел кого-то из сородичей.
На другом конце города Элисон Рейд, бледнокожая, с каштановыми волосами, тридцатиоднолетняя женщина, готовила завтрак для матери. День обещал быть жарким. В отличие от матери, которая встала только сейчас, сама Элисон проснулась еще до рассвета. После выселения в июне 1936 года из служебной квартиры, положенной куратору Хобартского зоопарка, они жили у родственников. Мать за два года так и не оправилась после кончины отца и все реже вставала с постели. И теперь, готовя еду, Элисон мысленно возвращалась в более счастливые времена.
Как дочь куратора зоопарка, она привыкла постоянно находиться среди животных. А еще отец научил ее правильно сохранять останки, чтобы и после смерти животного люди могли увидеть его и изучить. Она до сих пор помнила тайный рецепт раствора алюминиевых квасцов, в котором они вымачивали шкуру, чтобы та не тлела десятилетиями. Элисон освоила премудрость изготовления чучела, на которое натягивалась обработанная шкура – так животное обретало вторую жизнь. Она делала чучела кошек и собак для хозяев, которые не готовы были расстаться с умершим любимцем. Элисон поднаторела настолько, что уже в семнадцать лет ее пригласили работать таксидермистом в Музей Тасмании.
Однако сердце Элисон принадлежало живым животным, и почти все свободное время она проводила в зоопарке. Кажется, прошла вечность с тех пор, как она помогала отцу выкармливать двух львят – Сэнди и Сьюзи – или виделась со своим любимцем – леопардом Майком, с котором ее как-то сфотографировали для газеты. У Элисон до сих пор хранилась та знаменитая заметка – «Красавица и зверь в Хобартском зоопарке: девушка, которая подружилась с леопардом»[110]. На фотографии они с Майком вышли не очень удачно: Элисон натужно улыбается в попытке затащить леопарда на колени (пятидесятикилограммовый подросток весь день был не в духе и позировать отказывался). Заметка все равно принесла Элисон славу – там рассказывалось, как она выгуливала еще маленького Майка на берегу реки Деруэнт. Но теперь воспоминания о заметке только бередили душу. Прогуляться бы сейчас с Майком вдоль залива, глядя, как солнце заходит за гору Веллингтон…
Элисон и сама принадлежала к сумеречным: больше всего ей нравились рассветы и закаты. Именно в эти часы она обычно ходила ухаживать за обитателями зоопарка.
Она вспомнила тилацинов. «Тигры» эти появлялись в зоопарке случайно, невозможно было предсказать, когда очередной зверолов притащит угодившего в капкан зверя с покалеченной лапой. Элисон с отцом принимали сумчатых волков всегда и не жалели сил на выхаживание.
Тилацины – создания нервные и, когда тревожатся, издают неприятный запах. Чтобы привыкнуть к Элисон, им обычно требовался не один месяц, но в конце концов они усваивали распорядок зоопарка: утром выпускают из логова в вольер, днем кормят, вечером запускают в логово. Поесть они любили. При всей своей осторожности и недоверчивости, когда кормежка (кроличьи тушки, говяжьи отрубы) запаздывала, голодные тилацины не стеснялись выразить недовольство. Сумчатый волк требует еды особым кашляющим лаем, напоминающим отхаркивание туберкулезника.
Да, умиления тилацины не вызывают и полюбить их довольно тяжело. Но это не давало права большинству брезговать ими и лепить на них ярлык тупых сумчатых. Элисон сочувствовала «тиграм». Она тоже испытала на собственной шкуре, что это такое, когда с тобой несправедливо обходятся узколобые власть имущие. Другого такого специалиста на должность руководителя Хобартского зоопарка еще поискать. А она вынуждена торчать тут, заваривать чай, вместо того чтобы заботиться о животных.
Как там, интересно, сейчас тилацины, не забывают ли их покормить…
Дневная жара скоро пошла на убыль. Стоял ранний сентябрь, и к четырем часам солнце уже клонилось к горе Веллингтон. Вскоре весь Хобартский зоопарк вместе с людьми и животными погрузится в тень.
Фотон, родившийся на солнце восемь минут назад, отразился от пылинки в атмосферных слоях над Индийским океаном и направился к заливу Сэнди-Бэй. Срикошетив от дверцы логова тилацина, он проскользнул на последнем отрезке своего пути сквозь тончайшие мембраны в коже века и впечатался в сетчатку. Там, создав крошечный химический взрыв с высвобождением остатков энергии, он послал сигнал в мозг тилацина.
«Просыпайся».
Сумчатый волк, заморгав, открыл глаза. Какое облегчение, солнце уже не слепит. Зрачки расширились в приглушенном свете. Тилацин огляделся, проверяя, не движется ли кто поблизости. За сотню миллионов лет эволюции его зрительная система идеально приспособилась к тому, чтобы отслеживать движение на горизонте. Но сейчас тилацин увидел лишь кенгуру, прыгающих по своему загону. Их запах ударил в ноздри, пробуждая голод. Тилацин уже не раз наблюдал за ними и принюхивался, но охотиться на них – только силы зря тратить.
Не видя вокруг никакой подходящей дичи, он закашлял. Раньше на этот зов всегда приходила двуногая. И бросала ему какую-нибудь тушку. Иногда ему везло, и тушка оказывалась совсем свежая: когда он разрывал зубами грудную клетку и брюшину, кровь хлестала потоком. Но обычно это был просто кусок лежалого мяса.
Голод становился невыносимым. А вчера кормили? Тилацин не помнил. Это не значит, что не кормили. Он просто не помнил. Фекалий вроде нигде нет. Кажется, все же не кормили.
Он покашлял еще. В отдалении послышались голоса двуногих, но мясом и в этот раз не пахло. Предприняв еще несколько безуспешных попыток привлечь внимание, тилацин улегся на землю.
Температура стремительно падала. Сумчатый волк погружался в сон.
Он дома.
Он прожил здесь всю жизнь, с тех самых пор как выбрался из материнской сумки. Во Флорентийской долине еще не рассеялся предрассветный туман, утренние сумерки окутывали приятной, незябкой прохладой.
Со своего наблюдательного поста на гребне тилацин скользил острым взглядом по верхушкам огромных эвкалиптов, рассекающих туман. В жилах бурлила молодая кровь. Он зевнул во всю внушительную пасть, глубоко втягивая воздух и отлавливая витающие над долиной запахи. Да, все они тут – валлаби, вомбат, тасманийский дьявол.
Спустившись по склону, он беззвучно скользнул под полог леса. Другие сумеречные обитатели сейчас либо просыпаются, либо возвращаются после ночных похождений. Спешить незачем. Тилацины свою добычу выслеживают. Зачем гнаться за кем-то, если благодаря полосатой шкуре можно подкрасться незаметно, словно в плаще-невидимке.
Неслышно пробираясь сквозь подлесок, он уловил в папоротниках едва заметное движение. Ветра нет, значит, шевелится какой-то зверь. Такой же сумчатый волк? Вряд ли. Он уже которую неделю не встречал своих.
Сделав мысленную пометку насчет этих папоротников, тилацин направился дальше. С каждым шагом он слегка забирал в сторону, отклоняясь от прямой и идя по дуге, которая в свою очередь постепенно сужалась в спираль. Наконец впереди показалась спина маленького валлаби – филандера, пасущегося в низкой траве под миртом.
Тилацин прыгнул на валлаби и сжал челюсти у него на горле раньше, чем коснулся земли. Валлаби даже пискнуть не успел. Распоров добыче брюхо, тилацин принялся поглощать внутренние органы.
А потом, уверенный и сильный, твердой поступью двинулся дальше, оставив выпотрошенную тушку тасманийским дьяволам.
Последний известный сумчатый волк, или тилацин – Thylacinus cynocephalus, умер 7 сентября 1936 года. Неделей позже лаконичная отметка о его смерти появилась в реестре Городского совета Хобарта: «Суперинтендант национального парка доложил о кончине сумчатого волка вечером понедельника седьмого числа текущего месяца. Тело передано в музей»[111]. Впоследствии его будут называть Бенджамином, но при жизни никакой клички ему не дали.
Тогда никто еще не подозревал, что это окажется последний официально зафиксированный тилацин. По международным природоохранным стандартам, вид считается вымершим, если его представителей не находят в течение пятидесяти лет. Поэтому в 1986 году тилацина перевели из разряда вымирающих в исчезнувшие. Однако площадь диких территорий в Тасмании и сейчас принадлежит к числу самых обширных в мире, поэтому многие полагают, что где-то в дебрях буша по-прежнему могут водиться тилацины.
Но пока желающим увидеть сумчатого волка остается довольствоваться трехминутным замыленным черно-белым роликом, запечатлевшим тилацина в зоопарковом вольере[112]. Я смотрел это немое кино почти столетней давности – и слышал живой голос тилацина. Внешне волк и вправду больше похож на собаку, чем на тигра, однако от собак этого потомка древнего рода сумчатых отделяют сто миллионов лет эволюции. Разумеется, в данном случае мы имеем дело не более чем с конвергентным сходством, но я невольно задумался: может быть, тилацин напоминал собаку не только внешне? Что, если мышление и поведение у них тоже во многом совпадали?
Загадка разума тилацина занимала меня все больше. Я ступал на заведомо скользкий путь. Интересоваться криптидами – вымышленными существами вроде йети или Несси, а также предположительно вымершими, как тилацин, обычно считается недостойным ученого. И тем не менее тилацин звал меня.
Да, не буду отрицать, меня увлекает всё даже отдаленно связанное с псовыми, так что тилацину просто удалось задеть нужные струны. В дословном переводе его латинское название звучит как «сумчатое собакоголовое». А тут еще его трагическая судьба… О происхождении тилацина известно мало, зато причина его исчезновения абсолютно прозрачна.
Появившиеся около ста пятидесяти миллионов лет назад первые млекопитающие все еще откладывали яйца, как динозавры. До нашего времени дожили лишь несколько потомков этих яйцекладущих млекопитающих – они называются однопроходными. Самый известный из них – утконос, но к ним же относится и ехидна – похожее на ежа насекомоядное животное с длинным клювообразным носом. Однопроходные обитают исключительно в Австралии и Новой Гвинее.
Когда раскололся огромный континент Гондвана, первые млекопитающие расселились по субконтинентам и двинулись в каждом случае собственным эволюционным путем. Около ста двадцати миллионов лет назад у некоторых из них выработался механизм вынашивания яиц внутри организма – вынашивание длилось не очень долго, и детеныши рождались живыми, но недоразвитыми. Дальше они росли в материнской сумке, в которой имелось несколько сосков. Это и были первые метатерии. Их современных потомков мы называем сумчатыми – к ним принадлежал и тилацин. Последний раскол в эволюции млекопитающих произошел сто миллионов лет назад с появлением плацентарных. Плацентарные вынашивали плод в утробе гораздо дольше сумчатых, за счет чего и одержали над ними победу в дарвиновской борьбе за ресурсы. И только в Австралии и Новой Гвинее сумчатые остались доминирующей группой.
Изоляция была для Австралии и благом, и проклятьем. С одной стороны, австралийские виды получили преимущество – возможность развиваться без соперничества с фауной и флорой остального мира. С другой стороны, когда до соперничества все же дошло, они оказались к нему совершенно не готовы[113].
Когда-то тилацины водились по всей Австралии и, как высшие плотоядные хищники, не знали конкуренции тысячелетиями – пока не нагрянул человек. Первые аборигены появились на континенте двадцать тысяч лет назад, и на их наскальных рисунках тилацин запечатлен неоднократно. Какое-то время тилацины благополучно соседствовали с человеком. В 1966 году в глухих местах на юго-западе Австралии были обнаружены мумифицированные останки сумчатого волка, чей возраст, по результатам радиоуглеродного анализа, составил четыре тысячи шестьсот пятьдесят лет[114]. Однако соперничества – непосредственно с человеком или с его собаками – тилацин не выдержал, и постепенно материковая популяция исчезла. Осталось лишь несколько тысяч особей на острове Тасмания, отрезанном от континента последним отступлением ледника.
Но и их дни были сочтены.
К тому моменту, как я узнал о тилацинах, их разум казался утраченным навсегда. Они уходили в небытие, как раз когда ученые начали серьезно заниматься поведением животных. Немногие сохранившиеся в неволе тилацины в основном содержались поодиночке и, вопреки свидетельствам звероловов, считавших тилацинов ночными животными, норовили поваляться на солнце. Насчет их общения с сородичами не было известно ничего.
Моя одержимость тилацинами постепенно росла, и я хватался за любые сведения об этих несчастных. Как вскоре выяснилось, их судьба зацепила не только меня. Вокруг тилацина сложилось небольшое, но увлеченное международное сообщество: одних привели туда поиски информации о самом тилацине, других – беспокойство за многочисленные современные виды, находящиеся на грани исчезновения, и надежда чему-то научиться на горьком опыте сумчатого волка. Многие верили, что «тигры» по-прежнему водятся где-то в тасманийской чащобе. На самом деле сообщения о встречах с тилацином поступают регулярно, есть даже несколько видео на YouTube, где мелькают силуэты животных, которых авторы съемки считают сумчатым волком. Все они, разумеется, неубедительны, и ни один серьезный ученый их в расчет не примет. В 1984 году Тед Тернер предложил вознаграждение в сто тысяч долларов за доказательство существования тилацина. Премия до сих пор не востребована.
Один из немногих ученых, относящихся к тилацину всерьез, – Майкл Арчер, заслуженный палеонтолог, профессор Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее и бывший куратор отдела млекопитающих в Музее Квинсленда, обладатель многочисленных наград за работы в области эволюции млекопитающих. А еще он хотел клонировать тилацина.
Никаких шуток. Арчер, опережая свое время, пытался возродить тилацина как вид на основе генного материала музейных образцов. Было это в 1999 году. Тот проект пришлось закрыть из-за отсутствия ДНК нужного качества, но если сейчас кто-то и мог помочь мне в моем замысле, то только Арчер.
Я намеревался выступить от лица вымерших единственным доступным мне способом – изучив их мозг.
Успех дельфиньего проекта доказал, что мы можем узнать много важного о чувственном восприятии животного, изучая его мозг. Доставшиеся нам образцы мозга дельфинов пролежали в формалине больше десяти лет, и извлечь из них сигнал достаточной силы было нелегко, но мы справились. Мозг тилацина, если и найдется, то будет в лучшем случае почти столетней давности, однако, может быть, нам удастся добиться чего-то и от него.
Арчер откликнулся сразу. Сам он сведениями о положении дел с мозгами тилацинов не располагал, но знал, кто может нам помочь.
С 2005 года Стивен Слайтхолм работает над созданием ITSD – Международной базы данных по всем известным экземплярам тилацинов. К 2013 году она разрослась настолько, что едва умещалась на DVD – я никогда прежде ничего подобного не видел. Как и Арчер, Слайтхолм тоже отозвался моментально.
По его данным, сохранных образцов мозга сумчатого волка насчитывалось четыре штуки – по одному в Австралии, Германии, Англии и США. Два образца считались частично поврежденными. Американский экземпляр хранился в Смитсоновском институте.
Коллекция института гораздо более обширна, чем экспозиция Смитсоновского музея в Вашингтоне, но о мозге тилацина сотрудники отдела млекопитающих Даррин Лунд и Эстер Ланган знали все. Как один из четырех оставшихся в мире экземпляров, он представлял собой национальное достояние и потому в зале не выставлялся. Да и кому он, собственно, интересен, кроме криптозоологов?
Мне. Мне он был очень интересен. Этот заформалиненный образец из смитсоновских запасников мог скрывать в себе ключ к психике тилацина.
В доказательство того, что образец действительно существует, Лунд прислал мне фотографию мозга в формалине и копию каталожной карточки.
Карточный каталог предназначался для Отдела физической антропологии и явно не был приспособлен для учета животных, однако нужные нам сведения карточка содержала. Образец получен 11 января 1905 года, эта же дата является датой смерти. Пол – мужской, возраст – взрослый, род занятий – о. Н. З. П. Это, судя по всему, расшифровывалось как «обитатель Национального зоологического парка», то есть зоопарка.
Согласно базе данных Слайтхолма, бывший обладатель этого мозга был отловлен еще детенышем вместе с матерью, сестрой и третьим однопометником в 1902 году. Семейство было продано в зоосад тасманийского города Лонсестон, который затем перепродал тилацинов в зоопарк округа Колумбия. Об их судьбе известно довольно много, но хорошего – мало[115].
Собственно, отлавливали изначально одну мать. И только в округе Колумбия после изнурительного трехнедельного путешествия через океан, а затем по железной дороге через все Штаты выяснилось, что в сумке волчицы находятся детеныши. Выжили они исключительно чудом. На десятый день пребывания в зоопарке один из щенят скончался.
Мать, к несчастью, была так измучена и ослаблена перевозкой, что спустя четыре месяца умерла тоже – от «острого воспаления кишечного тракта» и обширного заражения организма ленточными червями. В итоге осталось двое щенят.
Самец прожил до 11 января 1905 года, причиной смерти указан геморрагический энтерит. Затем голова его попала к анатому Алешу Грдличке, который извлек мозг – тот самый, что хранился теперь в смитсоновских запасниках. Самка прожила в одиночестве еще несколько лет.
Какую пользу извлекла наука из этой замечательной возможности понаблюдать за тилацинами? Судя по всему, никакой[116]. Научных исследований при жизни сумчатых волков не велось. И вот теперь передо мной открывалась перспектива реконструкции разума тилацина по единственному оставшемуся фрагменту – мозгу.
На встрече в Смитсоновском институте Лунд и Ланган рассказали, что уже пробовали сканировать этот мозг методом МРТ много лет назад, но изображение получилось некачественным, поэтому публиковать результаты не стали. Не особенно рассчитывая на удачу, я спросил, не согласятся ли они попробовать еще раз – на более мощном аппарате и с новой программой, разработанной для исследования мертвого мозга.
Они согласились. Но ввиду чрезвычайной редкости образца нам предстояло соблюдать строжайшие правила обращения с экспонатом и меры предосторожности для его сохранения.
Насколько мне было известно, никто еще не пробовал подступиться с нейровизуализацией к мозгу настолько древнему. Наш тилацин умер в 1905 году, то есть образцу исполнялось сто десять лет, и, хотя все это время он хранился в формалине, кто знает, как отразился на нем целый век в «маринаде». Как показал дельфиний проект, даже десяти лет в консерванте достаточно, чтобы изменить свойства тканей. Но прогнозировать что-то методом простой экстраполяции было бессмысленно: за сто лет изменения могли как усугубиться, так и замедлиться. Нам предстояло довольно долго экспериментировать с разными настройками программы, чтобы извлечь из мозга тилацина как можно более сильный сигнал – если, разумеется, еще есть чему издавать этот сигнал.
Кроме того, нам требовалось уложиться в сжатые сроки. Мне не хотелось злоупотреблять великодушием Смитсоновского института, предоставившего нам образец. Музейный экземпляр необходимо хранить в надежном месте, и я не собирался распространяться о том, что у меня в руках оказалось национальное достояние. В идеале его хорошо было бы просканировать и сразу отослать обратно. Я понимал: чем меньше он будет под моей ответственностью, тем лучше.
Соответственно, нужно было как можно тщательнее провести предварительную подготовку, от чего зависел успех сканирования. Чтобы отработать процедуру заранее, Лунд предложил потренироваться на мозге енота той же давности. Содержащийся в смитсоновских запасниках мозг енота, датированный началом прошлого века, представлял исключительно исторический интерес и не имел естественнонаучной ценности. Что немаловажно для нас, этот мозг извлекал и консервировал тот же анатом, который занимался мозгом тилацина, а значит, мог совпадать и консервант, изготовленный, вероятнее всего, по единому рецепту.
Спустя неделю в лабораторию доставили деревянный ящик размером с обувную коробку. Поскольку правила воздушной перевозки запрещают транспортировать горючие жидкости, образец был завернут в пропитанную марлю и запакован в два запаянных пакета. Он оказался меньше, чем я думал, – примерно с грецкий орех, до этого я имел дело с более крупными плотоядными.
Уложив мозг между двумя слоями губки, я поместил его в цилиндрический пластиковый контейнер и залил инертной жидкостью, которая не создает магнитного резонанса.
Для головной катушки мозг был слишком маленьким. Считывающие датчики не могли уловить сигнал, но времени и средств на сооружение миниатюрной катушки у меня не хватало, поэтому альтернатива оставалась одна – гибкая катушка. Это штатный комплектующий элемент для томографа, представляющий собой полотно из вспененного материала с двумя вмонтированными датчиками. Его можно обернуть вокруг любой части тела, поэтому в клинике он используется при сканировании таких участков, как, например, плечо, которые неудобно или невозможно поместить в цилиндрическую катушку.
Не идеал, но хоть что-то. Я обернул контейнер с образцом гибкой катушкой и отправил в тоннель томографа. Скорее всего, предел разрешения магнитного резонанса окажется около миллиметра. Это значит, что каждый воксель на сканах маленького мозга будет содержать больше структур, чем воксель на сканах большого. Я надеялся, что разрешение все-таки позволит рассмотреть подробности устройства мозга енота.
Мы с Питером настроили программу и нажали «сканировать». Томограф откликнулся положенными подготовительными щелчками и жужжанием, а затем со звуком погружающейся подлодки приступил к сканированию. С таким крошечным мозгом аппарат управился за две минуты.
Изображения показались на экране. Что ж, на вид вполне прилично. Очень даже прилично. Мы выжали из градиентов максимум, доведя предел разрешения до 0,3 мм – гораздо выше, чем я ожидал. Все просматривалось четко: хвостатое ядро, мозолистое тело, мозжечок, гиппокамп. Радовал также хороший контраст между серым и белым веществом. Это значит, что ткани за столетие в формалине не расползлись в кашу.
А вот диффузионная МРТ не удалась. При тех настройках, которые мы использовали для мозга морских львов и дельфинов, получились бледные снимки, почти целиком состоящие из пикселированного шума. Я вновь обратился за консультацией к Карле Миллер, оксфордскому специалисту по физике МРТ, – она подсказала мне подсчитать скорость отклика на магнитные поля в законсервированном мозге и настроить время сканирования так, чтобы аппарат успевал отловить сигнал прежде, чем тот угаснет.
Поведение объекта в магнитном поле характеризуется двумя величинами: Т1 означает время полного намагничивания ткани, помещенной в магнит, Т2 – время дефазировки протонов (фазового сдвига векторов их вращения) под воздействием резонансной радиоволны. Эти показатели называются временами релаксации, и, поскольку у каждой ткани они свои, за счет разницы обеспечивается контрастность изображения. У здорового мозга, помещенного в магнитное поле напряженностью 3 Тл, Т1 составляет 1300 миллисекунд для серого вещества и 830 миллисекунд для белого. Т2 у него еще короче – 80 миллисекунд, то есть магнитно-резонансный сигнал в здоровом мозге угасает очень быстро. У законсервированных образцов дельфиньего мозга, пролежавших в формалине десять – пятнадцать лет, Т1 сократилось до 350 миллисекунд. У мозга енота Т1 снизилось до 200 миллисекунд, а Т2 – до ничтожных 30 миллисекунд.
Сокращенные времена релаксации означают, что магнитный резонанс угасает мгновенно, и, если мы хотели уловить это мимолетное излучение, нужно было сканировать быстрее. Однако в МРТ все взаимосвязано. Чтобы сканировать быстрее, надо быстрее переключать градиенты. У нас был выбор: либо сканировать быстрее, либо повысить напряженность поля, но добиться того и другого одновременно аппаратура не позволяла.
Я просиживал за пультом томографа часами. Путем проб и ошибок задавал скорость сканирования (этот параметр обозначается как ТR – time of repetition, время повторения), а затем пытался подобрать максимальную мощность градиента, которую способна была выдержать аппаратура в этом режиме. Иногда томограф сразу обрывал сканирование, выдавая предупреждение, что мощность превышена. Иногда сканирование начиналось, но обрывалось через час или два. Меня это обескураживало.
Примерно через неделю такой возни мне показалось, что я, наконец, нащупал то вожделенное сочетание настроек, при котором можно извлечь из мозга сигнал, не спалив томограф. В изображениях по-прежнему оставалось много шума, но, если повторить процедуру многократно, можно усреднить результаты и влияние шума снизится.
Я отправил Лунду и Ланган письмо по электронной почте, сообщая, что мы готовы приступать к работе с мозгом тилацина.
Хотя о сумчатом волке написано немало, специалистов по этому виду можно пересчитать по пальцам. Двое уже упоминались – это палеонтолог Арчер и составитель базы данных по тилацинам Слайтхолм. Третий, Камерон Кэмпбелл, ведет замечательный сайт под названием The Thylacine Museum (Музей тилацинов), где собрано все с ними связанное – от истории вида до анатомии, а также идет неутихающая полемика о вероятности существования тилацина в наше время[117].
Перелопачивая базы данных Слайтхолма и Кэмпбелла, я постепенно осознавал, что почти все сведения получены от очень узкого круга лиц, которых в большинстве своем уже нет в живых. Подлинным основоположником исследования тилацина как вида был Эрик Гилер, ирландский морской биолог, в 1947 году перебравшийся в Тасманию. Гилер допускал, что тилацины все же сохранились. Из материалов его экспедиций, из расспросов охотников и звероловов, которые хорошо знали сумчатых волков, складывалась подробнейшая история этого славного животного. Гилер скончался в 2008 году – через шесть лет после инсульта, который он перенес в экспедиции, посвященной тилацину.
Гилер считал, что сокращение численности сумчатых волков на материке, возможно ускоренное человеком, объяснялось в первую очередь климатическими изменениями. Еще шесть тысяч лет назад климат на материке был более влажным, благоприятным для растений, которыми кормились грызуны вроде валлаби. Тилацины охотились на травоядных, скрываясь в густом подлеске. Но около пяти тысяч лет назад климат начал становиться суше, приближаясь к современным условиям. Неуклонное исчезновение среды обитания привело в конце концов к исчезновению самого тилацина.
Перешеек, ведущий на Тасманию, ушел под воду в конце последнего ледникового периода и тем самым отрезал островную популяцию тилацинов от материковой. Тасмания расположена южнее, ближе к Антарктике, чем Австралия, и климат на острове более умеренный и разнообразный. На Тасмании среда обитания имелась на любой вкус – от дождевых лесов до высокогорных кустарников и всего спектра промежуточных вариантов. Идеально для тилацина.
Насколько известно исследователям, популяции тасманийских тилацинов жилось вполне вольготно – до прибытия английских поселенцев. Названная в честь голландского мореплавателя Абеля Тасмана, открывшего этот остров в 1642 году, Тасмания обрела недобрую славу как остановочный пункт на пути в южную часть Тихого океана. В 1773 году на якоре в защищенной бухте у юго-восточного побережья стоял один из кораблей экспедиции Джеймса Кука – «Эдвенчер», увековеченный впоследствии в названии бухты Эдвенчер-Бэй. Здесь же в 1789 году, следуя на Таити, ненадолго задерживался «Баунти» Уильяма Блая.
В судовых журналах никаких встреч с тилацинами не отмечено. Возможно, мореплаватели оставались на берегу и не углублялись в леса. Но это не помешало Эдвенчер-Бэй прославиться обилием пресной воды, а также разнообразием флоры и фауны. Первое упоминание о тилацине относится к 1805 году – это пресловутые рассказы о «тигре»[118].
Первые поселенцы привезли с собой овец, чтобы разводить на мясо и шерсть. И если бы не эти злополучные овцы, может быть, сумчатые волки населяли бы тасманийские леса до сих пор. Но овцы оказались легкой добычей для всех островных хищников – собак, тасманийских дьяволов и тилацинов. Истребление овец представляло настолько серьезную угрозу для поселенцев, что за отстрел хищников была назначена награда. За тилацинов, которых поселенцы называли гиенами, награда полагалась самая крупная, в два раза выше платы за диких собак и дьяволов. Кроме того, за каждые последующие двадцать голов награда возрастала. Какой еще нужен стимул, чтобы очистить от них остров полностью?[119]
Землевладельцы жаловались на набеги тилацинов вплоть до конца XIX века. Число зарезанных овец было явно преувеличено и, скорее всего, в большинстве случаев там постарались дикие собаки, однако фермеры винили тилацинов. Слухи о них распространялись самые нелепые, например что тилацины якобы сталкивают овец с утесов.
Тилацин был не единственным пострадавшим среди коренных обитателей. Другие хищники тоже стремительно исчезали, особенно «кошки», которые, как и тилацин, на самом деле относились к сумчатым (сейчас они называются «кволлы»). И хотя вознаграждение сыграло существенную роль, не менее критичной была утрата среды обитания. Леса вырубали под выпасы для коров и овец.
К 1930 годам тилацины встречались все реже и реже, и специалисты по охране природы уже записали вид в исчезающие. А когда в 1936 году скончался Бенджамин, охранять стало некого. Призывы к созданию заказников не находили отклика[120]. Отчасти здесь играло роль невежество – нежелание поверить, что тилацин действительно вымер. Тасманийские лесные дебри обширны, поэтому многие допускали, что где-то в глуши сумчатые волки водятся по-прежнему. Тем более что сообщения о виденных тилацинах продолжали поступать.
В 1937 году недавно созданный Совет по защите животного мира Тасмании снарядил экспедицию во главе с конным полицейским Артуром Флемингом, хорошо знавшим буш, на поиски тилацинов. В первый заход Флеминг направился в крайне труднодоступные горы на западе острова. Тилацинов встретить не удалось, но следы найдены были. Окрыленный своим открытием, Флеминг вернулся туда в 1938 году с более многочисленной группой. Но и в этот раз ничего, кроме следов, не обнаружил.
Третью попытку Флеминг предпринял в 1945 году. Полгода экспедиционная группа прочесывала леса между рекой Джейн и озером Сент-Клэр. Чем только ни пробовали завлечь тилацинов в ловушку – от живых овец в качестве приманки до пахучего следа из требухи в подлеске. В результате в ловушках побывали, кажется, все коренные обитатели Тасмании – кроме тилацина. К апрелю 1946 года Флеминг сдался[121].
Следующие десять лет о тилацине не было ни слуху ни духу. Затем в сентябре 1957 года в городке к северу от Хобарта нашли несколько растерзанных овец. Гилер, живший там уже несколько лет, немедленно взялся за дело. Он писал: «Горло у всех овец перегрызено очень чисто; ни на останках, ни рядом крови нет, возможно, хищник ее вылакал. Носовые кости тоже обглоданы, при этом шкура с туш не содрана»[122].
Гилер считал, что для диких собак такая манера нехарактерна, тем более что и ноги у овец не были перекушены. Кроме того, он обнаружил следы, очень похожие на отпечатки лап тилацина. В ходе расспросов выяснилось, что аналогичные нападения на овец за последние несколько месяцев пережили и другие фермеры. Старые звероловы подтвердили, что тилацины действительно резали овец именно так. Один из фермеров сообщал даже, что собственными глазами видел сумчатого волка, удирающего с буханкой хлеба.
Гилер соорудил ловушку на ферме, где видели тилацина. Но прошел год, а в нее так никто и не попался.
С 1957 по 2002 год, пока у него не случился инсульт, Гилер организовал больше десятка экспедиций, чтобы отыскать свидетельства существования тилацина. В основном поиски велись в районе Вулнорт, где происходили нападения на овец, однако первые несколько попыток ничем не увенчались. Чтобы охватить территорию побольше, он переключился сперва на расстановку силков – это все же легче, чем тащить через буш неповоротливые ловушки, – а затем на камеры.
Гилер твердо стоял на своем: Бенджамин не мог быть последним тилацином. Какое-то время хотя бы единичные особи наверняка еще водились в буше. Но как долго, он не знал. Несмотря на то что каждое десятилетие приносило все более совершенные технологии, поиски становились труднее, а результаты – ничтожнее. Не имея на руках очевидных доказательств, Гилер в конце концов вынужден был признать, что, скорее всего, тилацин исчез безвозвратно.
Мозг тилацина, как и мозг енота, прибыл в деревянном ящике, но гораздо большего размера. В этой посылке уместился бы и человеческий. В смитсоновской каталожной карточке было сказано, что при извлечении он весил 43 грамма. Человеческий весит около 1300 граммов.
Питер, уставившись на посылку, выразил наше общее недоумение вслух.
– Почему такой большой ящик?
Выяснить можно было только одним способом.
Вооружившись отверткой, мы выкрутили десяток винтов, удерживающих крышку. Внутри все было заполнено гранулированным упаковочным пенопластом. Я принялся осторожно шарить в этих россыпях и наконец нащупал запаянный полиэтиленовый пакет. Дрожащими руками я вытащил национальное достояние. Как и мозг енота, оно транспортировалось в пропитанной марле.
Строжайшие музейные требования предписывали держать образец в растворе формальдегида и этанола, так что Питер заранее подготовил пластиковый контейнер. Вздохнув поглубже, постаравшись унять дрожь в руках, я взрезал пакет. От запаха формалина и спирта помутилось в голове. С величайшей осторожностью я развернул марлю.
Все-таки я думал, что мозг будет крупнее. Сам тилацин был размером примерно со среднюю собаку, а у собаки мозг обычно не мельче лимона. Но образец, который я держал в руке, больше напоминал грецкий орех. И казался таким же твердым на ощупь. Даже заформалиненные образцы обычно все же сохраняли какую-то упругость. Но не этот.
Питер, подумав то же самое, только хмыкнул озадаченно.
– Давай взвесим, – предложил я.
Питер поместил образец на электронные весы.
– Шестнадцать граммов.
– Это треть изначального веса. Как такое могло случиться? – озадачился я.
– Наверное, усох.
Да, определенно. Обеспокоенный сокращением веса, я сделал в уме нехитрый подсчет. Если мозг усыхает на 1 % в год, через сто десять лет его вес действительно составит ровно 33 % от изначального. Вот этого я не ожидал. И неизвестно, равномерным было это усыхание или шло в разных частях по-разному, приводя к каким-нибудь перекосам.
Такого мозга я еще ни разу не видел. Мозжечок, узловатый и бугристый, напоминал головку цветной капусты. Кора тоже выглядела не совсем гладкой, в ней угадывались борозды. Это хорошо. Это значит, что мозг у тилацина был достаточно развитый – настолько, что ему уже требовались складки и извилины. С противоположной стороны от мозжечка торчали, словно антенны, две крупные обонятельные луковицы, даже крупнее, чем у собаки, если брать в пропорциональном отношении к общему объему. Связанный с луковицами участок коры заметно отличался внешне от остальной поверхности мозга. Это пириформная кора – область, отвечающая за обработку информации о запахах.
Что же еще расскажет нам этот мозг о тилацине? Ведь размер – далеко не все. Я надеялся, что нам удастся составить карту связей его мозга и узнать что-то о его психике. Был ли сумчатый волк общественным животным? Насколько велики были лобные доли, позволяющие решать жизненно важные задачи?
Прежде чем приступать к диффузионной МРТ и картированию связей, нам с Питером требовалось получить детальное изображение внутренней организации мозга тилацина. Проделав необходимые процедуры, мы запустили предварительное структурное сканирование.
– Ни малейшего сходства с собачьим! – воскликнул Питер, увидев результат.
Огромные обонятельные луковицы выдавались далеко вперед. Основные ориентиры, вроде таламуса и непривычно узловатого мозжечка, я различил. Но мозолистого тела нет и в помине, нам удалось разглядеть лишь тонкий усик волокон между двумя гиппокампами.
Я отправил Слайтхолму электронное письмо, и тот ответил, что отсутствие мозолистого тела – характерная особенность мозга сумчатых. Мозолистое тело есть только у плацентарных. У сумчатых же связь между полушариями мозга осуществляет пучок волокон, называемый передней комиссурой. Она расположена ближе к лобной части, под моей любимой областью – хвостатым ядром.
Связь между полушариями мозга тилацина представляла для нас не просто академический интерес. Как продемонстрировала работа с дельфиньим мозгом, структурная организация подсказывает направление информационных потоков, которое, в свою очередь, позволяет судить о функциях отделов. Но проникнуть глубже мы сможем только с помощью диффузионной МРТ.
Мы начали с теми же настройками, что и для мозга енота. Однако первые изображения диффузионной МРТ получились почти нечитаемыми. Там угадывалась призрачная тень мозга, но такая бледная, что работать с этими снимками не представлялось возможным. Время релаксации Т1 уменьшилось еще сильнее, чем у енота. У тилацина Т1 составляло жалкие 150 миллисекунд, фактически одну десятую от показателей здорового мозга. Придется выжимать из градиентов максимум скорости, чтобы они успевали отловить этот слабый, моментально гаснущий сигнал.
Провозившись весь день, я убедился, что мы достигли разумного компромисса между необходимостью ускорить сканирование и при этом прикладывать максимально допустимое магнитное поле. Сигнал по-прежнему будет слабым, поэтому мы с Питером запрограммировали томограф на двенадцать повторов для каждого снимка. Учитывая, что мы делали сканирование в пятидесяти двух направлениях, в общей сложности у нас должно было получиться более шестисот снимков, и поскольку оставлять этот чрезвычайно редкий образец без присмотра я не осмеливался, то просидел с ним неотлучно весь день. К девяти часам вечера серия была готова.
Следующие несколько месяцев я расшифровывал полученные изображения. До сих пор сканировать мозг такого возраста никто не пытался, и уж тем более никто прежде не пробовал составить карту его связей посредством диффузионной МРТ. Мозг тилацина слишком сильно отличался от всего, к чему я привык. В чем была причина этих отличий – в принадлежности мозга тилацину или в принадлежности тилацина к сумчатым, я затруднялся сказать. Мне срочно требовалась помощь специалиста по мозгу сумчатых.
Таких специалистов в принципе немного. Одним из этих немногих был Кен Эшуэлл – нейроанатом из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, выступивший в том числе редактором авторитетного учебного пособия по этой теме[123]. Я написал ему, не согласится ли он поучаствовать в проекте.
Кен был заинтригован. Сам он пробовал исследовать методом МРТ мозг однопроходных, таких как ехидна и утконос. Он согласился посмотреть на снимки и попытаться отыскать там ключевые интересующие нас структуры, в первую очередь ядра таламуса.
Но даже для выдающегося мирового специалиста задача оказалась не из легких. Опираясь на свои знания об анатомии мозга сумчатых, Кен определил наиболее вероятное расположение таких структур, как медиальное коленчатое тело – первичный пункт приема слуховой информации, та же самая область, которую мы с Питером исследовали в мозге дельфина.
Несколько месяцев мы с Кеном сотрудничали по переписке. Я посылал ему структурные снимки мозга тилацина, он находил ядра таламуса, затем я по его указаниям пытался определить с помощью вероятностной трактографии, как ядра связаны с корой. Дело продвигалось медленно, возникали вынужденные перерывы. И каждая новая находка ставила перед нами один и тот же вопрос: это особенность тилацина или нечто характерное для всех сумчатых в целом, а может, только для сумчатых хищников?
В самом начале своих поисков я узнал от Слайтхолма, что в мире сохранилось четыре экземпляра мозга тилацина. Берлинский и оксфордский, скорее всего, слишком сильно повреждены, поэтому их можно сразу сбросить со счетов. Смитсоновский экспонат, хоть и усохший, все же был в хорошем состоянии. Кроме него оставался только один, в Австралии.
Австралийцы ревностно оберегают все останки тилацинов. И хотя на аукционах иногда всплывают якобы тилациновые шкуры, впоследствии они часто оказываются подделкой. Бóльшая часть останков по-прежнему находится в Австралии, и музейные экспонаты вряд ли выпустят за пределы страны[124]. Поэтому о том, чтобы сканировать австралийский экземпляр, я даже не помышлял.
Зато помышлял Кен. Ему уже доводилось работать с Австралийским музеем в Сиднее – делать МРТ некоторых образцов мозга из коллекции млекопитающих. Хотя Кена интересовали однопроходные, во время одного из своих визитов в музей он заметил мозг сумчатого волка в банке с формалином.
«Кажется, хорошо сохранился», – написал мне Кен по электронной почте.
Поскольку просить у музея прислать мне экспонат на время было заведомо бесполезно, мне оставалось только одно – отправляться с Сидней самому и сканировать его там. К счастью, в университете Кена имелся аппарат МРТ мощностью 9,4 Тл для работы с мозгом животных. В три раз мощнее, чем наш томограф в Атланте. Более высокая напряженность магнитного поля обеспечивает более сильный сигнал, а значит, мы сможем сканировать в более высоком разрешении.
Музей согласился предоставить Кену экспонат, но только на очень жестких условиях. В идеале нам хотелось бы получить его на несколько дней, потому что на упаковку его в контейнер с инертной жидкостью и возню с настройками требовалось какое-то время. Каждый мозг своеобразен, а образцы такой давности тем более непредсказуемы. Однако оставлять экспонат у себя на ночь нам разрешили бы лишь при наличии охраны, оплату которой мы себе позволить не могли. Кроме того, нам пришлось бы оформить страховку, что тоже грозило огромными сложностями, поскольку определить ценность образца в данном случае – это примерно как определять ценность «Моны Лизы». В конце концов мы пошли на компромисс – забрать образец на один день. То есть нам предстояло как-то исхитриться проделать всю работу за восемь часов.
Итак, мой путь лежал в Австралию. А оттуда уже и до Тасмании рукой подать.
Глава 10 Одинокий волк
Последнее мое известное местонахождение зафиксировано ближайшей вышкой тасманийской сотовой связи – в пятнадцати километрах к юго-востоку, там, где я свернул с шоссе на лесовозную грунтовку. Полчаса я ехал по ней в полнейшем одиночестве, пока впереди не показалась ответвляющаяся от грунтовки и уходящая в чащу колея, помеченная скромной табличкой «№ 5». Я осторожно повел арендованную машину по этой колее под склонившимися почти горизонтально деревьями, стараясь не обращать внимания на то, что лес явно не желает впускать меня. Так я одолел еще километр, пока, наконец, не уперся в ворота, преградившие дальнейший путь.
Оттуда я двинулся пешком – и чуть не пропустил тропинку, больше напоминающую разрыв в кустарнике. Единственным указателем служила полоска изоленты на ветке.
Зря, конечно, я полез в буш в одиночку. Все мои припасы составляли бутылка воды, два зерновых батончика и письменные указания, как добраться до места, где последний раз видели дикого тилацина. Ботинки промокли через первые же сто метров ходьбы по этим первобытным джунглям. Лет тридцать назад я бы ни секунды не пожалел, что сунулся в глухой тасманийский лес без провожатых. Но сейчас постепенно осознавал всю глупость этой затеи. Хотя, собственно, единственная глупость – это отправиться одному. А в остальном все совершенно резонно.
Как мы с Питером убедились на примерах других животных, чтобы правильно интерпретировать анатомию мозга, необходимо представлять себе экологическую нишу, занимаемую данным видом, и его поведение. Пытаясь выяснить, каким образом слуховые пути в мозге дельфина обеспечивают и обычный слух, и эхолокацию, мы опирались на огромный массив данных о физиологии и морской среде обитания дельфинов. Работая с мозгом морских львов, мы обращались к исследованиям Фрэнсис Галлэнд, посвященным воздействию домоевой кислоты и позволявшим связать повреждения гиппокампа с припадками и нарушениями памяти.
Однако тилацины исчезли как вид, а когда они еще существовали, никто их поведение не изучал. Мне же, чтобы как-то разобраться в их мозге и в том, каково быть сумчатым волком, нужно было сперва познакомиться с окружавшей их средой. Я должен был прочувствовать все сам.
Меня предупреждали, что буш густой и непролазный, но, пока там не побываешь, трудно представить себе, насколько. Австралийцы называют бушем почти любую дикую местность. На материке это в основном пустыня. Но на юго-западе Тасмании, как показывал мой стремительно растущий опыт, буш представлен дождевыми лесами и джунглями.
Пригнувшись, я пробирался между пальмами-ричеями, которые цепляли меня за одежду сухой жесткой бахромой на стволах. Лес словно ставил заслоны на пути непрошеного гостя, посягающего на его тайны. Я раздвинул нависшие листья, и мне за шиворот вылилась вода от ночного дождя. Тропинка, хоть и различимая, была почти нехоженой. Буш спешил отвоевать захваченные территории.
Вскоре пальмы сменились зарослями осоки высотой от полуметра до метра. Осока эта, даром что ниже пальм, препятствовала моему продвижению ничуть не меньше. Эта колючая трава родом из мелового периода прекрасно себя чувствует на болотистых почвах тасманийского буша. А вот мне мало того что приходилось продираться через ее заросли, так еще и нога при каждом шаге погружалась в воду. И, как я обнаружил уже гораздо позже, с водой в обувь коварно проникали пиявки.
Всего за неделю до этого мы с Кеном Эшуэллом делали в Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее МРТ второго экземпляра мозга тилацина.
В день сканирования Кен заехал за мной в гостиницу, и мы покатили в музей. У входа нас дожидалась Сэнди Инглби, куратор отдела млекопитающих. В руках у нее была коробка от шампанского.
– Не рановато праздновать? – пошутил Кен.
Сэнди рассмеялась:
– Другой тары под экспонат не нашлось.
В кабинете МРТ Сэнди осторожно вынула банку с мозгом из коробки. Резко запахло спиртом.
– В чем это он? – не удержался я.
Никто не знал.
– Кен, принимайте! – провозгласила Сэнди, предоставляя ему почетное право достать образец.
Надев перчатки, Кен бережно извлек мозг из банки и уложил на весы. Получилось тридцать граммов.
– В два раза тяжелее смитсоновского, – сообщил я. – Значит, не так уж сильно усох. Есть надежда на более сильные сигналы.
Физическое состояние мозга было все же далеко от идеала. Записывая вес, я заметил в верхней части глубокий разрез. Он мог здорово затруднить нам работу. Насколько он глубокий – покажет только сканирование. А еще у этого экземпляра были отсечены обонятельные луковицы.
Поскольку время поджимало, погружать мозг в инертную жидкость нам было некогда. Мы просто запаяли его в полиэтиленовый пакет и загрузили в томограф. Аппарат мощностью 9,4 Тл существенно уступал в размерах тому, который использовали мы с Питером, с полем в 3 Тл. Поле сверхвысокой мощности очень трудно генерировать в аппарате, вмещающем человеческое тело, так что у этого томографа диаметр тоннеля не превышал тридцати сантиметров – примерно вполовину меньше, чем у «человеческого». Зато для крысиного или обезьяньего мозга – в самый раз. И для тилацина.
Предварительные сканы выглядели многообещающе. Хороший четкий контраст означал, что серое и белое вещество не расползлись в кашу. А более мощное магнитное поле позволяло сканировать в более высоком разрешении. Мы настроили сканер на 200 микрометров – одну пятую миллиметра. При таком разрешении можно разглядеть то, что находится на пределе видимости для невооруженного глаза. Это примерно то же самое, что поместить мозг под микроскоп, только нам не нужно будет нарезать его на срезы и мы не ограничены плоским изображением. На сканирование уйдет три часа. Еще столько же будет длиться диффузионная МРТ.
Убедившись, что мозг благополучно помещен в томограф, Сэнди вернулась в музей. Нам же было строго предписано не оставлять экспонат без присмотра.
О добыче корма у тилацинов неизвестно почти ничего. Как и все сумчатые, тилацины были животными ночными, поэтому мало кто из людей наблюдал их за охотой. Занимая в Тасмании высшее положение в пищевой цепи, сумчатый волк, скорее всего, охотился на более мелких животных, таких как валлаби, поссум, филандер. Вопрос о нападениях тилацинов на овец по-прежнему остается открытым.
Разумеется, вполне возможно, что сумчатые волки убивали и овец. Физическими параметрами тилацин примерно соответствовал койоту, которого хорошо знают и ненавидят все овцеводы. В Соединенных Штатах в 2014 году из-за нападений хищников погибли шестьдесят одна тысяча семьсот двенадцать овец и ягнят, причем в 54 % случаев виноваты были именно койоты[125]. Однако строение лап у тилацина отличалось от койотовых, поэтому и стратегия охоты у него могла быть иной. Анализ локтевых суставов показывает, что сумчатый волк не обладал необходимой биомеханикой для преследования[126]. То есть бегал он небыстро. Зато у него вполне могла развиться способность подкарауливать добычу и нападать из засады.
Аналогичные выводы следуют из сравнения зубов тилацина с зубами других животных[127]. По форме зубов – особенно клыков – можно вычислить, как хищник приканчивает свою добычу. Собачьи клыки вдоль шире, чем поперек – такая форма как нельзя лучше подходит, чтобы раздирать и кромсать. У кошек зубы более округлые в поперечном сечении – приспособленные для прокусывания и дробления. У тилацина зубы в поперечном сечении напоминают яйцо – нечто среднее между собачьими и кошачьими, ближе по форме к зубам лис и гиен.
Традиционные представления и современная реконструкция сходились в одном: стремительностью тилацин не обладал. Первые поселенцы и покорители буша считали его тугодумом (что плохо согласуется со славой истребителя овец). Однако медлительность отнюдь не свидетельствует о тупости. Я надеялся, что мозг тилацина поможет нам разрешить эти противоречия.
Наше терпение было вознаграждено уже хотя бы тем, что мы получили прекрасные структурные снимки мозга тилацина. Поскольку сиднейский экземпляр оказался в лучшем состоянии, чем смитсоновский, и поскольку мы сканировали в магнитном поле силой 9,4 Тл, разрешение вышло ошеломляющим. Видны были тракты белого вещества, которые мы не могли разглядеть в смитсоновском экземпляре. Однако разрез, который я заметил, когда мы закладывали образец в томограф, уходил гораздо глубже, чем ожидалось. Лезвие, которым он был сделан, рассекло мозг по диагонали от коры правого полушария до левого таламуса. Это означало, что проследить пучки белого вещества будет трудно, поскольку задеты оба полушария.
Теперь, когда к смитсоновскому экземпляру добавился второй образец мозга тилацина из четырех известных, вероятность правильной интерпретации результатов значительно возрастала. Два образца давали возможность определить общие для обоих особенности, а также компенсировать недостатки и связанные с ними пробелы в результатах одного за счет другого. Но, чтобы разобраться в проводящих путях, нам по-прежнему нужен был еще чей-нибудь мозг для сравнения, желательно другого плотоядного сумчатого. Эту вероятность я предвидел, поэтому поисками озаботился еще до того, как отправился в Австралию.
Хищных сумчатых не так уж много, и большинство из ныне существующих относится к отряду Dasyuromorphia, в дословном переводе – «косматохвостые». Помимо тилацина в этот отряд входят кволл, узколапые сумчатые мыши, сумчатый муравьед и тасманийский дьявол. Согласно реконструированному на основе митохондриальной ДНК семейному древу, ближайшим ныне живущим родственником тилацина является сумчатый муравьед, он же намбат[128]. Однако намбаты – мелкие, питающиеся насекомыми животные – занимают совершенно иную экологическую нишу, чем тилацин, а значит, и мозг у них может быть устроен иначе. Сумчатые мыши тоже едят насекомых, и размер у них, как несложно догадаться, мышиный. Кволлы (которых раньше называли местными кошками) охотятся на ящериц, птиц и мелких млекопитающих, поэтому экологическая ниша у них ближе к тилацинам, но даже самый крупный из этого семейства, тигровый кволл, весит в зрелом возрасте не больше трех килограммов. Ни один из них мне не подходил. Оставался только тасманийский дьявол.
Репутация у дьяволов соответствует названию. Питаются они в основном падалью, поэтому у большинства людей вызывают такое же отвращение, как грифы. Подъедают все, вплоть до костей, обладая самым высоким в мире коэффициентом силы укуса относительно массы тела среди сухопутных млекопитающих. А еще они громко верещат на разные лады всю ночь напролет. Кроме того, дьяволы – одиночки и часто дерутся между собой. Их неуживчивость и драчливость мало кому симпатичны. Из-за нее же они рискуют исчезнуть как вид.
С конца 1990-х годов тасманийские дьяволы гибнут в рекордных количествах из-за определенной разновидности рака, поражающей морду. Разросшаяся опухоль мешает животному питаться, и оно в конце концов умирает от голода. Болезнь называется «лицевая опухоль тасманийского дьявола» и распространяется контактным путем, когда дьяволы дерутся. Однако если вынести за скобки угрозу существования вида, болезнь эта представляет интерес как одна из немногих известных заразных форм рака. В отличие от папиллома-вируса, вызывающего рак шейки матки у человека, раковая опухоль у дьяволов не имеет вирусной природы. Судя по всему, его провоцирует прямая передача раковых клеток, в данном случае – измененных клеток Шванна, которые обычно окружают нейроны[129]. Раковая опухоль у тасманийских дьяволов – один из четырех известных видов рака, имеющих контактный механизм передачи. Другие три вида развиваются соответственно у собак, двустворчатых моллюсков и сирийских хомяков. У собак заболевание передается половым путем и называется «трансмиссивная венерическая опухоль собак», однако, в отличие от рака у тасманийского дьявола, не приводит к летальному исходу[130].
К 2008 году положение стало настолько критическим, что многие экологи уже готовились записывать дьявола в исчезнувшие[131]. В отдельных областях Тасмании дикая популяция дьяволов сократилась на 90 %. Осознав серьезность положения, Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) объявил вид вымирающим.
Вот тогда ученые, специалисты по охране природы и правительственные чиновники договорились объединить силы и выделить средства, необходимые для спасения символа Тасмании. Общество сохранения природных ресурсов «Таронга», в ведении которого находится сиднейский зоопарк, совместно с Департаментом добывающей промышленности, национальных парков, водных ресурсов и окружающей среды Тасмании, а также группой специалистов МСОП по размножению и сохранению видов разработали план создания страховочной популяции тасманийских дьяволов. Это было грандиозное предприятие со сложной логистикой. Замысел заключался в том, чтобы вырастить в неволе устойчивую, достаточную для дальнейшего размножения популяцию, которую в случае гибели дикой можно будет выпустить в естественную среду. В тот момент аналогичные программы проводились лишь для нескольких видов животных, в частности для калифорнийского кондора и рыжего волка в Северной Каролине, и то с переменным успехом[132].
По оценкам рабочей группы, если в дикой природе тасманийский дьявол все же исчезнет, для возрождения вида понадобится популяция, насчитывающая не менее пятисот производителей. Эти производители выращиваются в сети зоопарков и парков дикой природы по всей Австралии. Кроме того, в Тасмании было устроено несколько заказников – территорий с пониженным вмешательством в жизнедеятельность охраняемого вида, где у тасманийского дьявола оставалась возможность сохранить естественные повадки.
Одним из руководителей программы разведения выступала Кэролайн Хогг, генетик и специалист по сохранению биоразнообразия из Сиднейского университета. Когда мы с Питером закончили работу со смитсоновским экземпляром мозга тилацина, я списался с Кэролайн, выясняя, нельзя ли нам получить для сравнения мозг тасманийского дьявола[133].
Вопрос был щекотливый. Дьяволы находятся под угрозой исчезновения, и в какой-то степени речь идет уже о национальной гордости. После вымирания тилацина дьявол стал новой эмблемой Тасмании, так что австралийские власти не спешили идти мне навстречу и делиться биоматериалом. Но Кэролайн увидела потенциальную ценность картирования мозга тасманийского дьявола, обошла бюрократические преграды и отыскала для меня мозг недавно усыпленной особи. Количество разрешений, необходимых для пересылки, внушало ужас. Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США, с которой нужно было согласовать ввоз животного материала, первый раз сталкивалась с попыткой доставить в Америку мозг тасманийского дьявола. Обеспечить его прибытие в целости и сохранности я мог только одним способом: нанять курьера, который заберет посылку в аэропорту Лос-Анджелеса и, собственноручно проведя через таможню, отправит внутренним рейсом в Атланту.
В октябре 2015 года мозг тасманийского дьявола прибыл в наше распоряжение, и мы немедленно подготовили его для МРТ. В отличие от мозга тилацина и даже дельфиньего, этот экземпляр был достаточно свежим. Несмотря на небольшие размеры, сигнал он давал сильный и четкий. Структурные изображения получились превосходные. Диффузионные сканы тоже. Как и у тилацина, мозолистого тела в мозге тасманийского дьявола не обнаружилось, зато передняя комиссура, соединяющая полушария, представляла собой толстый пучок волокон. У меня были достаточные основания надеяться, что мозг дьявола послужит хорошим сравнительным образцом для анализа результатов МРТ тилацина.
Несмотря на принадлежность обоих видов к плотоядным сумчатым, пищу они добывали по-разному. И по мнению некоторых экологов, это должно было отразиться на структуре мозга. Есть теория, что сложная стратегия добычи пищи требует более крупного сложноорганизованного мозга, чем примитивная тактика поисков корма. Тилацин явно должен был относиться к обладателям первой, по крайней мере если в нападениях на овец фермеры обвиняли его не огульно.
Но в какой области мозга искать подтверждение? Там ведь нет «охотничьего» центра. Тем не менее оценить степень когнитивного развития мы могли бы по величине «лобной» части мозга, расположенной спереди от моторных областей. Если устройство мозга сумчатых и плацентарных примерно совпадает, эта зона связана с когнитивными задачами, такими как планирование, самоконтроль (как мы уже убедились на примере собак) и обработка социальной информации.
Об устройстве мозга плацентарных известно гораздо больше, чем о его устройстве у сумчатых. Перекос неожиданный, тем более что сумчатые, особенно австралийские, считаются похожими на древнейших млекопитающих, живших сто пятьдесят миллионов лет назад. Поэтому устройство их мозга могло бы пролить свет на эволюционное развитие мозга млекопитающих.
На самом базовом уровне хорошо бы узнать, как организована передача сенсорной и моторной информации. У плацентарных млекопитающих борозда отделяет первичные моторные области от сенсорных, и те и другие организованы по модульному принципу и содержат множественные проекции различных частей организма. У сумчатых, как более древних, мозг может быть организован гораздо проще. Со времен самых первых электрофизиологических исследований мозга считалось, что разделения на сенсорные и моторные области у них нет[134]. Однако недавние эксперименты выявили некоторые нюансы. Лия Крубитцер, нейробиолог из Калифорнийского университета в Дейвисе, предполагает, что у «примитивных» сумчатых, таких как виргинский опоссум и рыжий кенгуру, области моторной и сенсорной репрезентации пересекаются, тогда как у более «развитых», вроде вомбата, филандера и тасманийского дьявола, они разделены.
Разумеется, отнести тот или иной вид к «примитивным» или «развитым» бывает довольно сложно. Поэтому лучше ориентироваться на социальное поведение и особенности питания. В общем и целом чем гибче стратегия добычи корма, тем сложнее должно быть устройство мозга.
Итак, благодаря сотрудничеству со Смитсоновским институтом, Австралийским музеем и проектом спасения тасманийского дьявола мы располагали данными сканирования четырех образцов мозга – двух от тилацина и двух от дьявола. Из них только мозг недавно усыпленного дьявола был в хорошем состоянии. Остальные либо подверглись усыханию за прошедшее столетие, либо имели следы травм. Наше исследование больше напоминало реконструкцию по разрозненным фрагментам. Но наличие двух образцов каждого вида все же сильно помогало делу. Наконец появлялась возможность увидеть видовые особенности и межвидовые различия.
Кен хотел сосредоточиться на связях между таламусом и корой. Таламус содержит десятки групп нейронов (называемых ядрами), но на снимках МРТ удавалось различить лишь самые большие. Предполагаемое их расположение Кен указать мог, однако, учитывая, что они скрывались внутри более крупной структуры, отследить проводящие пути было проблематично, особенно там, где они проникали в таламус.
В поисках подтверждения наших гипотез я сосредоточился на комплексе базальных ядер. О них известно много. Собственно, в собачьем проекте мы тоже изучали довольно значительную их составляющую – хвостатое ядро. Базальные ядра – образование крупное и заметное, поэтому относящиеся к ним структуры легко отыскать даже в непривычном мозге сумчатых, что было для нас важно. Основные межвидовые различия пока сводились к размеру и строению коры. Так называемые подкорковые структуры, к которым относятся базальные ядра и таламус, вроде бы сохраняли относительное единообразие от вида к виду.
Мы намеревались посмотреть, как подкорковые структуры связаны с корой, и выстроить в первом приближении карту мозга тасманийского дьявола и тилацина. Что ценно в базальных ядрах, по крайней мере у плацентарных, – некоторые их области отвечают за двигательные функции, тогда как другие скорее сенсорные или когнитивные. У плацентарных млекопитающих, таких как собака и человек, передняя часть этой арки связана с лобной корой, отвечающей за когнитивные функции, в частности за планирование и самоконтроль. С противоположной стороны «хвост» хвостатого ядра, соединяется с теми областями коры, где происходит обработка сенсорной информации. В латеральном (боковом) направлении от хвостатого ядра расположено еще одно ядро под названием «скорлупа», связанное с двигательной системой.
В таламусе Кен указал нам ядра, передающие зрительную информацию и – как в дельфиньем мозге – слуховую. Кроме того, он определил расположение ядер, одно из которых принимает осязательные импульсы, а другое – отправляет двигательные. И когда мы воспроизвели все нервные пути, ведущие к коре, и объединили с трактами базальных ядер, получилась достаточно четкая и последовательная картина.
В общих чертах карты мозга тасманийского дьявола и тилацина выглядели похоже. Задняя, затылочная часть коры была в основном сенсорной, там располагались зрительные и слуховые области. Спереди от них мы обнаружили крупный участок коры, отвечающий за двигательные функции. Такое строение – моторные области перед сенсорными – видимо, характерно для мозга всех млекопитающих и аналогично тому, что мы наблюдали у крыс, собак и человека. Перед моторными зонами находились области, по-видимому имеющие когнитивные функции, а в самой передней части, скорее всего, зоны, связанные с эмоциями и мотивацией[135].
Тем не менее у тилацина передняя часть моторной области явно была «побогаче». Именно эту улику я и искал. Корреляция между более сложной средой обитания и расширенной префронтальной корой прослеживается у всех остальных млекопитающих. Такая ее развитость часто отмечается у хищников, особенно при наличии у них сложной социальной организации. В мозге морских львов, который мы исследовали с Питером, площадь префронтальной коры была больше, чем у обыкновенных тюленей. И хотя оба вида питаются рыбой, у морских львов стратегия добычи корма гораздо более гибкая, зачастую требующая дальше уплывать от берега и там глубже нырять.
Более обширная площадь префронтальной коры у тилацина позволяла предположить, что и ощущения у него были богаче, чем у ближайшего родственника, тасманийского дьявола. Но достаточно ли этой площади для появления самосознания? Вопрос непростой, учитывая, как мало нам известно о том, какая степень развития мозга для этого требуется. Однако, исходя из размеров лобной коры и ее связей с другими частями мозга, я был склонен признать тилацина созданием умным и чувствующим.
Сумчатых всегда недооценивали. Как более «древних», чем плацентарные, их часто считают менее эволюционно развитыми и потому менее умными. Но это нелепо. У сумчатых за плечами не менее долгая эволюционная история, чем у остальных млекопитающих, включая нас, людей, и до недавнего времени они безраздельно царили в Австралии, обладая гораздо большим биоразнообразием, чем сейчас. Среди них были даже гиганты, например дипротодон – вомбат размером с бегемота, живший около сорока тысяч лет назад. Как и современные вомбаты и коала, он был травоядным. А вот царем хищников должен был считаться «сумчатый лев» (Thylacoleo carnifex) – эдакий накачанный тилацин. Не уступая в размерах современному льву или тигру, он был хорошо приспособлен для охоты. Массивные челюсти с большими клыками наносили смертельные колотые раны. Согласно подсчетам, сумчатый лев обладал самым высоким коэффициентом силы укуса относительно массы тела среди когда-либо живших млекопитающих[136].
Еще двенадцать тысяч лет назад Тасмания соединялась с материком, но, когда в конце последнего ледникового периода ледники отступили, уровень моря поднялся и Тасмания превратилась в остров. Какое-то время ее растительный и животный мир развивался в изоляции. Примерно четыре тысячи лет назад материковая популяция тилацинов исчезла, вероятно не выдержав климатических изменений и конкуренции с аборигенами и их собаками. Сохранились лишь несколько тысяч тилацинов на Тасмании.
К тому времени, когда на Тасманию прибыли британцы, аборигенов там было всего около тысячи человек. Объявляя войну сумчатому волку, переселенцы, по сути, объявили ее и коренному населению. Однако, в отличие от тилацинов, аборигены давали противнику отпор. Начавшаяся в середине 1820-х годов Черная война мало кому известна за пределами Австралии, но закончилась она почти полным истреблением аборигенов[137]. Поскольку популяцию тилацинов уничтожали те же колонисты, возможно, предпосылки Черной войны прольют свет и на исчезновение тасманийских сумчатых волков.
Большинство поселенцев оказались в Тасмании не по своей воле. И заключенные, и солдаты не считали аборигенов за людей, что не мешало им ввиду нехватки женщин среди колонистов похищать и насиловать коренных жительниц[138]. Отношение колонистов к аборигенам отражало и общие установки вынужденных выживать на незнакомой земле, и бытовавшее среди британцев убеждение, что Бог дал им право на эту землю.
Если бы не посягательства на женщин, возможно, переселенцам и аборигенам удалось бы ужиться, но захватчикам и насильникам коренное население предсказуемо принялось мстить. Когда аборигены поняли, что колонистов прибывает все больше, война стала неизбежна.
Поначалу многие поселенцы, особенно в главном порту под названием Хобарт, искали гуманных путей, под которыми понимали мирное сосуществование или переселение аборигенов на какой-нибудь остров. Но на «фронтире» – границе неосвоенных земель – думали иначе. В мае 1828 года газета Colonial Advocate доказывала, что любой способ взаимодействия с аборигенами, кроме полного их истребления, в высшей степени абсурден[139]. К 1830 году тасманийскую глушь уже прочесывали вооруженные летучие отряды. Некоторые формировались из военных и полевой полиции, остальные состояли из заключенных, которые выслеживали аборигенов в обмен на обещанное сокращение срока.
Николас Клементс – историк из Тасманийского университета – метко определил перемену в отношении к аборигенам такой фразой: «Безразличие к коренным жителям сменилось в первые годы войны недоверием, а затем ненавистью и страхом»[140].
Аборигены в долгу не оставались и наносили ответные удары. Поскольку ружей у них, в отличие от колонистов, не было, они использовали две основные тактики – поджог и нападение на скот[141]. Второе важно для нас тем, что аборигены никогда не забирали тушу. Поскольку с лошадей колонисты не спускали глаз, аборигены резали овец и коров, в период войны уничтожая их тысячами[142].
И вот здесь проясняется кое-что насчет тилацина.
Первые сообщения о гибели овец в зубах сумчатого волка появились в 1824 году – как раз тогда, когда ситуация начала накаляться из-за вражды с аборигенами. Примечательно, что нападавшие на овец тилацины якобы выпивали кровь, но не раздирали тушу. Неважно, что для высшего хищника кровь не имеет никакой питательной ценности или что крупным плотоядным не свойственно оставлять нетронутую добычу на поживу другим. В массовом сознании главными виновниками гибели овец все равно стали тилацины.
Основные потери понесла Компания Земли Ван-Димена[143], которой принадлежали права на обширные участки на северо-западе острова. Не разбираясь, кто на самом деле убивает овец – тилацины, аборигены или дикие собаки, в 1830 году компания, чтобы спасти стремительно сокращавшееся поголовье, назначила награду за хищников. Пять шиллингов за сумчатого волка и семь – за волчицу[144]. На эти деньги можно было неделю снимать комнату в лондонском Сохо[145], а уж для Тасмании сумма и вовсе выходила внушительная. Тасманийский дьявол и дикие собаки приносили награду вдвое меньшую.
Эрик Гилер, знавший о тилацинах больше, чем кто бы то ни было, до самой своей кончины в 2008 году так и не смог установить, какая доля погибших овец приходилась на сумчатых волков. Одни фермеры, с которыми он беседовал, клялись, что видели своими глазами, как тилацин за ночь загрыз нескольких овец. Другие, наоборот, считали, что тилацины в большинстве своем были к овцам безразличны и могли спокойно пройти сквозь стадо, никого не потревожив. Даже в эпоху наград за каждого убитого хищника представители Компании Земли Ван-Димена понимали, что, скорее всего, немалая часть жертв была на совести диких собак. Характер истребления соответствовал манере охоты псовых – как у современного койота. Тем не менее всех жертв по-прежнему приписывали тилацинам.
Версию о собаках поддерживал и Клементс, считавший, что овец убивали, прежде всего, собаки, завезенные на остров самими британцами. Кроме того, часть диких собак аборигены приручили как компаньонов и для охоты. Как сообщал Клементс в одном из электронных писем: «Во время войны разводить костры было опасно, поскольку они могли выдать местонахождение аборигенов вооруженным колонистам, так что местные грелись, укладываясь с собаками в обнимку»[146]. Собаки следовали за племенем и, судя по всему, успели перегрызть немало овец.
К 1832 году Черная война закончилась, по крайней мере в восточных районах Тасмании. Немногочисленные уцелевшие в тех краях племена, насчитывавшие к тому моменту не больше сотни человек, сдались и в конце концов перебрались на остров Флиндерс. Однако на северо-западе Тасмании конфликт продолжался до 1842 года. Там, в отличие от окрестностей Хобарта, с аборигенами воевали в основном фермеры и пастухи, но почва для конфликта оставалась прежней: коренное население мстило колонистам, покушавшимся на аборигенок.
Неслучайно примерно к этому периоду относится распространение мифа о тилацинах, сталкивающих овец с утесов. Северо-западные области были глушью даже по тасманийским меркам. Крайняя северо-западная точка острова до сих пор носит название Кейп-Грим (Мрачный мыс). Пастухи-колонисты и представители Компании Земли Ван-Димена руководствовались соображениями наживы и выгоды, не имея почти никаких законодательных ограничений. Поэтому неудивительно, что в конце концов истреблению подверглись все, кто обвинялся в гибели овец, – и аборигены, и сумчатые волки.
Тесное переплетение судьбы тилацинов с судьбой аборигенов и колониальным прошлым Тасмании объясняло мне многое. Но ничего не говорило о поведении тилацинов, помимо того что овец, вопреки распространенному мнению, они все же не убивали. А из тех, кто видел тилацина своими глазами, к началу нашего проекта уже почти никого не осталось в живых. Кроме, разве что, Кола Бейли – последнего охотника на тилацинов и истового приверженца гипотезы об их существовании где-то в дебрях.
Кол написал знаменитый рассказ о встрече с тилацином в 1995 году в глухих лесах на юго-западе Тасмании, в долине Уэлд у реки Снейк-Ривер[147]. Даже в 2016 году это были труднодоступные места. Если тилацину и вправду удалось где-то сохраниться, то с наибольшей вероятностью именно здесь, где до сих пор почти не ступала нога человека.
Я встретился с Колом в его доме, находящемся примерно в часе езды от Хобарта.
Когда-то они с женой Лексией жили в дикой глуши на юго-западе, где Кол занимался любимым делом – выслеживал тилацинов. Но теперь, на восьмом десятке, Кол и Лексия перебрались в городской домик – маленький, зато располагающий удобствами, которых не было в лесах. Гостиную Кол превратил в кабинет, который теперь ломился от находок, связанных с тилацинами.
Открыв одну из бесчисленных тетрадей, он продемонстрировал мне фотографию лапы.
– Это лапа тилацина. Фотографировал дома у парня, который убил этого зверя в 1990-м.
Я не знал, что и думать. Лапа выглядела в точности как собачья. Но я все же не спец, чтобы с уверенностью отличить лапу псовых от лапы сумчатого хищника.
Видимо, заметив мой скептицизм, Кол вытащил другой снимок – сделанное Стивеном Слайтхолмом фото лапы музейного экземпляра из Оксфордского университета.
– Видите? Один в один.
– А где подстрелили этого тилацина?
– В районе Адамсфилда.
Адамсфилд был заброшенным старательским поселком. На рубеже XIX–XX веков туда стекались в поисках осмиридия – природного сплава осмия и иридия, редкостью и ценностью превосходившего золото. После Второй мировой войны Адамсфилд опустел, и эти земли давно отвоевал буш.
Именно там, в Адамсфилде, Элиас Черчилль в 1933 году отловил Бенджамина.
– Если хотите посмотреть на волчьи земли, – сказал Кол, – езжайте в Адамсфилд.
За этим я сюда и прибыл. Обнаружить тилацина я не рассчитывал, мне просто хотелось посмотреть, где они водились. Мне нужны были какие-то ориентиры – разобраться в их среде обитания, чтобы понять, как эволюционировал их мозг, приспосабливаясь к определенной экологической нише.
– А вы что думаете? – спросил Кол.
– Насчет чего?
– Есть ли они там еще?
– Не знаю. По всем признакам, маловероятно.
Кол пожал плечами. Ну да, каждый раз одно и то же. Эти ученые никогда ни во что не верят.
– Наверное, при нынешнем уровне технического прогресса он бы уже попал на фото или видео.
– Тилацины осторожные, – возразил Кол. – У них невероятно острый нюх, они ни к чему пропахшему человеком и близко не подойдут.
Но мой скептицизм не развеялся. По дороге к дому Кола я видел множество сбитых валлаби, распластанных на шоссе. То есть добычи для тилацина вдоволь, а значит, здесь он просто не водится. По крайней мере, в этом районе.
– А если вы все-таки вдруг найдете доказательство, что тилацины не вымерли, что вы тогда сделаете? – полюбопытствовал я.
– Вопрос не в бровь, а в глаз. Наверное, сохраню в тайне. Может, если раздобуду клок шерсти, отправлю Майку Арчеру, чтобы клонировал.
Судя по всему, такой же позиции придерживались многие. В этой части страны недоверие к властям коренится глубоко, и большинство считает, что чиновники все только портят.
По крайней мере я выяснил, что мне нужно в Адамсфилде. Но выяснить – это одно, а добраться – совсем другое. Поскольку дорог в той глуши не было никаких, точных указаний Кол мне дать не мог. Однако на следующий же день я, просто по наитию, заглянул к рейнджерам Национального парка Маунт-Филд.
Маунт-Филд – это ворота на охраняемую ЮНЕСКО территорию дикой природы Тасмании, один из последних больших оплотов первозданной природы на Земле, сравнимый с африканским Серенгети или Национальным парком Секвойя в Калифорнии. Флора и фауна в таких зонах совершенно уникальна и стоит того, чтобы ее охранять. Большинство сторонников существования тилацинов считают, что если они где-то и водятся, то именно там, на этой заповедной территории.
В туристическом центре я обратился к мускулистой подтянутой смотрительнице.
– Скажите, как мне добраться до хижины Черчилля?
Вопрос ее не удивил, однако маршрут она распечатала лишь после того, как смерила меня взглядом и, надо полагать, пришла к выводу, что поход я осилю[148].
– Я туда наведывалась пару месяцев назад, – сообщила она. – Пометила тропу изолентой, но, может, она уже слетела.
Я поблагодарил за инструкции и расписался в журнале посещений. Тут встрепенулся другой рейнджер.
– Мы не смотрим журнал – разве что вы потеряетесь и вас начнут разыскивать.
– Но я здесь сам по себе. Никто меня не хватится.
– Вам некому сообщить, куда вы направляетесь?
– Ну вот вам сообщаю.
Они слегка озадачились, но в итоге мы договорились, что на обратном пути я у них отмечусь. Если до вечера не вернусь, придется отправляться на поиски.
От лесовозной грунтовки до загадочной колеи № 5 я в точности следовал указаниям смотрительницы, и они не подвели меня ни разу. Судя по всему, она побывала здесь последней. Накануне прошел дождь, на каждом шагу под ногами чавкало и хлюпало. Я продирался сквозь заросли, то и дело цеплявшие меня за одежду. Если где-то рядом и ходили тилацины, они могли разглядывать меня, почти не скрываясь, – я бы не заметил.
Осока доходила мне почти до пояса. Полосатая шкура тилацина должна была идеально сливаться с этими узкими остроконечными листьями и их тенью. Звук шагов тонул бы в мягкой почве, позволяющей подкрадываться к жертве неслышно. Учуяв добычу издалека благодаря крупным обонятельным луковицам, тилацин двигался бы к ней целенаправленно. Да, полагаться на зрение в этих зарослях хищнику было бы трудновато. Подкравшись, тилацин мог залечь в засаде с подветренной стороны от жертвы и наброситься, когда та приближалась.
Пробираясь к хижине Черчилля, я уже примерно представлял, каково было здесь тилацину.
Одиноко.
Размер префронтальной коры у сумчатого волка вполне обеспечивает сложные когнитивные операции, возможно даже такие сложные, как самоосознание. Но отсутствие сородичей в окружении еще не означает, что тилацин непременно должен был испытывать одиночество. Вряд ли самец вроде Бенджамина тосковал без себе подобных. У самок на какое-то время формируется материнская привязанность к щенятам, но это ненадолго. Освоив необходимые для выживания навыки, молодняк покидает логово и дальше заботится о себе сам. Узнают ли однопометники друг друга при встрече, сложно сказать.
В отличие от других хищников, которых мы изучали, – дельфинов, морских львов, собак, тилацину явно было не до сантиментов. Из-за отсутствия выраженной эволюционной склонности к социализации его вряд ли можно было приручить, а из-за своего образа жизни он приобрел репутацию медлительного и недалекого. На самом деле тилацин мог быть сколько угодно осторожным и нелюдимым, но тугодумом он не был. Тупых хищников не бывает. Как и у остальных изученных нами хищных животных, свойства мозга и психики позволяли тилацину перехитрить тех, на кого он охотился.
Довольно скоро путь мне преградил широкий и быстрый ручей, вздувшийся от недавнего дождя. На другом берегу едва угадывались очертания хижины Элиаса Черчилля. И хотя в ботинках у меня уже и без того образовалось болото с пиявками, переправляться через ручей в одиночку я не рискнул.
А вот тилацина это не остановило бы.
Но я, в отличие от него, был животным стайным, и дома меня ждали родные.
Глава 11 Лабораторная практика на собаках
С самого начала работы над собачьим проектом в 2011 году мы руководствовались тремя принципами. И все они выходили за рамки обычных требований к исследованиям с участием животных.
Во-первых, мы никак и ни в чем не ущемляли наших собак. Это значит, что при дрессировке мы опирались только на положительное подкрепление. Кроме того, мы исключали любую возможность причинения боли. Уж это, казалось бы, само собой разумеется, однако мне поступали запросы от нескольких ветеринаров, интересовавшихся, нельзя ли с помощью функциональной МРТ изучить ощущение боли у собак. Да, купирование боли – это важная составляющая лечения животных, но я не видел этичного способа намеренно причинить боль подопытным, даже если знания, полученные такой ценой, облегчат жизнь другим.
Во-вторых, мы не ограничивали свободу собак, то есть никакого наркоза и механического обездвиживания. Отчасти такой подход был продиктован логикой исследований: как изучать реакцию мозга, если животное находится без сознания? А насильственное принуждение к участию – привязывание и обездвиживание – не вызовет ничего, кроме тревоги и страха. Но в первую очередь нами двигали этические соображения. Мы ведь не станем устраивать насильственных экспериментов над людьми, почему же позволено проводить их над животными?
Из этого принципа вытекал третий, самый революционный. Мы дали собакам право свободного волеизъявления. Мы не укладывали их на каталку, а подставляли к томографу лестницу, по которой они могли забраться в тоннель и выбраться оттуда, если захотят. Мы обращались с ними как с разумными существами, способными чего-то хотеть или не хотеть. В результате собаки получали то же основополагающее преимущество, что и люди, участвующие в экспериментах, – право отказаться.
Следуя этим принципам, особенно третьему, оставляющему выбор за собакой, я чувствовал себя еретиком, идущим против науки и культуры. Разве не ересь – предоставить животному решать, подчиняться ли человеческой воле? Это противоречит всей сложившейся практике лабораторных исследований с использованием животных, не говоря уже о промышленном животноводстве.
Однако, к моему теперешнему стыду, этих принципов я придерживался не всегда.
В 1990 году, когда я учился в медицинском, будущего врача ждали две серьезные проверки на прочность – анатомичка и лабораторная практика на собаках.
Для большинства моих однокурсников топографическая анатомия становилась кульминацией доклинической подготовки. Если первый курс посвящался изучению функций человеческого организма в нормальном режиме, то на втором мы знакомились с последствиями болезней, а топографическая анатомия увязывает знания о здоровье и патологиях воедино. Именно на этих занятиях многие впервые видят мертвое человеческое тело, и самые чувствительные в анатомичку входят с внутренней дрожью.
Преподаватели, которые ведут этот курс десятилетиями, знают: главное в изучении анатомии – абстрагироваться, забыть, что лежащий на прозекторском столе совсем недавно был живым человеком. Сделать это не так сложно, поскольку изучение самой «человеческой» части – головы – обычно оставляют напоследок. Почти весь семестр мы препарировали то, что ниже шеи, и только под конец получили разрешение распаковать голову и углубиться в тайны, скрытые под черепом.
Кому-то из однокурсников приходилось во многом переступить через себя, чтобы препарировать человека – такого же, как ты сам. Я таких трудностей не испытывал. Меня завораживала красота человеческого организма: эта хитроумная машина сохраняла свое непревзойденное совершенство даже после смерти. Кроме того, все эти люди когда-то добровольно решили завещать свои тела в качестве учебного пособия медицинскому факультету, хотя мы и не знаем, что побудило каждого из них сделать это. Желание послужить человечеству напоследок? Уйти достойно и благородно? Их решение стало в какой-то мере судьбоносным и для многих из нас. Я заново осознал сложность человеческого организма и вместе с тем обрел уверенность, что смогу подступиться к нему со скальпелем – нам это предстояло совсем скоро, на занятиях по хирургии.
Но если анатомичка возвышала смерть, позволяя ей обернуться благом, то во время лабораторной практики на собаках происходило диаметрально противоположное.
Там нам демонстрировали на собаках воздействие лекарств на сердечно-сосудистую систему в соответствии с законом Франка – Старлинга: чем больше приток крови к сердцу, тем сильнее оно сокращается. Нам наконец давали возможность ввести настоящий медикаментозный препарат живому существу и понаблюдать, как меняется давление и сердцебиение. Все мы считали само собой разумеющимся, что будущему врачу положено поучиться на животных, прежде чем его допустят к людям.
О трупе, который мы весь семестр препарировали в анатомичке, я сейчас не вспомню ничего. В некоторых группах таким учебным пособиям давали имя – нашему не давали. Я даже не помню, мужской это был труп или женский. Зато лабораторная работа, на которой мы провели всего полдня, врезалась мне в память навсегда и периодически заставляла мысленно вернуться к тому, что я тогда сделал.
На моем курсе было сто двадцать студентов, нас разделили на группы по четыре человека. Облачившись в белоснежные халаты, мы вошли в лабораторию физиологии, где перед нами предстали тридцать столов из нержавейки. На каждом из них лежала на спине собака, уже обездвиженная наркозом и привязанная за лапы к четырем углам. Моей группе досталась сука с короткой жесткой курчавой шерстью черно-белого окраса с рыжими подпалинами.
Преподаватель велел периодически проверять глубину наркоза, с силой щипая собаку за перепонки между пальцами. Если собака не пытается отдернуть лапу, считается, что животное достаточно обезболено. От волнения руки у меня стали ледяными, и, дотронувшись до собачьей лапы, я отпрянул – такой горячей она показалась.
Согласно процедурному протоколу, мы должны были сделать собаке серию инъекций. Эпинефрин (адреналин) повышал частоту сердечных сокращений и давление, ацетилхолин – уменьшал. После того как мы измерили параметры воздействия нескольких лекарств, ассистирующие хирурги вскрыли грудную клетку собаки, чтобы мы понаблюдали за сокращением сердца и расширением легких на вдохе. И наконец, на завершающем этапе от нас требовалось ввести хлорид калия непосредственно в сердце, чтобы оно перестало биться.
Калий десятилетиями использовался как компонент смеси препаратов для смертной казни. Но сердце он останавливает не мгновенно, а постепенно замедляя сокращения. Что еще печальнее, он действует не всегда. Констатировать смерть можно было лишь после десятиминутного отсутствия сердцебиения.
На этом этапе к нашему столу подошел преподаватель и без всяких эмоций сообщил: «Быстрее будет перерезать легочную артерию».
Никому из нас не хотелось нести мрачную вахту, дожидаясь, пока подействует калий, но и приканчивать несчастную собаку взмахом скальпеля желающих не нашлось. Преподаватель делать это за нас тоже не собирался. Скрестив руки на груди, он ждал нашего решения. Это был обряд инициации, нам нужно было встретиться со смертью лицом к лицу.
Так что я взял у преподавателя скальпель, приподнял сердце лежащей на столе собаки и перерезал проходящие за ним сосуды. Горячая кровь хлынула в грудную клетку. Не получая притока, сердце обмякло и мгновенно остановилось.
Преподаватель, кивнув, перешел к следующему столу.
Я никогда раньше об этом не рассказывал. Это одна из моих величайших жизненных ошибок, и я жалею, что мне не хватило мужества бойкотировать эту лабораторную практику. Мысль отказаться у меня возникала, но я находил обычные в таких случаях самооправдания: собаки поступают из пункта отлова бездомных животных, так что их все равно ждет смерть, а врачу нужно своими глазами увидеть, как работают системы организма. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что все это самообман: и собаки в приюте могли бы избежать усыпления, и лабораторное занятие лишь подтвердило то, что мы изучали в теории. Никаких дополнительных знаний наблюдение за действием препаратов на живом организме нам не принесло.
Та лабораторная работа не помогла мне прогрессировать как медику, вместо этого я лишь деградировал как человек. Практические знания, полученные ценой собачьей жизни, я впоследствии добывал более прямым и честным путем – работая с пациентами-людьми в клинических учреждениях. И наверное, теперь, выясняя, что думают и чувствуют собаки, я пытаюсь загладить вину. Если я смогу доказать, что их ощущения схожи с нашими, то бессмысленная учебная практика на животных, возможно, лишится оправдания. Последний медицинский факультет в США, проводивший обучение с использованием живых животных, отказался от этого в 2016 году[149], однако прекращение студенческих экспериментов на животных не было связано с нашим собачьим проектом. От живых учебных пособий институты отказались под давлением зоозащитников – таких организаций, как PETA («Люди за этичное обращение с животными»), и обществ борьбы с вивисекцией, а также из-за общих перемен в отношении к животным. Кроме того, компьютерные симуляторы к этому времени достигли такой реалистичности, что оправдывать убийство животных стало просто невозможно.
Инициатором современного движения за гуманное обращение с животными чаще всего называют английского философа Иеремию Бентама. В 1780 году он писал: «Придет день, когда все представители животного мира обретут те неотъемлемые права, нарушить которые посмеет лишь власть тирании ‹…› Вопрос не в том, могут ли они рассуждать или говорить, а в том, способны ли они страдать»[150]. Как родоначальник утилитаризма, Бентам руководствовался, прежде всего, целесообразностью результатов действия: оно должно способствовать благополучию и счастью или снижать боль и страдание. Следствием этой философии был принцип «наибольшего блага для наибольшего числа» людей.
Хотя считается, что именно Бентам первым задумался о страданиях животных, сухой расчет утилитаризма по-прежнему подчинял их интересы человеческим, поскольку жизнь человека всегда ставилась выше жизни животного. Именно поэтому большинство людей принимают как данность и норму убийство животных для употребления в пищу, для изготовления одежды или ради прогресса в медицине. Принцип величайшего блага такие действия не только оправдывал, но и поощрял. И если в Великобритании Закон о жестоком обращении с животными был принят еще в 1849 году, то в Соединенных Штатах федеральный Закон о благополучии животных (AWA), ограничивающий действия, приводящие к их страданию, появился только в 1966 году.
Изначально Закон о благополучии животных должен был предотвращать похищение домашних питомцев с целью перепродажи в исследовательские лаборатории, а также регламентировать обращение с собаками, кошками и другими животными при проведении опытов[151]. С тех пор в него было внесено несколько поправок: запрет на бои животных и дополнения к списку действий, признаваемых жестокими. Однако этот закон касался в первую очередь экспериментов на животных, и под его действие попадали не все из них. К животным он относил «любых живых или мертвых собак, кошек, обезьян (не человекообразных приматов), морских свинок, хомяков, кроликов и тому подобных теплокровных животных, которых министр сельского хозяйства определит как используемых или предназначающихся для использования в научных исследованиях, опытах, экспериментах, для выставочных целей или в качестве домашних питомцев». Закон не распространялся на «птиц, крыс, мышей, лошадей, не используемых в исследовательских целях, а также прочих сельскохозяйственных животных, выращиваемых для получения продуктов питания и производственного сырья (меха, шерсти и тому подобного)»[152].
Согласно этому закону, университет должен учредить комиссию для надзора за исследованиями с участием животных. Теоретически эти Комитеты по содержанию и использованию лабораторных животных (IACUC) оценивают допустимость экспериментов на животных в предлагаемом научно-исследовательском проекте. Но закон не уточняет, каким образом комиссия должна эту допустимость оценивать. Он исходит из того же утилитаристского постулата, что опыты на животных по определению проводятся ради наивысшего блага, поэтому основные его задачи сводятся к минимизации страданий подопытных.
В результате выработался определенный стандарт, для краткости называемый «три R» – replacement, reduction, refinement (замещение, сокращение и усовершенствование)[153]. Замещение означает, что исследователи должны искать альтернативу и проводить опыты либо на искусственном материале, например на компьютерных симуляторах, либо, если это невозможно, выбирать «наименее чувствующих» животных. Поскольку измерить способность чувствовать не представляется возможным, ориентиром служит некая иерархия, согласно которой человекообразные обезьяны и дельфины считаются разумнее собак, собаки – разумнее крыс, крысы – разумнее рыбы и так далее. Градация абсолютно необоснованная, поскольку, скажем, индивидуальность и интеллект у крыс ничуть не уступают собачьим. Вторая составляющая стандарта, сокращение, – это чистый утилитаризм: если в эксперименте необходимо использовать животных, постарайтесь минимизировать количество. По той же логике не следует без необходимости дублировать опыты, ведь тем самым вы множите страдания и гибель животных. И наконец, третий пункт подразумевает усовершенствование исследовательских методов с целью причинить как можно меньше боли и мучений.
Показательно, что такая же тенденция намечается в обращении с сельскохозяйственными животными. В Англии учрежденный в 1979 году Совет по защите прав сельскохозяйственных животных добивался для них пяти главных свобод: свободы от жажды и голода; свободы от неудобств; свободы от боли, увечий и болезней; свободы естественного поведения; свободы от страха и стресса. И хотя сельскохозяйственных животных все равно в конечном итоге пускают на мясо, этичное разведение предполагает, что у скотины есть чувства, и поэтому долг скотовода – сделать ее жизнь как можно приятнее.
На первый взгляд принципы вполне разумные и для своего времени революционные, однако им мало кто следует. Питер Сингер в своей книге «Освобождение животных» подробно описывает, как три R систематически игнорировались с самого начала, с 1970-х годов[154]. Основная проблема в том, что это лишь рекомендации, а не требования, но, даже имей они юридическую силу, любые самые жуткие эксперименты на животных всегда получат утилитарное оправдание как несущие благо человеку. И если в Европе к принципу пяти свобод относились более или менее серьезно, то в Соединенных Штатах – нет.
Сингер пишет, что «боль есть боль». Казалось бы, очевидно! Однако ученые, работающие в биомедицинских областях, не спешат это признавать. В большинстве своем научная мысль опирается на традицию, берущую начало еще в учении Рене Декарта, который считал животных автоматами, не способными думать и испытывать боль. Даже современный принцип замещения подразумевает, что «низшие» животные мучаются меньше, поэтому для исследовательских нужд надлежит выбирать тех, кто «попроще». И только в 2012 году группа ученых составила кембриджскую Декларацию о сознании, в которой говорится: «Человек не единственный обладатель нервных механизмов, порождающих сознание»[155].
Официального запрета на причинение боли нет. Собственно, Министерство сельского хозяйства США требует от научно-исследовательских учреждений лишь обозначить категорию согласно уровню боли. Категория C – «безболезненная», предполагающая в том числе усыпление анестезированного животного. Категория D – боль снимается медикаментами, категория E – боль не купируется медикаментозно.
В 2015 году, согласно докладу Министерства сельского хозяйства, в научных исследованиях использовалось семьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот двадцать два животных[156]. Их них шестьдесят одна тысяча сто одна собака, среди которых, в свою очередь, сорок тысяч семьдесят одна в исследованиях категории С, двадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь – в категории D и триста шестьдесят две – в категории Е. Кто же были остальные? Морские свинки, хомяки, кролики, обезьяны обычные и человекообразные, кошки, свиньи, овцы и прочие, не конкретизированные в записях министерства. Больше всего мучений выпало на долю морских свинок и хомяков – это 80 % зарегистрированных в категории Е. Поскольку в министерском докладе данные разбиты по штатам, можно посмотреть, где именно проводятся опыты на животных. В категории Е список возглавляют Миссури и Мичиган – с экспериментами на хомяках и морских свинках, тогда как позорную лидерскую позицию с экспериментами на собаках занял Нью-Джерси. Если брать по всем категориям в совокупности, на Нью-Джерси приходится целых 13 % от общего количества животных. Почему? Потому что именно здесь сосредоточены предприятия «большой фармы».
Точное количество мышей и крыс, используемых в опытах, никому неизвестно – этих грызунов никакое федеральное агентство не учитывает. По приблизительным оценкам – от двадцати пяти до ста миллионов в год[157]. И это поразительно, поскольку разница между хомяком и крысой не так уж велика, а значит, нет никаких этических оснований одних защищать Законом о благополучии, а других игнорировать.
Вот на этом фоне мы и предоставили своим собакам право отказа от участия в экспериментах с использованием МРТ. Ни Закон о благополучии, ни три R, ни пять свобод никак и нигде не оговаривают свободное волеизъявление. Однако именно оно лежит в основе медицинских исследований с участием человека. Принцип этот был сформулирован после Нюрнбергского процесса, и его значимость подтверждена первой статьей Нюрнбергского кодекса, в которой говорится о добровольном согласии испытуемого на участие в эксперименте. Человек должен знать, на что идет, и должен быть способен подтвердить свое согласие.
Мы просто перенесли тот же принцип на собак. И хотя цели МРТ-сканирования наши собаки, разумеется, не понимали, мы все же предоставили им право отказаться от участия. Иногда они этим правом пользовались. Несмотря на дрессировку и подготовку, некоторые из наших подопытных так и не отважились войти в настоящий томограф. Мы работали с ними, убеждали, что томограф – это просто большая машина для выдачи лакомства, но некоторые все равно не хотели туда подниматься ни за какие сосиски. На этом этапе хозяева обычно признавали, что их собака действительно не создана для МРТ-исследований.
Что произойдет, если принцип добровольного согласия получит большее распространение применительно к собакам и другим животным? Придется поставить крест на всех медицинских исследованиях и уйти в вегетарианство, предположит кто-то. Ну какая крыса добровольно согласится жить в клетке под током и пойти под нож, когда эксперимент закончится? Какая курица захочет ютиться на пятачке в одну десятую квадратного метра?
Неудивительно, что большинство людей признает необходимость употребления животных в пищу и использования их в медицинских исследованиях. Кто-то и вовсе об этом не задумывается. Кто-то, как я, затрудняется принять однозначное решение. Психологи называют это когнитивным диссонансом. Хел Херцог – психолог, исследующий взаимоотношения человека и животных, – утверждает, что добиться последовательности в нашем обращении с животными невозможно[158].
В прежние пасторальные времена домашних животных держали на крестьянском дворе. Скотина была накормлена, ухожена и не знала бед до самого конца – быстрого и безболезненного. Наверное, это справедливая плата – накормить тех, кто о тебе заботился. Разумеется, сложно сказать, насколько вольготной была жизнь крестьянской скотины, однако современное промышленное животноводство не соответствует никаким разумным представлениям о том, чего хотелось бы животным. В ответ мы, конечно, слышим все тот же набивший оскомину довод: невозможно узнать, что чувствуют и чего хотят животные.
Мне кажется, что можно. Нейровизуализация, и структурная, и функциональная, выявляет достаточно аналогий, чтобы экстраполировать ощущения одних животных на другие виды. Сходство в системах мозга, отвечающих за радость, боль и даже социальные связи, позволяет предположить, что животные испытывают в основном то же, что и мы, пусть и не имея слов для описания своих ощущений.
Теперь важно выяснить, сознают ли животные свои страдания. Если нет, то употребление животных в пищу можно как-то оправдывать. Но если сознают – что ж, тогда утилитарный подход придется менять. Животное, которое отдает себе отчет в ощущаемой боли и страданиях, может испытывать и экзистенциальный страх, связанный с неотвратимостью смерти. А если ему передается страх собратьев, то ужас только возрастает.
Однозначного ответа на этот вопрос пока нет, поскольку еще не до конца изучены нейрональные основы самосознания, однако у нас имеется немало косвенных признаков того, что многие животные осознают свои ощущения, а значит, могут быть чувствующими. Крысы сожалеют о сделанном, собаки ценят похвалу не меньше, чем лакомство, морские львы осваивают базовые логические операции. Следующая стадия после способности чувствовать – сознание и самосознание. И при оценке сознания можно, пусть и в грубом приближении, отталкиваться от размеров мозга. Крупному мозгу свойственна модульность, требующая координации передачи информации между разными его областями. Насколько нам известно, из этих информационных потоков и возникает сознание. Таким образом, более крупный мозг, скорее всего, будет поддерживать сознание более высокого уровня. А учитывая, что мозг коровы весит примерно столько же, сколько мозг шимпанзе, которого большинство людей к съедобным животным не относит, корову мы есть тоже не должны. Однако никто не знает, какой объем мозга требуется для появления сознания.
Для обнаружения самосознания не обязательно даже прибегать к услугам нейронауки. В 2016 году в ходе одного замечательного эксперимента выяснилось, что мыши обладают достаточным самосознанием, чтобы поддаться определенной иллюзии, которая прежде считалась характерной лишь для человека. Впервые иллюзию резиновой руки продемонстрировали в 1998 году Мэттью Ботвиник и Джонатан Коэн – психологи, работавшие тогда в Университете Карнеги – Меллона[159]. Иллюзия создается следующим образом: человек садится за стол, кладет на него левую руку, и ее отгораживают ширмой, а перед глазами параллельно его собственной руке помещают резиновый муляж. Затем исследователи одновременно водят кисточкой по настоящей руке – скрытой из вида – и по муляжу. Вскоре большинству испытуемых начинает казаться, будто кисточкой касаются резиновой руки, а не настоящей, и 80 % участников ощущают резиновую руку как свою. Возникновение этой иллюзии объясняют тем, что наше самовосприятие складывается из интеграции многих сенсорных входов, в данном случае – зрительного и осязательного. Именно эти два канала восприятия очерчивают человеку границу между его телом и окружающей средой. И когда зрительная и осязательная информация вступают в противоречие, как в данном случае, мозг всеми силами старается эти противоречивые данные увязать и осмыслить – вплоть до того, чтобы признать резиновую руку частью организма.
Эксперимент с мышами в 2016 году проводился с целью выявить у них аналогичную иллюзию[160], только вместо резиновой руки использовался резиновый хвост, сделанный из проволоки, обмотанной синтетической шерстью. Как и в человеческой версии, экспериментаторы одновременно гладили кисточкой настоящий хвост, убранный из поля зрения мыши, и искусственный. На тренировочном этапе такую процедуру выполняли ежедневно в течение двадцати минут. Затем, по прошествии месяца, исследователи протестировали мышей, ненадолго ухватив за искусственный хвост. И мыши оборачивались именно на этот хвост, а не на живой, то есть они, как и человек, ощущают собственные конечности и точно так же могут обманываться, перенося это ощущение на искусственные органы. Маленькое, но ценное свидетельство в пользу наличия самосознания у животных.
Я не настолько наивен, чтобы надеяться, будто достижения нейронауки способны вызвать шквал перемен в законодательстве, регулирующем обращение с животными. Законодательная сфера науке не подчиняется – не потому, что науке не верят (хотя многие действительно не верят), а потому, что законы, как правило, отражают нравственные установки общества. Законы составляются не на основе научных открытий, а на основе того, чтó в обществе считается правильным или неправильным. Однако из этого не следует, что наука должна оставаться в стороне. Она может влиять на законы косвенно, меняя пресловутые нравственные установки[161].
Когда в 2013 году я писал для колонки в The New York Times статью «Собаки тоже люди», мне хотелось в первую очередь поделиться историей собачьего проекта. Но, кроме того, я размышлял там о гипотетических последствиях обнаружения в собачьем мозге аналога эмоциональных процессов, протекающих в человеческом. Я предполагал, что уже совсем скоро мы перестанем относиться к животным как к собственности. Но я не думал, что эти перемены наступят всего через месяц.
В ноябре того года Шеннон Трэвис и Триша Мюррей предстали перед судьей нью-йоркского Верховного суда Мэттью Купером[162]. Прожив в однополом браке меньше года, супруги подали на развод, и пока Трэвис была в командировке, Мюррей выехала из их нью-йоркской квартиры. С собой она забрала часть мебели. И таксу по кличке Джои.
Трэвис считала Джои своим, поскольку именно она купила его в зоомагазине. Мюррей же доказывала, что Джои должен остаться с ней, поскольку – среди прочего – с ней ему будет лучше, так как, например, на ночлег он всегда устраивается рядом с ее стороной кровати. Ввиду почти полного отсутствия прецедентов судья Купер должен был решить, стоит ли устраивать слушание по опеке для собаки.
Одно дело – разрешать имущественный спор, и совсем иное – определять порядок общения с собакой исходя из ее интересов. Если собака – имущество, как гласил действующий закон, интересов у нее ничуть не больше, чем у дивана или шкафа. С таким же успехом можно учитывать интересы кресла, выбирая, в какую комнату его поставить.
В судебном решении – на редкость увлекательно написанном – судья Купер искал обоснование непривычной идее опеки над собакой. Проштудировав прецедентную практику, он обнаружил, помимо случаев, когда домашние животные признавались движимым имуществом, ряд других постановлений. В 1979 году гражданский суд в Квинсе определил, что «домашнее животное – это не предмет, но занимает особое место между индивидом и объектом личного имущества». А в 2001 году в решении Верховного суда Висконсина говорилось: «Общество давно отошло от несостоятельных картезианских взглядов на животных как на бесчувственные механизмы, являющиеся, следовательно, лишь имуществом»[163].
Судья Купер ссылался в том числе и на мою статью для колонки, однако непосредственного влияния на его решение нейронаука не оказала. Признавая научную состоятельность наших исследований, он тем не менее не видел практического смысла в использовании МРТ для «измерения уровня счастья собаки или ее привязанности к человеку». Однако появление этой статьи в The New York Times означало для него нечто другое: интерес к нашей работе отражал растущие перемены в отношении к собакам (и другим животным), которых переставали считать просто собственностью.
В результате судья Купер назначил однодневное слушание об опеке для рассмотрения дела Джои с учетом интересов всех участвующих лиц, включая собаку. Однако до слушания разводящаяся пара не дошла: бывшие супруги самостоятельно достигли договоренности, согласно которой Мюррей (та, что забрала Джои и с чьей стороны кровати он спал) получала исключительное право опеки.
Заставить человека переосмыслить отношение к собакам не так уж сложно. Во всех промышленно развитых странах люди тратят на домашних животных немыслимые еще несколько десятков лет назад суммы. И даже если кошки и собаки выступают статусным символом или служат для сублимации родительских инстинктов, культурные нормы уже изменились. Борясь с недобросовестными заводчиками-разведенцами, в городах начали вводить запрет на продажу щенков через зоомагазины. Знаменитости все чаще показываются с собаками из приюта, а не с представителями модных дорогостоящих пород.
Но что означают открытия нейронауки для других животных?
Как показывают наши исследования, какое бы животное мы ни взяли, если у его мозга есть кора, то животное с большой долей вероятности обладает способностью чувствовать, а значит, его субъективный опыт может быть до определенной степени приближен к нашему. И неважно, что это за животное – летучая мышь, дельфин, морской лев или сумчатое.
Человек всегда ставил одних выше других. Поэтому у нас существует расизм, сексизм и видовая дискриминация. Однако со временем они постепенно сглаживаются и слабеют, а подразумевающий равенство прогресс в межчеловеческих отношениях распространяется и на представления о животном мире. Разумеется, прежде всего подобные установки формируются применительно к домашним животным, однако рост популярности вегетарианских продуктов питания свидетельствует, среди прочего, что человек задумывается не только о тех, кто рядом с ним.
В 2013 году Национальные институты здоровья прекратили финансировать исследования с использованием шимпанзе и принялись переселять в заповедники тех из них, кто содержался в национальных центрах биомедицинской приматологии. В 2016 году Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли под давлением зоозащитников ускорил вывод слонов из программы. Однако без них цирк стал убыточным и в мае 2017 года закрылся. Сеть морских тематических зоопарков-океанариумов «Морской мир», изобличенная в документальном фильме 2013 года «Черный плавник», объявила три года спустя, когда продажи билетов начали падать, что отказывается от дальнейшего разведения косаток и сворачивает их участие в шоу.
Таким образом, первой преимущество признания у животных способности осознавать свои чувства ощутила мировая мегафауна – шимпанзе, слоны, киты и прочие. И хотя видовая дискриминация проявилась и здесь, тенденцию все же следует считать положительной. Этим крупным животным, а также отдельным мелким вроде тасманийского дьявола, которым повезло стать национальным символом, выпала роль посланников животного мира. И любые попытки им помочь – это помощь и множеству других представителей той же экосистемы. Как известно из истории эволюции, мегафауна гибнет, когда рушится среда ее обитания, будь то по естественным или техногенным причинам. Мы не можем следить за всеми видами животных на нашей планете, однако мы знаем, где водится мегафауна. Белых пятен уже не осталось, так что в наших силах определить, по крайней мере, куда направить помощь.
Интересы этих животных неизбежно конфликтуют с человеческими. Три последних сохранившихся на земле северных белых носорога содержались в кенийском заповеднике под круглосуточным присмотром, требующим больших затрат. При этом окрестное население прозябало в нищете и тоже находилось на грани выживания. Не раз предпринимались попытки доказать, что средства, которые тратятся на носорогов, следует направить на нужды людей, например на разработку лекарства от СПИДа. Неужели мы дошли до того, что ставим жизнь животного выше человеческой? И так ли важно, что животное – одно из последних представителей своего вида?
Но такая постановка вопроса неправомерна. Пора бы уже распрощаться с бентамовским утилитаризмом. Утилитарный подход себя не оправдывает, поскольку человеческие страдания, как и страдания животных, неисчерпаемы и бесконечны: сколько средств и ресурсов ни вкладывай, всегда будет куда стремиться. И всегда останется вероятность, что людские нужды перевесят, поскольку именно они первостепенны с человеческой точки зрения. Но не лучше и другая крайность, основанная на этике Иммануила Канта: все жизни одинаково ценны, и незачем выстраивать их по ранжиру. Благородно, однако не слишком помогает в решении глобальных проблем.
Тогда я начал задумываться о роли зоозащитников. Животные не могут постоять за свои интересы, однако этой возможности точно так же лишены дети или умственно неполноценные. И в таких ситуациях, когда необходимо принять касающееся их решение, мы часто назначаем опекуна.
Что, если в составе каждого Комитета по содержанию и использованию лабораторных животных обязательно будет зоозащитник, отстаивающий интересы животных? Сейчас в любом Комитете должен состоять по крайней мере один представитель местного сообщества, задача которого – блюсти интересы людей при надзоре за «надлежащим содержанием и уходом за животными». А зоозащитник будет выступать от лица самого животного.
Зоозащитники могут служить представителями дикой природы. Там, где среда обитания поглощается человеческой деятельностью, защитник будет продвигать интересы тех, кто ее населяет. То же самое применимо к домашним и сельскохозяйственным животным. Как ни абсурдно, именно этими соображениями руководствовался судья Купер, назначая слушание по опеке для Джои, и, хотя адвоката у Джои не было, каждая из сторон намеревалась бороться за его интересы.
Конечно, никакой судебной инстанции, где можно было бы высказаться в защиту животных, пока не существует. Поскольку с законодательной точки зрения животные в большинстве случаев по-прежнему остаются предметом собственности, у них не может быть права на иск. Но положение постепенно меняется. Кроме решения судьи Купера об этом свидетельствует и деятельность организации «Проект защиты прав животных» (Non-Human Rights Project) под руководством юриста Стивена Уайза. Вместе с единомышленниками он добивается, чтобы шимпанзе признали субъектом, а не объектом права, тем самым наделив процессуальной правоспособностью. А в 2016 году Аляска – самый невероятный кандидат на такую роль – первой из всех штатов приняла закон, предписывающий при рассмотрении споров об опеке и попечительстве учитывать интересы животных, как в слушании по делу Джои.
Нейронаука не сможет дать нам конкретные указания, как поступать, но вместе с другими технологиями она способна изменить наши представления о субъективном опыте животных. Нейровизуализация принадлежит к числу тех инструментов, которые в дальнейшем будут только совершенствоваться. Магнитно-резонансная томография продолжает развиваться, обеспечивая все более высокое разрешение, и скоро мы сможем увидеть структуры, приближающиеся к размерам самих нейронов. С появлением сверхпроводников, функционирующих при комнатной температуре, отпадет нужда в громоздких томографах[164]. Можно будет сканировать мозг человека, ходящего по кабинету, а потом перенести тот же метод на животных в более естественной для них среде. Оптогенетика, способная «включать» и «выключать» нейроны воздействием света, уже перевернула наши знания о том, как конкретные сети нейронов определяют поведение, по крайней мере у мышей.
Наука обладает огромным потенциалом влияния на наши нравственные установки. Расширяя свои знания о том, как функционирует мозг, мы уточняем представление о том, что значит быть животными. У них обнаруживается много общего с человеком, но много и различий. Однако уже сейчас получено достаточно подтверждений тому, что многие животные осознают свои ощущения и происходящее вокруг. Это значит, что они способны чувствовать. Вся глубина самосознания у животных нам пока неизвестна, но я думаю, на этот вопрос нейронаука вскоре ответит. А до тех пор людям придется решить, какая степень осознанности – просто способность чувствовать или самосознание – необходима, чтобы получить статус субъекта права. Только тогда человек сможет стать полноценным адвокатом для животных.
И наконец, есть еще одна причина задуматься о нашем обращении с животными и определиться, что мы будем учитывать – страдания как таковые или способность чувствовать, переживать их. Мы, Homo sapiens, вскоре можем сами оказаться в положении животных с точки зрения тех, кто придет нам на смену.
Естественный отбор для человека как вида подходит к завершению. Мы переходим на новую ступень эволюции, если ее в принципе можно так назвать. Юваль Харари называет ее эрой «разумного замысла»[165], однако пока в том, что мы делаем со своим геномом и окружающей средой, разумного прослеживается мало. Я бы назвал это эрой вмешательства.
В эру вмешательства упрощается и резко возрастает возможность манипуляций с геномом. Геном человека был полностью расшифрован в 2003 году – на это потребовалось десять лет и почти пять миллиардов долларов (в пересчете на деньги 2016 года). К 2016 году стоимость качественной расшифровки генома конкретного человека снизилась до тысячи долларов[166].
Однако самая устрашающая из новых технологий – это CRISPR/Cas9, впервые описанная в 2012 году как инструмент для редактирования ДНК в живых клетках. Cas9 – это белок, способный раскручивать и вырезать фрагменты ДНК. Обнаружили его как защитный механизм у бактерий, препятствующий проникновению вирусной ДНК, но он может найти и уничтожить любой заданный короткий фрагмент ДНК, не только вирусный. С его помощью ученые устраняют точечные мутации, при этом взамен вырезанного фрагмента они вольны вставить любой другой по своему выбору. Самые примитивные модификации ДНК уже привели к появлению различных гибридов. Среди относительно безобидных – генномодифицированная рыба и кошки, которые светятся в темноте благодаря гену флуоресцирующей медузы. Однако с технологией CRISPR дело принимает куда более серьезный оборот: генные инженеры пересаживают фрагменты человеческой ДНК свиньям, чтобы выращивать у них органы для последующей трансплантации человеку. Не исключено, что очень скоро граница между видами окажется размыта. С какого количества человеческой ДНК в организме свинья перестает считаться свиньей?
Поскольку эти вмешательства затрагивают генетический код клеток, изменения потенциально могут передаваться потомству. Пока исследователи тщательно следят за тем, чтобы генномодифицированные животные не размножались, однако рано или поздно случайное спаривание произойдет. Наверняка можно сказать только одно: мы ошибаемся насчет своей способности обуздать технологическое развитие.
Но меня волнуют не химеры человека и свиньи и не гипотетические собаки с человеческими генами, наделяющими их даром речи. Меня волнует кончина Homo sapiens, которая приближается гораздо быстрее, чем многим может показаться. Джордж Черч, один из ведущих апологетов генной инженерии, утверждает, что было бы неэтично НЕ скорректировать ДНК, скажем, больного раком. И с этим не поспоришь. А от исправления «плохой» ДНК не так уж далеко до корректировки «обычной» ДНК.
Человек всегда стремился к самосовершенствованию. Наивно ожидать, что запрет на вмешательство в развитие человеческого эмбриона, введенный Национальными институтами здоровья, сработает. Те, у кого есть деньги, такую процедуру проведут все равно, может, где-нибудь в другой стране. Половое размножение с его беспорядочным наследованием генетических признаков может уйти в прошлое, по крайней мере как способ продолжения рода. И именно тогда на свет появится новый вид.
Назовем его Homo hominis. Человек человеческий[167].
Неандертальцы существовали бок о бок с Homo sapiens десятки тысяч лет – мы рядом с Homo hominis вряд ли продержимся так долго. Может быть, он будет обращаться с планетой лучше, чем мы. Но до него нам будет так же далеко, как до нас далеко шимпанзе. Мы окажем будущим остаткам своего вида большую услугу, если уже сейчас разберемся, что значит быть способным чувствовать и какими правами это наделяет животное. Потом будет поздно выяснять, заслуживает ли sapiens жить рядом с hominis, или его место в зоопарке за решеткой.
Эпилог «Мозговой ковчег»
Разумеется, на тилацине и тасманийском дьяволе мы не остановились. Диффузионную МРТ можно использовать для исследования мозга любого животного, так что в лабораторию начали поступать все новые и новые образцы мозга. В основном это была заслуга Питера и его связей, но нам стало ясно, что в музейных хранилищах и в шкафах у исследователей найдется немало экзотических препаратов по нашему профилю. Это потенциальная золотая жила для тех, кто восстанавливает эволюцию мозга по разрозненным фрагментам.
Из Центра реабилитации морских млекопитающих нам присылали образцы мозга других ластоногих, кроме морских львов, и вскоре наша база данных пополнилась результатами диффузионной МРТ тюленей и морских слонов. Питеру даже удалось раздобыть во Флориде два экземпляра от ламантинов. И хотя базовое строение организма у всех этих морских млекопитающих идентичное, пищу они добывают по-разному и общественное устройство у них тоже кардинально различается. Тюлени обладают большей гибкостью вокализаций, чем морские львы, – достаточно вспомнить знаменитого Гувера, спасенного и выращенного в штате Мэн в 1970-х годах. Этот тюлень прославился тем, что выкрикивал: «Эй! Эй! Иди сюда!» (с сипловатым мэнским акцентом). У морских львов набор издаваемых звуков дольно скуден, а у морских слонов, как известно, самцы во время поединков пытаются устрашить соперника в том числе и грозным ревом. Ламантины же ничем особенным себя не проявляют. Эти различия в такой простой области, как вокализация, даже у близкородственных видов должны отражаться в устройстве мозга, как мы наблюдали на примере тилацина и тасманийского дьявола. И именно различия помогают понять, что такое быть морским львом, тюленем, ламантином.
Что касается псовых, нам стали передавать образцы мозга усыпленных койотов из Юты, где на подчиненной Министерству сельского хозяйства базе в неволе содержится самая крупная колония койотов в Северной Америке. Отношение к таким базам у меня двойственное, но койоты постепенно наводняют даже городское пространство, поэтому нам нужно понимать их психологию и поведение, чтобы мы могли ужиться друг с другом. В пригороде Атланты, где я живу, один из районов пытается выбить у муниципалитета разрешение на отстрел койотов в пределах городской черты. Я, разумеется, против таких мер. Я люблю слушать ночные завывания и жалобные повизгивания койотов и надеюсь, что сканирование их мозга поможет нам узнать, как они устроены и чем отличаются от собак.
Но, несмотря на растущую коллекцию образцов, мы пока все равно копаем по верхам. Нейробиологические исследования в данный момент охватывают очень узкий круг видов. Исследование человеческого мозга имеет основополагающее значение для изучения болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также психических расстройств, таких как шизофрения и депрессия. Работа с нечеловекообразными приматами, в основном обезьянами, до недавнего времени была одной из крупнейших областей нейробиологических исследований, но рост доказательств наличия у них чувствительности повлек за собой резкое сокращение федерального финансирования соответствующих проектов. При этом маятник качнулся в другую сторону, вызвав бум исследований с использованием мышей и крыс. Эти виды – основной объект Федеральной программы исследований мозга BRAIN («Изучение мозга через продвижение инновационных нейротехнологий»), обеспечивающей развитие новых инструментов, таких как оптогенетика, которые когда-нибудь изменят наши представления о человеческом мозге.
Однако между человеком и крысой есть еще множество разных видов. Одних только млекопитающих около пяти тысяч. Почему мы не занимаемся их мозгом?
Вопрос злободневный, учитывая растущую статистику катастрофически стремительного видового обеднения нашего животного мира. Очередной доклад «Живая планета», опубликованный Всемирным фондом дикой природы в 2016 году, рисует довольно мрачную картину[168]. Утрата мест обитания, чрезмерный вылов рыбы, загрязнение, распространение инвазивных видов, а также климатические изменения в совокупности ведут к тому, что многие склонны считать шестым массовым вымиранием. Проблемы кажутся настолько всеобъемлющими и непреодолимыми, что возникает ощущение, будто без политико-экономической поддержки на высшем уровне справиться с ними невозможно.
Но мы должны попытаться.
Я всецело разделяю позицию Всемирного фонда дикой природы. Мы – «единая планета». Земля – это не игра «кто кого», в которой человек должен одержать верх над всеми остальными. Достаточно лишь незначительной смены угла зрения, чтобы увидеть, насколько взаимосвязано благополучие всех обитателей нашей планеты. Нынешняя неразумная практика обращения с природой неизбежно погубит множество видов, но в конце концов аукнется и самому человеку – климатическими изменениями, подъемом уровня моря, новыми заболеваниями.
Мой скромный вклад состоит в том, чтобы заставить задуматься об ощущениях и переживаниях животных, с которыми мы делим эту планету.
Для начала мы с коллегами запустили проект «Мозговой ковчег» (Brain Ark, ). Наша цель – каталогизировать и описывать образцы мозга мировой мегафауны, пока она еще с нами. В Ковчеге каждый из видов будет представлен трехмерной моделью трактов белого вещества, с которой можно будет сопоставлять результаты наблюдений за поведением или экологического анализа. Подробный характер данных позволит виртуально исследовать связи между областями мозга, отвечая на вопросы о его эволюции, или выяснять, как соотносится устройство мозга с видовыми особенностями, такими как отношения в системе «хищник – жертва», занимаемая видом экологическая ниша, стратегия добычи корма.
По прогнозам Всемирного фонда дикой природы, к 2020 году мы рискуем потерять до двух третей популяции многих существующих видов. Это не только экологическая катастрофа, но и безвозвратно утраченный научный потенциал. Поэтому жизненно важно начать процесс архивации для всех видов, а особенно для мегафауны, чтобы сохранить данные об их мозге в наивысшем для современных технологий качестве. Эти данные могут также пригодиться для природоохранных программ, поскольку позволят выяснить, как животные адаптируются к той или иной среде, особенно при угрозе гибели мест обитания.
А кроме того, на эти данные, возможно, будут опираться зоозащитники, выступая от лица животных, которые не способны постоять за себя сами.
Благодарности
Прежде всего – собаки. Когда-то, в 2011 году, мы начинали с двумя собаками, теперь их у нас тридцать. Без них и без их увлеченных хозяев проект был бы невозможен. Спасибо вам всем: Баррингтон (Боб Уэбер), Бубо (Эшвин Сахарданде), Дикси (Александрия Эндрюс), Эли (Линдси Феттерс), Джемини (Сэми Гриффит), Хаксли (Мелани Пинкус), Кинг Табби (Ли Доусон), Кода и Зула (Кэти Сайлер), Мейсон (Крис Макнамара), Мауха (Ребекка Бизли), Маккензи (Мелисса Кейт), Миртл (Кэррол Фаррен), Нельсон (Джефф Петерманн), Ниндзя (Сайрина Мерино Тсуи), Нук (Ван Нгуйен), Оби (Лиз Диаз), Оливер (Юсуф Уддин), Сьерра (Диана Буш), Софи (Рейчел Перселл), Тигра (Ализа Левенсон) и Уил (Эмили Чапмен).
Отдельно хочу поблагодарить тех собак, которые участвовали не в одном, а в разных экспериментах. Это Кейлин (Лорри Бэкер), Эдмонд (Марианна Ферраро), Джек (Синди Кин), Кэйди (Патриция Кинг), Либби (Клэр Пирс Мансебо), Охана (Сесилия Керланд), Оззи (Патти Руди), Перл (Вики Д’Амико), Стелла (Николь Цитрон), Таллула (Анна и Кори Инман), Трюфель (Диана Делатур), Рывок (Джесса Фейган), Велкро (Лиза Таллант) и Дзен (Дарлин Койн).
Не состоялся бы наш проект и без людей. Марк Спивак – наш штатный дрессировщик, но, помимо этого, еще хороший друг и деловой партнер: мы вместе пытаемся использовать достижения нейронауки для подготовки служебных собак в Dog Star Technologies. Мариан Скопа совмещает организационную деятельность с воспитанием щенков. Эндрю Брукс, как и Марк, участвует в проекте со дня основания – он проводил первые наши эксперименты с собаками и разработал основную часть протоколов анализа, которые мы применяем до сих пор. Эшли Причард примкнула к нам последней, но уже успела предложить несколько идей для развития собачьего проекта и провести эксперимент, посвященный предметной отнесенности слов.
Отдельную благодарность хочу выразить Питеру Куку. Кроме всего прочего, именно он заставил меня задуматься о психическом опыте других животных. Именно Питер предложил использовать диффузионную МРТ для представителей других видов, тем самым задав новое направление нашей исследовательской деятельности. Питер – один из тех уникальных людей, которые обладают огромным кругозором и эрудицией во многих областях помимо науки, и это проявляется во всем, что он делает. Сейчас он тоже движется дальше по своей научной стезе, так что мне очень не хватает наших философских бесед о разуме животных. Но я по-прежнему обращаюсь в поисках ориентиров к его нравственному компасу, когда мой барахлит.
Проекты исследований с помощью диффузионной МРТ обязаны своим существованием многим людям. Карла Миллер прислала нам собственноручно разработанную программу настройки аппаратуры. Фрэнсис Галлэнд договорилась о переправке нам образцов мозга ластоногих, Колин Райхмут делилась знаниями об их поведенческих особенностях, и обе оказывали мне гостеприимство во время моих приездов. Лори Марино предоставила свою коллекцию образцов мозга китообразных. За возможность изучения сумчатых я благодарен Эстер Ланган и Даррину Лунду из Смитсоновского института, Кену Эшуэллу из Университета Нового Южного Уэльса (УНЮУ), Марко Грювелу из Лаборатории нейровизуализации биологических ресурсов в УНЮУ, Стивену Слайтхолму, Колу Бейли, Николасу Клементу, Кэтрин Медлок из Музея и Художественной галереи Тасмании, а также Кэролайн Хогг и проекту сохранения популяции тасманийского дьявола.
Нескольким героям хватило терпения прочитать черновики отдельных глав рождающейся книги – это бесценный труд, требующий к тому же такта и умения считаться с хрупким эго автора. За черновую правку спасибо Питеру Куку, Лори Марино, Джулии Хаас и Кэтлин Бернс. Я благодарен Джеймсу Левину из литературного агентства Levine-Greenberg-Rostan за мудрое руководство и активную поддержку проекта. Это он связал меня с Тиджеем Келлехером из Basic Books. Тиджей оказался идеалом редактора и подталкивал меня именно там, где нужно было подтолкнуть.
И в завершение, как всегда, отдельное спасибо моей жене Кэтлин и дочерям Хелен и Мэдди – за терпение и поддержку в ходе работы над очередной «на этот раз точно последней книгой». Хелен сделала немало фотографий для собачьего проекта, а Мэдди создала сайт для «Мозгового ковчега».
Сноски
1
Пер. А. Н. Егунова.
(обратно)2
G. Berns, How Dogs Love Us: A Neuroscientist and His Adopted Dog Decode the Canine Brain (New York: New Harvest, 2013).
(обратно)3
T. Nagel, “What Is It Like to Be a Bat?” Philosophical Review 83 (1974): 435–450.
(обратно)4
О дихотомии внешних и внутренних ощущений философы задумывались задолго до Нагеля. См. L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, translated by G. E. M. Anscombe, P. M. S. Hacker, and J. Schulte, 4th ed. (West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 2009) (Витгенштейн, Людвиг. Философские исследования).
(обратно)5
P. M. Churchland, “Some Reductive Strategies in Cognitive Neurobiology,” Mind 95 (1986): 279–309; P. Godfrey-Smith, “On Being an Octopus,” Boston Review, May/June 2013, 46–60.
(обратно)6
Проницательный читатель заметит, что мозг представляет собой нелинейную систему и, вполне возможно, нечто большее, чем просто сумму своих частей. Мне кажется, области сходства можно сравнить с ракурсами фотосъемки. Фотография – это двумерное, плоское отображение пространства, но, если один снимок не дает полного представления об объекте, можно произвести съемку с разных точек и получить достаточно объемную, приближенную к действительности картину. Соответственно, вышеупомянутые области тоже могут быть снимками сознания «с разных точек».
(обратно)7
J. E. LeDoux, “Coming to Terms with Fear,” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111 (2014): 2871–2878.
(обратно)8
A. M. Owen, M. R. Coleman, M. Boly, M. H. Davis, S. Laureys, and J. D. Pickard, “Detecting Awareness in the Vegetative State,” Science 313 (2006): 1402.
(обратно)9
K. N. Kay, T. Naselaris, R. J. Prenger, and J. L. Gallant, “Identifying Natural Images from Human Brain Activity,” Nature 452 (2008): 352–356; S. Nishimoto, A. T. Vu, T. Naselaris, Y. Benjamini, B. Yu, and J. L. Gallant, “Reconstructing Visual Experiences from Brain Activity Evoked by Natural Movies,” Current Biology 21 (2011): 1641–1646; T. Naselaris, C. A. Olman, D. E. Stansbury, K. Ugurbil, and J. L. Gallant, “A Voxel-Wise Encoding Model for Early Visual Areas Decodes Mental Images of Remembered Scenes,” NeuroImage 105 (2015): 215–228.
(обратно)10
K. Rubia, S. Overmeyer, E. Taylor, M. Brammer, S. C. R. Williams, A. Simmons, C. Andrew, and E. T. Bullmore, “Functional Frontalisation with Age: Mapping Neurodevelopmental Trajectories with FMRI,” Neuroscience Biobehavioral Reviews 24 (2000): 13–19; A. R. Aron, T. E. Behrens, S. Smith, M. J. Frank, and R. A. Poldrack, “Triangulating a Cognitive Control Network Using Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging (MRI) and Functional MRI,” Journal of Neuroscience 27 (2007): 3743–3752; A. Aron, T. W. Robbins, and R. A. Poldrack, “Inhibition and the Right Inferior Frontal Cortex,” Trends in Cognitive Sciences 8 (2004): 170–177.
(обратно)11
W. Mischel, Y. Shoda, and M. L. Rodriguez, “Delay of Gratification in Children,” Science 244 (1989): 933–938.
(обратно)12
B. J. Casey, L. H. Somerville, I. H. Gotlib, O. Ayduk, N. T. Franklin, M. K. Askren, J. Jonides, et al. “Behavioral and Neural Correlates of Delay of Gratification 40 Years Later,” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 108 (2011): 14998–15003.
(обратно)13
Здесь и далее «говорящие» клички животных даются в переводе для передачи описываемых автором особенностей характера и внешности испытуемых, однако, поскольку речь идет о реальных животных, участвовавших в исследовании и фигурирующих в опубликованных автором и его коллегами научных работах, оригинал клички приводится в скобках при первом упоминании. – Прим. пер.
(обратно)14
B. Milner, “Effects of Different Brain Lesions on Card Sorting: The Role of the Frontal Lobes,” Archives of Neurology 9 (1963): 90–100; A. M. Owen, A. C. Roberts, J. R. Hodges, B. A. Summers, C. E. Polkey, and T. W. Robbins, “Contrasting Mechanisms of Impaired Attentional Set-Shifting in Patients with Frontal Lobe Damage or Parkinson’s Disease,” Brain 116 (1993): 1159–1175.
(обратно)15
A. Diamond and P. S. Goldman-Rakic, “Comparison of Human Infants and Rhesus Monkeys on Piaget’s AB Task: Evidence for Dependence on Dorsolateral Prefrontal Cortex,” Experimental Brain Research 74 (1989): 24–40.
(обратно)16
E. L. MacLean, B. Hare, C. L. Nunn, E. Addessi, F. Amici, R. C. Anderson, F. Aureli, et al., “The Evolution of Self-Control,” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111 (2014): E2140 – E2148.
(обратно)17
W. James, The Principles of Psychology (New York: Henry Holt, 1890); I. P. Pavlov, Conditioned Reflexes (Oxford: Oxford University Press, 1927); E. L. Thorndike, Animal Intelligence (New York: Macmillan, 1911); B. F. Skinner, The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis (New York: Appleton-Century-Crofts, 1938).
(обратно)18
A. Newell and H. A. Simon, Human Problem Solving (New York: Prentice-Hall, 1972).
(обратно)19
D. E. Rumelhart, J. L. McClelland, and PDP Research Group, Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition (Cambridge, MA: MIT Press, 1986); P. S. Churchland and T. J. Sejnowski, The Computational Brain (Cambridge, MA: MIT Press, 1992).
(обратно)20
G. Jékeley, F. Keijzer, and P. Godfrey-Smith, “An Option Space for Early Neural Evolution,” Philosophical Transactions of the Royal Society B 370 (2015): 20150181.
(обратно)21
F. J. Varela, E. Thompson, and E. Rosch, The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience (Cambridge, MA: MIT Press, 1991).
(обратно)22
L. P. J. Selen, M. N. Shadlen, and D. M. Wolpert, “Deliberation in the Motor System: Reflex Gains Track Evolving Evidence Leading to a Decision,” Journal of Neuroscience 32 (2012): 2276–2286.
(обратно)23
A. R. Damasio, Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain (New York: G. P. Putnam, 1994).
(обратно)24
N. Shubin, Your Inner Fish: A Journey into the 3.5-Billion-Year History of the Human Body (New York: Pantheon, 2008).
(обратно)25
M. Ruta, J. Botha-Brink, S. A. Mitchell, and M. J. Benton, “The Radiation of Cynodonts and the Ground Plan of Mammalian Morphological Diversity,” Proceedings of the Royal Society of London B 280 (2013): 20131865.
(обратно)26
G. von Bonin, “Brain-Weight and Body-Weight of Mammals,” Journal of General Psychology 16 (1937): 379–389; K. S. Lashley, “Persistent Problems in the Evolution of Mind,” Quarterly Review of Biology 24 (1949): 28–42; L. Chittka and J. Niven, “Are Bigger Brains Better?” Current Biology 19 (2009): R995 – R1008.
(обратно)27
H. J. Jerison, Evolution of the Brain and Intelligence (New York: Academic, 1973).
(обратно)28
G. Roth and U. Dicke, “Evolution of the Brain and Intelligence,” Trends in Cognitive Sciences 9 (2005): 250–257.
(обратно)29
Например, площадь сферы пропорциональна r2, где r – радиус, тогда как объем пропорционален r3. Соответственно, площадь будет пропорциональна объему в степени 2/3.
(обратно)30
T. W. Deacon, “Rethinking Mammalian Brain Evolution,” American Zoologist 30 (1990): 629–705.
(обратно)31
Несмотря на убедительные свидетельства положительного воздействия диеты и физических упражнений на когнитивные функции, скорее всего, это объясняется не изменением массы тела, а активизацией фактора роста нейронов.
(обратно)32
S. Herculano-Houzel, The Human Advantage: A New Understanding of How Our Brain Became Remarkable (Cambridge, MA: MIT Press, 2016).
(обратно)33
B. L. Finlay and R. B. Darlington, “Linked Regularities in the Development and Evolution of Mammalian Brains,” Science 268 (1995): 1578–1584.
(обратно)34
R. A. Barton and P. H. Harvey, “Mosaic Evolution of Brain Structure in Mammals,” Nature Neuroscience 405 (2000): 1055–1058
(обратно)35
H. J. Karten, “Vertebrate Brains and Evolutionary Connectomics: On the Origins of the Mammalian ‘Neocortex,’” Proceedings of the Royal Society of London B 370 (2015): 20150060.
(обратно)36
J. R. Krebs, D. F. Sherry, S. D. Healy, V. H. Perry, and A. L. Vaccarino, “Hippocampal Specialization of Food-Storing Birds,” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 86 (1989): 1388–1392.
(обратно)37
K. Zhang and T. J. Sejnowski, “A Universal Scaling Law Between Gray Matter and White Matter of Cerebral Cortex,” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 97 (2000): 5621–5626.
(обратно)38
S. Seung, Connectome: How the Brain’s Wiring Makes Us Who We Are (New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2012).
(обратно)39
S. Dehaene, Consciousness and the Brain: Deciphering How the Brain Codes Our Thoughts (New York: Penguin, 2014).
(обратно)40
T. M. Perl, L. Bedard, T. Kosatsky, E. C. D. Todd, and R. S. Remis, “An Outbreak of ToxicEncephalopathy Caused by Eating Mussels Contaminated with Domoic Acid,” New England Journal of Medicine 322 (1990): 1775–1780.
(обратно)41
H. Parfenova, S. Basuroy, S. Bhattacharya, D. Tcheranova, Y. Qu, R. F. Regan, and C. W. Leffler, “Glutamate Induces Oxidative Stress and Apoptosis in Cerebral Vascular Endothelial Cells: Contributions of HO-1 and HO-2 to Cytoprotection,” American Journal of Physiology – Cell Physiology 290 (2006): C1399 – C1410.
(обратно)42
R. S. Teitelbaum, R. J. Zatorre, S. Carpenter, D. Gendron, A. C. Evans, and A. Gjedde, “Neurologic Sequelae of Domoic Acid Intoxication Due to the Ingestion of Contaminated Mussels,” New England Journal of Medicine 322 (1990): 1781–1787.
(обратно)43
S. S. Bates, C. J. Bird, A. S. W. de Freitas, R. Foxall, M. Gilgan, L. A. Hanic, G. R. Johnson, et al., “Pennate Diatom Nitzschia Pungens as the Primary Source of Domoic Acid, a Toxin in Shellfish from Eastern Prince Edward Island, Canada,” Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 46 (1989): 1203–1215.
(обратно)44
C. A. Scholin, F. Gulland, G. J. Doucette, S. Benson, M. Busman, F. P. Chavez, J. Cordaro, et al., “Mortality of Sea Lions Along the Central California Coast Linked to a Toxic Diatom Bloom,” Nature 403 (2000): 80–84.
(обратно)45
P. F. Cook, C. Reichmuth, A. A. Rouse, L. A. Libby, S. E. Dennison, O. T. Carmichael, K. T. Kruse-Elliott, et al., “Algal Toxin Impairs Sea Lion Memory and Hippocampal Connectivity, with Implications for Strandings,” Science 350 (2015): 1545–1547.
(обратно)46
“What Is Epilepsy?” Epilepsy Foundation, n.d., -101/what-epilepsy, retrieved March 16, 2016.
(обратно)47
M. Costandi, “Diagnosing Dostoyevsky’s Epilepsy,” 2007, -dostoyevskys-epilepsy, retrieved March 16, 2016.
(обратно)48
Достоевский Ф. М., Идиот.
(обратно)49
L. Bonilha, T. Nesland, G. U. Martz, J. E. Joseph, M. V. Spampinato, J. C. Edwards, and A. Tabesh, “Medial Temporal Lobe Epilepsy Is Associated with Neuronal Fibre Loss and Paradoxical Increase in Structural Connectivity of Limbic Structures,” Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 83, no. 9 (2012); V. Dinkelacker, R. Valabregue, L. Thivard, S. Lehéricy, M. Baulac, S. Samson, and S. Dupont, “Hippocampal‐Thalamic Wiring in Medial Temporal Lobe Epilepsy: Enhanced Connectivity Per Hippocampal Voxel,” Epilepsia 56 (2015): 1217–1226.
(обратно)50
S. Pinker, The Language Instinct (New York: William Morrow, 1994).
(обратно)51
R. J. Schusterman and K. Krieger, “California Sea Lions Are Capable of Semantic Representation,” Psychological Record 34 (1984): 3–23.
(обратно)52
R. J. Schusterman, C. R. Kastak, and D. Kastak, “The Cognitive Sea Lion: Meaning and Memory in the Laboratory and in Nature,” in The Cognitive Animal: Empirical and Theoretical Perspectives on Animal Cognition, edited by M. Bekoff, C. Allen, and G. M. Burghardt, 217–228 (Cambridge, MA: MIT Press, 2002).
(обратно)53
Кроме этого, у языка имеются и другие особенности и составляющие: грамматика, синтаксис, рекурсия и так далее.
(обратно)54
P. Kivy, “Charles Darwin on Music,” Journal of the American Musicological Society 12 (1959): 42–48.
(обратно)55
C. Darwin, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (London: John Murray, 1871). (Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор).
(обратно)56
A. D. Patel, “Musical Rhythm, Linguistic Rhythm, and Human Evolution,” Music Perception: An Interdisciplinary Journal 24 (2006): 99–104.
(обратно)57
P. Cook, A. Rouse, M. Wilson, and C. Reichmuth, “A California Sea Lion (Zalophus Californianus) Can Keep the Beat: Motor Entrainment to Rhythmic Auditory Stimuli in a Non Vocal Mimic,” Journal of Comparative Psychology 127 (2013): 412.
(обратно)58
См. “Sea Lion Dances to ‘Boogie Wonderland,’” YouTube, posted April 2, 2013, ; “Beat Keeping in a California Sea Lion,” You-Tube, posted March 31, 2013, .
(обратно)59
M. Dhamala, G. Pagnoni, K. Wiesenfeld, C. F. Zink, M. Martin, and G. S. Berns, “Neural Correlates of the Complexity of Rhythmic Finger Tapping,” NeuroImage 20 (2003): 918–926.
(обратно)60
S. H. Fatemi, K. A. Aldinger, P. Ashwood, M. L. Bauman, C. D. Blaha, G. J. Blatt, A. Chauhan, et al., “Consensus Paper: Pathological Role of the Cerebellum in Autism,” The Cerebellum 11 (2012): 777–807.
(обратно)61
A. A. Rouse, P. F. Cook, E. W. Large, and C. Reichmuth, “Beat Keeping in a Sea Lion as Coupled Oscillation: Implications for Comparative Understanding of Human Rhythm,” Frontiers in Neuroscience 10, no. 257 (2016).
(обратно)62
L. Marino, T. L. Murphy, A. L. DeWeerd, J. A. Morris, S. H. Ridgway, A. J. Fobbs, N. Humblot, and J. I. Johnson, “Anatomy and Three-Dimensional Reconstructions of the Brain of a White Whale (Delphinapterus Leucas) from Magnetic Resonance Images,” Anatomical Record 262 (2001): 429–439; L. Marino, K. D. Sudheimer, D. A. Pabst, W. A. McLellan, D. Filsoof, and J. I. Johnson, “Neuroanatomy of the Common Dolphin (Delphinus Delphis) as Revealed by Magnetic Resonance Imaging,” Anatomical Record 268 (2002): 411–429.
(обратно)63
D. Reiss and L. Marino, “Mirror Self-Recognition in the Bottlenose Dolphin: A Case of Cognitive Convergence,” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 98 (2001): 5937–5942.
(обратно)64
H. H. A. Oelschlager and J. S. Oelschlager, “Brain,” in Encyclopedia of Marine Mammals, edited by W. F. Perrin, B. Wursig, and J. G. M. Thewissen, 134–149 (Burlington, MA: Academic Press, 2009).
(обратно)65
A. S. Frankel, “Sound Production,” in Encyclopedia of Marine Mammals, edited by W. F. Perrin, B. Wursig, and J. G. M. Thewissen, 1056–1071 (Burlington, MA: Academic Press, 2009).
(обратно)66
W. W. L. Au, “Echolocation,” in Encyclopedia of Marine Mammals, edited by W. F. Perrin, B. Wursig, and J. G. M. Thewissen, 348–357 (Burlington, MA: Academic Press, 2009).
(обратно)67
V. V. Popov, T. F. Ladygina, and A. Y. Supin, “Evoked Potentials of the Auditory Cortex of the Porpoise, Phocoena Phocoena,” Journal of Comparative Physiology A 158 (1986): 705–711; V. E. Sokolov, T. F. Ladygina, and A. Y. Supin, “Localization of Sensory Zones in the Dolphin’s Cerebral Cortex,” Doklady Akademy Nauk SSSR 202 (1972): 490–493; A. V. Revishchin and L. J. Garey, “The Thalamic Projection to the Sensory Neocortex of the Porpoise, Phocoena Phocoena,” Journal of Anatomy 169 (1990): 85–102.
(обратно)68
Oelschlager and Oelschlager, “Brain.”
(обратно)69
M. Kossl, J. C. Hechavarria, C. Voss, S. Macias, E. C. Mora, and M. Vater, “Neural Maps for Target Range in the Auditory Cortex of Echolating Bats,” Current Opinion in Neurobiology 24 (2014): 68–75.
(обратно)70
J. Parker, G. Tsagkogeorga, J. A. Cotton, Y. Liu, P. Provero, E. Stupka, and S. J. Rossiter, “Genome-Wide Signatures of Convergent Evolution in Echolocating Mammals,” Nature 502 (2013): 228–231.
(обратно)71
M. Wells, “In Search of the Buy Button,” Forbes, September 1, 2003, 62–70.
(обратно)72
Впоследствии Вулу пришлось озаглавить эту работу в более прозаическом ключе: see E. Vul, C. Harris, P. Winkielman, and H. Pashler, “Puzzlingly High Correlations in fMRI Studies of Emotion, Personality, and Social Cognition,” Perspectives on Psychological Science 4 (2009): 274–290.
(обратно)73
R. A. Poldrack, “Can Cognitive Processes Be Inferred from Neuroimaging Data?” Trends in Cognitive Sciences 10 (2006): 59–63.
(обратно)74
L. Barrett, “Why Brains Are Not Computers, Why Behaviorism Is Not Satanism, and Why Dolphins Are Not Aquatic Apes,” Behavior Analyst 39 (2016): 9–23.
(обратно)75
G. Berns, “Dogs Are People, Too,” New York Times, October 5, 2013.
(обратно)76
G. S. Berns, J. C. Chappelow, M. Cekic, C. F. Zink, G. Pagnoni, and M. E. Martin-Skurski, “Neurobiological Substrates of Dread,” Science 312 (2006): 754–758.
(обратно)77
Велкро (Velcro) – текстильная застежка-липучка. – Прим. пер.
(обратно)78
R. J. Herrnstein, “Relative and Absolute Strength of Response as a Function of Frequency of Reinforcement,” Journal of the Experimental Analysis of Behavior 4 (1961): 267–272.
(обратно)79
Еще раньше парадокс описан у Аристотеля в трактате «О Небе».
(обратно)80
M. Hauskeller, “Why Buridan’s Ass Doesn’t Starve,” Philosophy Now 81 (2010): 9.
(обратно)81
G. Loomes and R. Sugden, “Regret Theory: An Alternative Theory of Rational Choice Under Uncertainty,” Economic Journal 92 (1982): 805–824.
(обратно)82
N. Camille, G. Coricelli, J. Sallet, P. Pradat-Diehl, J.-R. Duhamel, and A. Sirigu, “The Involvement of the Orbitofrontal Cortex in the Experience of Regret,” Science 304 (2004): 1167–1170.
(обратно)83
A. P. Steiner and A. D. Redish, “Behavioral and Neurophysiological Correlates of Regret in Rat Decision-Making on a Neuroeconomic Task,” Nature Neuroscience 17 (2014): 995–1002.
(обратно)84
J. Kaminski, J. Call, and J. Fischer, “Word Learning in a Domestic Dog: Evidence for ‘Fast Mapping,’” Science 304 (2004): 1682–1683.
(обратно)85
J. W. Pilley and A. K. Reid, “Border Collie Comprehends Object Names as Verbal Referents,” Behavioural Processes 86 (2011): 1641–1646.
(обратно)86
S. Nishimoto, A. T. Vu, T. Naselaris, Y. Benjamini, B. Yu, and J. L. Gallant, “Reconstructing Visual Experiences from Brain Activity Evoked by Natural Movies,” Current Biology 21 (2011): 1641–1646.
(обратно)87
A. G. Huth, W. A. de Heer, T. L. Griffiths, F. E. Theunissen, and J. L. Gallant, “Natural Speech Reveals the Semantic Maps That Tile Human Cerebral Cortex,” Nature 532 (2016): 453–458.
(обратно)88
E. Van der Zee, H. Zulch, and D. Mills, “Word Generalization by a Dog (Canis Familiaris): Is Shape Important?” PLoS ONE 7, no. 11 (2012): e49382.
(обратно)89
B. Landau, L. B. Smith, and S. S. Jones, “The Importance of Shape in Early Lexical Learning,” Cognitive Development 3 (1988): 299–321.
(обратно)90
P. Bloom, “Can a Dog Learn a Word?” Science 304 (2004): 1605–1606.
(обратно)91
S. Pinker and R. Jackendoff, “The Faculty of Language: What’s Special About It?” Cognition 95 (2005): 201–236.
(обратно)92
R. J. Schusterman and K. Krieger, “California Sea Lions Are Capable of Semantic Representation,” Psychological Record 34 (1984): 3–23.
(обратно)93
J. C. Lilly, Communication Between Man and Dolphin: The Possibilities of Talking with Other Species (New York: Julian Press, 1978).
(обратно)94
L. M. Herman, D. G. Richards, and J. P. Wolz, “Comprehension of Sentences by Bottlenosed Dolphins,” Cognition 16 (1984): 129–219; L. M. Herman, S. A. Kuczaj, and M. D. Holder, “Responses to Anomalous Gestural Sequences by a Language-Trained Dolphin: Evidence for Processing of Semantic Relations and Syntactic Information,” Journal of Experimental Psychology: General 122 (1993): 184–194.
(обратно)95
A. G. Huth, S. Nishimoto, A. T. Vu, and J. L. Gallant, “A Continuous Semantic Space Describes the Representation of Thousands of Object and Action Categories Across the Human Brain,” Neuron 76 (2012): 1210–1224.
(обратно)96
C. A. Muller, K. Schmitt, A. L. A. Barber, and L. Huber, “Dogs Can Discriminate Emotional Expression of Human Faces,” Current Biology 25 (2015): 1–5.
(обратно)97
C. G. Gross, C. E. Rocha-Miranda, and D. B. Bender, “Visual Properties of Neurons in Inferotemporal Cortex of the Macaque,” Journal of Neurophysiology 35 (1972): 96–111; R. Desimone, T. D. Albright, C. G. Gross, and C. Bruce, “Stimulus-Selective Properties of Inferior Temporal Neurons in the Macaque,” Journal of Neuroscience 4 (1984): 2051–2062; D. Y. Tsao, S. Moeller, and W. A. Freiwald, “Comparing Face Patch Systems in Macaques and Humans,” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 105 (2008): 19514–19519.
(обратно)98
D. D. Dilks, P. A. Cook, S. K. Weiller, H. P. Berns, M. Spivak, and G. S. Berns, “Awake fMRI Reveals a Specialized Region in Dog Temporal Cortex for Face Processing,” PeerJ 3 (2015): e1115.
(обратно)99
L. V. Cuaya, R. Hernández-Pérez, and L. Concha, “Our Faces in the Dog’s Brain: Functional Imaging Reveals Temporal Cortex Activation During Perception of Human Faces,” PLoS ONE 11, no. 3 (2016): e0149431.
(обратно)100
K. M. Kendrick and B. A. Baldwin, “Cells in Temporal Cortex of Conscious Sheep Can Respond Preferentially to the Sight of Faces,” Science 236 (1987): 448–450.
(обратно)101
C. Nawroth, J. M. Brett, and A. G. McElligott, “Goats Display Audience-Dependent Human-Directed Gazing Behaviour in a Problem-Solving Task,” Biology Letters 12 (2016): 20160283.
(обратно)102
J. M. Marzluff, R. Miyaoka, S. Minoshima, and D. J. Cross, “Brain Imaging Reveals Neuronal Circuitry Underlying the Crow’s Perception of Human Faces,” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 109 (2012): 15912–15917.
(обратно)103
M. Coulon, B. L. Deputte, Y. Heyman, and C. Baudoin, “Individual Recognition in Domestic Cattle (Bos Taurus): Evidence from 2D Images of Heads from Different Breeds,” PLoS ONE 4 (2009): e4441.
(обратно)104
J. M. Plotnick, F. B. M. de Waal, and D. Reiss, “Self-Recognition in an Asian Elephant,” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 103 (2006): 17053–17057.
(обратно)105
S. G. Lomber and P. Cornwell, “Dogs, but Not Cats, Can Readily Recognize the Face of Their Handler,” Journal of Vision 5 (2005): 49.
(обратно)106
T. Raettig and S. A. Kotz, “Auditory Processing of Different Types of Pseudo-Words: An Event-Related fMRI Study,” NeuroImage 39 (2008): 1420–1428.
(обратно)107
C. Fellbaum, “Wordnet and Wordnets,” in Encyclopedia of Language and Linguistics, edited by K. Brown, 665–670 (Oxford: Elsevier, 2005).
(обратно)108
S. Waxman, X. Fu, S. Arunachalam, E. Leddon, K. Geraghty, and H. Song, “Are Nouns Learned Before Verbs?” Child Development Perspectives 7 (2013): 155–159.
(обратно)109
Реконструкция событий по исследованию Роберта Пэддла. См. R. Paddle, The Last Tasmanian Tiger: The History and Extinction of the Thylacine (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).
(обратно)110
“Beauty and the Beast at the Hobart Zoo: Girl Whose Greatest Chum Is a Full-Grown Leopard,” Register News-Pictorial, May 17, 1930, .
(обратно)111
S. R. Sleightholme, “Confirmation of the Gender of the Last Captive Thylacine,” Australian Zoologist 35 (2011): 953–956.
(обратно)112
“Tasmanian Tiger/Thylacine Combined Footage,” YouTube, posted May 3, 2007, .
(обратно)113
D. Quammen, The Song of the Dodo: Island Biogeography in an Age of Extinctions (New York: Scribner, 1996).
(обратно)114
E. Guiler and P. Godard, Tasmanian Tiger: A Lesson to Be Learnt (Perth, Australia: Abrolhos, 1998).
(обратно)115
C. Wemmer, “Opportunities Lost: Zoos and the Marsupial That Tried to Be a Wolf,” Zoo Biology 21 (2002): 1–4.
(обратно)116
Там же.
(обратно)117
C. R. Campbell, “The Thylacine Museum,” , retrieved April 19, 2016.
(обратно)118
E. R. Guiler, Thylacine: The Tragedy of the Tasmanian Tiger (Melbourne: Oxford University Press, 1985), 14.
(обратно)119
Там же, 16.
(обратно)120
Там же, 138.
(обратно)121
Там же, 140.
(обратно)122
E. R. Guiler and G. K. Meldrum, “Suspected Sheep Killing by the Thylacine Thylacinus cynocephalus (Harris),” Australian Journal of Science 20 (1958): 214, reprinted in Guiler, Thylacine, 141.
(обратно)123
K. W. S. Ashwell, ed., The Neurobiology of Australian Marsupials (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).
(обратно)124
C. Bailey, Lure of the Thylacine: True Stories and Legendary Tales of the Tasmanian Tiger (Victoria, Australia: Echo Publishing, 2016).
(обратно)125
US Department of Agriculture, “Sheep and Lamb Predator and Nonpredator Death Loss in the United States,” 2015, USDA-APHIS-VS-CEAH-NAHMS.
(обратно)126
B. Figueirido and C. M. Janis, “The Predatory Behaviour of the Thylacine: Tasmanian Tiger or Marsupial Wolf?” Biology Letters (2011): 937–940.
(обратно)127
M. E. Jones and D. M. Stoddart. “Reconstruction of the Predatory Behaviour of the Extinct Marsupial Thylacine (Thylacinus cynocephalus),” Journal of Zoology 246 (1998): 239–246.
(обратно)128
W. Miller, D. I. Drautz, J. E. Janecka, A. M. Lesk, A. Ratan, L. P. Tomsho, M. Packard, et al., “The Mitochondrial Genome Sequence of the Tasmanian Tiger (Thylacinus cynocephalus),” Genome Research 19 (2009): 213–220.
(обратно)129
E. P. Murchison, C. Tovar, A. Hsu, H. S. Bender, P. Kheradpour, C. A. Rebbeck, D. Obendorf, et al., “The Tasmanian Devil Transcriptome Reveals Schwann Cell Origins of a Clonally Transmissible Cancer,” Science 327 (2010): 84–87.
(обратно)130
C. Murgia, J. K. Pritchard, S. Y. Kim, A. Fassati, and R. A. Weiss, “Clonal Origin and Evolution of a Transmissible Cancer,” Cell 126 (2006): 477–487.
(обратно)131
Save the Tasmanian Devil, , retrieved May 17, 2016.
(обратно)132
T. D. Beeland, The Secret World of Red Wolves: The Fight to Save North America’s Other Wolf (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2013).
(обратно)133
Кроме того, Смитсоновский институт одолжил нам образец мозга тасманийского дьявола той же давности, что и мозг тилацина, однако он тоже оказался усохшим.
(обратно)134
A. A. Abbie, “The Excitable Cortex in Perameles, Sarcophilus, Dasyurus, Trichosurus and Wallabia (Macropus),” Journal of Comparative Neurology 72 (1940): 469–487; L. Krubitzer, “The Magnificent Compromise: Cortical Field Evolution in Mammals,” Neuron 56 (2007).
(обратно)135
G. S. Berns and K. W. S. Ashwell, “Reconstruction of the Cortical Maps of the Tasmanian Tiger and Comparison to the Tasmanian Devil,” PLoS ONE 12 (2017): e0168993.
(обратно)136
S. Wroe, C. McHenry, and J. Thomason, “Bite Club: Comparative Bite Force in Big Biting Mammals and the Prediction of Predatory Behaviour in Fossil Taxa,” Proceedings of the Royal Society of London B 272 (2005): 619–625.
(обратно)137
Эта часть главы написана на основе: N. Clements, The Black War: Fear, Sex, and Resistance in Tasmania (Queensland, Australia: University of Queensland Press, 2014).
(обратно)138
Там же, 17.
(обратно)139
Там же, 44–45.
(обратно)140
Там же, 49.
(обратно)141
Там же, 60.
(обратно)142
Там же, 89.
(обратно)143
Земля Ван-Димена – первоначальное название острова Тасмания до переименования в 1856 году. – Прим. пер.
(обратно)144
E. R. Guiler, Thylacine: The Tragedy of the Tasmanian Tiger (Melbourne: Oxford University Press, 1985), 16.
(обратно)145
Lee Jackson, “Victorian Money: How Much Did Things Cost?” Dictionary of Victorian London, , retrieved May 26, 2016.
(обратно)146
Личная переписка по электронной почте. 6 мая 2016 года.
(обратно)147
C. Bailey, Shadow of the Thylacine: One Man’s Epic Search for the Tasmanian Tiger (Victoria, Australia: Five Mile Press, 2013).
(обратно)148
Маршрут можно найти на Tastracks, #529486938, retrieved June 2, 2016.
(обратно)149
“Last Remaining Medical School to Use Live Animals for Training Makes Switch to Human-Relevant Methods,” Physicians Committee for Responsible Medicine, June 30, 2016, , retrieved July 22, 2016.
(обратно)150
J. Bentham, The Principles of Morals and Legislation (Amherst: Prometheus Books, 1988).
(обратно)151
T. Cowan, “The Animal Welfare Act: Background and Selected Animal Welfare Legislation,” Congressional Research Service, 2013.
(обратно)152
United States Code, 2013 edition, Chapter 54, “Transportation, Sale, and Handling of Certain Animals,” -2013-title7/html/USCODE-2013-title7-chap54.htm.
(обратно)153
W. M. S. Russell and R. L. Burch, The Principles of Humane Experimental Technique (London: Methuen, 1959).
(обратно)154
P. Singer, Animal Liberation: The Definitive Classic of the Animal Movement (New York: HarperCollins, 2009).
(обратно)155
“The Cambridge Declaration on Consciousness,” Francis Crick Memorial Conference, July 7, 2012, DeclarationOnConsciousness.pdf, retrieved August 3, 2016.
(обратно)156
“Annual Report Animal Usage by Fiscal Year,” US Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service, June 2016, -Reports-FY2015.pdf, retrieved August 1, 2016.
(обратно)157
“Questions and Answers About Biomedical Research,” Humane Society of the United States, n.d., _research/qa/questions_answers.html; “Mice and Rats in Laboratories,” People for the Ethical Treatment of Animals, n.d., -used-for-experimentation/animals-laboratories/mice-rats-laboratories, retrieved August 1, 2016.
(обратно)158
H. Herzog, Some We Love, Some We Hate, Some We Eat: Why It’s So Hard to Think Straight About Animals (New York: Harper, 2010).
(обратно)159
M. Botvinick and J. Cohen, “Rubber Hands ‘Feel’ Touch That Eyes See,” Nature 391 (1998): 756.
(обратно)160
M. Wada, K. Takano, H. Ora, M. Ide, and K. Kansaku, “The Rubber Tail Illusion as Evidence of Body Ownership in Mice,” Journal of Neuroscience 36 (2016): 11133–11137.
(обратно)161
J. Greene and J. Cohen, “For the Law, Neuroscience Changes Nothing and Everything,” Philosophical Transactions of the Royal Society B 359 (2004): 1775–1785.
(обратно)162
Travis v. Murray, Supreme Court New York County (NY Slip Op 23405, 42 Misc 3d 447), 2013.
(обратно)163
Rabideau v. City of Racine, Supreme Court of Wisconsin (243 Wis 2d 486, 491, 627 NW2d, 795, 798), 2001.
(обратно)164
A. Galante, R. Sinibaldi, A. Conti, C. De Luca, N. Catallo, P. Sebastiani, V. Pizzella, et al., “Fast Room Temperature Very Low Field-Magnetic Resonance Imaging System Compatible with Magnetoencephalography Environment,” PLoS ONE 10 (2015): e0142701.
(обратно)165
Y. N. Harari, Sapiens: A Brief History of Humankind (New York: HarperCollins, 2015). Перевод на русский: Харари Ю. Sapiens. Краткая история человечества. – М.: Синдбад, 2017.
(обратно)166
“The Cost of Sequencing a Human Genome,” National Human Genome Research Institute, updated July 6, 2016, -cost-of-sequencing-a-human-genome, retrieved July 30, 2016.
(обратно)167
Юваль Харари называет будущий вид Homo deus, но мне не близка идея уподобления кого бы то ни было Богу. См. Y. N. Harari, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow (New York: Harper-Collins, 2017). Перевод на русский: Харари Ю. Homo Deus: Краткая история будущего. – М.: Синдбад, 2018.
(обратно)168
Living Planet Report 2016: Risk and Resilience in a New Era (Gland, Switzerland: WWF International, 2016).
(обратно)


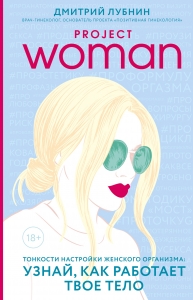




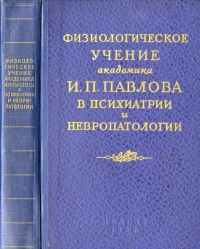


Комментарии к книге «Что значит быть собакой. И другие открытия в области нейробиологии животных», Грегори Бернс
Всего 0 комментариев