Сергeй Яcтребов От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни
Научный редактор Александр Марков, д-р биол. наук
Редакторы Валентина Бологова, Наталья Нарциссова
Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко
Руководитель проекта Д. Петушкова
Корректоры М. Миловидова, С. Чупахина
Компьютерная верстка А. Фоминов
Оформление обложки и макет Андрей Бондаренко
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
Посвящается моей матери,
Наталии Борисовне Ястребовой
ПРЕДИСЛОВИЕ
Как говорил известный биохимик сэр Фредерик Гоулэнд Хопкинс, жизнь — это такая штука, которая происходит (life is a thing that happens)[1]. Другими словами, жизнь — это процесс, иногда быстрый, а иногда очень медленный. Пример быстрого жизненного процесса — синтез и распад молекул, снабжающих клетку энергией: время их существования измеряется секундами. Пример медленного процесса — крупные эволюционные изменения, которые иногда растягиваются на миллиарды лет. Область знаний, охватывающая сразу все эти явления, может со стороны показаться необъятной, как пасть древнего бога смерти, одна губа которого достает до неба, а другая — до земли[2]. Отчасти так оно и есть. Биология — очень многоликая наука, к тому же еще и бурно развивающаяся прямо у нас на глазах (чтобы оценить это, достаточно в любой момент просмотреть, например, раздел научных новостей сайта “Элементы”). Неудивительно, что она сейчас многим интересна.
Зададимся следующим вопросом: какую вводную информацию надо сообщить разумному и заинтересованному, но совершенно несведущему в биологии человеку, чтобы он начал более-менее разбираться в этой науке и мог понимать значение свежих биологических открытий?
Предлагаемую книгу можно считать попыткой ответить на этот вопрос. Ее идеальный читатель видится автору как условный “образованный небиолог”, прекрасно (кто может в этом сомневаться?) знающий те науки, которые он серьезно изучал, но не имеющий ровным счетом никакой биологической или химической “базы”. Если такой человек по любой причине заинтересуется биологией, эта книга — для него. Уровня “когда-то что-то учил в школе, но все забыл” для начала вполне хватит.
Конечно, не может быть и речи о том, чтобы рассказать в одной книге сразу про всю современную биологию. Отбор материала — на совести автора, и за пределами совсем уж азбуки он довольно субъективен. Там, где упоминается какая-то спорная или новая информация, стоят ссылки на научные статьи, из которых она взята. Важные термины, которые пригодятся для понимания дальнейшего рассказа, при первом употреблении выделяются курсивом.
Книга состоит из четырех частей: “Химия жизни”, “Механизм жизни”, “Древо жизни” и “История жизни”. В первой части (“Химия жизни”) сообщается, из чего, собственно говоря, состоит живая материя. Вторая часть (“Механизм жизни”) рассказывает о том, как живые существа обращаются с информацией и с энергией. Третья часть (“Древо жизни”) — это обзор всеобщего эволюционного древа. В ней вкратце обсуждается, какие существуют большие группы живых организмов, кто из них кому родня, какие между ними есть важные различия. И наконец, в четвертой части (“История жизни”) вся жизнь на Земле рассматривается как единое целое и мы прослеживаем главные события, произошедшие на нашей планете за последние четыре с лишним миллиарда лет.
Тем, кто соприкоснулся с биологией более или менее впервые, лучше читать эту книгу подряд, по возможности не пропуская глав. Продвинутые читатели, которых в наше время тоже хватает, скорее всего, сориентируются сами. Автор надеется, что некоторые разделы могут быть интересны и профессиональным биологам (это в основном относится ко второй половине книги). И третья, и четвертая части намеренно написаны так, чтобы любую из них можно было читать как самостоятельный очерк. Поэтому, если биологическая “база” у вас есть — вы совершенно спокойно можете читать книгу с середины, а в начало заглянуть потом, если пожелаете.
Когда наброски первой части книги выкладывались в ЖЖ, автору регулярно задавали один и тот же вопрос: почему там так много химии? Ответ: потому что элементная база живых систем — химическая. От этого никуда не денешься. И потом, разве не интересно знать, чем, например, фруктоза, известный компонент диетических сладких продуктов, отличается от обычного сахара, или почему глицин служит успокаивающим средством, или каков механизм действия кофе на нервную систему, или вреден ли на самом деле глутамат? С помощью биологической химии понять такие вещи легко, а без нее совершенно невозможно. В любом случае, об основах химии тут рассказывается с нуля и на таком упрощенном уровне, что автору будет даже неловко перед читателями-химиками, если это сочинение попадет им в руки.
Эпиграфом ко всей книге, наверное, можно было бы поставить знаменитые слова Феодосия Добржанского: “Ничто в биологии не имеет смысла иначе как в свете эволюции” (Nothing in biology makes sense except in the light of evolution)[3]. Добржанский, разумеется, был абсолютно прав. Любая особенность любого биологического объекта в конечном счете является результатом какого-нибудь эволюционного — а можно сказать, и “исторического” — события. Надо только выяснить какого. Автору хотелось попытаться применить этот способ объяснения абсолютно ко всем предметам разговора, от атомов и молекул до эволюционного древа (отсюда и название книги). Насколько удачно это получилось, решать читателям.
Несколько слов о том, чего в книге нет. Прежде всего, в ней нет ни одной математической формулы: все изложено на качественном уровне. На первый план выведена классическая событийная история — история живых организмов. Помещенный в начале книги обзор химических основ жизни нужен в основном для того, чтобы лучше понять эту историю (и ее истоки).
Нет и кое-каких разделов, которые традиционно включаются в книги подобного рода и отсутствие которых наверняка заметит критически настроенный читатель. Чтобы облегчить ему задачу, можно уже в предисловии перечислить несколько явных упущений. Во-первых, почти что ни слова не сказано о современной эволюционной теории. Во-вторых, проигнорирована проблема жизненных циклов и их эволюции (даже митоз и мейоз не обсуждаются). В-третьих, разговор про эволюцию планов строения многоклеточных животных заканчивается, не начавшись. Вначале автор хотел посвятить каждой из этих тем по главе, но в ходе работы стало понятно, что это невозможно сделать, если не превращать книгу в многотомник. Все три названные темы — очень интересные, и пробегать их мимоходом не хочется. О них надо рассказывать отдельно.
БЛАГОДАРНОСТИ
Великому писателю Умберто Эко — за название. Я решил, что “От атомов к древу” звучит не хуже, чем “От древа к лабиринту”.
Гениальному популяризатору науки Айзеку Азимову — за заочные уроки, которые он щедро рассыпал по своим книгам, и за невероятную жажду знаний, которой он умел заразить читателя.
Памеле Кемп и Карен Армс, авторам замечательной книги “Введение в биологию”, которую я впервые прочитал в 13 лет и которая служит для меня образцом того, как подобные книги надо писать.
Многочисленным читателям научного блога caenogenesis.livejournal.com — за обратную связь, которая была особенно важна в начале работы и которую я получил в полной мере.
Коллективу Летней экологической школы (ЛЭШ) и Весенней экологической школы (ВЭШ), где я читал лекции, послужившие основой для нескольких глав этой книги.
Сотрудникам журнала “Химия и жизнь”, где была предварительно опубликована в виде серии статей четвертая часть книги (“История жизни”). Отдельная благодарность лично Елене Клещенко, работать с которой — огромное удовольствие.
Асе Казанцевой и Денису Земледельцеву — за то, что они взяли на себя труд прочитать черновик и высказать полезные замечания.
Марии Егоровой — за то, что она, будучи по профессии лингвистом, послужила моделью идеального читателя, и за интересные комментарии.
Александру Владимировичу Маркову — за тщательную научную редактуру, в результате которой книга стала лучше, и в целом за поддержку.
Благодарю коллег — высококвалифицированных биологов, согласившихся внимательно прочитать и откомментировать отдельные разделы книги: Михаила Александровича Никитина, Михаила Валерьевича Погорелого, Алексея Викторовича Чернышева, Дмитрия Андреевича Шабанова и особенно Дмитрия Викторовича Леонтьева, который очень помог мне со сложнейшей в научном отношении третьей частью.
И наконец, беспредельная благодарность — моим университетским учителям: Борису Дмитриевичу Васильеву, Феликсу Яновичу Дзержинскому, Александру Сергеевичу Раутиану, Владимиру Васильевичу Малахову, Андрею Александровичу Каменскому, Юрию Таричановичу Дьякову и Леониду Степановичу Гузею. С некоторыми из перечисленных я общался много и тесно, других знал только по лекциям, но повлияли на меня они все. Надеюсь, что в книге это отразилось.
ЧАСТЬ I ХИМИЯ ЖИЗНИ
1. углерод
Мышь любит мармелад, потому что в нем много кислот.
Юрий Олеша. Три толстякаИз чего состоят живые организмы?
Ответить на это очень легко: живые организмы, как и неживые тела, состоят из атомов.
Значение этого утверждения, что называется, трудно переоценить. Нобелевский лауреат Ричард Фейнман говорил в начале своих знаменитых “Фейнмановских лекций по физике”[4]:
“Если бы в результате какой-то мировой катастрофы все накопленные научные знания оказались бы уничтоженными и к грядущим поколениям живых существ перешла бы только одна фраза, то какое утверждение, составленное из наименьшего количества слов, принесло бы наибольшую информацию? Я считаю, что это атомная гипотеза (можете называть еe не гипотезой, а фактом, но это ничего не меняет): все тела состоят из атомов — маленьких телец, которые находятся в беспрерывном движении, притягиваются на небольшом расстоянии, но отталкиваются, если одно из них плотнее прижать в другому”.
Сказанное Фейнманом, конечно, правда. Однако любое научное утверждение обязано иметь те или иные границы применимости. Поищем их и тут. Атомная гипотеза — это великое достижение человеческой мысли, но целиком ли Вселенная состоит из атомов? И все ли живые организмы состоят только из них?
На первый из этих вопросов ответ, как ни странно, будет однозначно отрицательным. Начнем с того, что наша Вселенная возникла в результате Большого взрыва примерно 13,8 миллиарда лет назад, и с тех пор ее состав сильно изменился. Насколько можно судить, в первые 300 000 лет во Вселенной не было ни одного атома (хотя были частицы нескольких других типов). Но и после того, как атомы возникли, они не стали главной составляющей космоса. По данным космической обсерватории “Планк”, нынешняя Вселенная на 4,9% состоит из обычных элементарных частиц, способных сложиться в атомы, на 26,8% — из темной материи (которая не проявляет никаких наблюдаемых свойств, кроме массы) и на 68,3% — из темной энергии (про которую вообще непонятно, связана ли она хоть с какими-нибудь материальными телами)[5]. Грубо говоря, Вселенная состоит из обычных атомов не больше чем на 5%.
Подчеркнем, что эти соотношения отражают современное положение вещей. Несколько миллиардов лет назад они наверняка были иными, ведь Вселенная непрерывно развивается; это подтверждается и расчетами на основе общей теории относительности, и прямыми наблюдениями космического реликтового излучения. Итак, данные исследований показывают, что сейчас части Вселенной, построенные из обычного вещества, представляют собой, по сути, всего лишь острова среди океанов темной материи и темной энергии, в глубины которых людям еще только предстоит заглянуть. (Между прочим, именно о таких исследованиях мечтает доктор Хаус в первой серии восьмого сезона знаменитого сериала.)
А вот на наш второй вопрос — все ли живые системы состоят из атомов? — ответом будет уверенное “да”. В этом плане биологический мир гораздо менее разнообразен, чем физический. Любое живое существо построено из атомов, и только из атомов, в полном соответствии с классической атомной гипотезой. Примеры иных, не атомных форм жизни можно пока найти лишь в научной фантастике. Например, в великом романе Станислава Лема “Солярис” упоминаются живые существа, созданные не из атомов, а из очень легких элементарных частиц — нейтрино. Но это не более чем мысленный эксперимент, поставленный писателем. В реальной биологии нам приходится иметь дело только с атомами и их устойчивыми сочетаниями, которые называются молекулами. А из молекул, в свою очередь, складываются вещества. Как писал тот же Фейнман, любое вещество — это свой тип расположения атомов.
Мир атомов довольно разнообразен. На момент написания этих строк ученым известно 118 видов атомов, которые принято называть химическими элементами. Правда, в живых телах встречаются далеко не все из них, а те, что встречается, распределены там очень неравномерно.
Хорошая новость заключается в том, что атомы часто бывают очень долговечными. В тех процессах, которые непосредственно изучает биология, они почти никогда не распадаются, не возникают заново и не превращаются друг в друга. Это не означает, что они не превращаются друг в друга вообще никогда: очень скоро мы увидим, что, если бы не было взаимных превращений атомов (точнее, их ядер), во Вселенной не смогла бы возникнуть жизнь. Однако для понимания того, как устроены живые тела, нам будет вполне достаточно учитывать взаимодействие готовых и неизменных атомов между собой.
Кратко про атомы
Итак, атомы.
Уже довольно давно известно, что они состоят из трех типов элементарных частиц: протонов, нейтронов и электронов (см. рис. 1.1А). Протоны и нейтроны — частицы относительно массивные, любой из них примерно в 1800 раз тяжелее электрона. Из протонов и нейтронов состоит атомное ядро, а из электронов — внешняя оболочка атома, которую обычно прямо так и называют электронной оболочкой. Электроны, образующие оболочку, перемещаются вокруг ядра по чрезвычайно сложным траекториям, но, как правило, не слишком от него удаляясь.
Самое важное для нас свойство элементарных частиц даже не масса, а электрический заряд. Здесь действуют абсолютно четкие и очень простые закономерности.
* Протон электрически заряжен положительно, электрон — отрицательно, а нейтрон не имеет никакого заряда.
* По величине отрицательный заряд электрона строго равен положительному заряду протона. Принято считать, что протон имеет заряд +1, а электрон –1.
* Число электронов в атоме по умолчанию равно числу протонов, так что заряд целого атома равен нулю. Если же число электронов отличается от числа протонов, значит, перед нами не просто атом, а заряженная частица — ион.
Физики еще в XVIII веке выяснили, что электрические заряды бывают двух типов: положительные и отрицательные. Также они обнаружили, что разноименные заряды притягиваются, а одноименные отталкиваются. Этот закон называется основным законом электростатики, или законом Кулона (на самом деле он записывается формулой, позволяющей точно определить силу притяжения или отталкивания, но мы тут обойдемся без математики). Закон Кулона действует где угодно, в том числе и внутри атома. Собственно говоря, электроны и протоны потому и образуют единый атом, что они электростатически притягиваются друг к другу. Для справки добавим, что протоны и нейтроны “склеиваются” в атомное ядро притяжением совсем другого рода — так называемым сильным ядерным взаимодействием, которое на маленьких расстояниях гораздо мощнее электростатического. Именно поэтому протоны в ядре держатся вместе, несмотря на отталкивающую их друг от друга кулоновскую силу.
Самый главный параметр любого атома — это число протонов, или атомный номер (Z). Величина Z однозначно определяет положение данного атома в периодической системе элементов, то есть в таблице Менделеева. Как мы уже знаем, число электронов обычно равно числу протонов. А вот что касается числа нейтронов, то оно может при одном и том же числе протонов быть разным. Атомы, имеющие одинаковый атомный номер, но разное число нейтронов, называются изотопами. Если слово “изотопы” не упоминается, значит, число нейтронов нам в данном случае неважно. Все атомы, имеющие одинаковое число протонов, по определению относятся к одному химическому элементу.
Самый простой из всех возможных атомов — водород (Z=1). Он состоит из одного протона и одного электрона. Нейтронов в нем может не быть вовсе (хотя могут и быть, в зависимости от того, какой это изотоп). Если лишить обычный простейший атом водорода его единственного электрона, от него останется положительно заряженный ион, в данном случае представляющий собой не что иное, как “голый” протон.
Еще в начале XIX века английский химик и врач Уильям Праут выдвинул опередившую свое время гипотезу, что атомы всех других химических элементов образуются в результате объединения того или иного количества атомов водорода[6]. И он был не так уж далек от истины. Все атомы действительно состоят из однотипных частиц, самый простой возможный набор которых дает не что иное, как атом водорода (Z=1). Второй по сложности атом — гелий (Z=2), третий — литий (Z=3), ну а дальше в нашем распоряжении вся таблица Менделеева. Самые тяжелые атомы содержат больше сотни протонов и около двух сотен нейтронов. Но с такими чудовищами мы в биологии не встретимся.
Химические связи
Самый важный для нас способ взаимодействия атомов называется ковалентной связью (см. рис. 1.1Б). Это связь, образуемая общей парой электронов — по одному от каждого из двух атомов. Можно считать, что электроны этой пары принадлежат обоим атомам сразу. На графических формулах, отображающих строение молекул наглядно, ковалентную связь обозначают простой чертой между символами химических элементов. Именно такими связями и соединены атомы в большинстве обычных молекул. Пример — молекула водорода. Она состоит из двух атомов водорода (H), образующих единственную ковалентную связь между собой: H–H, или сокращенно H2.
Иногда ковалентные связи бывают двойными — образованными сразу двумя парами электронов — или даже тройными — образованными сразу тремя парами. Чем выше кратность связи, тем эта связь при прочих равных условиях прочнее. Двойные ковалентные связи встречаются в биологии очень часто. Тройные — намного реже, но знать об их существовании все-таки не помешает. На графических формулах двойные и тройные связи обозначают, соответственно, двойными или тройными черточками между символами атомов. Например, между атомами кислорода (O) вполне может образоваться двойная связь. В результате получится молекула O=O, или сокращенно O2. Кстати, это и есть тот самый атмосферный кислород, которым мы дышим.
Гораздо реже ковалентной (по крайней мере, в живой материи) встречается ионная связь, представляющая собой электростатическое притяжение заряженных частиц. Мы уже знаем, что по закону Кулона одноименные электрические заряды отталкиваются, а разноименные — притягиваются. Поэтому положительно заряженная частица (катион) и отрицательно заряженная (анион) обязательно притянутся друг к другу. Уже упоминалось, что ионом называется любая самостоятельно существующая частица, в которой число электронов отличается от числа протонов. Сам этот термин, предложенный Майклом Фарадеем, происходит от греческого слова, означающего “идущий”: в растворе, через который пропущен электрический ток, положительно заряженные ионы движутся к отрицательному полюсу, а отрицательные — к положительному Атом становится ионом, если он приобрел лишний электрон или, наоборот, часть своих электронов где-то потерял.
Отличный пример ионной связи демонстрирует всем известная поваренная соль NaCl (натрий хлор), формулу которой можно переписать как [Na+][Cl–]. Это означает, что кристалл соли состоит из положительно заряженных ионов натрия и отрицательно заряженных ионов хлора в соотношении один к одному. В данном случае каждый атом хлора как бы отбирает один электрон у соседнего атома натрия.
Элементы жизни
Химический состав живой материи довольно однообразен. Для того чтобы в первом приближении разобраться в устройстве живой клетки, достаточно знать всего-навсего пять химических элементов. Это водород (H), кислород (O), азот (N), углерод (C) и фосфор (P). На атомные номера этих элементов мы пока не будем обращать внимания: во-первых, нет ничего легче, чем найти их в таблице Менделеева, а во-вторых, для нас сейчас гораздо важнее другой показатель. Самое главное, что нам нужно знать о любом химическом элементе, — это его валентность, то есть число ковалентных связей, которые может образовать его атом.
Итак, валентность водорода равна 1, кислорода — 2, азота — 3, углерода — 4 и фосфора — 5. Эти числа надо просто запомнить. Иногда у некоторых из перечисленных элементов бывают и другие валентности, но, занимаясь биологией, это можно игнорировать во всех случаях, кроме немногих особо оговоренных. Одновалентный водород, двухвалентный кислород, трехвалентный азот, четырехвалентный углерод и пятивалентный фосфор — главные химические слагаемые жизни (см. рис. 1.2).
Иногда по ходу разговора нам будут встречаться и другие атомы, например сера (S), натрий (Na), хлор (Cl), калий (K) или железо (Fe). Но постоянно помнить о них не надо. Пяти главных биогенных (то есть образующих жизнь) химических элементов для начала вполне достаточно.
Сверхновые и жизнь
Не подлежит сомнению, что большинство атомов в нашей Вселенной — это атомы водорода и гелия. Астрофизики утверждают, что 13 миллиардов лет назад, то есть “всего лишь” через несколько сот миллионов лет после Большого взрыва, соотношения были следующими: примерно 75% всех атомов во Вселенной составляли атомы водорода, примерно 25% — атомы гелия, а на атомы всех более тяжелых элементов, вместе взятых, приходилось 0,00007%[7]. Конечно, с тех пор Вселенная изменилась. Но и сейчас все элементы, кроме водорода и гелия, составляют в сумме не больше 2% существующих атомов. Между тем очевидно, что из водорода, валентность которого равна единице, и гелия, который вообще неохотно образует химические связи, никаких сложных молекул не построишь.
Сравнив количество разных видов атомов в современной Вселенной, мы сразу увидим, что самые распространенные в ней после водорода и гелия элементы — кислород (Z=8), углерод (Z=6) и азот (Z=7). Это можно наглядно показать на графике, изображающем относительное обилие химических элементов в нашей галактике Млечный Путь (см. рис. 1.3). По горизонтальной оси там можно отложить атомный номер (Z), а по вертикальной — распространенность элементов, причем желательно в логарифмическом масштабе (попросту говоря, это означает, что каждая “ступенька” на вертикальной оси соответствует разнице не на единицу, а в 10 раз). На таком графике первым делом бросается в глаза уже известный нам факт: водорода и гелия в Галактике во много раз больше, чем всех остальных химических элементов вместе взятых. Эти два элемента — вне конкуренции. В области лития (Z=3), бериллия (Z=4) и бора (Z=5) наблюдается явный провал, потому что ядра этих атомов относительно неустойчивы: в системе ядерных реакций, происходящих в звездах, они легко синтезируются, но так же легко и распадаются. Ядро железа (Z=26), наоборот, исключительно устойчиво. Многие ядерные реакции, идущие в недрах звезд, на нем заканчиваются, поэтому железо дает на графике высокий пик. Но самые распространенные после водорода и гелия элементы в Млечном Пути, несомненно, кислород, углерод и азот, именно те, которые стали химическими “кирпичиками” жизни. Вряд ли это случайность.
Кроме того, нельзя не заметить, что график обилия химических элементов в Галактике — отчетливо “зубчатый”. Элементы с четными атомными номерами в среднем встречаются во Вселенной намного чаще, чем элементы “примерно того же достоинства” с нечетными. Еще сто лет назад на это независимо друг от друга обратили внимание два химика — итальянец Джузеппе Оддо и американец Уильям Харкинс. Их статьи вышли, соответственно, в 1914 и 1917 годах[8]. А правило, согласно которому элементы с четными номерами при прочих равных условиях преобладают над элементами с нечетными номерами, до сих пор называется в их честь правилом Оддо — Харкинса. Это правило обязательно приходится принимать во внимание, например при анализе химического состава земной коры[9].
Разгадка правила Оддо — Харкинса была предложена уже его первооткрывателями. Дело в том, что атомные ядра тяжелых элементов образуются в основном за счет слияния более легких ядер. Между тем ясно, что при слиянии двух одинаковых атомных ядер в любом случае получится ядро элемента с четным числом протонов, то есть с четным атомным номером. А затем образовавшиеся ядра сливаются друг с другом, давая опять же в первую очередь элементы с четными номерами. Например, “горение” гелия (Z=2), при котором его ядра объединяются друг с другом с большим выходом энергии, дает сначала неустойчивые короткоживущие ядра бериллия (Z=4), потом ядра углерода (Z=6), а потом и кислорода (Z=8).
До начала звездообразования во Вселенной были только водород, гелий и следовые количества лития. Насколько мы сейчас знаем, все элементы тяжелее лития синтезируются только в звездах и распространяются в результате взрывов сверхновых[10]. Это означает, что живым организмам было просто не из чего образоваться, пока не закончился жизненный цикл хотя бы первого поколения звезд и эти звезды не взорвались.
Авторами самой знаменитой статьи, описавшей механизм синтеза химических элементов в звездах, были четверо ученых: Маргарет Бербидж, Джеффри Бербидж, Уильям Фаулер и Фред Хойл. Эту статью часто называют по инициалам авторов “B2FH” (“бэ-квадрат-эф-аш”). Инициатором исследования был астрофизик Хойл: именно он первым догадался, что в звездах может синтезироваться не только гелий, но и углерод. Благодаря Хойлу в работу включились сперва профессиональный физик-ядерщик Фаулер (поначалу он был настроен скептически, но Хойл его переубедил), а потом астрономы Бербиджи. В сети легко найти замечательную фотографию, на которой все четверо отмечают 60-й день рождения старшего из них — Фаулера, а последний радуется действующей модели паровоза, которую ему подарили коллеги.
Статья B2FH опровергла более раннюю гипотезу Георгия Гамова, который считал, что ядра всех элементов синтезировались прямо во время Большого взрыва и с тех пор их концентрации остаются примерно постоянными. На самом деле гораздо вероятнее, что в первые миллиарды лет после Большого взрыва Вселенная была чисто водородно-гелиевой. И только потом она стала обогащаться тяжелыми элементами с помощью сверхновых звезд (“тяжелыми элементами” мы сейчас называем все, что тяжелее гелия или, в крайнем случае, лития).
Космическая эволюция
Итак, тяжелые элементы синтезируются внутри звезд и рассеиваются в пространстве, когда эти звезды взрываются в качестве сверхновых. Влияние сверхновых звезд на элементный состав Вселенной, таким образом, огромно. Рассеянные их взрывами тяжелые элементы входят в состав космической пыли, а она конденсируется в звезды следующего поколения — уже с полноценными системами, включающими землеподобные планеты. Этой темы мы еще коснемся позже, в главе 13.
Превращение водорода и гелия в более тяжелые элементы было одним из промежуточных этапов космической эволюции, которая привела к возникновению Солнечной системы, жизни и человека. Теория B2FH (если она верна) сама по себе показывает, что этой эволюции не могло не быть. В древней водородно-гелиевой Вселенной никогда бы не возникли ни Земля, ни жизнь. Сама возможность их появления стала результатом длинной цепочки событий космического масштаба, в ходе которых весь мир не раз качественно менялся (например, возникали ранее не существовавшие химические элементы, а вместе с ними — новые типы звезд). Вот такое качественное изменение мы и называем эволюцией. Это единый процесс, охватывающий физические, химические и биологические явления.
Тут стоит притормозить, чтобы уточнить значение слова “эволюция”. Традиционно существует два понимания этого термина — “узкое” и “широкое”. Эволюция в “узком” смысле определяется разными авторами несколько по-разному, но в любом случае она ограничивается чисто биологическими процессами и факторами (такими, например, как изменение частот генов в популяциях или перестройка жизненных циклов). Эволюция в “широком” смысле включает в себя не только исторические процессы, изучаемые биологией, но и исторические процессы, изучаемые другими науками — физикой, химией, астрономией, геологией, социальной историей. “Широкое” понимание эволюции можно встретить у Феодосия Григорьевича Добржанского, знаменитого генетика, одного из крупнейших биологов XX века.
“Общепринятого определения эволюции не существует, — писал Добржанский. — Эволюция — это изменение, но не любое изменение есть эволюция. Самое узкое определение признает только биологическую эволюцию, элементарные события которой — изменения частот генов в популяциях живых организмов. Накопление и объединение таких генетических событий на протяжении долгих периодов времени приводит к крупным биологическим изменениям: амеба или примитивный вирус могут превратиться в человека или могучий дуб. Когда примерно три миллиарда лет назад на планете Земля возникла жизнь, это было результатом сложной серии процессов, протекавших в неорганической природе. А примерно два миллиона лет назад биологическая эволюция породила человека — существо, способное к абстрактному мышлению, коммуникации на языке символов, обладающее самосознанием и осознанием своей смертности. Ясно, что между Большим взрывом, запустившим образование химических элементов, и появлением условий, подходящих для возникновения жизни, во Вселенной произошло множество событий. Эти события складываются в космическую (неорганическую) эволюцию. С другой стороны, человек — главный герой исторического процесса, в ходе которого биологические изменения его организма перекрываются культурной наследственностью, действующей через обучение. История человечества связана в первую очередь с эволюцией культуры. Три эволюции — космическая, биологическая и культурная — составляют единый грандиозный процесс универсальной эволюции”[11].
По определению палеонтолога Валентина Абрамовича Красилова, эволюция — это серия последовательных изменений с исторически значимым результатом[12]. Это определение не противоречит “широкому” пониманию эволюции по Добржанскому, и именно оно будет по умолчанию принято в данной книге. Синтез тяжелых элементов в звездах — это часть процесса космической эволюции, о котором мы будем время от времени говорить и дальше (в главах 3, 4, 7, 13, 16). Потом мы перейдем к биологической эволюции, разговору о которой будет посвящена почти вся вторая половина книги (главы 12–17). И только культурная эволюция в этой книге почти не рассматривается, за исключением краткого упоминания в конце главы 17.
Самый главный атом
Химия известных нам живых систем основана на одном главном элементе — углероде.
Проясним кое-какие термины. Любая совокупность атомов и молекул в химии (и в биологии) называется веществом. Вещества могут быть простыми (состоящими из одного элемента) или сложными (состоящими из разных элементов). Сложное вещество, в котором атомы разных элементов соединены между собой химическими связями, называется соединением. Любое соединение, как правило, имеет постоянный состав, который можно описать простой формулой, указывающей число атомов каждого элемента в его молекуле. Например, молекула воды состоит из двух атомов водорода (H) и одного атома кислорода (O). Соответственно, формула воды — H2O.
Однако сейчас нас интересуют соединения углерода (C). Они настолько разнообразны, что их изучением занимается целая область химии — органическая химия. Поначалу, в XIX веке, органической химией назвали химию веществ, образующихся в растительных и животных организмах и получаемых из них. Постепенно стало понятно, что в состав почти всех этих веществ входит углерод. В итоге органической химией стали называть химию любых более-менее сложных соединений углерода, безотносительно к тому, есть они в живых телах или нет. Сокращенно такие соединения принято называть просто “органическими веществами”. Многие из них действительно имеют какое-то отношение к живым (или мертвым) организмам, но далеко не все. Химический состав организмов — предмет отдельной науки, которая называется биохимией.
Углерод — шестой по счету элемент таблицы Менделеева. Это означает, что его атом содержит шесть протонов (Z=6). Чистый углерод известен нам в виде алмаза, графита или угля. А валентность углерода в органических соединениях всегда равна 4. Это — важнейший факт, без знания которого понять устройство живых организмов просто невозможно.
Кроме того, углерод имеет три химические особенности, отчасти объясняющие, почему органических соединений так много. Во-первых, атом углерода способен образовывать устойчивую ковалентную связь почти с любым другим элементом менделеевской таблицы; далеко не про каждый атом можно такое сказать. Во-вторых, атомы углерода отлично образуют ковалентные связи друг с другом, создавая в результате длинные цепочки (в том числе ветвящиеся), кольца и другие сложные структуры. И в-третьих, ковалентная связь “углерод — углерод” легко может стать кратной, то есть двойной или тройной. К связям углерода с некоторыми другими элементами это тоже относится. Склонность углерода к образованию кратных связей очень важна и в органической химии, и в биохимии.
Углеводороды
Самое простое на свете органическое соединение называется метаном. Молекула метана состоит из одного атома углерода и четырех атомов водорода, соединенных с углеродом ковалентными связями. На языке химических символов это выглядит так: один углерод (C) и четыре водорода (H) образуют молекулу CH4 (формула метана). В более подробной формуле — графической — каждую ковалентную связь обозначают чертой, проводимой в данном случае между символами C и H.
Химические соединения, состоящие только из углерода и водорода, вполне логично называются углеводородами (см. рис. 1.4). Метан — это самый простой возможный углеводород. Примеры углеводородов, следующих за ним по сложности: этан (C2H6), пропан (C3H8), бутан (C4H10), пентан (C5H12), гексан (C6H14). Основу любой из этих молекул образует цепочка атомов углерода, соединенных между собой ковалентными связями. А все валентности, свободные от углерод-углеродных связей, там занимают атомы водорода. Зная эти принципы, нарисовать структуру углеводорода с любым заданным числом углеродных атомов можно очень легко. На графических формулах видно, что несколько знакомых нам теперь углеводородов — этан, пропан, бутан, пентан и гексан — отличаются друг от друга только числом совершенно одинаковых групп –CH2–.
Цепочки атомов углерода, соединенных ковалентными связями, образуют основу не только углеводородов, но и многих других органических веществ. Длина этих цепочек ничем не ограничена, в них вполне могут входить десятки, сотни, а иногда и тысячи атомов. Кроме того, углеродные цепочки не обязательно линейны. Они могут ветвиться, а могут и замыкаться в кольца.
Но и это еще не все. Бывают такие углеводороды, где некоторые углерод-углеродные связи в цепочке — двойные или тройные, то есть образованы двумя или тремя парами электронов. Напомним, что валентность углерода в органических молекулах всегда равна четырем. Поэтому атом углерода, участвующий в образовании двойной связи, может присоединить на один атом водорода меньше, а при тройной связи — на два атома водорода меньше по сравнению с атомом углерода, все связи которого одинарные. Разумеется, это отражается в формулах веществ. Простейший углеводород с двойной связью — этилен (C2H4), один из относительно немногих углеводородов, всерьез интересующих физиологов: он служит гормоном у растений. Простейший углеводород с тройной связью — ацетилен (C2H2). На современной Земле биохимическое значение ацетилена не слишком велико, зато он распространен в космосе и считается одним из самых вероятных участников добиологического синтеза, приведшего когда-то к возникновению жизни[13]. Это довольно активное вещество, которое прекрасно горит и может поэтому использоваться для освещения. В старину ацетиленовые фары умудрялись ставить даже на велосипеды. Взрыв такой велосипедной фары стал ярким воспоминанием героев повести Джерома Джерома “Трое на велосипедах” (продолжения знаменитой “Трое в одной лодке”): “…мы тихо-мирно ехали по Уитби-роуд, беседовали о Тридцатилетней войне, и вдруг твоя фара взорвалась, как будто из ружья пальнули. От неожиданности я свалился в канаву. Никогда не забуду лица миссис Гаррис, когда я говорил ей, что ничего страшного не произошло, волноваться не следует — тебя уже несут на носилках, а врач с сестрой будут с минуты на минуту...”[14] Сейчас ацетиленовые светильники используются редко. Дольше всего они продержались на отдаленных маяках, куда было трудно провести электричество.
Двинемся дальше. В некоторых углеводородах замыкание углеродной цепочки в кольцо сочетается с присутствием двойных связей, причем сразу нескольких. Самый известный из таких углеводородов — бензол (C6H6). Молекула бензола — это кольцо из шести атомов углерода с тремя одинарными и тремя двойными связями между ними (см. рис. 1.5А). Одинарные и двойные связи в кольце строго чередуются. В результате у каждого атома углерода остается по одной свободной валентности, и эти валентности заполняет, как всегда, водород.
Структуру бензола выяснил тот же знаменитый химик, который открыл четырехвалентность углерода, — немец Фридрих Август Кекуле. В свое время это было занимательной химической “интригой”: состав молекулы бензола — шесть атомов углерода и шесть атомов водорода — уже был точно известен, а вот порядок связей в этой молекуле долго оставался загадкой. Кекуле далеко не сразу удалось ее разгадать. Однажды он задремал днем у камина и увидел сон, в котором несколько переплетающихся змей образовали кольцо. Сон и подсказал ему правильную графическую формулу бензола[15]. Эту историю часто рассказывают школьные учителя химии, почему-то заменяя змей на цепляющихся друг за друга обезьян, которых Кекуле якобы видел в зоопарке. Про обезьян, судя по всему, чистейшая выдумка; но сон, навеянный размышлениями о бензоле, действительно был, и структуру бензола Кекуле установил в результате верно.
Правда, тут есть одна важная поправка. Проведенные в XX веке физические исследования показали, что все шесть углерод-углеродных связей в молекуле бензола на самом деле одинаковы: одинарные связи там невозможно отличить от двойных. Объясняется это тем, что электроны, образующие двойные связи, делокализованы (“размазаны”) по всему кольцу. И в результате все углерод-углеродные связи в бензоле не строго одинарные и не строго двойные, а как бы “полуторные” (см. рис. 1.5Б). На схемах органических молекул шестичленное углеродное кольцо с такой системой связей часто обозначают простым шестиугольником с кругом внутри (см. рис. 1.5В, Г). Эта структура — так называемое ароматическое ядро — есть во многих органических молекулах, в том числе и биологически активных. Ароматическое ядро, не входящее в состав никакой другой молекулы, — это просто бензол.
Жаль только, что Фридриха Августа Кекуле обычно упоминают в книгах в связи с формулой бензола и ни с чем другим. Тем самым его невольно недооценивают. Ведь Кекуле открыл не что-нибудь, а четырехвалентность углерода! Это одно из важнейших химических открытий XIX века, сильно повлиявшее на развитие не только химии, но и биологии.
Углеводороды, как правило, биохимически неактивны. Подавляющее большинство органических соединений, участвующих у живых организмов в обмене веществ, содержит как минимум еще и кислород, то есть к углеводородам никак не относится.
Спирты
Теперь давайте вспомним, что валентность кислорода равна двум. На языке химических символов это означает, что кислород может входить в органические соединения в виде группы –O–. Если же одну из валентностей кислорода займет водород, то получится группа –O–H, сокращенно просто –OH (черточку, обозначающую связь, в формулах часто опускают, это никак не влияет на их смысл). Группа –OH называется гидроксильной, а органические соединения, в состав которых она входит, — спиртами (см. рис. 1.6).
Самый простой из всех возможных спиртов — метиловый, или метанол. Он включает всего один атом углерода, к которому присоединены три атома водорода и гидроксильная группа. Формулу метилового спирта можно записать так: CH3OH. Добавим, что группа –CH3 называется метильной. Итак, молекула метилового спирта состоит только из метильнойи гидроксильной групп.
Если атомов углерода в молекуле больше одного, то получаются более сложные спирты — этиловый (C2H5OH), пропиловый (C3H7OH), бутиловый (C4H9OH) и так далее. В общем, любой спирт можно описать как соединение, состоящее из гидроксильной группы и углеводородного радикала (радикал — это изменяемая часть молекулы, все равно что x в арифметическом уравнении).
В спирте может быть и несколько гидроксильных групп, если присоединить их к разным атомам углерода (к одному и тому же нельзя: такая молекула будет слишком неустойчивой). Например, можно создать спирт с двумя атомами углерода, двумя гидроксильными группами и формулой C2H4(OH)2. Это будет этиленгликоль. Возможен и спирт в виде цепочки из трех атомов углерода, каждый из которых несет свою гидроксильную группу. Это будет глицерин. Все свободные валентности и в этиленгликоле, и в глицерине заняты атомами водорода (далее мы будем опускать это уточнение, с органическими веществами оно подразумевается само собой). Краткая формула глицерина — C3H5(OH)3. Биохимикам он интересен, потому что с его участием образуются жиры и некоторые другие важные для клеток вещества — мы поговорим о них в главе 5.
Переведем дух. Очевидно, что обилие химических формул (а дальше их будет еще больше!) при поверхностном взгляде вполне может отпугнуть человека, который раньше никогда в своей жизни ни с чем подобным не сталкивался. Очередная хорошая новость заключается в том, что в этой области практически невозможно ошибиться. Ведь, по сути, единственное, что надо знать для составления формул органических веществ, — это валентности элементов (напомним: водород — 1, кислород — 2, азот — 3, углерод — 4, фосфор — 5). Любая графическая формула, нарисованная с соблюдением этих валентностей, уже тем самым будет правильной. Конечно, вещество может оказаться редким, или неустойчивым, или никем еще не полученным, или относящимся к неизвестному вам классу, но его формула от этого верной быть не перестанет. Полная творческая свобода: знай себе комбинируй готовые блоки в новые структуры.
Формулы органических веществ в чем-то напоминают китайские и японские иероглифы. Они примерно так же составляются из набора готовых радикалов (известный филолог-японист Кирилл Черевко так и пишет: “Иероглифы образуются из различных сочетаний ограниченного числа простых элементов — подобно тому как из атомов образуются молекулы”). Причем в случае с иероглифами количество радикалов намного (в десятки раз) больше, а правила их сочетания куда прихотливей.
Любая графическая формула — это своего рода уникальный “портрет” данного соединения. Из запечатленного в ней порядка связей сразу же следуют многие свойства вещества, как физические, так и химические. Например, гексан (C6H14) и бензол (C6H6) существенно различаются по свойствам, хотя оба они — углеводороды, включающие по шесть атомов углерода. Свойства соединений, в состав которых дополнительно входит кислород или азот, скорее всего, будут различаться еще сильнее. И что самое главное, эти различия будут закономерными: химик, мало-мальски разбирающийся в строении молекул, легко их предскажет.
В общем, мир органических соединений разнообразен, увлекателен и, главное, внутренне логичен. Знакомство с ним, даже на самом начальном уровне, менее всего похоже на примитивную зубрежку. Воспримем это знакомство как легкую прогулку по “зоологическому саду молекул” — наподобие “зоологического сада планет”, о котором писал Гумилев в стихотворении “Заблудившийся трамвай”. В этой области чем больше формул — тем понятнее.
От эфиров до углеводов
Сделаем еще один шаг. Кислород (–O–) может входить в органические молекулы не только в составе гидроксильной группы. С тем же успехом он способен образовать мостик между двумя атомами углерода, как, например, в диметиловом эфире: CH3–O–CH3. Вещества с общей формулой R1–O–R2, где R1 и R2 — любые углеводородные радикалы, называются простыми эфирами. Диметиловый эфир — их простейший представитель.
Остановимся в этом месте. Нам уже знакомо вещество под названием “этиловый спирт” (он же просто этанол). Так вот, краткая формула этилового спирта полностью совпадает с записанной таким же способом краткой формулой диметилового эфира: C2H6O! Хотя это совершенно разные вещества, они относятся к разным классам и обладают разными химическими свойствами. Вещества, имеющие одинаковый атомный состав, но разную структуру, называются изомерами. Изомерия, то есть существование изомеров, — это очень частое явление в органической химии, в том числе и в биохимии.
Легко заметить, что этиловый спирт (CH3–CH2OH) и диметиловый эфир (CH3–O–CH3) на самом деле отличаются только положением атома кислорода: в одном случае он находится между углеродом и водородом, а в другом — между двумя углеродами. Такого изменения часто бывает достаточно, чтобы “перенести” вещество в другой класс или, во всяком случае, серьезно изменить его свойства. Разные органические молекулы строятся из одних и тех же блоков по принципам, очень напоминающим знаменитый конструктор лего. А число изомеров у сложных молекул может быть любым — вплоть до десятков, сотен, тысяч, миллионов и так далее. У белков и нуклеиновых кислот оно вообще достигает астрономических величин (см. главы 3, 8).
Разнообразие кислородсодержащих органических веществ вовсе не исчерпывается спиртами и простыми эфирами. Дело в том, что кислород может образовать с углеродом не только одинарную связь, но и двойную. К самому кислороду тогда больше ничего не присоединяется (двойная связь поглощает обе его валентности), и возникает легко узнаваемая группа –СO–. Если по обеим сторонам этой группы находятся углеводородные радикалы, такое соединение называется кетоном. Общая формула кетона: R1–CO–R2. Самый простой кетон имеет формулу CH3–CO–CH3 и называется ацетоном; он широко известен как бытовой растворитель. Если же по одну сторону от группы –CO– находится углеводородный радикал, а по другую просто атом водорода, то такое соединение называется альдегидом. Общая формула альдегида: R–CO–H.
Интересно, что и вещество с формулой H–CO–H, где оба радикала сводятся к атомам водорода, тоже принято считать альдегидом. Название этого вещества — муравьиный альдегид, или формальдегид. Это одно из самых простых органических веществ в природе. Водный раствор формальдегида, часто используемый биологами для консервации объектов, — жидкость с отвратительным едким запахом, которая называется формалином. За формальдегидом по сложности следует уксусный альдегид (CH3–CO–H), ну и так далее.
Бывает и так, что в одну и ту же молекулу входит несколько разных кислородсодержащих групп. Например, спирт, который одновременно является альдегидом или кетоном, по-научному называется углеводом. Самый простой из всех возможных углеводов — гликольальдегид, формула которого CH2OH–CO–H. Как видим, гликольальдегид включает в себя всего два атома углерода. Один из этих атомов углерода несет гидроксильную группу (как в любом спирте), а второй входит в состав альдегидной группы.
Относительно простые углеводы часто называют сахарами. Таким образом, гликольальдегид — это двухуглеродный сахар. Вот тут мы уже в полной мере заходим в область биологии: гликольальдегид — важный участник обмена веществ во всех живых клетках.
Еще более широко известны сахара, основу которых образуют цепочки из пяти или шести атомов углерода. Такие сахара называют, соответственно, пяти- или шестиуглеродными. Познакомимся для начала с тремя их представителями:
* рибоза — пятиуглеродный сахар с четырьмя гидроксильными группами и альдегидной группой;
* глюкоза — шестиуглеродный сахар с пятью гидроксильными группами и альдегидной группой;
* фруктоза — шестиуглеродный сахар с пятью гидроксильными группами и кетогруппой.
Краткую формулу рибозы можно записать так: C5H10O5. А глюкоза и фруктоза — изомеры с общей формулой C6H12O6. Сравнив их графические формулы, легко увидеть, что глюкоза отличается от фруктозы только положением группы –CO– (в глюкозе на конце углеродной цепочки, а во фруктозе внутри нее). Этого достаточно, чтобы дать веществу совсем другие химические свойства. И действительно, фруктоза несколько иначе, чем глюкоза, участвует в нашем обмене веществ. Именно поэтому ее часто используют в качестве заменителя обычного сахара (в состав которого глюкоза как раз входит). Сладкие продукты “на фруктозе” можно сейчас найти в любом супермаркете.
Мир кислот
Следующий интересный класс веществ — карбоновые кислоты (см. рис. 1.7). Это соединения, в состав которых входит группа –CO–OH (она называется карбоксильной). Любая карбоновая кислота по общему виду формулы похожа на альдегид, но отличается от него “лишним” атомом кислорода, который и превращает альдегидную группу (–CO–H) в карбоксильную (–CO–O–H). Общая формула карбоновой кислоты: R–COOH, где R — любая углеводородная цепочка или просто атом водорода.
Простейшая карбоновая кислота — муравьиная (HCOOH). Следующая по сложности — уксусная (CH3COOH), затем — пропионовая (C2H5COOH), масляная (C3H7COOH) и т.д. Бывают и гораздо более экзотично выглядящие карбоновые кислоты: например, щавелевая, молекула которой представляет собой две карбоксильные группы, соединенные встык (HOOC–COOH). Она действительно есть в щавеле, а также в ревене и некоторых других растениях. Или бензойная кислота, имеющая в качестве радикала ароматическое ядро (C6H5COOH). Она тоже содержится во многих растениях, например в бруснике и клюкве, а еще служит широко распространенным консервантом (пищевая добавка E210).
Более того, молекула карбоновой кислоты вполне может включать в себя и другие группы, кроме карбоксильной. Например, в некоторых кислотах помимо карбоксильных групп есть гидроксильные (см. рис. 1.8). Такие соединения, по определению, являются одновременно кислотами и спиртами. Их называют спиртокислотами или (чаще) оксикислотами. Именно к этому классу относится важный промежуточный продукт нашего обмена веществ — молочная кислота, молекула которой включает три атома углерода, одну карбоксильную группу и одну гидроксильную (CH3–CHOH–COOH). Винная кислота, химию которой в свое время изучал великий Луи Пастер, устроена чуть сложнее: четыре атома углерода, две карбоксильные группы и две гидроксильные (HOOC–CHOH–CHOH–COOH). Она действительно есть в вине, а иногда добавляется и в еду, например в кондитерские изделия (пищевая добавка Е334). Заметим, что пугаться таких добавок не стоит: очень часто они, как в данном случае, представляют собой безобидные вещества, с тем же успехом изобилующие в самых что ни на есть натуральных продуктах. Винной кислоты, например, много в винограде и яблоках.
Бывают и такие кислоты, которые одновременно являются альдегидами или кетонами. Тут достаточно одного примера: пировиноградная кислота — простейшая кетокислота с формулой CH3–CO–COOH. Эта молекула тоже играет огромную роль в нашем обмене веществ (см. главу 11).
И еще несколько слов о спиртах. Карбоновая кислота и спирт могут вступить между собой в реакцию, при которой от карбоксильной группы отщепляется –OH, а от спиртовой –H. Эти отщепленные фрагменты тут же образуют воду (формула которой H–O–H или H2O). А остатки кислоты и спирта соединяются в сложный эфир — молекулу с общей формулой R1–CO–O–R2. Надо учитывать, что сложные эфиры и уже знакомые нам простые эфиры — это совершенно разные классы соединений, которые ни в коем случае нельзя путать. По-английски, например, они обозначаются разными корнями, соответственно ester (сложный эфир) и ether (простой эфир). Среди биологически активных веществ есть и те и другие, но сложных эфиров там в целом больше. Без знания того, что это такое, невозможно разобраться, например, в устройстве клеточной мембраны.
Кислоты versus основания
А теперь нам самое время задаться вопросом, что такое кислота. И заодно — что такое основание.
Начнем с кислоты. Как правило, кислотой называют молекулу, которая в водном растворе диссоциирует (это высоконаучный термин, означающий “распадается”) на катион водорода, то есть протон (H+), и некий анион. Например, уксусная кислота (CH3COOH) распадается в водном растворе на протон и ацетат-ион, имеющий формулу CH3COO–. Так же ведут себя и все остальные карбоновые кислоты. И не только карбоновые, но и любые другие. Например, соляная кислота (HСl) потому и называется кислотой, что распадается в воде на протон (H+) и ион хлора (Cl–). Правда, на самом-то деле протон не способен самостоятельно существовать в водном растворе — он всегда мгновенно захватывается водой, образуя так называемый ион гидроксония (H3O+). Концентрацию именно этих ионов реально измеряют при определении кислотности раствора.
Шведский химик Сванте Аррениус определял кислоту как соединение, диссоциирующее в водном растворе с образованием протона (H+), а основание — как соединение, диссоциирующее в водном растворе с образованием гидроксил-иона (OH–). Это определение — исторически первое и до сих пор самое известное, именно его обычно учат на уроках химии в школе. Хороший пример основания по Аррениусу — едкий натр NaOH, он же гидроксид натрия или просто натриевая щелочь. Это типичное ионное соединение. Даже в твердом состоянии натриевая щелочь состоит из ионов [Na+] и [OH–], а в воде она на эти ионы тут же распадается.
Теперь — плохая новость. В биохимии определение кислот и оснований по Аррениусу совершенно неприменимо. Вместо него мы будем пользоваться определением датского химика Йоханнеса Николауса Брёнстеда: кислота — молекула, отдающая протон, основание — молекула, принимающая протон.
Что это значит? Пусть, например, у нас взаимодействуют уксусная кислота и вода. В процессе взаимодействия от уксусной кислоты (CH3COOH) оторвется протон (H+), который перейдет к воде (H2O). В результате получатся анион CH3COO– и катион H3O+. В этой реакции уксусная кислота “работает” кислотой (она отдала протон), а вода — основанием (она присоединила протон). Это и есть определение Брёнстеда. Запись этой реакции будет такой:
CH3COOH + H2O ⇌ CH3COO– + H3O+
А если для простоты проигнорировать участие воды, то такой:
CH3COOH ⇌ CH3COO– + H+
По Брёнстеду, “кислота” или “основание” — это не постоянное свойство соединения, а только и исключительно его роль в данной химической реакции. В принципе даже уксусная кислота может оказаться в “непривычной” для себя роли основания, если смешать ее с какой-нибудь более сильной кислотой — например, серной (H2SO4). В этом случае серная кислота отдаст протон и превратится в анион HSO4–, а уксусная кислота присоединит протон и превратится в довольно редкий, однако вполне реально существующий катион CH3COOH2+:
CH3COOH + H2SO4 ⇌ HSO4– + CH3COOH2+
И, по нашему определению, уксусная кислота в этой реакции будет основанием.
К счастью, условия, с которыми приходится иметь дело в биологии, настолько однотипны, что для подавляющего большинства веществ смена ролей кислот и оснований там редкость. Так что мы можем смело считать кислотой любую молекулу, которая в условиях живой клетки обычно отдает протон, а основанием — любую молекулу, которая в условиях живой клетки обычно его присоединяет. Единственное важное исключение — вода. Она примерно с одинаковым успехом может и отдавать протон, и присоединять его. Для всех остальных веществ “роли” кислот и оснований тут более-менее постоянны.
Одно из самых распространенных в природе оснований — гидроксил-ион OH–, тот самый, который образуется при диссоциации щелочи. Он очень легко присоединяет к себе протон и превращается в воду. Но с тем же успехом в составе основания может и не быть атомов кислорода. Например, аммиак (NH3) — образцовое основание, никакого кислорода не содержащее. В растворе молекула аммиака присоединяет к себе протон и превращается в катион аммония (NH4+). Кстати, этот ион очень похож по структуре на молекулу метана (CH4). Различаются они только зарядом ядра центрального атома.
А теперь вернемся к органической химии. Соединения углерода, в которых есть группа –NH2, называются аминами. Общая формула аминов: R–NH2. Сама группа –NH2 называется аминогруппой. При желании вполне можно сказать, что амин — это аммиак, у которого вместо одного из атомов водорода углеводородная цепочка. Аминогруппа в составе амина сохраняет основные свойства (такие же, как у аммиака), поэтому амины остаются полноценными основаниями. Самый простой из всех возможных аминов — метиламин (CH3–NH2), где атом углерода всего один. Как и следует из названия, он состоит из двух групп: метильной и аминогруппы. Между прочим, это то самое вещество, с кражами которого был связан ряд приключений героев захватывающего сериала “Во все тяжкие” (Breaking Bad).
Что ж, двинемся еще на шаг вперед. Любое вещество, включающее одновременно аминогруппу (–NH2) и карбоксильную группу (–COOH), то есть являющееся одновременно амином и карбоновой кислотой, называется аминокислотой. Вот мы и добрались до насущного хлеба биохимиков. Роль аминокислот в живых организмах огромна: они служат и питательными веществами, и промежуточными продуктами обмена веществ, и — это, пожалуй, самое главное — “кирпичиками”, из которых строятся важнейшие для земной жизни молекулы, а именно белки. Как именно это происходит, мы узнаем в главе 3.
Любая аминокислота проявляет одновременно кислотные свойства (как карбоновая кислота) и основные (как амин). Когда аминокислота попадает в водный раствор, ее карбоксильная группа обычно теряет протон, зато аминогруппа в тот же самый момент протон приобретает. В результате получается цвиттер-ион — нейтральная молекула, разные части которой несут компенсирующие друг друга разноименные заряды. Карбоксильная группа, отдав протон, становится анионом, аминогруппа, присоединив протон, становится катионом, а суммарный электрический заряд молекулы аминокислоты в результате остается равным нулю.
Самая простая из всех возможных аминокислот — глицин. Формула глицина: NH2–CH2–COOH. Интересно, что в нашем организме, как и в организмах многих животных, глицин служит нейтротрансмиттером, то есть веществом, передающим сигналы в нервной системе. Причем его действие на нервные клетки — тормозящее, то есть затрудняющее возбуждение. Именно поэтому глицин часто принимают в качестве успокоительного. Так вот, по химической формуле это типичная аминокислота. В цвиттер-ионной форме она будет выглядеть так: NH3+–CH2–COO–.
Углеродный шовинизм
Сейчас мы знаем уже довольно много о химических “слагаемых” жизни. Мы знаем, что такое спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, углеводы, амины и аминокислоты. Все это — соединения углерода. Но вот вопрос: обязательно ли любая жизнь должна быть основана на углероде?
Мнение, что жизнь может быть только углеродной, еще в 1970-х годах стали называть “углеродным шовинизмом”. Люди, употреблявшие этот термин — например, известный философ Пауль Фейерабенд, — считали “углеродный шовинизм” признаком ограниченности воображения ученых, не способных допустить существование чего-то высокоорганизованного, но при этом принципиально отличающегося от привычных нам земных животных и растений. Этот подход отлично спародировал Станислав Лем в “Звездных дневниках Ийона Тихого”. Есть там эпизод, где один ученый-негуманоид, житель огненной планеты с аммиачной атмосферой, поучает своего студента следующим образом:
“Как выглядят разумные существа иных миров? Прямо не скажу, подумай сам, научись мыслить. Прежде всего они должны иметь органы для усвоения аммиака, не правда ли? Какое устройство сделает это лучше, чем скрипла? Разве они не должны перемещаться в среде в меру упругой, в меру теплой, как наша? Должны, а? Вот видишь! А как это делать, если не хожнями? Аналогично будут формироваться и органы чувств — зрявни, клуствицы и скрябы...”
Что ж, не будем уподобляться косному мудрецу с огненной планеты. Включим воображение. В мысленных экспериментах на роль химической основы жизни не раз предлагались вместо углерода другие элементы, способные создавать цепочки атомов, — кремний (Si), бор (B) или азот (N). Однако бор и азот имеют валентность 3, а не 4, и это уже ограничивает разнообразие соединений, которые из них можно получить. При этом бора во Вселенной чрезвычайно мало, а длинные цепочки атомов азота образуются только при огромных давлениях, какие могут существовать разве что в глубинах планет-гигантов. В условиях, более-менее напоминающих земные, самым вероятным кандидатом на роль заменителя углерода остается кремний. Он имеет подходящую валентность 4, образует соединения, подобные углеводородам, и может реагировать с кислородом. Но есть несколько причин, по которым углерод при прочих равных условиях все же больше подходит на роль химической основы жизни.
Во-первых, углерод легко образует двойные связи (важнейшее для земной биохимии свойство!), а кремний из-за большего размера атома к этому неспособен.
Во-вторых, двуокись углерода (CO2) — это при нормальных условиях углекислый газ, прекрасно растворяющийся в воде. А двуокись кремния (SiO2) при тех же условиях — тугоплавкое твердое вещество с кристаллической решеткой, прошитой множеством ковалентных связей. Чистый SiO2 — это попросту кварц. Очевидно, что включить его в обмен веществ было бы гораздо труднее, чем углекислоту CO2.
В-третьих, кремний-кремниевая связь менее прочна, чем углерод-углеродная, поэтому кремневодороды по сравнению с углеводородами гораздо легче разлагаются.
В итоге надо признать: вероятность, что жизнь на других планетах окажется углеродной, достаточно высока. И тот факт, что наша собственная жизнь оказалась углеродной, определенно неслучаен. Но это вовсе не значит, что живые существа, возникшие в любой точке Галактики, будут копиями земных! Любители поспорить о возможности кремниевой жизни зачастую упускают из виду, что альтернативная биохимия, очень сильно отличающаяся от земной, в принципе может быть получена и без всякого нарушения “углеродного шовинизма”.
Давайте-ка еще раз присмотримся к химическим компонентам живых клеток. Из тех веществ, которые нам уже знакомы, в состав клеток входят, прежде всего, спирты, углеводы, сложные эфиры, карбоновые кислоты, оксикислоты и аминокислоты. Что у них общего? Ответ однозначен: все эти соединения — кислородсодержащие. Мы уже видели, что группы, за счет которых они отличаются друг от друга, почти всегда включают кислород (аминогруппа тут — единственное исключение, но и в аминокислотах кислород по определению всегда есть). Итак, земная жизнь построена из кислородсодержащей органики.
Однако ниоткуда не следует, что эта возможность — единственная. В состав органических молекул вполне могут входить и многие другие элементы помимо кислорода — например, азот и сера. С азотом мы уже знакомы, а о сере (S) сейчас достаточно сказать, что ее валентность в органических веществах чаще всего равна двум — как у кислорода. А теперь назовем навскидку несколько классов органических соединений, в которых есть азот или сера, зато никакого кислорода нет (см. рис. 1.9):
* имины — соединения с двойной связью между углеродом и азотом (C=N);
* нитрилы — соединения с тройной связью между углеродом и азотом (C≡N);
* азосоединения, включающие двойную связь между атомами азота (N=N);
* тиолы, тионы, тиоэфиры, тиоальдегиды и тиокарбоновые кислоты — аналоги, соответственно, спиртов, кетонов, простых эфиров, альдегидов и карбоновых кислот, в состав которых вместо кислорода входит сера.
Зная валентности элементов, мы можем легко представить себе набор простых представителей иминов (CH3–CNH–CH3), нитрилов (CH3–C≡N), азосоединений (CH3–N=N–CH3), тиолов (CH3–SH), тионов (CH3–CS–CH3), тиоэфиров (CH3–S–CH3), тиоальдегидов (CH3–CS–H) и тиокарбоновых кислот (CH3–CS–SH). В химическом “зоопарке” Земли это довольно редкие экспонаты — настолько, что не во всяком учебнике химии найдется упоминание о них. Но везде ли во Вселенной дело обстоит именно так? Мы этого не знаем. Если какая-нибудь планета будет по своему элементному составу обеднена кислородом, то вполне возможно, что основой жизни на этой планете послужит не кислородсодержащая органика, а азотсодержащая или серосодержащая. Такая жизнь будет вполне “углеродной” и тем не менее химически совсем иной, чем земная.
Есть, например, предположения, что молекулярная основа инопланетной жизни может иметь смешанный углеродно-азотный скелет[16]. Аналог углеводорода, построенный на таком скелете, мог бы выглядеть так: CH2=N–CH2–CH=N–CH2–CH=N–... — и т.д. А где возможны углеводороды (или хотя бы что-то на них похожее), там наверняка возможны и более сложные вещества.
Можно добавить, что в современных списках наиболее вероятных химических предшественников жизни кислородсодержащей органики на самом-то деле не так уж и много[17]. Зато там фигурируют такие интересные молекулы, как ацетилен (H–C≡C–H), сероводород (H2S), аммиак (NH3), синильная кислота (H–C≡N) и цианамид (NH2–C≡N). Глядя на эти формулы, уже нетрудно допустить, что химические “кирпичики” инопланетных живых существ, отличающиеся от привычных нам сахаров и аминокислот, но имеющие похожие функции, в принципе могли бы оказаться и бескислородными. Во всяком случае, набор возможностей здесь точно гораздо шире того, что удалось реализовать на Земле.
2. вода
Что такое вода?
Ученые ответят: Н2O.
А Дональд Биссет:
— Алмазы на траве.
Наталья Шерешевская (из книги Дональда Биссета “Забытый день рождения”)Вода — одно из самых распространенных веществ на планете Земля. Она покрывает две трети земной поверхности, и ее очень много в живых организмах — гораздо больше, чем любого другого вещества. Подавляющее большинство биохимических реакций, то есть превращений жизненно важных молекул друг в друга, идет в растворах, где вода является растворителем. Воды много и в космосе — например, в кометах, в недрах Урана и Нептуна или в межзвездных туманностях. В целом можно сказать, что вода — это одно из самых распространенных веществ не только на Земле, но и вообще во Вселенной. Иное дело, что далеко не на всех планетах она встречается в жидком виде (Земля — единственная планета Солнечной системы, на поверхности которой есть постоянно существующие водоемы). Так или иначе, неудивительно, что именно вода послужила средой для всем нам знакомой жизни.
Что же такое вода с точки зрения химии? Это весьма простая молекула, состоящая всего лишь из двух атомов водорода (H) и одного атома кислорода (O). Соответственно, химическая формула воды — H2O. Каждый атом водорода соединен с атомом кислорода одной ковалентной связью, в полном соответствии с валентностью кислорода, которая (как мы помним) равна двум. Формулу воды можно записать и так: H–O–H. Это эквивалентно формуле H2O, которую обычно приводят в книгах.
Многие свойства воды объясняются тем, что ее молекулы исключительно хорошо “слипаются” друг с другом. Например, на поверхности водоема они образуют пленку, по которой клопы-водомерки, отнюдь не микроскопические существа, бегают как посуху. Другие особенности воды как вещества — прекрасная теплопроводность и высокая температура кипения (на испарение литра воды надо потратить больше энергии, чем на испарение того же объема чуть ли не любой другой жидкости). Чтобы понять, почему вода именно такова, надо присмотреться к ее молекулам повнимательнее.
Водородная связь
Начнем вот с чего. В общей химии часто встречается понятие “электроотрицательность”, введенное когда-то Лайнусом Полингом. Электроотрицательность — это сила, с которой атом в составе молекулы оттягивает на себя общие с другим атомом электроны, образующие ковалентную связь. Самый электроотрицательный элемент — фтор (F), а сразу за ним на шкале электроотрицательности следует кислород (O). Иначе говоря, кислород превосходит по электроотрицательности все другие атомы, за исключением фтора, который в живой природе встречается очень редко. Запомним этот факт, он нам пригодится.
Электроотрицательность одинаковых атомов по определению равна. Если между двумя одинаковыми атомами есть ковалентная связь, то образующая ее пара электронов никуда не смещается. Грубо говоря, эти электроны располагаются между атомами точно посредине. Такая ковалентная связь называется неполярной. Само собой разумеется, что любая ковалентная связь между одинаковыми атомами будет неполярна (например, связь в молекуле водорода H–H или углерод-углеродная связь C–C).
Если же ковалентную связь образуют два разных атома, то общие электроны смещаются к тому из них, у которого электроотрицательность выше. Такая связь называется полярной (см. рис. 2.1, 2.2А). При очень большой разнице в электроотрицательности связь может даже превратиться в ионную — это случится, если один атом полностью “отберет” общую пару электронов у другого. В молекулах, из которых состоят живые существа, ионные связи встречаются относительно редко, зато ковалентные полярные — очень часто. Например, это широко распространенные в органических веществах связи C–O и H–O (см. главу 1).
Связь между водородом и кислородом в молекуле воды — это типичная ковалентная полярная связь. Электроотрицательность кислорода намного выше, поэтому общие электроны смещены к нему. В результате на атоме кислорода образуется маленький отрицательный заряд, а на атомах водорода — маленькие положительные заряды. На графических формулах эти маленькие заряды, величина которых значительно меньше единицы, принято обозначать буквой δ (“дельта”) с добавлением соответствующего знака. Как мы теперь знаем, связи кислорода с водородом или углеродом вообще всегда полярные. Молекулы, в которых много таких связей, несут многочисленные частичные заряды, отрицательные на кислороде и положительные на водороде или углероде (см. рис. 2.1, 2.2Б).
А вот связь между углеродом и водородом (C–H) считается неполярной, хоть атомы и разные. И это тоже очень важно. Между атомами углерода и водорода разница в электроотрицательности настолько мала, что смещение электронов там незаметно. Например, молекулы углеводородов, состоящие только из атомов C и H, в силу этого полностью неполярны, никаких частичных зарядов, которые хоть на что-то влияли бы, в них нет.
Теперь вспомним, что положительные и отрицательные электрические заряды согласно закону Кулона притягиваются друг к другу. Например, частично отрицательный атом кислорода одной молекулы воды притягивается частично положительными атомами водорода других молекул воды. В результате между водородом и кислородом возникают нековалентные связи, основанные на электростатическом притяжении, — они называются водородными (см. рис. 2.2В). Это очень слабые связи, в жидкой воде они легко образуются и так же легко рвутся при движениях молекул. Но, несмотря на то что водородные связи гораздо слабее ковалентных, они дают сильный эффект, если их много. А в воде их очень много. Например, именно из-за колоссального количества водородных связей у воды исключительно высокая теплоемкость — ее трудно нагреть и трудно остудить. Большинство особенностей воды так или иначе связано с тем, что ее молекулы очень хорошо образуют водородные связи.
“Водородная связь чем-то напоминает любовь втроем”, — писал в своем известном университетском учебнике американский биохимик Люберт Страйер[18]. Он имел в виду, что в водородной связи атом водорода связан сразу с двумя атомами кислорода: с одним ковалентно (и прочно), а с другим электростатически (и слабо). Чтобы образовать водородную связь, атом водорода обязательно должен уже состоять в ковалентной связи с другим атомом, причем значительно отличающимся от него по электроотрицательности.
Водородные связи важны не только с точки зрения свойств воды. Они много где встречаются. Например, в главе 9 мы увидим, что без водородных связей невозможно представить себе структуру молекулы ДНК, от которой зависит хранение наследственной информации.
Любовь и ненависть воды
Любое вещество, растворенное в воде, так или иначе взаимодействует с ней, и способ этого взаимодействия зависит, прежде всего, от электрических свойств молекул. Например, если растворить в воде поваренную соль (NaCl), она распадется на положительно заряженные ионы натрия (Na+) и отрицательно заряженные ионы хлора (Cl–). При этом к ионам натрия молекулы воды “прилипнут” своими атомами кислорода (несущими маленький отрицательный заряд δ–), а к ионам хлора — атомами водорода (несущими маленький положительный заряд δ+). В результате и те и другие ионы получат оболочку, состоящую из молекул воды (см. рис. 2.3). Образование таких оболочек называется гидратацией. Ионы натрия и хлора находятся в воде в гидратированном состоянии. Гидратация — процесс, сопутствующий растворению в воде любого вещества (если оно вообще в ней растворимо, конечно).
Молекулы, в которых много ковалентных полярных связей, тоже прекрасно взаимодействуют с водой — в первую очередь потому, что образуют с ней водородные связи, “цепляясь” за молекулы воды своими частичными зарядами. Такие вещества хорошо растворяются в воде и называются гидрофильными (“любящими воду”). К гидрофильным веществам относятся, например, спирты и углеводы (см. главу 1). Каждый знает, что столовый сахар (а это типичный углевод) растворяется в воде очень хорошо. То же самое можно сказать и о спиртах, например об этиловом спирте — основе алкогольных напитков. Именно растворам спирта в воде была посвящена знаменитая диссертация Дмитрия Ивановича Менделеева[19]. Правда, рецепта водки Менделеев, вопреки распространенной легенде, не разрабатывал. Его интересовало происходящее при растворении взаимодействие молекул спирта и воды — тот самый процесс, который мы только что назвали гидратацией. Менделеев убедительно показал, что растворение — это не физическое явление (простое смешивание), а химическое (включающее образование новых межмолекулярных связей). Тогда получается, что раствор — это, по сути, новое вещество.
Как правило, любое наугад взятое органическое соединение будет растворяться в воде тем лучше, чем больше в нем атомов кислорода. Это понятно: именно вокруг атомов кислорода обычно образуются водородные связи. Например, молекула глюкозы (C6H12O6, шесть атомов кислорода!) в этом отношении просто идеальна. Как раз поэтому сахара, и глюкозу в том числе, очень удобно использовать в роли быстро усваивающихся питательных веществ.
Молекулы, в которых все связи неполярные, взаимодействуют с водой гораздо слабее, чем друг с другом[20]. Вещества, состоящие из таких молекул, плохо растворяются в воде и называются гидрофобными (“боящимися воды”). Типичные гидрофобные соединения — углеводороды. Как мы знаем, они по определению состоят только из углерода и водорода, связи между которыми неполярны. Если бросить в воду парафин (смесь твердых углеводородов, из которой делают свечи), он и не подумает там растворяться — ни при каких условиях. А если налить в воду бензин (смесь жидких углеводородов, которая служит моторным топливом), то он, скорее всего, отслоится от нее, образовав четкую поверхность раздела. Вода как бы “выталкивает” эти вещества.
Если в формуле органического соединения есть кислород, то оно, скорее всего, гидрофильное, разве что там присутствует какая-нибудь совсем уж огромная углеводородная цепочка. Гидрофильными бывают и некоторые бескислородные органические вещества — например, амины.
В биохимии значение различий между гидрофильными и гидрофобными веществами без преувеличения грандиозно (см. главы 3, 5, 6). Многие детали устройства клеток без учета этих различий просто невозможно понять. А все потому, что земная жизнь — водная.
Талассогены
А могут ли подойти для жизни какие-нибудь другие растворители, кроме воды? Ответ — да. Например, углекислота (ее формула O=C=O, или просто CO2) знакома людям, прежде всего, в виде углекислого газа, который мы выдыхаем. Но она может и замерзать, образуя так называемый сухой лед. Проблема в том, что при нагревании в условиях, характерных для Земли, сухой лед сразу испаряется в газ, минуя жидкую фазу. Потому мы и не видим в быту жидкой углекислоты. Однако при более высоких давлениях, чем наше атмосферное, углекислота может становиться жидкостью. И тогда она представляет собой хороший гидрофильный растворитель, аналогичный по свойствам воде (и легко смешивающийся с ней), в котором успешно идут многие биохимические реакции. В этом растворителе могут жить даже земные микробы: например, на дне Окинавского желоба в Восточно-Китайском море исследователи-океанологи нашли целое озеро жидкой углекислоты, в котором постоянно живут довольно разнообразные бактерии[21].
Некоторые исследователи считают, что океаны жидкой углекислоты могут существовать на так называемых “суперземлях” — планетах с массой, в несколько раз превосходящей массу Земли[22]. Суперземли — довольно многочисленная категория экзопланет, и возможность жизни на них сейчас активно обсуждается.
Другой перспективный кандидат на роль вмещающей среды для жизни — аммиак (NH3). Это гидрофильный растворитель, образующий много водородных связей, в данном случае между водородом и азотом (их разница в электроотрицательности для этого вполне достаточна, см. рис. 2.2Г). Неудивительно, что по своим физико-химическим свойствам аммиак напоминает воду. На более холодных планетах, чем Земля, он находится в жидком состоянии и вполне может быть основой жизни. Теоретически возможно существование холодных землеподобных планет с аммиачными океанами. Есть ли там жизнь, никто не знает. Но почему бы и нет? Если насчет альтернатив углеродной жизни есть серьезные сомнения (см. главу 1), то углеродную жизнь, использующую не воду, а какой-нибудь другой растворитель, представить себе гораздо легче. Никакие фундаментальные законы не запрещают ей существовать. Просто так уж сложилось, что на нашей планете из всех растворителей преобладает вода — ну а от добра добра не ищут, и земной жизни осталось лишь развиваться в этих относительно благоприятных условиях.
Еще один гидрофильный растворитель, в котором теоретически допускают возможность жизни, — метиловый спирт, или метанол (CH3OH). Для человека это страшный яд, но тут все зависит от настройки биохимических систем: вообще-то никакие законы природы не мешают “сконструировать” живой организм, для которого метанол будет совершенно безобиден, а то и полезен. Метанол — одно из самых простых органических веществ, и неудивительно, что образуется он очень легко. Его много в космосе, причем не только на планетах, но и в межзвездных газопылевых облаках. Некоторые ученые осмеливаются предполагать, что именно синтез метанола был ключевым химическим звеном на пути к возникновению земной жизни[23]. Метанол очень гидрофилен и прекрасно образует водородные связи, примерно такие же, как в воде. Собственно, это и делает его хорошим гидрофильным растворителем. Как и аммиак, метанол замерзает при гораздо более низкой температуре, чем вода, и в принципе может быть средой для жизни на более холодных планетах, чем Земля. В Солнечной системе метанола хватает, например на Тритоне, крупнейшем спутнике Нептуна.
Наконец, еще один кандидат на роль подходящего для жизни гидрофильного растворителя — сероводород, соединение водорода и серы с формулой H2S (она же H–S–H). Молекула сероводорода очень похожа на молекулу воды. Правда, водородные связи она образует несколько хуже. В Солнечной системе сероводорода много на Ио — спутнике Юпитера, который отличается невероятной геологической активностью. Поверхность Ио покрыта вулканами, выбрасывающими фонтаны лавы, а состоит эта лава в основном из разнообразных соединений серы, которые текут и застывают, ибо в системе Юпитера очень холодно. Ио — это настоящий “мир льда и пламени”[24]. Если бы на Ио была жизнь, она вполне могла бы быть основана на сероводороде, точно так же, как земная жизнь — на воде.
А может ли среда для жизни оказаться не гидрофильной, а гидрофобной? Исключить такое в принципе нельзя. Например, на крупнейшем спутнике Сатурна — Титане — есть углеводородные озера и даже моря, состоящие из метана (CH4), этана (C2H6) и пропана (C3H8). Это настоящий гидрофобный растворитель, в котором некоторые ученые допускают существование жизни, хотя прямых подтверждений этому пока что нет. Жидкой воды на поверхности Титана не бывает, там слишком холодно.
В целом, однако, сейчас кажется более вероятным, что главный растворитель для внеземной жизни окажется гидрофильным (но не обязательно водой). Во-первых, гидрофильных растворителей в природе просто больше. А во-вторых, все известные биохимические механизмы слишком уж сильно “заточены” под гидрофильную среду. Биохимию на гидрофобной основе вообразить гораздо труднее.
Из совсем уж экзотических альтернатив воде можно назвать, к примеру, фтороводород (HF, “аш-фтор”). Водный раствор фтороводорода — очень агрессивное вещество, которое называется плавиковой кислотой (в сериале “Во все тяжкие”, главный герой которого — химик, ставший преступником, этой кислотой растворяют трупы). Однако многие органические молекулы, например углеводороды, в ней совершенно стабильны. К тому же фтороводород прекрасно образует водородные связи, а это, как мы уже знаем, очень важное для растворителя свойство. Возможность фтороводородной жизни допускали некоторые ученые, например астроном Карл Саган. А в фантастической повести Ивана Ефремова “Сердце Змеи” описана планета с фтороводородным океаном и дышащими фтором разумными жителями, с которыми земляне вступают в контакт. “Люди Земли увидели лиловые волны океана из фтористого водорода, омывавшие берега черных песков, красных утесов и склонов иззубренных гор, светящихся голубым лунным сиянием…”
Великий популяризатор науки Айзек Азимов — кстати говоря, биохимик по научной специальности — не раз задумывался над тем, из каких веществ могли бы образоваться океаны на других планетах. Он назвал такие вещества термином “талассогены”, что буквально значит “производящие море”. По определению Азимова, талассоген — это вещество, способное сформировать планетарный океан. В замечательной книге “Асимметрия жизни”[25] Азимов подробно разбирает проблему океанов, приходя к выводу, что самые вероятные талассогены — это вода, аммиак и метан. При этом для планет, расположенных примерно на таком расстоянии от звезд, как Земля, вода имеет преимущество, потому что она остается жидкой при более высокой температуре. “Вы можете представить метановые океаны на такой планете, как Нептун, или аммиачные океаны на планете типа Юпитера, однако вода, и только вода может создать океан на внутренней планете вроде Земли”. Это выглядит логичным, но тут есть по меньшей мере один важный нюанс. Азимов писал эту книгу больше 40 лет назад, когда о планетах других звездных систем не было известно совершенно ничего. Не было даже уверенности, что они вообще существуют. А сейчас астрономам известны тысячи экзопланет, и уже ясно, что, мягко говоря, далеко не все звездные системы похожи на Солнечную. Сочетания условий там могут быть совершенно другими. Поэтому от расширения списка возможных вариантов вреда, скорее всего, не будет.
Возвращаясь к земной (а вернее, водной) биохимии, будем иметь в виду, что она — не единственная теоретически возможная. Изучая природу, всегда полезно помнить любимую мысль Станислава Лема: “Среди звезд нас ждет Неизвестное”.
3. белки
— А вот товарищ Амперян говорит, что без белка жить нельзя, — сказал Витька, заставляя струю табачного дыма сворачиваться в смерч и ходить по комнате, огибая предметы.
— Я говорю, что жизнь — это белок, — возразил Эдик.
— Не ощущаю разницы, — сказал Витька. — Ты говоришь, что если нет белка, то нет и жизни.
Аркадий и Борис Стругацкие. Понедельник начинается в субботуВ разговорах о современной биологии слово “белок” звучит очень часто. Все знают, что белки — важнейшие питательные вещества. Но одновременно это еще и сложные биохимические машины, выполняющие в организме множество самых разных функций: дыхание, пищеварение, считывание наследственной информации, сокращение мышц, защита, восприятие света, передача сигналов... проще сказать, чего белки не делают. Что же это, в конце концов, такое?
Начнем с того, что белки, или протеины, — это огромные молекулы, входящие в состав абсолютно всех современных живых организмов. История их названия, честно говоря, довольно запутанна. Сам термин “белок” (albumin) вошел в употребление еще в XVIII веке, и относился он тогда к веществам, подобным всем известному белку куриного яйца. Что касается термина “протеин” (protein), то его придумал знаменитый шведский химик Йёнс Якоб Берцелиус. Кроме этого, Берцелиус открыл несколько новых химических элементов, установил формулы ряда органических кислот, разобрался в явлении электролиза и сделал еще много другого. В частности, именно Берцелиус открыл явление изомерии и ввел само понятие “изомеры”, уже нам знакомое (см. главу 1). Да и термин “органическая химия” тоже принадлежит ему.
Так вот, в 1838 году Берцелиус предложил назвать некоторые органические вещества “протеинами”[26]. Слово это произведено от греческого πρώτειος, “первичный”. Придумывая свой термин, Берцелиус предполагал, что “протеины” — это некие первичные строительные блоки живых организмов, и был, как мы сейчас знаем, совершенно прав.
В русском языке “белок” и “протеин” — строгие синонимы. По буквальному смыслу “протеин”, конечно, точнее, чем “белок”. Но как-то уж так сложилось, что в нашей научной литературе слово “белок” употребляется гораздо чаще, и мы будем этому следовать. Скорее всего, дело тут просто в том, что слово “белок” проще для восприятия и привычнее на слух.
Полимеры
В состав белков входят углерод, водород, кислород, азот и, как правило, еще сера. Ничего особенного в таком химическом составе нет. Гораздо удивительнее другое. Еще в XIX веке химики обнаружили, что молекулы белков буквально гигантские. По размеру, то есть по количеству атомов, они в сотни раз превосходят молекулы большинства других органических веществ. Дело в том, что белки относятся к полимерам — молекулам, состоящим из множества однотипных (но не обязательно совершенно одинаковых) повторяющихся звеньев, ковалентными связями соединенных друг с другом (см. рис. 3.1А). Такие звенья называются мономерами. Полимеры могут распадаться на отдельные мономеры, а могут и собираться из них вновь. Эти процессы играют огромную роль в биологическом обмене веществ, в ходе которого то и дело одни полимеры расщепляются, а другие строятся из мономеров заново. Иногда полимеры называют макромолекулами, то есть попросту “большими молекулами”.
Очень простой пример полимера — полиэтилен, тот самый, из которого делают упаковочную пленку, пакеты, изоленту и тому подобные вещи. Это обычный углеводород, имеющий, однако, очень длинные молекулы (гораздо более длинные, чем все, что мы видели до сих пор). Формула полиэтилена следующая: CH3–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–... За многоточием тут может скрываться цепочка из нескольких тысяч атомов углерода (разумеется, с присоединенными к ним атомами водорода, которые всегда заполняют все валентности, не заполненные другими атомами). Повторяющимся звеном в полиэтилене является группа –CH2–CH2– (с двумя атомами углерода, а не с одним, потому что при получении полиэтилена он “сшивается” именно из двухуглеродных молекул). Это и есть его мономер.
И в живой, и в неживой природе есть много всевозможных полимеров, состоящих из самых разных типов мономерных звеньев. И как правило, эти звенья гораздо сложнее, чем в полиэтилене. Например, во многих биологических полимерах мономерами являются сахара (см. главу 6). В белках же мономеры особые, свойственные только им. Это — аминокислоты.
Альфа, бета, гамма...
Аминокислота, как мы знаем, — это вещество, в молекуле которого одновременно есть карбоксильная группа и аминогруппа (см. главу 1). Особенность аминокислот, входящих в состав белков, в том, что эти две группы обязательно присоединены к одному и тому же атому углерода. Такие аминокислоты называются альфа-аминокислотами (см. рис. 3.1Б). Если в какой-нибудь аминокислоте карбоксильная группа и аминогруппа связаны с разными атомами углерода, то это не альфа-аминокислота и в состав белков она входить не может.
Почему альфа-аминокислоты называются “альфа” и при чем тут вообще греческие буквы? Дело вот в чем. Атомы углерода, образующие аминокислоту, принято обозначать греческими буквами по порядку, считая от карбоксильной группы (сама она в счет не идет). Таким образом, первый атом углерода после карбоксила — это альфа-атом, второй — бета-атом, третий — гамма-атом и т.д. И в зависимости от того, к какому атому углерода у них присоединена аминогруппа, аминокислоты делятся на альфа-аминокислоты, бета-аминокислоты и прочие.
Например, представим себе аминокислоту с формулой NH2–CH2–CH2–CH2–COOH (см. далее рис. 3.8). Аминогруппа тут присоединена к третьему атому углерода, считая от карбоксильной группы, то есть к гамма-атому. Значит, это гамма-аминокислота. В данном случае она называется гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК). Эта аминокислота есть в организмах большинства животных. Во-первых, она является промежуточным продуктом обмена веществ, а во-вторых, служит нейротрансмиттером, то есть веществом, передающим сигнал между нервными клетками. Именно с нарушением ГАМК-эргической (то есть обусловленной ГАМК) передачи нервных импульсов связано действие одного из самых сильных растительных ядов — яда цикуты, которым в свое время отравили Сократа. Но вот в состав белков ГАМК, в отличие от альфа-аминокислот, никогда не входит.
Пептидная связь
Как альфа-аминокислоты объединяются в белок? Очень просто: карбоксильная группа одной аминокислоты связывается с аминогруппой другой (см. рис. 3.2А). От карбоксильной группы отщепляется гидроксил (–OH), а от аминогруппы — водород (–H). Эти отщепленные фрагменты тут же соединяются и дают воду (H–O–H), а остатки карбоксильной группы и аминогруппы замыкаются по освободившимся валентностям друг на друга, образуя новую группу –CO–NH–. Вот через нее-то две аминокислоты и соединяются между собой.
Группа –CO–NH– называется пептидной группой, а связь между углеродом и азотом в ней — пептидной связью. Цепочка аминокислот, соединенных пептидными связями, называется пептидом (см. рис. 3.2Б). Это более широкое понятие, чем белок. Все белки — пептиды, но не все пептиды — белки.
Реакция образования пептида в принципе обратима: он может как синтезироваться, так и распадаться обратно на отдельные аминокислоты. На одном конце пептида находится свободная аминогруппа, на другом — свободная карбоксильная группа. Для краткости конец пептида со свободной аминогруппой принято называть N-концом, а конец со свободной карбоксильной группой — C-концом.
Короткие пептиды называют или по числу аминокислотных остатков (два остатка — дипептид, три — трипептид, четыре — тетрапептид...), или собирательно — олигопептидами. Длинные пептиды с многими десятками аминокислотных остатков называют полипептидами. Все белки — полипептиды. Аминокислотных остатков в них обычно даже не десятки, а сотни. “Средний” белок, типичный для живой природы, включает примерно 300–350 аминокислот. Белок из 200 аминокислот считается небольшим. Неудивительно, что белковые молекулы поразили когда-то химиков своими размерами.
Разнообразие и единство
В состав белков входит 20 стандартных аминокислот, одних и тех же у всех живых организмов. Как мы уже знаем, все они — альфа-аминокислоты, а это значит, что их общую формулу можно записать вот как: R–CH(NH2)–COOH. Буква R тут, как всегда, обозначает радикал, то есть изменяемую часть молекулы.
Аминокислоты, образующие белки, называют протеиногенными, от уже знакомого нам слова “протеин”. Две самые простые протеиногенные аминокислоты — глицин (где радикал — атом водорода) и аланин (где радикалом служит метильная группа –CH3). У других аминокислот радикалы сложнее. Для читателей-эрудитов добавим, что все нестандартные аминокислоты (селеноцистеин, пирролизин, гидроксилизин, гидроксипролин) так или иначе являются производными стандартных и нас пока не интересуют. А стандартных — ровно 20.
Свойства любого пептида зависят не только от того, какие аминокислоты в него входят, но и от того, в каком порядке они там расположены. Например, представим себе дипептид, состоящий из глицина и аланина. Как он будет выглядеть? Если в создании пептидной связи примут участие карбоксильная группа глицина и аминогруппа аланина, дипептид будет таким: NH2–CH2–CO–NH–CH(CH3)–COOH. Но возможен и другой случай, когда пептидную связь образуют, наоборот, карбоксильная группа аланина и аминогруппа глицина. Тогда пептид получится вот таким: NH2–CH(CH3)–CO–NH–CH2–COOH. Как видим, это два разных соединения. В белках, состоящих из сотен аминокислот, порядок расположения этих аминокислот не менее важен — только вот возможных вариантов там намного больше.
Глядя на формулы, легко убедиться, что два наших дипептида — не что иное, как изомеры (см. главу 1). То же относится к любым пептидам, отличающимся друг от друга порядком расположения одних и тех же аминокислотных остатков. И число таких изомеров в случае с длинными пептидами может быть огромным. Например, можно вычислить, что для декапептида, состоящего из 10 разных аминокислот, число возможных изомеров равно 3 628 800. А ведь декапептид — это даже не белок. Для любого крупного белка число изомеров будет в буквальном смысле астрономическим. Вот почему разных белков так много.
Порядок расположения аминокислот крайне важен для того, чтобы белок правильно выполнял свою функцию. Он должен быть таким же точным, как порядок букв в напечатанной фразе. Единственная замена или перестановка вполне может сделать белок совершенно “бессмысленным”, то есть бесполезным для организма. Между тем никакими чисто химическими средствами такую точность синтеза белка обеспечить невозможно. Первым, кто над этим всерьез задумался, был выдающийся русский биолог Николай Константинович Кольцов. “Молекула октокайдекапептида, состоящая из 18 аминокислот, может иметь около триллиона изомеров, а изомеры сложных белковых молекул должны исчисляться центильонами (число из 600 цифр). Представляется совершенно невероятным, чтобы синтез определенного изомера белков определялся исключительно внешними условиями реакции”, — писал Кольцов еще в 1927 году[27]. Из этого следовал важнейший вывод: информация, задающая порядок аминокислот в белке, непременно должна храниться где-то в организме. Она должна копироваться, передаваясь из поколения в поколение, и считываться по первому запросу, когда тот или иной белок понадобится создать. Все это, как мы сейчас понимаем, совершенно верно. О том, как в действительности работают эти механизмы, мы узнаем из главы 9.
В отличие от некоторых других полимеров, белки никогда не ветвятся. Любой белок — это строго линейная цепочка аминокислот. Сами аминокислоты, входящие в состав белка, принято обозначать буквами: например, глицин обозначается буквой G, аланин — буквой A и т.д. Поэтому формулу любого белка можно записать в виде простой последовательности букв, соответствующих аминокислотам. На самом деле так обычно и делают.
“Кирпичики”, из которых состоит жизнь
Итак, мы видим, что аминокислоты, входящие в состав белков, построены по одной схеме. В любой из этих аминокислот есть карбоксильная группа и аминогруппа, присоединенные к центральному атому углерода (тому, который мы назвали альфа-атомом). Кроме того, к центральному атому углерода всегда присоединен атом водорода. Таким образом, из четырех валентностей альфа-углеродного атома три всегда заняты одними и теми же группами — карбоксильной, аминогруппой и атомом водорода. В этих частях молекул никакого разнообразия нет.
А вот четвертая валентность альфа-атома углерода занята изменчивой группой, которую мы для удобства назвали радикалом (–R). По ней-то аминокислоты и различаются (см. рис. 3.3).
Есть несколько аминокислот, у которых радикалы чисто углеводородные: аланин, валин, лейцин, изолейцин, фенилаланин. Две из них — лейцин и изолейцин — являются изомерами друг друга, потому так и названы. Они отличаются всего лишь положением одной метильной группы (–CH3). Чисто углеводородные радикалы плохо взаимодействуют с водой, но хорошо друг с другом. Иначе говоря, эти радикалы — гидрофобные.
Есть аминокислоты, у которых в состав радикала входит гидроксильная группа –OH (серин, тирозин) или аналогичная ей, но содержащая вместо атома кислорода атом серы тиольная группа –SH (цистеин). В таких радикалах есть полярные связи, а потому они взаимодействуют с водой гораздо лучше. Эти радикалы — гидрофильные.
Все аминокислоты, перечисленные нами до сих пор, называются нейтральными. Это означает, что в водном растворе их молекулы электрически не заряжены. Мы уже видели, что в любой аминокислоте есть карбоксильная группа, свойства которой кислотные, и аминогруппа, свойства которой, наоборот, основные (см. главу 1). Попадая в воду, карбоксильная группа отдает протон и становится заряжена отрицательно (–COO–), а аминогруппа присоединяет протон и становится заряжена положительно (–NH3+). Суммарный заряд молекулы аминокислоты в результате остается равным нулю. Это — нейтральная молекула.
А что, если карбоксильных групп две? Тогда эта аминокислота будет в растворе заряжена отрицательно. И действительно, в состав белков входит пара таких аминокислот — это аспарагиновая и глутаминовая кислоты. У них обеих есть карбоксильная группа не только при альфа-атоме, но еще и в радикале. И, соответственно, этот радикал несет дополнительный отрицательный заряд.
Для краткости аспарагиновую и глутаминовую кислоты часто называют, соответственно, аспартатом и глутаматом. Тут надо пояснить одну тонкость, связанную с названиями веществ. Аспартат и глутамат — на самом деле названия не кислот, а их анионов или (что то же самое) их солей. Например, глутамат — это соль глутаминовой кислоты. В биохимии этим сплошь и рядом пренебрегают, используя названия кислот и солей как синонимы. Ведь что такое соль? Это кислота, у которой на месте протона оказался любой другой катион. Если же она диссоциирована и не имеет никаких катионов вообще (а это бывает в растворах очень часто), то за ней обычно ради удобства оставляют название соответствующей соли. Именно это мы на примере аспартата с глутаматом и видим. Название соли — это название аниона, в виде которого молекула реально существует в воде.
Глутамат (будем отныне называть его так) интересен не только тем, что участвует в образовании белков. В организмах подавляющего большинства животных он служит еще и нейротрансмиттером, причем одним из важнейших. В нервной системе человека глутамат используют для передачи возбуждения примерно 40% нейронов — это очень много! Почти все основные информационные потоки в нашем мозге идут посредством выделения глутамата, служащего для нервных клеток возбуждающим сигналом. Выше мы упоминали, что нейротрансмиттером является и еще одна протеиногенная аминокислота, а именно глицин (см. главу 1). Но действие глицина тормозящее (то есть успокаивающее), а глутамата — именно возбуждающее. Поскольку глутамат входит в состав каких угодно белков, то его очень много в пище, но пищевой глутамат в мозг почти не попадает — нервные клетки синтезируют его сами.
Кроме того, к глутамату очень чувствительна наша вкусовая система. Обычно считается, что есть пять основных вкусов, для которых на языке существуют отдельные типы рецепторов: соленый, кислый, сладкий, горький и выделенный в начале XX века вкус умами. Соленый — это вкус поваренной соли, кислый — протонов (H+), сладкий — сахаров. Горький вкус — самый сложный, он не привязан к какому-то одному классу молекул и возникает как реакция на любое вещество из большой и разнообразной группы зачисленных мозгом в “ядовитые”, это эволюционно выработанный механизм защиты от токсичной пищи. Ну а умами — это не что иное, как вкус глутамата. Судя по всему, в ходе эволюции органов чувств позвоночных животных именно глутамат был выделен как индикатор вкуса белков (важнейших питательных веществ как-никак). Вот почему на языке для него есть особые рецепторы. Ощущение вкуса глутамата — это эволюционно выработанный сигнал о том, что в рот попало нечто белковое.
Глутамат часто добавляют в пищу, причем как в виде кислоты (пищевая добавка E620), так и в виде натриевой соли (пищевая добавка Е621). И раз уж мы заговорили об этом веществе, воспользуемся случаем, чтобы развеять несколько связанных с ним заблуждений. Может быть, кому-то пригодится.
Итак, во-первых, утверждение, что глутамат — усилитель вкуса, неточно. Выражение “усилитель вкуса” могло бы относиться к некоему (вымышленному) веществу без собственного вкуса и запаха, обладающему свойством обострять вкус любой еды. Глутамат этого не делает: у него просто есть свой вкус, точно так же, как у сахара или у соли. Механизмы восприятия вкуса глутамата и вкуса, допустим, того же сахара принципиально не отличаются друг от друга. Просто сахар воспринимается одними рецепторами, а глутамат — другими.
Во-вторых, неверно часто встречающееся мнение, будто “натуральный” глутамат (предположительно безобидный) — это совсем не то, что глутамат “искусственный” (предположительно вредный и опасный). Люди, которые так думают, просто не знают, о каком веществе идет речь. А мы с вами теперь знаем. Глутамат — это не какая-нибудь загадочная сложная смесь (состав которой действительно мог бы варьироваться), а одно-единственное химическое соединение, описываемое незатейливой формулой. Вот она, эта формула: HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH. Только и всего. Глутамат, полученный искусственно, не отличается от полученного готовым из природных продуктов, потому что отличаться там нечему.
В-третьих, глутамат, получаемый с пищей, едва ли опасен для нервной системы прежде всего потому, что он в нее почти не проникает — это обеспечивается специальным физиологическим барьером. Нервные клетки синтезируют глутамат самостоятельно. К тому же в белковых продуктах (таких, как творог, мясо или соя) глутамата наверняка больше, чем попадает его в еду в качестве пищевой добавки, — просто потому, что это составная часть любых белков.
В-четвертых, на глутамат нет аллергии[28]. Аллергию вызывают чужеродные вещества, а не такие, которые жизненно необходимы и всегда присутствуют в организме в высоких концентрациях, — а глутамат как раз относится к последним.
Так что опасность глутамата — это, судя по всему, типичный современный миф.
Однако вернемся к другим аминокислотам. Если есть отрицательно заряженные аминокислоты, логично ожидать, что существуют и положительно заряженные. Это действительно так. Пример положительно заряженной аминокислоты — лизин, имеющий формулу NH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH. Как видим, у лизина в радикале есть дополнительная аминогруппа, которая ведет себя так, как аминогруппе и положено: приобретает протон. Еще одна положительно заряженная аминокислота — аргинин, радикал которого включает довольно редкую (больше она нам нигде не встретится) гуанидиновую группу –NH–C(NH)–NH2, тоже охотно присоединяющую протон.
Таким образом, аминокислоты, из которых состоят белки, можно поделить на четыре категории: гидрофобные, гидрофильные нейтральные, положительно заряженные и отрицательно заряженные. Разумеется, все эти различия касаются только той части молекулы аминокислоты, которую мы назвали радикалом (R). “Базовая” часть (включающая атом углерода, атом водорода, карбоксильную группу и аминогруппу) во всех рассмотренных нами протеиногенных аминокислотах одна и та же. Особое положение занимает разве что самая простая из всех возможных аминокислот — глицин, у которого вместо радикала атом водорода.
Аминокислоты и связи
Итак, любой белок — это полипептид, то есть цепочка аминокислот, соединенных пептидными связями. На самом деле теоретически можно придумать полипептид, не являющийся белком, но мы сейчас поступим проще и будем считать, что эти слова — синонимы. В подавляющем большинстве тех случаев, которые нам могут встретиться, так оно и есть.
Для начала представим, что молекулу полипептида бросили в воду. Очевидно, что она не останется там вытянутой в прямую линию, а будет как-то сворачиваться. Это сворачивание будет зависеть от взаимодействия аминокислотных остатков как с молекулами воды, так и между собой. В целом пептидная цепь устроена довольно просто: ее “скелет” образуют пептидные группы, соединяющие между собой альфа-атомы углерода, а радикалы торчат в стороны. Все эти части огромной молекулы как-то размещаются в пространстве относительно друг друга, и в результате белок приобретает свою трехмерную форму — как обычно говорят, конформацию. Белок с нарушенной конформацией, как правило, совершенно бесполезен для организма. Поэтому соблюдение конформации — это очень важно.
Как же она складывается? Есть четыре типа взаимодействий между аминокислотами, определяющих объемную структуру белка, в который они входят.
Во-первых, это водородные связи (см. главу 2). В белке их обычно много, они возникают и между пептидными группами, и между боковыми цепями аминокислот (“боковая цепь” и “радикал” — в данном случае синонимы). Особенно это относится к тем аминокислотам, радикалы которых нейтральны и гидрофильны — вроде, например, серина или тирозина.
Во-вторых, это гидрофобное притяжение между углеводородными радикалами, принадлежащими таким аминокислотам, как валин, лейцин или фенилаланин. Вода выталкивает эти радикалы точно так же, как вытолкнула бы обычные молекулы углеводородов, и они отлично слипаются вместе, если оказываются при сворачивании белковой молекулы близко друг к другу. А тем самым они это сворачивание и закрепляют.
В-третьих, существует электростатическое притяжение между положительно и отрицательно заряженными боковыми цепями. Если, например, глутамат (радикал которого заряжен отрицательно) окажется при сворачивании белка рядом с лизином (радикал которого заряжен положительно), между ними тут же возникнет самая настоящая ионная связь.
Есть и четвертый тип взаимодействий. Он зависит от единственной аминокислоты, радикалы которой могут образовать между собой аж ковалентные связи (не имеющие никакого отношения к пептидным). Эта аминокислота — цистеин. В радикале цистеина есть сульфгидрильная группа –SH, аналогичная спиртовой группе (–OH), но с атомом серы вместо атома кислорода. Целиком радикал цистеина имеет вид –CH2–SH. Так вот, уже в готовом белке может произойти реакция, при которой у двух таких радикалов будет отобран водород (его унесут специальные молекулы-переносчики), а свободные валентности атомов серы замкнутся друг на друга и образуют между остатками цистеина связь –S–S–. Это называется дисульфидным мостиком (см. рис. 3.4А). Белок вполне может быть в нескольких местах “сшит” такими мостиками (см. рис. 3.4Б). Причем реакция их образования обратима: дисульфидные мостики могут возникать и рваться, и это бывает важно для регуляции некоторых физиологических процессов.
Связи и уровни
Для удобства принято выделять четыре уровня структуры белка. Они так и называются: первичная структура, вторичная, третичная и четвертичная.
Первичная структура — это просто последовательность аминокислот, соединенных пептидными связями (см. рис. 3.4Б). Она всегда линейна, ибо белки не ветвятся. Перечислять аминокислоты в белке принято от N-конца (свободная аминогруппа) к C-концу (свободная карбоксильная группа). Множество таких перечислений, то есть записей первичной структуры белков, есть в современных электронных базах данных, доступных в сети. Можно сказать, что первичная структура белка одномерна, в то время как все остальные уровни — трехмерны. К первичной структуре относятся только пептидные связи, а к остальным уровням — любые другие взаимодействия между аминокислотами, входящими в один и тот же белок.
Вторичная структура — это система взаимодействий между аминокислотами в составе одной и той же полипептидной цепочки, расположенными близко (через считаные остатки друг от друга). Вторичная структура держится в основном на водородных связях (см. рис. 3.5). Причем в данном случае это связи между пептидными группами, а не боковыми цепями. А поскольку все пептидные группы одинаковы, то вторичная структура обладает высокой регулярностью, в ней часто повторяется один и тот же “узор”.
Два самых распространенных типа вторичной структуры белка — альфа-спираль и бета-слой. В альфа-спирали водородные связи постоянно образуются между аминокислотными остатками с номерами n и (n+4), то есть каждая аминокислота образует водородную связь с аминокислотой, четвертой по счету от нее. В результате получается компактная спираль, внутри которой находятся пептидные группы, а радикалы торчат в стороны. Альфа-спираль очень устойчива, в том числе и потому, что внутри нее в образовании водородных связей принимают участие все пептидные группы без исключения. В бета-слое полипептидная цепочка несколько раз перегибается, и водородные связи образуются между ее противоположно направленными отрезками.
Третичная структура белка — это система взаимодействий между сколь угодно далекими (но принадлежащими к одной и той же полипептидной цепи) остатками аминокислот (см. рис. 3.6, 3.7А). Она определяет, какую форму будет иметь молекула белка целиком. Если вторичная структура — это ближний порядок, то третичная — дальний порядок. В образовании третичной структуры участвуют водородные связи между боковыми цепями, гидрофобные взаимодействия (очень частый случай) и ионные связи между заряженными боковыми цепями. И дисульфидные мостики тоже вносят в третичную структуру свой вклад.
Наконец, четвертичная структура возникает в том случае, если функциональный белок собирается из нескольких отдельных полипептидных цепей (см. рис. 3.7Б). Если белок состоит из одной полипептидной цепи, значит, четвертичной структуры у него нет. Взаимодействия, создающие четвертичную структуру, те же самые, что и в третичной структуре, только не внутри одной полипептидной цепи, а между разными цепями.
Типичный белок с четвертичной структурой — гемоглобин, переносящий кислород в нашей крови. Его молекула состоит из четырех полипептидных цепочек, которые синтезируются отдельно, но свою функцию выполняют только вместе. Объединяются они в основном за счет гидрофобных взаимодействий. Всего молекула нормального гемоглобина взрослого человека включает 574 аминокислоты.
Потеря белком своей пространственной структуры без разрушения пептидных связей (то есть первичной структуры) называется денатурацией, что буквально значит “потеря природы” (см. рис. 3.7В). Самый простой способ денатурировать белок — как следует нагреть его. Именно частичная денатурация белков является основной целью любой тепловой обработки пищи. Причем иногда этот процесс до некоторой степени обратим (при кипячении молока, например). Восстановление пространственной структуры денатурированного белка называется ренатурацией. Но бывает и необратимая денатурация. Например, белок крутого яйца после полной необратимой денатурации растворенных там молекул белков становится твердым, потому что раскрученные полипептидные цепочки перепутываются между собой. Денатурация большинства белков (но не всех!) происходит при температуре 40–50 °С. Это определяет верхний температурный предел для жизни большинства земных живых существ.
Чтобы белок выполнял свою биологическую функцию, нужна, как правило, тончайшая и очень точная “настройка” его пространственной структуры. Нарушения аминокислотной последовательности тем и опасны, что они эту структуру разрушают. Например, существует генетическое нарушение, при котором в строго определенной точке одной из цепей гемоглобина глутамат заменяется на валин. Казалось бы, всего лишь одна аминокислота заменяется на другую. Но здесь это имеет неожиданно серьезные последствия. Глутамат — аминокислота, боковая цепь которой несет отрицательный заряд, валин же нейтрален и гидрофобен. Если рядом окажутся два остатки глутамата, они будут отталкиваться. А если два остатка валина, то, наоборот, слипаться. В данном случае замена глутамата на валин приводит к тому, что слипаться начинают целые молекулы гемоглобина. А это деформирует красные кровяные клетки, в которых он содержится, и вызывает тяжелую болезнь — серповидноклеточную анемию. Именно таков ее молекулярный механизм.
Очевидно, что взаимодействия между аминокислотами в белке неслучайны. Сворачивание белковой молекулы зависит от ее первичной структуры, то есть от того, в каком порядке аминокислоты расположены в цепочке. Иногда говорят, что если бы можно было взять полипептидную цепь за концы, растянуть ее и потом отпустить, то она каждый раз свертывалась бы совершенно одинаково. На самом деле в живой клетке все происходит несколько иначе: там белок синтезируется последовательно, аминокислота за аминокислотой (от N-конца к C-концу), и части молекулы белка, синтезированные раньше, успевают свернуться в трехмерную структуру до того, как будут синтезированы остальные части. Но в итоге все молекулы данного белка сворачиваются строго одинаково. Зная аминокислотную последовательность белка, теоретически можно рассчитать его пространственную структуру всех уровней. Часто это успешно делают и на практике, используя методы таких наук, как биофизика и биоинформатика. В идеале последовательность аминокислот (которую можно записать в строчку, обозначив аминокислоты буквами) должна однозначно определять собой все свойства белка. И более того, изучаемая биологами реальность к этому идеалу очень близка.
На заре жизни... и раньше
Биохимическая эволюция началась еще до образования Земли как планеты. Современные ученые уверены, что синтез веществ, ставших потом биологически активными, шел уже на частицах протопланетного газопылевого облака[29]. Об этом свидетельствует многое — например, химический состав углистых метеоритов, которые потому так и называются, что богаты углеродом (в научной литературе их часто называют углистыми хондритами). Метеориты этого типа никогда не входили в состав планет, поэтому их химический состав не искажен действием высоких температур и давлений, господствующих в планетных недрах. Это своего рода химический “заповедник” очень древней эпохи Солнечной системы — эпохи, когда синтез органических веществ только начинался. Химический анализ углистых метеоритов дал ученым поразительную возможность заглянуть во времена, непосредственно предшествовавшие зарождению жизни.
И ученые не разочаровались. Углистые метеориты оказались удивительно богаты органикой. Например, в них найдены углеводороды, спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, оксикислоты, амины и углеводы (см. главу 1). Есть там и аминокислоты. Причем очень разные.
В знаменитом Мурчисонском метеорите, упавшем в 1969 году в Австралии, химический анализ обнаружил в общей сложности 52 аминокислоты[30](см. рис. 3.8). И они необыкновенно разнообразны. Например, среди этих аминокислот есть бета-аланин — изомер аланина, являющийся не альфа-, а бета-аминокислотой (NH2–CH2–CH2–COOH). Есть там гамма- и даже дельта-аминокислоты, например дельта-аминовалериановая кислота (NH2–CH2–CH2–CH2–CH2–COOH). Есть изовалин и метилнорвалин — аминокислоты, где к альфа-углеродному атому присоединены сразу два углеводородных радикала (как мы помним, в “белковых” аминокислотах на месте одного из них всегда атом водорода). Есть циклолейцин, где карбоксильная группа и аминогруппа присоединены к замкнутому пятичленному углеводородному кольцу. Перечислять странные аминокислоты, многие из которых встречаются исключительно в метеоритах, можно еще долго. Есть там, впрочем, и аминокислоты, входящие на Земле в двадцатку “белковых”, — глицин, аланин, валин, лейцин, изолейцин, аспартат, глутамат и пролин.
И вот тут возникает закономерный вопрос: почему одни аминокислоты вошли в состав белков, а другие нет? Кое о чем вполне можно догадаться. Скорее всего, “выбор” аминокислот на роль протеиногенных сильно зависел от формы их молекул. Например, аминокислота с двумя крупными радикалами при альфа-атоме должна ограничивать число возможных конформаций полипептидной цепочки, делая ее менее гибкой, — просто потому, что радикалы будут торчать в разные стороны, мешая изгибам и поворотам. У всех без исключения протеиногенных аминокислот одна из валентностей альфа-атома занята простым водородом. И это, конечно, не случайность.
Примерно так же, скорее всего, объясняется и тот факт, что все белки состоят исключительно из альфа-аминокислот. В результате этого остов полипептидной цепи получается легким, гибким и однородным. Все “тяжелые” группы переводятся в боковые цепи, а все промежутки между пептидными связями имеют строго одинаковую длину. Если бы, например, в состав белка входили вперемешку альфа- и бета-аминокислоты, последнее условие не соблюдалось бы и это сделало бы невозможными регулярные конформации — такие как широко распространенная в реально существующих белках альфа-спираль.
А теперь отвлечемся от белков и подумаем про общие принципы развития Вселенной. Благо повод для этого сейчас есть. Не раз упоминавшийся тут Станислав Лем писал, что творческий потенциал неживой природы больше, чем у живой, по одной простой причине: она не ограничена требованиями естественного отбора. “Лишь там, где царит смерть, вечная, спокойная, где не действуют ни сита, ни жернова естественного отбора, формирующие любое создание по законам бытия, открывается простор для удивительных произведений материи, которая, ничему не подражая, никому не подчиняясь, выходит за границы человеческого воображения”, — пишет Лем в замечательном романе “Фиаско”[31]. И добавляет: на планетах, освоенных жизнью, химические соединения попали “в рабство к биологической эволюции”. Они усложнились, но потеряли свое огромное исходное разнообразие.
То, что мы знаем об аминокислотах Солнечной системы, превосходно иллюстрирует эту мысль. Пока никакой жизни не существовало, самые разные аминокислоты синтезировались более-менее одинаково легко. Их было много десятков. После возникновения жизни ситуация резко изменилась: аминокислоты, вошедшие в состав белков, стали активно синтезироваться живыми организмами, и на Земле (о жизни в других местах мы пока ничего не знаем) их концентрации колоссально выросли. Аминокислоты, не прошедшие отбора на протеиногенность, наоборот, стали редкими. Некоторые из них, например изовалин, не встречаются на Земле вообще никогда. Между прочим, именно открытие в Мурчисонском метеорите изовалина стало самым сильным доводом в пользу того, что аминокислоты не были занесены в этот метеорит земными микробами после его падения на Землю, а присутствовали там изначально. Изовалина на Земле просто нет, так что никакие микробы занести его не могли. Он синтезировался в космосе совершенно самостоятельно. Но поскольку у изовалина два углеводородных радикала, то на роль составной части белков он не подошел. Со многими другими аминокислотами произошло то же самое. И это, конечно, не случайность. Уже знакомая нам общая формула протеиногенной аминокислоты — это не изолированный факт, который можно только зазубрить, а вполне осмысленный продукт эволюции.
Функции белков
Любой отдельный белок — тоже продукт биологической эволюции. Его аминокислотная последовательность, как и вся структура, всегда приспособлена под какую-нибудь строго определенную функцию. Известный биофизик Лев Александрович Блюменфельд писал: “Если бы для описания клетки нам пришлось выбирать между двумя крайними моделями — часовым механизмом и гомогенной химической реакцией в газовой фазе, — выбор был бы однозначен: клетка несравненно ближе к часовому механизму, чем к чисто статистической системе”[32]. Можно добавить, что это относится не только к целой клетке, но и к отдельным макромолекулам, то есть в первую очередь к белкам. Блюменфельд как раз и начинает вышеприведенными словами главу своей книги, посвященную биофизике молекул белка.
Функционирующий белок можно в самом что ни на есть буквальном смысле рассматривать как молекулярную машину, то есть как машину размером с молекулу. По определению Блюменфельда, машина — это конструкция с выделенными внутренними степенями свободы (то есть, попросту говоря, с подвижными частями), использующая собственное механическое движение для передачи силы от одной части системы к другой. Белковая молекула этому определению, безусловно, соответствует. В ней хватает внутренних степеней свободы (множество ковалентных связей, вокруг которых возможны повороты), и она вполне может передавать силу с помощью своих подвижных частей. И многие белки — например, мышечные — постоянно используют это, совершая настоящую механическую работу. Но это далеко не единственное, что белки могут делать.
А что же, собственно, они делают? Самый близкий к истине ответ — да все! Или, во всяком случае, почти все. Функции белков настолько многообразны, что никакое их перечисление, скорее всего, не будет абсолютно полным. Но мы все-таки попробуем назвать главные функции белков, помня про эту оговорку.
* Структурная функция относится к белкам, из которых сделаны те или иные части живых тел. Например, коллаген — белок, образующий механическую основу костей, хрящей и соединительнотканного слоя кожи. Кератин — белок, из которого состоят волосы, ногти и наружный роговой слой кожи. Кристаллины — белки, из которых в основном состоит хрусталик глаза. И так далее.
* Каталитическая функция, связанная с ускорением химических реакций. О ней — чуть ниже.
* Сигнальная функция: белки, предназначенные для передачи информации. Эта функция на редкость многолика. Бывают белки-нейротрансмиттеры, передающие сигналы между нервными клетками. Бывают белки-гормоны, передающие сигналы примерно тем же способом, но через кровь, по всему организму сразу. Бывают белки-рецепторы, которые, наоборот, принимают сигналы, сидя на поверхности клетки. Бывают белки-посредники, обеспечивающие проведение сигнала уже внутри клетки. И это далеко не все возможности, но вникать в детали мы сейчас не будем.
* Транспортная функция. Например, известный всем гемоглобин — это белок, переносящий молекулы кислорода из одной части организма в другую.
* Двигательная функция свойственна белкам, от которых зависит сокращение мышечных клеток животных, но не только им. Например, двигательные структуры одноклеточных организмов — жгутики, реснички, ложноножки — тоже обязательно содержат специальные моторные белки.
* Защитная функция. Это всевозможные яды, а также антитела, то есть белки, выделяемые клетками иммунной системы и убивающие опасных “гостей” организма (например, попавших туда бактерий).
Эти функции, пожалуй, главные. Ясно, что живым существам нужны они все. И тем не менее среди них можно выделить одну совершенно особую функцию, настолько распространенную и важную, что без нее белки как природное явление вообще невозможно представить. Эта функция — каталитическая. Вот о ней стоит поговорить подробнее.
Ферменты
Начнем с простых определений. Вещество, ускоряющее химическую реакцию, но само не претерпевающее в ней стойких изменений, называется катализатором. А катализатор, являющийся белком, называется ферментом. Ускорять он может все что угодно. Все биохимические реакции идут не сами по себе, а с помощью ферментов. Например, даже такой предельно простой процесс, как слияние углекислоты (CO2) и воды (H2O) в молекулу угольной кислоты (H2CO3), все равно катализируется специальным ферментом — карбоангидразой, которая ускоряет его примерно в миллион раз. А для более сложных реакций ферменты тем более необходимы. Можно без особого преувеличения сказать, что ферменты контролируют в живом организме вообще все.
Вещество, являющееся исходным для той реакции, которую катализирует данный фермент, называется его субстратом. Молекула фермента должна войти в контакт с молекулой субстрата и подвергнуть ее некоему действию — например, расщепить надвое, или поменять в ней местами функциональные группы, или сшить что-нибудь ковалентной связью, или разорвать эту связь, — вариантов тут множество. Но в любом случае молекула фермента должна сначала захватить молекулу субстрата, а потом преобразовать ее и высвободить. Часть молекулы фермента, непосредственно контактирующая с молекулой субстрата, называется активным центром. Ферменты — это обычно довольно крупные белки, а в активном центре может быть всего-навсего несколько аминокислот. Поэтому, как правило, активный центр занимает только небольшую часть молекулы фермента (см. рис. 3.9А).
Если говорить совсем примитивно, активный центр — это такое гнездо в молекуле фермента, куда молекула субстрата должна войти, как ключ в замок. Как только она туда попадет, молекула фермента ее захватит и преобразует. Очевидно, что для этого конформация активного центра должна очень точно совпадать с очертаниями молекулы субстрата — в самом деле как замочная скважина с ключом. Это прямо так и называют “моделью ключа и замка”. Правда, на самом деле активный центр фермента, в отличие от механизма замочной скважины, является скорее гибким, чем жестким. При взаимодействии с субстратом его конформация всегда меняется — примерно так, как меняется форма перчатки, когда ее надевают на руку. Модель работы ферментов, учитывающая это, называется “моделью индуцированного соответствия”. Когда реакция завершается, конформация фермента возвращается к прежней.
Биофизики уверены, что во всех этих процессах молекула фермента действует как сложная механическая машина, имеющая множество шарниров, сочленений, поворачивающихся частей и т.п.[33] И это, конечно, впечатляет. “Самонадеянно скажет иной: “Сколочу-ка телегу!” // Но ведь в телеге-то сотня частей! Иль не знает он, дурень?” — писал в поэме “Труды и дни” великий древнегреческий поэт Гесиод[34]. А ведь молекула любого фермента (пусть даже и небольшого) устроена намного сложнее гесиодовой телеги. Причем это будет верно, даже если мы станем рассматривать ее исключительно как механическую машину, игнорируя всю тонкую структуру атомного уровня.
Номенклатура ферментов довольно сложна, потому что их очень много. Но в большинстве случаев название фермента включает, во-первых, название его субстрата и, во-вторых, характерное окончание “-аза”. Если мы видим где-то слово с таким окончанием, это наверняка название какого-нибудь фермента.
У термина “фермент” есть синоним. Это слово “энзим”. Например, в английском языке ферменты называют почти исключительно энзимами (enzyme), и в русские переводы с английского это тоже иногда проникает. Но все-таки по-русски гораздо чаще говорят именно “фермент”. На всякий случай запомним, что “фермент” и “энзим” — синонимы, и употребление одного из этих слов вместо другого большой ошибкой не будет.
Очень важное свойство ферментов — специфичность. Это значит, что каждый фермент приспособлен к одной строго определенной химической реакции. Субстрат должен точно подойти к его активному центру, иначе реакция не пойдет.
Например, фермент сукцинатдегидрогеназа захватывает молекулу янтарной кислоты (HOOC–CH2–CH2–COOH) и превращает ее в молекулу фумаровой кислоты (HOOC–CH=CH–COOH). Янтарная кислота при этом, как видим, теряет два атома водорода. Водород по-латыни “гидроген”, а “дегидрогеназа” — фермент, его отнимающий. Субстратом же этого фермента является янтарная кислота. В растворе она диссоциирует, и от нее остается анион, который называется сукцинатом. Таким образом, сукцинатдегидрогеназа — это фермент, отнимающий водород у сукцината (см. рис. 3.9Б).
Однако возможна ситуация, когда на месте сукцината окажется малонат — анион малоновой кислоты, отличающейся от янтарной на один атом углерода (HOOC–CH2–COOH). Молекула малоната приблизительно подходит по форме к активному центру сукцинатдегидрогеназы и может его занять. Но поскольку соответствие все-таки неточное, никакой реакции в этом случае не произойдет (см. рис. 3.9В). Активный центр сукцинатдегидрогеназы будет просто заблокирован. Это называется конкурентным ингибированием. Конкурентное ингибирование — очень эффективный механизм “выключения” ферментов, на нем основано действие многих лекарств и ядов.
В активных центрах ферментов бывает очень полезным уже знакомое нам разнообразие аминокислот. Чтобы молекула субстрата встала на свое место и повела себя как надо, очертания активного центра должны быть под этот субстрат идеально подогнаны. Для этого где-то можно разместить гидрофобные карманы, образованные боковыми цепями аланина или валина, где-то — отрицательные заряды аспартата или глутамата, где-то — нейтральные гидрофильные аминокислоты, которые образуют с субстратом водородные связи, и так далее. Если, например, в субстрате есть положительный заряд, то в этом-то месте как раз и можно выставить отрицательно заряженный радикал какого-нибудь аспартата, чтобы электростатическим притяжением удержать молекулу субстрата в нужном положении. Таких примеров можно привести множество.
Интересно, что аминокислоты, оказывающиеся рядом в активном центре, запросто могут в первичной последовательности находиться очень далеко — например, за 300 остатков друг от друга. Их “правильное” взаимное расположение достигается за счет очень точного объемного сворачивания полипептидной цепи, то есть за счет третичной структуры. Можно представить, насколько сложной биохимической машиной является такой фермент! А между тем в типичной живой клетке ферментов несколько тысяч.
Любой фермент работает только в достаточно строго определенном диапазоне внешних условий — например, таких, как температура и кислотность. Если температура слишком высока, фермент может просто денатурировать, то есть потерять вторичную и третичную структуру. Понятное дело, что его активный центр при этом развалится. Если же слишком высока кислотность, это может повлиять на поведение радикалов некоторых аминокислот. Мы знаем, что кислотность — это концентрация протонов (H+). Если в растворе будет слишком много протонов, боковые цепи отрицательно заряженных аминокислот (аспартата и глутамата) волей-неволей присоединят их. Например, радикал глутамата, обычно имеющий вид –CH2–CH2–COO–, в этом случае перейдет в состояние –CH2–CH2–COOH. Отрицательный заряд в нем исчезнет, и он больше не сможет выполнять свою функцию в активном центре. Поэтому слишком высокая кислотность вредна. Живым организмам очень важно поддерживать постоянство своей внутренней среды не в последнюю очередь потому, что иначе работа ферментов разладится.
“Белковая Вселенная”
Представим себе дипептид, в котором всего-навсего две аминокислоты. На первой позиции в этом дипептиде может быть любая из 20 стандартных протеиногенных аминокислот. Проведем ось, на которой каждая аминокислота будет отмечена черточкой. Это — 20 возможных вариантов.
На второй позиции в дипептиде тоже может быть любая из 20 стандартных протеиногенных аминокислот. Проведем вторую ось, перпендикулярную первой, и тоже отметим на ней черточкой каждую аминокислоту. У нас получится плоский график. Между двумя осями образуется пространство, состоящее из 400 точек (202). Каждая точка соответствует одному возможному дипептиду. А всего таких дипептидов может быть ровно 400.
Поздравим себя: мы только что познакомились с важнейшей концепцией, которая называется “белковая Вселенная”. Это воображаемое пространство, в каждой точке которого находится один белок. “Белковая Вселенная” — не поэтическая метафора, а на сегодняшний день уже повседневный инструмент работы биоинформатиков, примерно как геометрическое пространство декартовых координат для обычного инженера.
“Белковая Вселенная”, состоящая всего из 400 точек, — очень маленькая и простая. Но стоит добавить в наш пептид хотя бы третью аминокислоту, как пространство превратится в трехмерное и точек в нем станет уже 8000 (203). Дальше можно добавить и четвертую аминокислоту, и пятую — и так, пока не дойдет до обычных белков, число аминокислот в которых измеряется как минимум десятками, а обычно сотнями. Число измерений пространства “белковой Вселенной” будет в каждый момент равно числу аминокислотных остатков, сколько бы их ни было. Это пространство будет многомерным. Наглядно представить себе многомерное пространство человек не может, но это от него и не требуется, достаточно того, что модель в принципе годится для расчетов.
Важно понимать, что с ростом длины белка объем “белковой Вселенной” растет чрезвычайно быстро. Невообразимо быстро. Для белка из 300 аминокислот (а это типичный размер) “Вселенная” является 300-мерной и включает 20300 возможных аминокислотных последовательностей. Это гораздо больше, чем, например, общее число протонов и нейтронов в наблюдаемой части физической Вселенной (1080). Совершенно очевидно, что до сих пор биологическая эволюция исчерпала лишь ничтожную часть этого объема. Подавляющее большинство белков, последовательности которых существуют где-то в многомерном идеальном пространстве, еще ни разу не были воплощены, то есть физически синтезированы.
Более того, показано, что “белковая Вселенная” (вернее, ее реально освоенная часть) расширяется. С ходом эволюции белки разных организмов отличаются друг от друга все сильнее и сильнее[35]. В этом “белковая Вселенная” подобна нашей обычной Вселенной, которая тоже расширяется, — в свое время это математически показал Александр Фридман и (независимо от Фридмана) вывел из астрономических наблюдений Эдвин Хаббл. Проводя свои наблюдения, Хаббл обнаружил, что галактики удаляются друг от друга, причем скорость их разлетания тем выше, чем больше между ними расстояние. Мысленно продолжив эту тенденцию в далекое прошлое, Хаббл пришел к выводу, что движение галактик должно было начаться из одной точки. Это послужило прекрасным подтверждением теории Большого взрыва, которая как раз в те годы начинала создаваться. Ну, а теперь мы понимаем, что примерно так же устроена и “белковая Вселенная”, в которой идет биологическая эволюция. Белки всех живых организмов стремительно (в эволюционном масштабе времени) “разбегаются” в своем многомерном пространстве от исходной точки — ограниченного набора белков единственного общего предка.
Рассматривая карту окружающей нас части физической Вселенной, можно подобрать такой масштаб, в котором не только галактика Млечный Путь, но и весь суперкластер Девы (куда входит Млечный Путь вместе с еще примерно 30 000 галактик) будет выглядеть как ничтожно малые точки. Так вот, соотношение освоенных и неосвоенных областей “белковой Вселенной” должно выглядеть как-то очень похоже. Белки всех живых организмов, вместе взятых, возникшие за несколько миллиардов лет истории Земли, до сих пор занимают в “белковой Вселенной” лишь ничтожно малую область. В этом смысле эволюция только началась! А ведь могут быть еще и другие, небелковые биологические Вселенные.
4. cимметрия
Да в силах ли понять я, каково это: быть ограниченно всемогущим? Когда умеешь все, но никак, никак, никак не можешь создать аверс без реверса и правое без левого…
Аркадий и Борис Стругацкие. Отягощенные злом, или сорок лет спустяГреческое слово “симметрия” (συμμετρία) буквально означает “соразмерность”. Автором этого термина считается Пифагор Регийский — скульптор, живший в Великой Греции (как называли тогда южную часть Италии) в эпоху расцвета Афин, то есть в V в. до н.э. Его не следует путать с Пифагором Самосским, прославленным философом и математиком, который жил почти на 100 лет раньше.
В естественных науках симметричными принято называть тела или фигуры, состоящие из таких частей, которые можно свободно поменять местами. Такой обмен называется операцией симметрии. Например, чашечка цветка дикой розы состоит из пяти лепестков, в идеале совершенно одинаковых. Любой из них можно (по крайней мере, мысленно) поменять местами с любым другим. То, что фигура при этом не изменится, как раз и значит, что она симметрична — “соразмерна”.
Неудивительно, что у молекул тоже бывает симметрия. Например, представим себе молекулу метана (CH4). В нее входят четыре атома водорода (H), соединенные с центральным атомом углерода (C) совершенно одинаковыми связями (см. рис. 4.1А). Молекулу метана можно в любой момент повернуть так, что на месте одного атома водорода окажется другой. От этого не изменится ровно ничего.
Теперь представим, что один из атомов водорода в метане заменили на атом хлора (Cl). Получившееся вещество будет называться хлорметаном (CH3Cl). Несмотря на замену, молекула останется симметричной: ее, например, можно вращать вокруг единственной связи, соединяющей углерод с хлором, таким образом, что разные атомы водорода будут занимать место друг друга.
Более интересная ситуация возникнет, если заменить хлором два атома водорода из четырех. Вещество, которое получится в этом случае, называется дихлорметан (CH2Cl2). Связей, соединяющих углерод с хлором, теперь будет две. А плоскость, в которой они расположены, станет плоскостью симметрии молекулы. Части молекулы, расположенные справа и слева от этой плоскости (в данном случае — торчащие вбок атомы водорода), будут зеркально отражать друг друга.
Можно заменить два атома водорода в метане не одинаковыми атомами, а разными, например хлором (Cl) и фтором (F). Тогда получится фторхлорметан (CH2FCl). Тут тоже есть плоскость симметрии. Разница в том, что у дихлорметана в этой плоскости находится два атома хлора, которые можно свободно поменять местами, просто перевернув молекулу. Никаких наблюдаемых изменений при этом не произойдет. А у фторхлорметана такой возможности нет.
Теперь сравним все четыре наших соединения. Молекулу метана можно вертеть как угодно, все четыре заместителя при углероде там абсолютно одинаковы. В молекуле хлорметана один из этих заместителей отличается от других (хлор), но молекулу можно вращать вокруг связи, на которой он сидит. В молекуле дихлорметана вращательная симметрия исчезает. Два атома водорода (которые можно поменять местами) торчат там направо и налево от плоскости, задаваемой двумя атомами хлора (которые тоже можно поменять местами, и от этого ничего не изменится). И наконец, в молекуле фторхлорметана атомы, задающие плоскость, тоже разные. Единственный элемент симметрии, остающийся в этой молекуле, — одинаковые атомы водорода, которые все еще можно свободно поменять местами, оставив всю молекулу на месте. Никакие другие операции симметрии для фторхлорметана недоступны.
Итак, мы видим, что в ряду метан — хлорметан — дихлорметан — фторхлорметан мощность симметрии последовательно уменьшается.
И тут возникает вполне естественный вопрос: а можно ли придумать такую органическую молекулу, в которой никаких элементов симметрии не будет совсем? Нарисовав несколько произвольных формул на листе бумаги, любой желающий убедится, что это не так-то просто. Однако все же можно.
Посмотрим на ситуацию заново. Мы знаем, что валентность углерода равна четырем. Это означает, что к атому углерода можно присоединить ковалентными связями четыре радикала, как одинаковых, так и разных. Ведь что мы, по сути, только что видели? Для начала — молекулу, в которой с углеродом соединены четыре одинаковых радикала (AAAA). В другой молекуле было три радикала одного типа и один — другого (AAAB). В третьей — два радикала одного типа и два другого типа (AABB). И наконец, в четвертой молекуле было два одинаковых радикала и два разных (AABC). Можно убедиться, что во всех четырех структурах есть те или иные элементы симметрии. Там есть радикалы, которые можно свободно поменять местами, и молекула останется во всех смыслах той же самой.
Дело меняется, если присоединить к атому углерода четыре разных радикала (ABCD). Реальный пример такого соединения — бромфторхлорметан (CHFClBr). Вот тут получится молекула, лишенная элементов симметрии полностью. В ней нет радикалов, которые можно было бы поменять местами, оставив молекулу той же самой. Иными словами, ни одной операции симметрии для этой молекулы не существует. Такая структура называется диссимметричной (см. рис. 4.1Б).
Хиральность
Явление диссимметрии молекул открыл Луи Пастер, великий французский химик и биолог. По Пастеру, диссимметричной называется такая фигура, которая не может быть совмещена со своим зеркальным отображением. Например, никакими поворотами нельзя совместить правую и левую руку. (Чтобы совсем наглядно убедиться в этом, можно покрутить во все стороны правую и левую перчатки и попытаться наложить их друг на друга.) Какую из двух зеркально-симметричных форм называть правой, а какую левой, в общем случае абсолютно безразлично, это можно выбрать хоть случайно.
Само свойство, наличествующее у объекта зеркально-симметричных модификаций, знаменитый английский физик Уильям Томсон, барон Кельвин, назвал хиральностью. Слово это происходит от греческого χειρ — “рука”. Таким образом, “хиральность” буквально значит “рукость”. Смысл термина простой: зеркально-симметричные формы хирального объекта нельзя совместить так же, как правую и левую руку.
Итак, мы фактически только что показали, что любая диссимметричная фигура по определению обладает хиральностью. Причем с точки зрения своей физической природы эта фигура может быть чем угодно, от галактики до молекулы. Прямо сейчас нам интересны именно молекулы, и в первую очередь органические. А тут действует простое общее правило. Органическая молекула обладает хиральностью, если в ней есть хотя бы один атом углерода, с которым связаны четыре разных радикала (любых). Такой атом углерода принято называть асимметрическим атомом.
Если среди четырех радикалов, присоединенных к атому углерода, есть хотя бы два одинаковых, значит, этот атом уж точно не асимметрический. Например, ни в метане, ни в хлорметане, ни в дихлорметане, ни во фторхлорметане атом углерода асимметрическим не является. И соответственно, никакой хиральности там нет. Иное дело — бромфторхлорметан, где углерод имеет четыре разных радикала: атом водорода (H), атом фтора (F), атом хлора (Cl) и атом брома (Br). Поэтому бромфторхлорметан обладает хиральностью. Эта молекула существует в двух зеркально-симметричных формах, которые никакими поворотами не могут быть сведены одна к другой, хотя набор как атомов, так и связей между ними там совершенно одинаков.
Само собой разумеется, что эти формы будут изомерами. Мы знаем (см. главу 1), что изомеры — это молекулы, состоящие из одного и того же числа одних и тех же атомов, но отличающиеся расположением этих атомов. Как правило, это видно на графической формуле. Но бывают особые изомеры, в которых весь набор химических связей удивительным образом совпадает. Различить их можно, только представив молекулу в объеме. Изомерия, основанная исключительно на пространственной ориентации частей молекул, называется стереоизомерией.
Любая молекула, обладающая хиральностью, тем самым обладает и стереоизомерией. Асимметрический атом всегда создает два стереоизомера — “правый” и “левый”. Мы уже знаем, что асимметрическим называется атом углерода, с которым ковалентно соединены четыре любых разных радикала. Сейчас на всякий случай добавим, что понимать это надо сугубо буквально: “любые радикалы” здесь означает действительно абсолютно любые, будь это атом водорода или длинная тяжелая цепь размером с белковую молекулу. Асимметрическому атому “все равно”, с его точки зрения они равноценны.
Стереоизомеры и жизнь
Рассмотрим такое соединение, как знакомый нам из главы 1 аланин. Его формула следующая: CH3–CH(NH2)–COOH. Теперь мы можем убедиться, что эта формула относится сразу к двум зеркальным модификациям, которые на самом деле различны, хотя отличить их по простой графической формуле невозможно. Дело в том, что в аланине есть асимметрический атом углерода. Это альфа-атом (см. главу 3), ковалентно связанный с четырьмя разными радикалами — в данном случае с атомом водорода и тремя группами: аминогруппой, карбоксильной и метильной.
Итак, у аланина есть хиральность, а значит, он может существовать в виде двух стереоизомеров. Это относится и ко многим другим биологически активным веществам. Как правило, стереоизомеры не отличаются друг от друга по “обычным” химическим свойствам, но совершенно по-разному взаимодействуют с активными центрами ферментов. Если фермент рассчитан на “правый” стереоизомер, то “левый” стереоизомер не будет взаимодействовать с ним вовсе, и наоборот. Понять это нетрудно, если вспомнить, что самое простое и наглядное представление о работе фермента называется “моделью ключа и замка” (см. главу 3). Ключ, отлитый в зеркально-симметричном исполнении, вряд ли войдет в замок и уж тем более вряд ли поможет его открыть. Вот именно такая ситуация и возникнет, если активный центр фермента соединится не с тем стереоизомером.
Неудивительно, что стереоизомеры одного и того же вещества, как правило, резко различаются по биологической активности. Одна форма аланина (“левая”) входит в состав белков, другая (“правая”) — никогда.
То же самое можно сказать и о других аминокислотах, из которых состоят белки. Как мы знаем, эти аминокислоты для краткости называют протеиногенными (см. главу 3). В любой протеиногенной аминокислоте есть альфа-атом углерода, к которому присоединены аминогруппа, карбоксильная группа, атом водорода и некая боковая цепочка. Этот атом — асимметрический. А значит, такая аминокислота имеет два зеркальных изомера. И в состав белков всегда входит только один из них — “левый”. Единственное исключение — глицин, боковая цепочка которого представляет собой просто атом водорода. У него стереоизомерии нет.
Стереоизомерия, влияющая на биологическую активность, есть не только у аминокислот. Например, если взять тот же аланин и заменить в нем аминогруппу на гидроксильную группу, получится молочная кислота (CH3–CH(OH)–COOH). У молочной кислоты тоже есть “правый” и “левый” стереоизомеры, которые участвуют в биохимических процессах по-разному.
Этот правый, левый мир
В биохимии принято приписывать стереоизомерам “правизну” или “левизну” по их отношению к свету. Именно поэтому стереоизомерию часто называют оптической изомерией (это не строгие синонимы, но в тех случаях, которые нас сейчас интересуют, разницы между ними нет). Чтобы понять, в чем тут дело, нам потребуется буквально щепотка знаний из физики.
Что такое свет? В XVII веке великий голландский физик Христиан Гюйгенс первым догадался: свет — это волна. Тут он был совершенно прав. Правда, в современной физике свет рассматривается и как поток частиц, но на описание интересующих нас сейчас процессов это не влияет. Итак, свет — это волна. Волны бывают продольными или поперечными, и Гюйгенс решил, что световые волны относятся к продольным. Грубо говоря, продольная волна — это последовательность сжатий и разрежений, чередующихся вдоль той оси, по которой волна идет. Так устроены, например, звуковые волны. Для Гюйгенса было вполне естественно предположить, что световая волна подобна звуковой.
Однако волновая теория Гюйгенса объясняла далеко не все световые явления. Настоящую революцию в оптике совершил французский физик Огюстен Жан Френель, сделавший одну очень важную поправку к теории Гюйгенса: свет — не продольная волна, а поперечная. В отличие от продольной волны, в поперечной волне колебания идут перпендикулярно линии ее распространения. Такова, например, самая обычная волна на поверхности воды, состоящая из бегущих гребней и впадин. В световой волне колебания устроены так же, с той разницей, что они не механические, а электромагнитные (Френель этого не знал, но созданная им теория световых волн все равно оказалась верной).
Теперь сделаем следующий шаг. В механической волне, на поверхности воды, колебания идут только в одной плоскости: вверх-вниз. Но для поперечных волн в целом это не более чем частный случай. Представим, например, что мы привязали длинную веревку к гвоздю в стене и дергаем ее за свободный кончик, заставляя колебаться. Эти колебания будут типичными поперечными волнами. В зависимости от того, как именно мы в данный момент дергаем, веревка может колебаться и вверх-вниз, и вправо-влево, и наискосок. Плоскостей колебаний будет много. Так вот, обычный свет (например, свет Солнца или свет настольной лампы) устроен в этом отношении точно так же.
Итак, свет — это поперечная волна, где электромагнитные колебания обычно происходят сразу во многих плоскостях. Общего у этих плоскостей только то, что все они “нанизаны” на луч, по которому волна распространяется. Однако бывает и свет с колебаниями только в одной плоскости — он называется поляризованным. Такой свет можно получить, например, если пропустить обычный солнечный луч сквозь особый кристалл-поляризатор (см. рис. 4.2А). Человеческий глаз не отличает поляризованный свет от обычного, но приборы отличают (как и глаза многих животных, от пчел до осьминогов и птиц). Плоскость поляризации данного луча света остается постоянной, если только он не встретится с какими-нибудь оптическими преградами.
Теперь у нас хватает понятий, чтобы высказать ключевое утверждение. Кристаллы и растворы некоторых химических соединений обладают способностью поворачивать плоскость поляризации пропущенного сквозь них света на строго определенный в каждом случае угол (см. рис. 4.2Б). Это свойство называется оптической активностью. Как правило, оптически активными являются те вещества, у которых есть хиральность. Если у хирального соединения два стереоизомера, то их кристаллы или растворы поворачивают плоскость поляризации света на один и тот же угол, но в разные стороны. Изомер, который поворачивает плоскость поляризации по часовой стрелке, принято называть правовращающим, а против часовой — левовращающим, при этом “по часовой” или “против” определяется исходя из того, что луч света направлен воображаемому наблюдателю в лицо.
Для краткости правовращающие изомеры обозначают буквой D (от лат. dexter, “правый”), а левовращающие — буквой L (от лат. laevus, “левый”). Например, два стереоизомера аланина кратко называются D-аланином и L-аланином. Все без исключения белки состоят только из L-изомеров аминокислот. Нарушить это правило невозможно: ферменты, синтезирующие белки, несовместимы с D-аминокислотами и не могут их захватывать. Таким образом, все белки на Земле обладают полной хиральной чистотой. Вот это — по-настоящему важный факт, о котором неплохо бы поговорить подробнее.
Загадка левого вращения
Хиральная чистота, она же гомохиральность, — одна из главных особенностей, отличающих живые системы от неживых. Это касается не только аминокислот, но и других биологически активных соединений, у которых есть стереоизомерия (а есть она у многих). В подавляющем большинстве “обычных” химических реакций D- и L-изомеры синтезируются поровну, и разделить их потом трудно. Но в живых телах любая важная группа веществ, как правило, представлена или только L-формами, или только D-формами. Как они там разделяются, в целом понятно — с помощью ферментов, каждый из которых распознает или L-, или D-форму своего субстрата и работает только с ней. В неживых системах механизмов такого разделения или нет вовсе, или они гораздо менее эффективны.
Хиральная чистота живых организмов — широко известное явление. Доходит уже и до того, что она становится темой псевдонаучных спекуляций. Вспомним пример с глутаматом — аминокислотой, которая используется как пищевая добавка и которую часто без серьезных оснований объявляют вредной для здоровья (см. главу 3). Миф об этом вреде частично основан на утверждении, что природный и синтетический глутамат — это разные стереоизомеры, один полезный, а другой опасный. Сейчас у нас вполне достаточно знаний, чтобы понять, почему это глупость.
Глутамат нужен нашему организму для двух целей. Во-первых, он входит в состав белков. Во-вторых, в растворенном виде он действует на определенные белки-рецепторы, расположенные на нервных клетках мозга или на чувствительных клетках языка. Это мы уже знаем. Кроме того, мы теперь знаем, что глутамат, будучи протеиногенной аминокислотой, имеет два изомера: L-глутамат и D-глутамат. Так вот, со всеми нашими ферментами и рецепторами взаимодействует только L-глутамат. Это логично, поскольку и активные центры ферментов, и устроенные по тому же самому принципу активные центры белков-рецепторов всегда приспособлены только к одной из возможных стереоизомерных форм, в данном случае к L-форме. Что касается D-глутамата, то он ни в каких биохимических процессах толком не участвует. Можно хоть залить организм его раствором — он не подействует ни на что. Других же стереоизомеров у глутамата нет.
Разумеется, ни один пищевой химик не будет добавлять в еду бесполезный и безвкусный D-глутамат. Его и синтезировать никто не станет — незачем. Весь глутамат, используемый в пищевой промышленности, — это L-изомер, идентичный “естественному” глутамату, которого в организме и так полно. Химикам, занимавшимся синтезом глутамата, пришлось изобретать сложные процедуры, чтобы получить побольше нужного L-глутамата и поменьше ненужного D-глутамата, а потом выделить первое, отбросив второе (и с этими задачами они отлично справились). Впрочем, сейчас пищевой глутамат получают микробиологическим методом — с помощью бактерий, ферменты которых изначально приспособлены к производству L-глутамата и ничего другого выдать просто не могут.
И наконец, даже если бы D-глутамат попал в еду, он был бы там бесполезен (потому что у него нет вкуса) и почти наверняка безвреден. D-аминокислоты не ядовиты, они просто лишены пищевой ценности. Показано, что довольно много D-аминокислот — разумеется, небелковых — содержится, например, в молоке и сыре, и никакого вреда здоровью человека это не наносит[36].
Однако вернемся к делу. Сама по себе хиральная чистота белков легко объяснима. Мы уже знаем, насколько сильно функции белка зависят от правильного трехмерного сворачивания его аминокислотной цепочки (см. главу 3). Если синтезировать белок, используя D- и L-аминокислоты вперемешку, его пространственная укладка тут же станет непредсказуемой. Например, фермент, состоящий из случайно чередующихся D- и L-аминокислот, будет совершенно неработоспособным. Тут уж надо выбрать или только D-, или только L-изомеры — тогда объемная структура молекулы с гарантией выстроится однозначно.
Но вот почему эволюция выбрала именно L-аминокислоты?
Есть версия, что это чистая и беспримесная случайность. Первой на свете живой клетке почему-то достались L-аминокислоты, а дальше было проще так и оставить, чем перестраивать реакционные механизмы под другой стереоизомер. В какой-то мере оно наверняка так и было. В современном живом организме с аминокислотами имеют дело сотни ферментов, приспособленных к L-изомерам, и только к ним. Поменять все эти ферменты на приспособленные к D-изомерам было бы очень тяжелой задачей. Но если бы в самом начале пути первая живая клетка (а вернее — доклеточная система) почему-то попала в среду, обогащенную D-аминокислотами, сейчас все могло бы быть наоборот.
На этой идее можно и остановиться, если считать, что преобладание L-аминокислот в том месте, где зарождалась жизнь, было абсолютно случайным колебанием. Флюктуацией, как сказали бы герои Стругацких. Но что, если оно все же имело какую-то более серьезную причину? Тогда поиск объяснений надо продолжать.
Есть предположение, что во время возникновения жизни Солнечная система оказалась в зоне космоса, насыщенной ультрафиолетовым светом, который был поляризован под таким углом, что разрушал “правые” аминокислоты сильнее, чем “левые”. С точки зрения законов физики такое возможно. Но беда в том, что это объяснение на данный момент непроверяемо. В самом деле, как узнать, какова была обстановка в окрестностях Солнца четыре миллиарда лет назад да еще и в таких деталях?
Подойдем к проблеме с другой стороны. Можем ли мы выяснить, какие аминокислоты преобладали в Солнечной системе накануне возникновения жизни: D-аминокислоты, L-аминокислоты или их было строго поровну? Да, в принципе можем. На это есть метеориты. Установлено, что в углистых метеоритах, которые никогда не входили в состав планет и не были прибежищем жизни, содержится несколько больше L-аминокислот, чем D-аминокислот[37]. Преобладание L-изомеров аминокислот в окружающем нас ближайшем космосе хоть и не подавляющее, но вполне достоверное. И жизнь тут ни при чем: там, где синтезировались метеоритные аминокислоты, ее попросту никогда не было. А вот на роль начального условия, подтолкнувшего первые живые клетки к выбору L-аминокислот, обнаруженная в космосе хиральная асимметрия подходит превосходно.
Остается понять, чем же все-таки эта хиральная асимметрия была изначально вызвана. Может быть, действием поляризованного света от межзвездных туманностей, почему бы нет? Но может быть, и чем-то еще.
Есть, например, гипотеза, что в хиральной асимметрии “виновато” бета-излучение — разновидность электромагнитного излучения, представляющая собой, по сути, просто поток электронов. Физика элементарных частиц сообщает нам следующее: любой электрон, замедляясь при взаимодействии со средой, сам испускает электромагнитные волны, причем поляризованные таким образом, что они должны разрушать любые правовращающие хиральные молекулы сильнее, чем левовращающие. Связано это с тем, что у электрона есть некоторая внутренняя асимметрия. А самое главное, что это подтверждено экспериментально. Показано, что если бомбардировать бета-излучением (то есть электронами) раствор аминокислоты, содержащий D- и L-изомеры в равной концентрации, то D-форма будет разрушаться быстрее. А в космосе бета-излучение присутствует постоянно, так что дело может быть и в нем.
Ну а тем, кого не устраивает ни одна версия, можно посоветовать почитать книгу Станислава Лема “Звездные дневники Ийона Тихого”. Ее персонажи заявляют, что гомохиральность — это результат хулиганства инопланетных путешественников:
“Верно ли, что Оспод и Погг, не ограничиваясь обычным загрязнением беззащитной, пустынной планеты, решили, по пьяному делу, учинить на ней самым бесстыдным и возмутительным образом биологическую эволюцию, какой еще свет не видывал? Верно ли, что эти безобразники, лишенные всякого чувства приличия и нравственных тормозов, вылили на скалы безжизненной Земли шесть бочек заплесневелого желатинового клея и два ведра испорченной альбуминовой пасты, подсыпали туда забродившей рыбозы, пентозы и левуллозы и, словно им мало было всех этих гадостей, добавили три больших бидона с раствором прокисших аминокислот, а получившееся месиво взболтали угольной лопатой, скособоченной влево, и кочергой, скрученной в ту же сторону, в результате чего белки всех будущих земных существ стали ЛЕВОвращающими?!”[38]
Ползи, ползи, улитка
Весь наш разговор о правизне и левизне держится на одном-единственном ключевом понятии. Это понятие — “диссимметрия”. Из диссимметрии сразу же вытекает хиральность, а из хиральности — во-первых, стереоизомерия и, во-вторых, оптическая активность. Все это — свойства молекул.
Но понятие диссимметрии относится не только к молекулам. Как симметрия, так и диссимметрия бывают у каких угодно объектов. Больше 100 лет назад французский физик-теоретик Пьер Кюри расширил понятие диссимметрии, определив ее как совокупность отсутствующих элементов некоторой наличной симметрии. Между прочим, это должно означать, что “диссимметрия” и “асимметрия” — в общем случае далеко не одно и то же. Асимметрия — это простое отсутствие симметрии (первичное), а диссимметрия — это выпадение части элементов когда-то существовавшей симметрии (вторичное). “Отсутствие некоторых элементов симметрии — та диссимметрия, которая творит явление”, — говорил Кюри.
Пояснить эту мысль можно вот какой аналогией. Если представить себе беспорядочно написанный текст, в котором нет ритма и рифмы, это и будет беспорядочный текст, и ничего больше. Отсутствие рифмы тут никакого смысла не несет. Но вот если мы увидим совершенно правильно рифмованное стихотворение, в котором вдруг попадутся две строчки, написанные верлибром, то есть нерифмованным стихом, сразу станет ясно, что это не случайность, а так называемый “минус-прием”, которым автор хотел нам что-то сказать. Вот и элементы диссимметрии обычно бывают важны (по крайней мере, с нашей точки зрения) для характеристики тех явлений, в которых они проявляются.
История Вселенной знала множество событий диссимметризации, когда в некоторой системе часть элементов симметрии исчезала. И что интересно — эти события чаще вели к усложнению систем, чем к их упрощению.
Первым известным событием диссимметризации был начавшийся в первые же мгновения после Большого взрыва сдвиг соотношения количества вещества и антивещества. Считается, что изначально их было поровну. Если вещество состоит из протонов, электронов и нейтронов, то антивещество — из антипротонов, позитронов и антинейтронов (вместе их называют античастицами). Самое же главное, что при контакте вещества с антивеществом происходит разрушительная аннигиляция: и частицы, и античастицы превращаются в электромагнитные лучи. В наблюдаемой части Вселенной антивещества почти нет. Только поэтому там и успевают возникнуть структуры, состоящие из атомов и молекул. Если бы вещества всегда было ровно столько же, сколько антивещества, Вселенная была бы наполнена светом, но никакие сложные устойчивые объекты в ней существовать не смогли бы.
Возникновение хиральной чистоты живых тел — не что иное, как еще одно яркое событие диссимметризации. Это стало понятно в XIX веке, после открытий Луи Пастера, и порождало иной раз самые удивительные мысли. Например, академик Владимир Иванович Вернадский (безусловно, один из умнейших русских ученых своего времени) считал, что факт хиральной чистоты означает не более и не менее как невозможность происхождения живой природы из неживой. “Левозакрученность” белков он считал признаком того, что с живыми системами связана некоторая совершенно особая разновидность материи, а может быть, даже и физики пространства (что бы это ни значило). Вернадский, например, всерьез допускал, что геометрия неживой природы — евклидова, а живой — риманова. Логическим выводом отсюда было признание вечности жизни: раз живые тела не могут возникнуть из неживых, потому что это два качественно разных типа материи, значит, жизнь была во Вселенной всегда и вопрос о ее происхождении лишен смысла. Сейчас все эти рассуждения, как принято в таких случаях вежливо говорить, “представляют исключительно исторический интерес”. Современные биохимические исследования очень наглядно показывают, что никакой непреодолимой пропасти между живыми и неживыми системами нет. Более того, биохимики достаточно убедительно объясняют, как и почему хиральная чистота жизни скорее всего возникла. Сейчас мы можем быть уверены, что загадку происхождения жизни решит не сомнительная философия, а обыкновенная химия.
События диссимметризации случались и на других эволюционных уровнях. Есть, например, довольно много животных, в строении тела которых симметрия так или иначе сменилась в процессе эволюции на диссимметрию. Диссимметричными (хотя бы по внутренней анатомии) являются все без исключения брюхоногие моллюски, то есть улитки, причем в ходе их эволюции диссимметрия еще и постепенно нарастала. Раковины многих улиток обладают самой настоящей хиральностью, то есть существуют в двух зеркально-симметричных формах — право- и левозакрученной.
У человека почти нет внешней диссимметрии, но есть довольно сильная диссимметрия внутренних органов. Скажем, сердце у него обычно смещено влево, желудок тоже направлен изгибом влево, а вот печень и желчный пузырь находятся справа. Причем существует врожденное нарушение развития под названием situs inversus, когда все эти органы располагаются зеркально-симметричным образом. Если инверсия полная и коснулась действительно всех органов без исключения, то никаких проблем для здоровья она не создает. В этом смысле situs inversus — просто вариант нормы.
Наконец, эволюционно молодой пример события диссимметризации — это появление в головном мозге человека специализированных центров речи. Они называются зоной Брока и зоной Вернике. У подавляющего большинства людей эти центры находятся только в левом полушарии, но у некоторых, наоборот, только в правом (такие люди обычно левши). Первым обладателем этих центров — и, соответственно, нового типа диссимметрии мозга — по всей видимости, был человек умелый (Homo habilis), появившийся в Восточной Африке больше двух миллионов лет назад.
Английский философ XIX века Герберт Спенсер считал, что в ходе прогрессивной эволюции мощность симметрии живых объектов, как правило, понижается. Строго говоря, это ниоткуда не следует. Например, нет ни малейших оснований считать, что садовая улитка, обладатель ярко выраженной анатомической диссимметрии, хоть в каком-нибудь смысле эволюционно прогрессивнее дождевого червя, в теле которого никакой существенной диссимметрии нет (по крайней мере, во взрослом состоянии). С таким же успехом можно было бы сказать, что какой-нибудь фторхлорметан эволюционно прогрессивнее дихлорметана (вспомним начало этой главы). Очевидно, что такое утверждение было бы даже не ошибочным, а просто бессмысленным. Но вот что события диссимметризации часто бывают знаками серьезных эволюционных перемен — это точно.
Впрочем, доводить до абсолюта этот вывод не стоит. (В биологии вообще лучше ничего никогда не доводить до абсолюта.) При желании можно найти сколько угодно случаев, где спенсеровская логика не работает уж вовсе никак. Например, у большинства змей сохранилось только правое легкое, у птиц — только левый яичник, а у нарвала только левый верхний зуб превращается в спиральный бивень, правый же отсутствует. Все это явные примеры диссимметрии, вторично возникшей из симметричного состояния. Но никаких переходов на качественно новый уровень в этих случаях не произошло. Перечисленные существа ни в каком отношении не “выше” и не сложнее своих ближайших родственников: они просто узко специализированы, не более. Это абсолютно нормально для живых существ и нисколько не мешает им украшать собой мир.
5. липиды и мембраны
Господь Бог создал объем; поверхности же были изобретены дьяволом.
Вольфганг Паули (цитируется по книге Манфреда Шредера “Фракталы, хаос, степенные законы. миниатюры из бесконечного рая”)Липиды — удивительно разнообразная группа молекул. Они бывают и структурными “кирпичиками”, из которых строятся компоненты клеток, и питательными веществами, и гормонами. В общем, без знакомства с липидами невозможно разобраться в устройстве жизни — по крайней мере, жизни на Земле.
Но тут нас подстерегает затруднение. В отличие, например, от белков или углеводов, липиды не имеют никакой общей формулы. Их определяющее свойство — нерастворимость в воде, то есть гидрофобность (см. главу 2). Липиды — это сборное понятие, объединяющее все гидрофобные биологически активные вещества.
Напомним, что “гидрофобные” фактически значит “неполярные”, то есть включающие много углерода и водорода, но мало кислорода. В таких молекулах преобладают ковалентные неполярные связи, не создающие никаких локальных маленьких электрических зарядов. Поэтому они плохо взаимодействуют с водой, в молекулах которой связи как раз полярны и локальные маленькие заряды есть.
С химической точки зрения липиды бывают очень различны. Например, они вполне могут быть спиртами. Существует спирт, у которого единственная гидроксильная группа присоединена к огромному углеводородному радикалу с несколькими замкнутыми циклами (тремя шестичленными и одним пятичленным) и дополнительной длинной ветвящейся цепочкой. Этот спирт называется холестерином (см. рис. 5.1). Иногда холестерин переименовывают в холестерол — это синонимы. Холестерин очень гидрофобен, он не растворяется в воде и поэтому считается липидом.
Как и многие другие липиды, холестерин — важное питательное вещество. Из-за того, что он нерастворим в воде, он не может переноситься кровью в чистом виде (как, например, глюкоза), а переносится только при помощи специальных белков, образующих с ним комплекс.
Основу молекулы холестерина образует уже упоминавшееся ядро из четырех углеродных колец (трех шестиугольников и одного пятиугольника), которое в случае, если убрать из него двойную связь, будет называться великолепным словом “циклопентанпергидрофенантрен”. Производные циклопентанпергидрофенантрена называются стероидами. Это очень важная группа липидов. К стероидам относятся, например, половые гормоны и гормоны коры надпочечников. Довольно часто стероиды используются и как лекарства (каждый, кто смотрел сериал “Доктор Хаус”, это знает). В организме человека все стероиды синтезируются из холестерина — это одна из причин, почему он нужен нам как питательное вещество.
Другая важная группа липидов — жирные кислоты, то есть карбоновые кислоты с длинными (10–20 атомов углерода и больше) углеводородными “хвостами” (см. рис. 5.1). Чем длиннее “хвост”, тем хуже кислота растворяется в воде. Жирные кислоты, у которых в цепочке больше 12 атомов углерода, принято называть высшими.
Жирные кислоты бывают насыщенными (без двойных связей в углеводородной цепочке) или ненасыщенными (с двойными связями). У насыщенных жирных кислот “хвосты” прямые, а у ненасыщенных — изогнутые в местах двойных связей. Из-за этого молекула может приобрести причудливую форму, особенно если двойных связей в ней несколько. Насыщенные высшие жирные кислоты при комнатной температуре — твердые вещества, а ненасыщенные — жидкости. Связано это с тем, что молекулы кислот с насыщенными “хвостами”, в которых нет создаваемых двойными связями изломов и изгибов, способны к более компактной упаковке. Особенно много ненасыщенных жирных кислот (и их производных) во всяких растительных маслах. Именно из-за этого, например, подсолнечное масло при комнатной температуре жидкое, в то время как сливочное — твердое.
Жирные кислоты играют важную физиологическую роль, которая иногда проявляет себя трагически. Например, одна из самых страшных болезней, разрушающих нервную систему, — адренолейкодистрофия — связана именно с нарушением обмена жирных кислот. Дело в том, что жирные кислоты активно используются при синтезе миелина — довольно сложного по составу вещества, образующего оболочку отростков нервных клеток. Строго говоря, миелин — это вообще не единое вещество, а смесь множества разных липидов. А миелиновая оболочка отростков нейронов необходима для нормального проведения по ним нервных импульсов (в физиологические детали этого мы сейчас вдаваться не будем). Так вот, в состав миелина входят жирные кислоты с углеводородными цепями, включающими по 16–20 атомов углерода — это по любым меркам довольно много. Но при адренолейкодистрофии в организме накапливается огромное количество так называемых очень длинноцепочечных жирных кислот (ОДЦЖК), имеющих углеводородную цепь длиной в 24–30 атомов. Вот это уже катастрофа. Очень длинноцепочечные жирные кислоты разрушают миелин, вместо того чтобы нормально в него встраиваться. Результат — расстройство буквально всех функций нервной системы, включая и движения, и чувствительность, и память, и рассудок. Обычно это приводит к смерти в течение нескольких лет. Адренолейкодистрофия — генетическая болезнь. Ее непосредственная причина — выход из строя одного определенного транспортного белка, в норме переносящего ОДЦЖК в те части клеток, где они должны расщепляться. Лечить такое медицина пока что не умеет, хотя можно надеяться, что со временем научится, особенно если о наличии у зачатого младенца гена адренолейкодистрофии будет известно заранее (а это вполне можно обеспечить).
Но вернемся к липидам. Есть липиды, которые являются с точки зрения химии сложными эфирами, то есть продуктами соединения карбоновой кислоты и спирта с общей формулой R1–CO–O–R2 (см. главу 1). Сложный эфир — это уже и не кислота, и не спирт, их свойства в нем взаимно уничтожаются. Сложный эфир, образованный спиртом и кислотой с длинными углеводородными цепями, называется воском. В молекулах восков так много атомов углерода и водорода и так мало атомов кислорода, что в итоге они очень похожи по свойствам на обычные углеводороды. К этой группе веществ относится, например, пчелиный воск, из которого пчелы делают соты.
Кроме того, воск (иной по составу, чем пчелиный) образует основу спермацета — жидкого вещества, находящегося в особом мешке в голове кашалота. Именно из-за спермацетового мешка голова кашалота выглядит прямоугольной, а не вытянутой, как у дельфина, хотя форма черепа у них очень похожая. По современным данным, спермацетовый мешок служит линзой для звуковых волн, с помощью которых кашалот ориентируется в пространстве; особенно это важно на большой глубине, где от зрения толку немного. Каждый, кто читал великий роман “Моби Дик”, знает, что раньше на кашалотов активно охотились ради спермацета, из которого делали ламповое масло, кремы, свечи и некоторые лекарства (например, противоожоговые мази). Сейчас добыча кашалотов, к счастью, запрещена.
Кроме стероидов, жирных кислот и восков есть еще по меньшей мере два типа липидов, без которых в биологии никак не обойтись. Это — жиры и фосфолипиды. С ними мы познакомимся чуть позже.
Детергенты
Жирные кислоты, а вернее их соли, с древних времен используются человеком в качестве моющих средств. Посмотрим, почему это так удобно.
Вот, например, стеариновая кислота: вещество с формулой CH3–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2––CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–COOH, или попросту C17H35COOH. (Последний вариант, конечно, компактнее, но трудно отказать себе в удовольствии хоть раз написать эту формулу в развернутом виде.) Если заменить в этой кислоте атом водорода на атом натрия, получится соль — стеарат натрия C17H35COONa (см. рис. 5.1). В растворе такая соль легко диссоциирует, распадаясь на катион Na+ и анион C17H35COO–, который называется стеарат-ионом.
Как ведет себя стеарат-ион в воде? Его заряженная “головка” (–COO–) взаимодействует с водой отлично, а вот образующий большую часть молекулы углеводородный “хвост” — совсем никак. Этот “хвост” — воплощение гидрофобности, и он слишком длинный, чтобы заряженная “головка” могла затянуть его за собой в раствор целиком. Поэтому, если поблизости есть поверхность жидкости, то стеарат-ионы выстроятся по ней так, чтобы “головки” были направлены в воду, а “хвосты” — наружу, в сторону поверхностной пленки. Такое поведение молекул называется поверхностной активностью.
Иное дело, если на пути стеарат-ионов окажется капля какого-нибудь гидрофобного вещества — например, масла или жира. В этом случае стеарат-ионы выстроятся точно по поверхности, разделяющей воду и жир. Их “головки” будут обращены в воду, а “хвосты” погружены в жир. В результате капля жира будет разбита этими “хвостами” на мелкие капельки, которые по отдельности легко смоются водой. Вот почему стеарат-ионы и близкие к ним молекулы хороши в качестве моющих средств. Собственно говоря, именно так они и используются людьми последние несколько тысяч лет. Стеарат натрия — это не что иное, как обычное мыло.
Поверхностно-активные вещества, такие как мыло, часто называют детергентами (от латинского глагола detergere, одно из значений которого — “стирать”). Детергент — это вещество, в молекуле которого один конец растворим в воде, а другой — в липидах или углеводородах. Детергенты бывают анионными (с отрицательно заряженной “головкой”), катионными (с положительно заряженной “головкой”) или неионными (у которых “головка” полярна, но не заряжена). Но в любом случае молекула детергента обязательно включает гидрофильную “головку” и гидрофобный “хвост”. Мыло — это, как уже понятно из описания, типичный анионный детергент.
Великий химик Клод Луи Бертолле говорил, что “грязь — это вещество не на своем месте”. Тут можно уточнить: грязь — это, как правило, гидрофобное вещество не на своем месте. Оно и понятно: гидрофильные вещества вроде сахара без проблем смываются водой, так что никакие дополнительные вещества для их удаления не нужны. А вот для удаления гидрофобных веществ людям, собственно, и пришлось придумать моющие средства.
Бывают и природные аналоги моющих средств. Например, желчные кислоты — полярные производные холестерина, которые вырабатываются у человека печенью и выделяются в двенадцатиперстную кишку. Это самые настоящие детергенты, необходимые в данном случае для того, чтобы разбивать поступающие с пищей капельки жира.
Еще одно красивое название, применимое к детергентам, — амфифильные вещества. Слово “амфифильный” можно буквально перевести как “двояколюбивый”. Оно как раз и обозначает молекулу, одна часть которой “любит” воду, а другая — нет. Это более общий термин, чем “детергент”, буквально означающий все-таки именно “моющее средство” (тем более что далеко не все амфифильные вещества подходят на эту роль).
Возвращаясь к началу этой главы, мы теперь можем уточнить, что липиды на самом деле довольно редко бывают полностью гидрофобными. Чаще они амфифильны. Многие их биологические свойства именно с этим и связаны.
Жиры
Теперь еще раз вспомним, что любая карбоновая кислота (в том числе и жирная) в принципе может образовать с любым спиртом сложный эфир. При этом от кислоты отщепится –OH, от спирта –H, они образуют воду, а остатки кислоты и спирта замкнутся в единую молекулу со сложноэфирной группой –CO–O– посредине (см. рис. 5.2). Спиртом, участвующим в этой реакции, вполне может оказаться и глицерин, у которого гидроксильных групп целых три (см. главу 1). Сложный эфир глицерина и трех жирных кислот называется жиром. Молекула жира имеет “головку” (остаток глицерина) и сразу три углеводородных “хвоста” (см. рис. 5.2).
На самом деле жиры стали известны людям гораздо раньше, чем их исходные компоненты. Например, желтый костный мозг, который наверняка извлекали древние люди из трубчатых костей крупных млекопитающих, — это в основном жир.
По опыту мы все знаем, что жир — это вещество животного или растительного происхождения, нерастворимое в воде, жирное на ощупь и оставляющее на бумаге характерные жирные пятна. Жиры, остающиеся при комнатной температуре жидкими, принято называть маслами.
Иногда в разговорах о химическом составе пищи понятие “липиды” для простоты заменяют понятием “жиры”. Теперь мы знаем, что это неточность. Жиры — и вправду ценные питательные вещества, но это далеко не единственные липиды, которые важны в этой роли. Например, холестерин — липид, но никакой не жир.
С участием насыщенных жирных кислот образуются насыщенные жиры, а с участием ненасыщенных кислот, соответственно, ненасыщенные. В растительных маслах гораздо больше ненасыщенных жиров, чем в животных. Хотя в целом и там и там есть и те и другие, отличается только их вклад.
Жиры — очень ценные источники энергии. Молекула жира может дать в два раза больше энергии, чем молекула углевода, имеющая такой же размер. Объясняется это вот чем. Процесс, путем которого мы получаем энергию из питательных веществ, — это, в сущности, окисление, то есть присоединение кислорода ко всем атомам водорода и углерода, до которых можно дотянуться. Все другие связи, образуемые этими атомами, при окислении разрываются, а его конечными продуктами становятся вода (H2O) и углекислота (CO2). Проблема в том, что в молекулах углеводов значительная часть атомов уже соединена с кислородом, так что окислять их дальше некуда (ну, или почти некуда). В молекулах жиров, где есть длинные жирнокислотные “хвосты”, таких атомов гораздо меньше. А потому и энергии из окисления жиров можно извлечь больше.
Кроме того, что жиры энергоемки, они еще и удобны для компактного хранения, поэтому животные (включая человека) часто используют их в качестве запасных веществ. Известно, что организм склонен реагировать на длительный стресс усилением отложения жира — это одна из причин так называемого стресс-индуцированного ожирения. Конечно, это эволюционно обусловленная реакция: с точки зрения нашего организма чем тяжелее и неопределеннее условия жизни, тем выше вероятность того, что запасные вещества в обозримом будущем пригодятся.
Мы уже знаем, что одним из конечных продуктов окисления питательных веществ является вода. Поэтому жировые отложения могут фактически служить запасом не только энергии, но и воды, которая все равно неизбежно выделяется при их переработке. Это особенно важно для пустынных животных вроде верблюдов. Горб верблюда содержит только жир, но при полном окислении этот жир (как и любой другой) превращается в углекислоту и воду. Углекислоту верблюд выдыхает, а воду оставляет в своем теле, чтобы добро не пропадало.
Некоторые тушканчики, тоже живущие в пустынях или полупустынях, запасают жир подобно верблюдам и в тех же целях, но не в горбе, а в хвосте. Они так и называются — толстохвостые тушканчики.
Фосфолипиды
А теперь познакомимся еще с одним важным для нас веществом — фосфорной кислотой, имеющей формулу H3PO4. Структура у нее довольно простая. Мы уже знаем, что валентность фосфора — 5 (см. главу 1). В фосфорной кислоте к атому фосфора присоединены четыре атома кислорода, один двойной связью, а все остальные одинарными. К этим последним присоединены атомы водорода. Когда фосфорная кислота находится в растворе, атомы водорода (вернее, протоны) могут отрываться, превращая фосфорную кислоту в анион. Здесь, как и раньше, надо иметь в виду, что “фосфорная кислота” и “фосфат” (то есть ее анион либо соль) в биохимии почти синонимы. В подавляющем большинстве случаев эти понятия свободно заменяются друг на друга. Очень часто название “фосфорная кислота” заменяют на “фосфат” просто для краткости.
Фосфорная кислота может участвовать в образовании сложных эфиров точно так же, как и карбоновые кислоты (см. рис. 5.2). Сложный эфир глицерина, двух жирных кислот и фосфорной кислоты называется фосфолипидом. Это — исключительно важный для биологии класс соединений. Можно сказать, что фосфолипид — это жир, у которого вместо одного из остатков жирных кислот тем же способом присоединен фосфат. Такая молекула состоит из гидрофильной “головки” (включающей остатки глицерина и фосфата) и двух гидрофобных “хвостов” (жирных кислот). При фосфате бывают еще добавочные боковые цепи, у разных фосфолипидов разные.
Два особенно широко распространенных фосфолипида — фосфатидилхолин и фосфатидилсерин. В фосфатидилхолине дополнительной боковой цепью при фосфате служит холин, небольшая азотсодержащая органическая молекула (см. рис. 5.2Г). А в фосфатидилсерине к фосфату присоединена аминокислота серин. В другие биохимические детали нам тут вдаваться не стоит, общие свойства фосфолипидов все равно гораздо важнее. А состоят они в том, что любой фосфолипид — это ярко выраженная амфифильная молекула, состоящая, если совсем уж попросту, из одной большой гидрофильной “головки” и двух длинных гидрофобных “хвостов”.
Знакомство с мембраной
Мы уже знаем, что никакие липиды не растворяются в воде. Что же будет, если их с водой все-таки принудительно смешать? Правильно: молекулы липидов начнут слипаться друг с другом своими гидрофобными частями, как бы защищая их от контакта с водой, и это называется гидрофобным взаимодействием. А гидрофильные части молекул будут, наоборот, втягиваться в воду, ориентируясь в сторону ее толщи. Это типичное поведение амфифильных веществ.
Будем для определенности называть гидрофильную часть любого липида “головкой”, а гидрофобную — “хвостом”. И мы увидим, что при смешивании с водой молекулы липидов могут группироваться тремя способами (см. рис. 5.3):
* мицелла — шарообразное скопление, где “хвосты” обращены внутрь, минимизируя контакт с водой, а “головки” — наружу. Ничего, кроме самих молекул липидов, мицелла не содержит. Мицеллы особенно легко образуются из молекул, где “головка” по диаметру превосходит “хвост”, то есть молекула имеет форму конуса. Таковы, например, молекулы жирных кислот;
* бислой, в котором два слоя аккуратно выстроенных молекул липидов обращены “хвостами” друг к другу, а “головками” к водной толще. В этом случае гидрофобные области обоих слоев взаимодействуют друг с другом, не касаясь воды. Бислой легче всего образуется, если ширина “головки” и “хвоста” молекулы (или всех ее “хвостов” вместе) одинакова, то есть молекула цилиндрическая. Именно так устроены молекулы фосфолипидов;
* везикула — пузырек, представляющий собой бислой, замкнувшийся в сферу. Такое замыкание происходит довольно легко, потому что края бислоя всегда неустойчивы — ведь гидрофобные “хвосты” там обнажаются. В везикуле же никаких свободных краев больше нет. Внутри везикулы находится полость, заполненная той же водой, что и снаружи.
Итак, жирные кислоты охотнее образуют мицеллы, а фосфолипиды — бислои, замыкающиеся в везикулы. Вот именно таким бислоем и является клеточная мембрана. Она состоит из двух слоев фосфолипидов, обращенных гидрофобными “хвостами” друг к другу. (На самом деле так устроена мембрана не абсолютно всех клеток, а только подавляющего большинства, но про исключения мы поговорим позже.) Как правило, клеточная мембрана не имеет никаких свободных краев, она полностью замкнута. То есть вся клеточная мембрана — это, в некотором смысле, одна сильно разросшаяся везикула.
Повторимся еще раз: типичная клеточная мембрана представляет собой фосфолипидный бислой. Это утверждение, которое могло бы показаться совершенно загадочным несколько страниц назад, сейчас нам уже понятно. И к нему можно добавить еще более очевидную мысль: там, где нет клеточной мембраны, нет вообще никакой клетки. Ведь говорить о клетке можно лишь тогда, когда есть четкая граница, отделяющая внутриклеточное пространство от внешней среды. Таким образом, история возникновения клеточных форм жизни — это в большой степени именно история возникновения липидных мембран.
Знакомство с мембраной (продолжение)
На самом деле биологические мембраны никогда не состоят из одних только фосфолипидов (см. рис. 5.4). Настоящая мембрана — это фосфолипидный бислой со встроенными в него многочисленными белками, которые называются интегральными. Многие (но не все) интегральные белки пронизывает клеточную мембрану насквозь, так что концы белка торчат из нее и внутрь, и наружу. Такие белки называются трансмембранными. Часть интегрального белка, погруженная глубоко в мембрану, всегда богата гидрофобными аминокислотами, такими как валин, лейцин, изолейцин и фенилаланин (см. главу 3). Радикалы этих аминокислот хорошо взаимодействуют с гидрофобными “хвостами” фосфолипидов. Именно благодаря этому интегральный белок и держится в мембране, в которую он вставлен. Очень часто интегральный белок бывает свернут таким образом, что его полипептидная цепочка пронизывает мембрану несколько раз подряд. Отрезками такого белка, непосредственно проходящими сквозь мембрану, чаще всего бывают альфа-спирали или бета-слои, почти целиком состоящие из гидрофобных аминокислот (о том, что такое альфа-спираль и бета-слой, см. опять же главу 3).
Интегральных белков очень много. Судя по современным молекулярно-биологическим данным, у большинства живых организмов от 20 до 30% всех белков — это интегральные мембранные белки. Неудивительно, что их функции разнообразны. Но чаще всего интегральные белки бывают или рецепторными (принимают сигналы из внешней среды и передают их внутрь клетки), или транспортными (переносят те или иные молекулы с одной стороны мембраны на другую). В типичной клетке человеческого тела есть, как правило, примерно 100 разных интегральных белков. Каких именно — во многом зависит от того, что это за клетка.
Очень важное свойство биологических мембран — избирательная проницаемость. Только очень немногие вещества могут проходить сквозь клеточную мембрану относительно свободно. Это или вода, молекулы которой совсем маленькие, или гидрофобные соединения вроде стероидных гормонов, которые легко “растворяются” в гидрофобном слое мембраны. Для всех остальных молекул требуются специальные переносчики. Например, молекулы углеводов — крупные и гидрофильные, поэтому самостоятельно пройти через мембрану они не могут. А поскольку клетке углеводы все-таки нужны, то существует целая группа трансмембранных белков, занимающихся их переносом. Особенно разнообразны транспортеры глюкозы — углевода, служащего у нас главным источником энергии (см. главу 6).
Более того, в конце XX века выяснилось, что специальные переносчики через мембрану есть даже для воды. Это интегральные белки, которые называются аквапоринами. Правда, перенос воды сквозь мембрану может идти и сам по себе, но аквапорины, во-первых, значительно облегчают его, а во-вторых, позволяют регулировать. Например, у человека есть не меньше 13 белков-аквапоринов, отличающихся друг от друга деталями функционирования[39]. На такой важной задаче, как транспорт воды, эволюция не экономит.
Кроме интегральных белков есть еще и периферические, которые не пронизывают мембрану насквозь, а “прилипают” к ней только с одной стороны, нековалентно связываясь или с интегральными белками, или с головками фосфолипидов. Обычно периферические белки держатся или на ионных, или на водородных связях. Функции этих белков могут заключаться, например, в передаче сигнала от интегральных белков-рецепторов внутрь клетки. Неудивительно, что разных периферических белков довольно много.
С липидной частью мембран тоже не все так просто. Прежде всего, в нее входят не только фосфолипиды. Например, мембраны клеток животных содержат еще и холестерин, причем в довольно большом количестве. В растениях холестерина нет (поэтому встречающаяся на бутылках растительного масла надпись “без холестерина” — чистая правда), но в состав их мембран входят другие гидрофобные спирты, близкие к нему по структуре. Есть и еще несколько классов мембранных липидов, которые мы тут не обсуждаем, но которые тем не менее часто оказываются важными и для клеточной биологии, и даже для медицины.
Клеточная мембрана интересна тем, что для ее образования не нужно никаких ковалентных связей (которые в обычной химии как-никак главные). Она целиком держится на нековалентных взаимодействиях, в первую очередь, конечно, гидрофобных. Входящие в мембрану молекулы фосфолипидов, как правило, ничем не закреплены — они могут дрейфовать по своему слою, как в жидкости. Модель мембраны, учитывающая эти ее свойства, была в свое время достаточно красноречиво названа жидкостно-мозаичной. В живых системах вообще очень многое держится не на сильных связях (ковалентных), а на слабых (гидрофобных или водородных) — в следующих главах мы еще не раз это увидим.
Пенорожденная
Мы теперь знаем, что молекулу, в которой есть гидрофильная и гидрофобная части, для краткости называют амфифильной. При смешивании амфифильного вещества с водой оно может спонтанно собраться в мицеллы, а может и в везикулы (это зависит как от природы самого вещества, так и от физических условий). Если получаются везикулы — значит, молекулы в них выстроились в бислой, очень похожий на липидный бислой клеточных мембран. Можно экспериментально подобрать условия, в которых возникновение таких везикул ускорится. При этом искусственные везикулы могут “расти”, избирательно пропуская сквозь мембрану и удерживая в себе разные вещества, а могут и “делиться” наподобие клеток. Из-за того что липидные мембраны избирательно проницаемы, внутри везикул возникает среда, отличающаяся от окружающего раствора, в которой могут идти собственные химические реакции. В общем, получается, что простая самоорганизация смешанных с водой липидов внезапно дает свойства, привычные для живых систем: рост, размножение, обмен веществ, поддержание внутренней среды.
Из чего состояли первые мембраны? Вполне возможно, что поначалу их молекулярные компоненты были гораздо более простыми, чем фосфолипиды. В экспериментах химикам удавалось получать самые настоящие везикулы из смеси карбоновых кислот и сложных углеводородов, найденных в знаменитом Мурчисонском метеорите (см. о нем в главе 3). Древнейшие мембраны в принципе могли бы состоять, например, из жирных кислот. И действительно, заставить жирные кислоты с “хвостами” длиной примерно в 10 атомов углерода собраться в везикулы в искусственных условиях вполне можно. Тогда почему бы и не в природе? Правда, такие мембраны будут не слишком устойчивыми.
Подводя итог, тут можно сказать две вещи. С одной стороны, можно быть уверенным, что по части мембранной организации между живой и неживой природой нет никакого глубокого разрыва. Биохимическая эволюция вполне могла начаться с простой однослойной мицеллы и прийти к двуслойной везикуле, постепенно обретающей возможность сначала расти, потом делиться, а потом и захватывать крупные молекулы, в том числе способные нести генетическую информацию. Почти все промежуточные шаги на этом пути не только легко вообразить, но и можно уже сейчас воспроизвести экспериментально.
С другой же стороны, здесь, как это очень часто бывает в современной науке, обретенная ясность сразу же порождает новые вопросы. Мы совершенно не знаем, в какой именно момент были “изобретены” первые биологические мембраны и из каких молекул они поначалу состояли. Мембраны из жирных кислот слишком непрочны. Может быть, вначале были другие соединения, не такие сложные, как фосфолипиды, но обладавшие близкими свойствами? И если да — то что это были за соединения? Откуда они брались, в каких были изомерных формах? Как вышло, что фосфолипиды заняли их место? Подобных вопросов можно задать очень много. А когда на них найдутся ответы, перед исследователями наверняка встанут новые вопросы, которых мы сейчас еще даже не можем себе представить. Это — нормальный процесс познания.
Есть по крайней мере одно свойство жизни, совершенно невозможное без мембран (во всяком случае, в современных земных условиях). Это свойство — дискретность.
Мы привыкли к тому, что живое вещество разделено на маленькие самостоятельные порции, которые традиционно, со времен великих ученых XVII–XIX веков, называются клетками. Но обязательно ли любая жизнь должна состоять из клеток? Мы этого не знаем. Станислав Лем в “Солярисе” попытался вообразить иную жизнь — недискретную, охватывающую единым живым океаном целую планету. Конечно, это — фантазия. Но у нас нет никаких серьезных оснований считать, что она абсолютно нереалистична.
Так или иначе в истории жизни на Земле дискретность возникла, и притом очень рано. Сначала появились клетки, а потом и сложенные из них многоклеточные организмы, вплоть до дубов, кашалотов и людей. “Ключевая роль детергентов в формировании дискретных особей (в том числе и прекрасных) вполне соответствует представлению о возникновении Венеры (Афродиты) из пены морской”, — пишет по этому поводу известный биофизик Симон Эльевич Шноль[40]. Слово “детергенты” тут употреблено как синоним “амфифильных веществ” (или “поверхностно-активных веществ”, если кому-нибудь такое название больше нравится). Сама же идея вполне актуальна. Ведь пена возникает там, где есть много амфифильных веществ — таких, как мыло, — которые легко образуют мицеллы, везикулы и вообще любые пузырьки. А принцип деления живой материи на клетки — точно такой же. Клеточная жизнь основана на явлении поверхностной активности. И древний миф здесь неожиданно точно иллюстрирует эволюционную реальность.
У корней древа жизни
Вся живая природа Земли делится на две части: организмы, состоящие из клеток, и вирусы. Вирусы мы тут пока не обсуждаем (о них пойдет речь в главе 12). А вот разнообразием клеточных организмов сейчас самое время поинтересоваться: мы как раз дошли до тех признаков, по которым они серьезно отличаются друг от друга.
В конце XX века микробиолог Карл Вёзе показал, что все клеточные организмы распадаются на три главные эволюционные ветви: эукариоты, бактерии и археи[41]. Об этом открытии и его последствиях мы более подробно поговорим в главе 14, где будет обсуждаться система живой природы. Здесь нам достаточно самой простой вводной информации. Эукариоты — это обладатели клеточного ядра, среди которых есть и многоклеточные (животные, растения, грибы), и одноклеточные (амебы, жгутиконосцы, инфузории). Пока не был изобретен микроскоп, натуралисты волей-неволей ограничивались изучением одних лишь эукариот. Бактерии, в отличие от эукариот, не имеют клеточного ядра, и клетка их в целом устроена гораздо проще. Кроме того, они не бывают многоклеточными. Микроскопический мир бесчисленных бактерий, населяющих все природные среды, какие только есть на Земле, знаком ученым с XVIII века. И наконец, археи — это одноклеточные, не имеющие ядра и по устройству клетки сходные с бактериями, но сильно отличающиеся от них молекулярно-биологически. Многие (но далеко не все) археи живут в экстремальных средах — например, в почти кипящей воде или в растворах с высокой кислотностью.
Одна из самых поразительных особенностей архей, отличающая их и от бактерий, и от эукариот, касается устройства клеточной мембраны. До открытия архей считалось, что мембрана, состоящая из двух слоев фосфолипидов, абсолютно универсальна и является всеобщим свойством клеточных организмов. Исследования архей начисто опровергли это представление. Сравнение химических компонентов эукариотных, бактериальных и архейных клеточных мембран показывает следующее (см. рис. 5.5):
* Архейные мембранные липиды представляют собой не сложные эфиры с общей формулой R1–CO–O–R2, а простые эфиры с общей формулой R1–O–R2 (см. главу 1). Надо заметить, что основу типичного мембранного липида в любом случае образует глицерофосфат, то есть сложный эфир глицерина и фосфорной кислоты. Но вот жирные “хвосты” у архей присоединены к нему совсем не так, как у всех остальных: не сложными эфирными связями, а простыми.
* Углеводородные гидрофобные цепи мембранных липидов у архей ветвятся за счет множества торчащих в стороны метильных групп (–CH3). Ни бактериям, ни эукариотам это не свойственно.
* Самое поразительное: у некоторых родов архей (и только у них) мембрана не двуслойная. Вместо бислоя она представляет собой единственный слой из молекул с двумя гидрофильными головками и длинной гидрофобной цепью между ними. Такие липиды иногда называют биполярными.
Как это объяснить? Биохимики считают, что все перечисленные химические особенности мембран полезны для жизни в экстремальных условиях — например, при высокой температуре или высокой кислотности. А мы уже знаем, что многие современные археи как раз в таких условиях и живут. Значит, налицо просто далеко зашедшее приспособление?
Увы, не все так просто. У архейных мембран есть еще одна важнейшая особенность. Дело в том, что у бактерий с эукариотами и у архей для синтеза мембранных липидов используются разные стереоизомеры глицерофосфата. У большинства живых организмов в мембраны входит L-глицерофосфат, но у архей — почему-то D-глицерофосфат[42]. И вот это уже гораздо труднее объяснить приспособлением к каким бы то ни было внешним условиям. Мы ведь знаем, что на “обычные” физико-химические свойства веществ стереоизомерия практически не влияет. С точки зрения выживания при высокой температуре, кислотности или солености абсолютно неважно, какой стереоизомер глицерофосфата выбран для мембран. К тому же показано, что мембрана, включающая оба изомера одного и того же фосфолипида, будет физически неустойчивой, — то есть переходные состояния тут маловероятны. А ферменты, взаимодействующие с разными стереоизомерами мембранных липидов, отличаются друг от друга настолько сильно, что проще всего предположить их совершенно независимое происхождение.
Как может выглядеть эволюционный сценарий, сводящий воедино все эти факты? Тут допустимы самые смелые предположения. Может быть, общие предки бактерий, эукариот и архей вообще не имели никакой мембраны, то есть еще не были клетками?[43] Или мембрана у них была, но не липидная, а неорганическая, например железо-серная?[44] С другой стороны, современные генетические данные позволяют считать, что у общего предка всех клеточных форм жизни уже было несколько интегральных белков, приспособленных к работе в мембране и бесполезных без нее. Тогда получается, что какая-то мембрана там все же была. В любом случае этот узел еще далеко не распутан.
6. углеводы
Ну вот и присмотрись к себе, как сидишь ты возле бюро в халате. В руках-то что у тебя? Чашечка кофе? Еще и с сахаром? А думал ли ты, сколько невольников погибло на плантациях, кровью под бичами надсмотрщиков облившись, сколько жизней загублено было и что слез пролито, дабы кофе вот этот к тебе в чашечку попал? Про сахар и упомянуть страшно.
Анна Коростелева. Александр РадищевУглеводы по многим своим свойствам противоположны липидам. Если липиды — самые гидрофобные биологически активные вещества, то углеводы, пожалуй, самые гидрофильные. Значение углеводов для жизни так же огромно, как и значение липидов, хотя функции у них другие. Посмотрим же на них повнимательнее.
Мы уже знаем, что углевод — это спирт, одновременно являющийся или альдегидом, или кетоном. Углеводы бывают довольно разные. Основу любого углевода из тех, что могут заинтересовать нас в этой главе, образует цепочка, состоящая или из пяти, или из шести атомов углерода (см. рис. 6.1). Один из этих атомов углерода входит в состав либо альдегидной группы (если он на конце), либо кетогруппы (если он внутри цепочки). А ко всем остальным атомам углерода присоединены гидроксильные группы, как в спирте. Вот, собственно, и все (см. главу 1). Добавим, что в обиходе углеводы, подходящие под это описание, принято называть сахарами.
Например, что такое глюкоза? Это сахар с шестью атомами углерода, пятью гидроксильными группами и альдегидной группой. А фруктоза — сахар с шестью атомами углерода, пятью гидроксильными группами и кетогруппой. Причем и глюкоза, и фруктоза имеют формулу C6H12O6. Иначе говоря, это изомеры.
Бывают и пятиуглеродные сахара. Например, рибоза — сахар с пятью атомами углерода, четырьмя гидроксильными группами и альдегидной группой. В отличие от глюкозы и фруктозы, рибоза используется как пищевая добавка относительно редко, хотя в любых продуктах ее все равно полно, потому что биохимическое значение этого вещества колоссально.
А бывают ли сахара с другой длиной углеродных цепочек — например, трех-, четырех-, семи-, восьми- или девятиуглеродные? С точки зрения химии — конечно же, бывают. Иногда они встречаются и в живых организмах: например, семиуглеродные сахара могут быть промежуточными продуктами в синтезе липидов и в некоторых других биохимических процессах. Но в целом биологическое значение этих сахаров не слишком велико, и нас они пока что могут не волновать.
Молекулы сахаров не слишком сложны. Но есть один фактор, делающий их гораздо более разнообразными, чем можно было бы подумать, глядя на обычные графические формулы. Этот фактор — стереоизомерия.
Вновь о правом и левом
Стереоизомерия у углеводов, прямо скажем, такая, что сам черт сломит в ней ногу. Например, если внимательно посмотреть на молекулу глюкозы, легко убедиться, что она содержит целых четыре асимметрических атома углерода (см. главу 4). Четыре, а не один, как в хорошо знакомых нам аминокислотах! А ведь каждый асимметрический атом углерода создает два стереоизомера. Что это означает? Если в молекуле есть второй асимметрический атом, то у каждого из этих стереоизомеров будет еще по два стереоизомера. Если есть третий, то и у каждого из этих двух будет еще по два. И так далее. Следовательно, если молекула содержит четыре асимметрических атома, то стереоизомеров будет 16 (24). Причем по свойствам эти изомеры могут различаться между собой достаточно сильно. Например, галактоза — это шестиуглеродный сахар, совершенно идентичный глюкозе по набору функциональных групп. В галактозе тоже пять гидроксилов и одна альдегидная группа. Ее отличие от глюкозы состоит исключительно в том, что это другой стереоизомер. Между тем галактоза совершенно иначе участвует в обмене веществ, в том числе и у человека. Ферменты, работающие с глюкозой (которая у нас служит важнейшим питательным веществом), для ее усвоения не подходят. Галактоза перерабатывается особым ферментом, служащим только для этой цели. Кстати, его генетически обусловленное отсутствие у некоторых людей бывает причиной серьезного заболевания — галактоземии.
Как и другие вещества со стереоизомерией, сахара делятся на D- и L-формы — соответственно “правовращающие” и “левовращающие”. Здесь эти слова взяты в кавычки, потому что у сахаров связь формы молекулы и направления вращения поляризованного света на самом деле крайне запутанна. В детали нам вникать нет нужды. Достаточно знать, что химики придумали определенную чисто формальную процедуру, требующую считать сахар D- или L-формой в зависимости от положения радикалов у последнего асимметрического атома в углеродной цепочке. Например, у глюкозы это будет пятый атом, если считать от альдегидной группы.
Глюкоза и галактоза отличаются ориентацией групп у четвертого атома углерода. Они уже не считаются изомерами одного и того же сахара, а носят разные названия. Но при этом и глюкоза, и галактоза, участвующие в биологическом обмене веществ, — это D-изомеры.
В живой природе D-сахара вообще преобладают. Это почти такая же хиральная чистота, как и в случае с аминокислотами. Только у аминокислот преобладают “левые” изомеры, а у сахаров, наоборот, “правые”.
Чем вызвана эта разница? В последнее время появилась вполне убедительная гипотеза, что дело тут как раз в аминокислотах. А точнее — в их каталитическом действии. Напомним, что катализатор — это вещество, ускоряющее химическую реакцию, но само не претерпевающее в ней стойких изменений (см. главу 3). Так вот, существуют многоступенчатые процессы синтеза углеводов, которые катализируются аминокислотами (именно отдельными аминокислотами, а не целыми белками). И показано экспериментально, что L-аминокислоты катализируют синтез шестиуглеродных сахаров таким хитрым образом, что на выходе получается больше D-изомеров этих сахаров, чем L-изомеров. Причем часто намного больше: избыток D-изомера сахара в таких реакциях может достигать нескольких десятков процентов[45]. Проще говоря, “левые” аминокислоты диктуют преобладание “правых” сахаров. И дело тут в чисто химическом механизме синтеза сахаров, в котором аминокислоты принимают участие.
Тогда получается, что никаких загадочных космических причин избытка D-сахаров искать не надо. Если такие причины и действовали — то в основном на аминокислоты (см. об этом главу 4). А что касается сахаров, то здесь живые организмы просто приспособили к делу те молекулы, которые предложила им обычная химия.
О пятиугольниках и шестиугольниках
До сих пор мы по умолчанию предполагали, что молекула сахара представляет собой линейную цепочку. А как же иначе? Но на самом деле в тех условиях, которые господствуют в живом организме, сахара обычно переходят из линейной формы в более энергетически выгодную циклическую. Как это происходит, можно посмотреть на примере глюкозы. Будем иметь в виду, что атомы углерода в глюкозе принято нумеровать, начиная от альдегидной группы. Атом, образующий эту группу, — первый, атом на противоположном конце цепочки — шестой. (Из формулы, кстати, нетрудно видеть, что асимметрическими тут являются второй, третий, четвертый и пятый атомы.)
Итак, переход глюкозы в циклическую форму начинается с того, что в альдегидной группе разрывается одна из двух связей, соединяющих кислород с углеродом (см. рис. 6.2А, Б). В результате у кислорода освобождается валентность, на которую переходит водород от гидроксильной группы предпоследнего (в данном случае пятого) атома углерода (см. рис. 6.2В). Тем самым при первом атоме образуется гидроксильная группа, которой раньше там не было. Теперь в молекуле остается две свободные валентности: у атома углерода бывшей альдегидной группы и у атома кислорода бывшего гидроксила. Они замыкаются друг на друга (см. рис. 6.2Г). Получается цикл. А точнее, кольцо, в котором первый и пятый атомы углерода соединены друг с другом через атом кислорода (–O–). В случае глюкозы это кольцо шестичленное, в него входят пять углеродов и кислород.
По такому же принципу переходят в циклическую форму и рибоза, и фруктоза, и другие сахара. Правда, и у рибозы, и у фруктозы кольца получаются пятичленными. По этому признаку их легко отличить от глюкозы, особенно если мы видим уже нарисованную кем-нибудь формулу.
Существование в циклических и линейных формах — еще один вид изомерии, на этот раз свойственный только сахарам. После перехода из линейной формы в циклическую гидроксильная группа исчезает при пятом атоме углерода, зато появляется при первом. Но это все равно глюкоза.
Напоследок — еще одна деталь, которая может нам пригодиться. В циклической форме сахара гидроксильные группы могут находиться по разные стороны от плоскости образовавшегося кольца — условно говоря, “над” или “под” кольцом (см. рис. 6.2Д, Е). При этом структура линейной формы глюкозы однозначно определяет ориентацию всех гидроксилов, кроме вновь образующегося при циклизации первого. Подсказка: на изображениях циклической формы глюкозы первый атом углерода, вместе со своим гидроксилом, обычно находится в правом углу. Так вот, если на такой формуле гидроксил оказался под кольцом — значит, это альфа-глюкоза, а если над кольцом — бета-глюкоза. Это еще один особый вид изомерии, уникальный не просто для сахаров, а для их циклических форм. Где и почему он важен в биологии, мы скоро увидим.
Краткий обзор сахаров
Глюкоза важна для живых организмов в первую очередь как источник энергии. Попросту говоря, основное предназначение глюкозы — в том, чтобы распадаться на более мелкие молекулы. Освободившаяся при этом энергия собирается и используется в разных полезных целях.
В нашем организме есть два способа такого распада: брожение и дыхание. Брожение — это неполный распад глюкозы, в результате которого она превращается в две молекулы молочной кислоты C3H6O3. А дыхание — это полный распад до самых простых молекул, а именно до углекислоты (CO2) и воды (H2O). В отличие от брожения, дыхание обязательно требует присутствия свободного кислорода (O2). Зато и энергии дыхание дает намного больше.
В крови человека постоянно есть глюкоза. Падение ее уровня ниже определенной пороговой концентрации ведет к голодной смерти. С другой стороны, устойчиво повышенный уровень глюкозы — это признак такого неприятного заболевания, как сахарный диабет. Но в любом случае надо понимать, что вся эта система — в высшей степени динамическая. Вся глюкоза, находящаяся в крови взрослого человека в любой данный момент, может быть полностью израсходована примерно за 15 минут. Ясно, что ее запас должен непрерывно пополняться. И неудивительно, что именно концентрация глюкозы в крови определяет физиологическое ощущение голода или сытости. В области нашего мозга, называемой гипоталамусом, есть специальные клетки-глюкорецепторы, постоянно измеряющие, сколько глюкозы содержится в омывающей их жидкости. Пищевая мотивация запускается или выключается в зависимости от того, какие сигналы идут от этих клеток.
Кроме того, содержание глюкозы в крови контролируется специальными гормонами. Это инсулин, запускающий захват глюкозы клетками, и глюкагон, который, наоборот, стимулирует высвобождение глюкозы из клеток в кровь. Инсулин понижает концентрацию глюкозы в крови, а глюкагон повышает. И инсулин, и глюкагон — белки. Это самый что ни на есть классический пример сигнальной функции белков, о которой мы говорили в главе 3. И инсулин, и глюкагон синтезируются у человека в поджелудочной железе, уходя оттуда в кровь и распространяясь по всему телу. Недостаток инсулина — одна из главных возможных причин сахарного диабета.
Придумавший метод выделения инсулина и раскрывший тем самым механизм диабета сэр Фредерик Бантинг до сих пор остается самым молодым лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине — он получил ее в 1923 году в возрасте 32 лет. Интересно, что в жизни самого Бантинга это открытие было лишь эпизодом. Врач по основной специальности, он в разные периоды жизни был неплохим художником и полярным путешественником, занимался ради собственного интереса самыми разными медицинскими проблемами вроде болезней легких и адаптации летчиков к высоте, а еще участвовал в обеих мировых войнах и погиб при крушении военного самолета в 1941 году.
Широко известно (и является чистой правдой), что главный потребитель глюкозы в нашем теле — это мозг. Интересно, что сердце, наоборот, один из самых “всеядных” органов, составляющий в этом плане полную противоположность мозгу. Клетки сердца охотно получают энергию и из жирных кислот, и из аминокислот, и даже из такого отхода, как молочная кислота. Мозг же требует глюкозы, причем в большом количестве и бесперебойно. Как ни парадоксально, именно поэтому работа мозга почти не зависит от режима питания. Дело в том, что энергетическое снабжение мозга — это константа. Оно всегда стоит на максимальной отметке и не может быть снижено ни при каких физиологических условиях: на мозге организм не экономит. Если снабжение мозга глюкозой все-таки падает, это приводит к опаснейшей для жизни ситуации, которая называется гипогликемической комой. Чаще всего она возникает из-за неаккуратного введения слишком большой дозы инсулина — тут уж, что называется, “против лома нет приема”. (В истории медицины бывало, что гипогликемическую кому вызывали специально: это называлось инсулиновым шоком, или инсулинотерапией, и использовалось в XX веке как способ лечения шизофрении — впрочем, с сомнительной эффективностью. В знаменитом фильме “Игры разума” показано, что этим варварским методом пытались лечить математика Джона Нэша.) Но никакой переменой питания столь впечатляющего эффекта добиться нельзя. В частности, это означает, что практически никакая диета для мозга не опасна. Но нельзя забывать, что при этом она вполне может быть опасна для других органов — здесь надо соблюдать осторожность.
Фруктоза — питательный углевод, которого много в растениях, например в сладких ягодах и плодах. Это шестиуглеродный сахар, отличающийся от глюкозы тем, что содержит не альдегидную группу, а кетогруппу. В нашем организме фруктоза частично превращается в глюкозу, а частично усваивается самостоятельно (для этого есть специальные ферменты).
Галактоза — стереоизомер глюкозы, углевод, который человек получает, прежде всего, в составе молочных продуктов. При усвоении нашим организмом галактоза первым делом превращается в глюкозу. Сбой работы соответствующего фермента как раз и вызывает болезнь галактоземию. Впрочем, без внешнего источника галактозы взрослый человек в случае чего может обойтись.
Наконец, два важнейших пятиуглеродных сахара — рибоза (уже нам знакомая) и отличающаяся от нее на один атом кислорода 2-дезоксирибоза. У дезоксирибозы отсутствует одна из гидроксильных групп, вместо нее — просто атом водорода; цифра “2” — номер того атома углерода, при котором эта отсутствующая гидроксильная группа могла бы находиться. Полные названия обоих сахаров — D-рибоза и 2-D-дезоксирибоза, но приставки часто опускаются, если и так понятно, о чем идет речь. Заодно отметим, что атомы углерода в циклических формах рибозы и дезоксирибозы по некоторым историческим причинам принято обозначать не просто цифрами, а цифрами со штрихами — вот так: 2'-дезоксирибоза.
Рибоза и дезоксирибоза нужны живым организмам в первую очередь для того, чтобы строить из них более сложные молекулы, которые называются нуклеотидами и нуклеиновыми кислотами. О них мы поговорим в главах 7 и 8.
Дисахариды
Молекулы сахаров могут создавать друг с другом ковалентные связи. Для этого нужны две гидроксильные группы, принадлежащие двум сахарам. От одной из них отщепляется водород (–H–), другая отщепляется целиком (–OH), эти фрагменты образуют воду (H–O–H), а оставшиеся свободные валентности замыкаются друг на друга, и в результате между остатками сахаров остается мостик с атомом кислорода посредине (–О–). Такая связь называется гликозидной (см. рис. 6.3).
Сложный сахар, состоящий из двух углеводных остатков, соединенных гликозидной связью, называется дисахаридом. А простой сахар, не состоящий из нескольких углеводных остатков, в той же терминологии называют моносахаридом. На данный момент нам знакомо пять моносахаридов: глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза и галактоза (см. рис. 6.3).
Самый известный дисахарид, с которым человек имеет дело буквально каждый день, — сахароза, состоящая из остатков глюкозы и фруктозы (см. рис. 6.3). Сахароза — это обычный столовый сахар. Получают ее из сахарного тростника, а в странах, где тростник не растет, — в основном из свеклы. Поскольку в сахарозе есть глюкоза, она категорически запрещена людям с сахарным диабетом и не рекомендуется людям с риском такового — в отличие от чистой фруктозы, для усвоения которой не нужен инсулин и которая в принципе допустима даже в диете диабетиков. Фруктоза, кстати, гораздо слаще сахарозы, а та, в свою очередь, слаще чистой глюкозы.
Если соединить гликозидной связью два остатка глюкозы, то получится еще один широко распространенный дисахарид, а именно мальтоза (см. рис. 6.3). Это обычнейшая составная часть любой растительной пищи. Иногда мальтозу называют солодовым сахаром, потому что ее много в зернах: солод — это и есть проросшее зерно. Кстати, слово “солод” родственно слову “сладкий”: например, в сербохорватском языке оно так и пишется “слад”, в чешском и словацком — slad, в польском — słód.
Еще один важный для человека дисахарид — лактоза, состоящая из остатков глюкозы и галактозы. Лактозу называют молочным сахаром, потому что ее действительно очень много в молоке. В отличие от большинства других сахаров, она почти не сладкая. Для усвоения лактозы нужен фермент лактаза, который рвет гликозидную связь, расщепляя лактозу на глюкозу и галактозу. Если этого фермента нет или его не хватает, возникает непереносимость лактозы. Ничего особенно опасного в этом состоянии нет, но таким людям приходится или ограничивать себя в молочной пище, или пить предназначенное специально для них безлактозное молоко (такое обычно есть в современных крупных магазинах).
Полисахариды
Гликозидные связи могут соединить между собой не только пару остатков моносахаридов, но и какое угодно их количество. Длинные цепочки моносахаридов, соединенных гликозидными связями, называются или олигосахаридами (если остатков в них больше двух, но не больше десяти), или полисахаридами (если они еще длиннее). Полисахариды — это уже самые настоящие полимеры (см. главу 3). Число остатков сахаров в молекуле полисахарида вполне может измеряться многими тысячами.
Один из самых широко известных полисахаридов — крахмал. Он представляет собой длинную цепь соединенных гликозидными связями остатков глюкозы. Это важнейшее запасное вещество у растений. Крахмала много в любой растительной пище. Он очень легко переваривается, расщепляясь до глюкозы, которая сразу же поступает в кровь. Обычная мука больше чем на 60% состоит из крахмала, а вот белков там, наоборот, довольно мало. Когда доктор Хаус в 20-й серии 6-го сезона обзывает пончики “жареными углеводами”, он подразумевает в первую очередь именно крахмал. Ну и заодно — сопутствующие углеводы вроде мальтозы, которых в пончиках, конечно, тоже предостаточно.
Животный аналог крахмала — гликоген. Это тоже важный запасной углевод. У нас он накапливается в первую очередь в печени. В случае надобности молекулу гликогена можно быстро расщепить до молекул глюкозы, которые тут же уйдут в кровь. Гликоген — это энергетический запас, пригодный к срочному использованию. Этим он отличается от жиров, которые содержат больше энергии, но мобилизуются гораздо медленнее. Впрочем, надо сказать, что расщепление гликогена у нас идет не только при каких-то чрезвычайных нагрузках, но и в состоянии покоя, понемногу, в промежутках между приемами пищи. Это важный способ поддержания концентрации глюкозы в крови на постоянном уровне. Само слово “гликоген” буквально означает “рождающий сладость”.
Итак, мы можем видеть, что полисахариды отличаются от моносахаридов в нескольких отношениях. Во-первых, их молекулы огромны. Во-вторых, они не растворяются в воде (именно поэтому их удобно делать запасными веществами). И в-третьих, они не сладкие. Например, чистый крахмал — это безвкусный порошок. По всем этим причинам называть полисахариды “сахарами” уже как-то не принято. Термин “сахар” обычно относят или к моносахаридам, или к дисахаридам.
Вспомним, что в ходе нашего разговора мы уже встречались с полимерами (см. главу 3). Это были белки. Мономеры белков — аминокислоты — соединены друг с другом пептидными связями. А мономеры полисахаридов — моносахариды — соединены друг с другом гликозидными связями. Серьезное различие здесь в том, что белки не ветвятся. А вот полисахариды вполне могут. “По умолчанию” гликозидная связь образуется между гидроксилами первого и четвертого атомов углерода глюкозы (1-4-гликозидная связь). Тогда из остатков глюкозы получается простая линейная цепочка. Но в глюкозе есть и другие гидроксилы, между которыми образование гликозидной связи тоже возможно. Например, на 1-6-гликозидной связи полимерная цепочка обычно разветвляется (см. рис. 6.4). В гликогене такое ветвление выражено сильнее, чем в крахмале, хотя оно есть и там и там.
Еще один полимер глюкозы — целлюлоза, или клетчатка. Это плотное волокнистое вещество, образующее основу древесины. В том или ином количестве целлюлоза есть в любой части любого растения. С химической точки зрения целлюлоза принципиально отличается от крахмала тем, что состоит не из альфа-глюкозы, а из бета-глюкозы. При этом возникают так называемые бета-гликозидные связи, отличающиеся от присутствующих в крахмале и гликогене альфа-гликозидных (последние выглядят на схеме молекулы прямыми, а бета-гликозидные — зигзагообразными). Кроме того, молекулы целлюлозы не ветвятся (см. рис. 6.4).
Бета-гликозидные связи гораздо прочнее альфа-гликозидных. Они расщепляются только очень немногими ферментами. Например, почти никто из животных, питающихся растениями, не может самостоятельно переваривать целлюлозу. Тем, кто берется ее усваивать, приходится заводить для этой цели микроскопических кишечных сожителей, у которых есть нужный фермент — целлюлаза. В теле человека таких микроорганизмов нет, и он не может переваривать целлюлозу вообще. Правда, она все равно приносит некоторую пользу, придавая пище подходящую консистенцию и стимулируя сокращения кишечника. Но никакой питательной ценности целлюлоза для нас не имеет, в этом смысле она — бесполезный балласт.
Долгое время биологи были уверены, что самостоятельно производить целлюлазу неспособны абсолютно никакие животные. И только в 1998 году выяснилось, что у некоторых термитов все-таки есть целлюлаза “собственного производства”, к синтезу которой не имеют отношения никакие микроорганизмы[46]. А в дальнейшем подобные “встроенные” целлюлазы были найдены у нескольких питающихся древесиной тараканов, жуков, круглых червей и улиток[47]. И по всей вероятности, этот список еще не полон. Отличная иллюстрация того, как рискованны в биологии категоричные утверждения! Слишком уж разнообразны объекты этой науки, сюрпризы исследователям они подбрасывают очень часто.
Клеточные стенки и судьба Земли
Совершенно особый интерес для биологов представляют те полисахариды, которые входят в состав клеточных стенок. Из предыдущей главы мы уже знакомы с клеточными мембранами. Так вот, клеточная стенка — это совсем не то. Клеточной стенкой называется самостоятельная оболочка, находящаяся снаружи от мембраны и заключающая в себе всю клетку целиком. Такое расположение означает, что это, строго говоря, внеклеточная структура — наподобие домика или раковины. Обычно она жесткая и придает клетке постоянные очертания. Клеточная стенка может состоять из полисахаридов (у растений, грибов), из сложных полимеров, в состав которых входят углеводы и аминокислоты (у бактерий) или из белков (у архей). У некоторых организмов, например у животных, клеточных стенок нет вообще. Это делает клетки менее прочными, зато позволяет им легко менять форму.
Клеточные стенки растений — целлюлозные. Растительная клеточная стенка часто бывает гораздо толще клеточной мембраны. Если растение многоклеточное, то между клетками обычно есть плазмодесмы — проходящие сквозь отверстия в клеточных стенках межклеточные “мостики” (см. рис. 6.5А). Через плазмодесмы растительные клетки общаются между собой и обмениваются разными веществами.
Сухое дерево, так же как пробка и другие подобные материалы, представляет собой не что иное, как массу пустых клеточных стенок. Живых клеток там давно уже нет, но их стенки остаются — целлюлоза для этого достаточно прочна. Ее прочности хватает на то, чтобы древесина сохраняла свою структуру буквально тысячелетиями: самое старое деревянное здание мира — японский буддийский храм Хорю-дзи, построенный в VII веке, в эпоху Асука. Кроме того, из целлюлозы, когда-то входившей в растительные клеточные стенки, делают бумагу.
Между прочим, сам термин “клетка” (cell) когда-то ввел в науку английский физик Роберт Гук, который исследовал под микроскопом пробку и увидел в ней характерные маленькие полости. В данном случае это были не живые клетки, а именно пустые целлюлозные клеточные стенки, повторяющие их форму.
На самом деле растительная клеточная стенка вовсе не состоит исключительно из чистой целлюлозы. В нее еще обязательно входят короткие ветвящиеся полимеры, причем включающие не только глюкозу, но и другие моносахариды. Эти полимеры собирательно называются гемицеллюлозами (см. рис. 6.5Б). Есть там и некоторые структурные белки. Целлюлоза вместе с гемицеллюлозами и белками образует сложную объемную сеть, усиленную к тому же водородными связями (см. главу 2). Благо между длинными молекулами целлюлозы, в которых много гидроксильных групп, водородные связи возникают очень легко. Для клеточных стенок растений, а значит, и для древесины это важный источник прочности.
Ну а с точки зрения истории жизни на Земле самая интересная составляющая клеточной стенки растений — это лигнин. Очень своеобразное вещество, у которого нет никакой единой химической формулы. Строго говоря, его и самостоятельным веществом-то нельзя считать. Лигнин — это не углевод. Это сложный полимер, “сшитый” из нескольких разновидностей спиртов. У всех этих спиртов есть более-менее длинные углеводородные цепочки, включающие ароматические ядра (см. главу 1). И все они синтезируются из аминокислоты фенилаланина, которая превращается сначала в коричную кислоту — замечательное вещество, входящее в состав масла корицы, — а потом уже в разнообразные спирты, обычно имеющие две или три гидроксильные группы (см. рис. 6.5В). В лигнине эти спирты сшиваются между собой ковалентными связями в самых разных направлениях, буквально вдоль и поперек, так что получается запутанная сетка (см. рис. 6.5Г).
Образование лигнина — уникальный признак сосудистых растений, то есть папоротников, плаунов, хвощей, хвойных и цветковых. Это эволюционное “изобретение”, сделанное только после выхода растений на сушу, и то далеко не сразу. Дело в том, что лигнин благодаря своей особой структуре придает клеточным стенкам огромную механическую прочность. Он необходим, чтобы сделать ствол наземного растения высоким, вплоть до многометрового, и создать транспортную систему из микроскопических трубочек, качающую воду на всю эту высоту. А отсюда следует, что именно с “изобретением” биосинтеза лигнина связано одно из величайших событий, поменявших облик Земли, — появление лесов (см. главу 17).
Кроме того, появление лигнина сильно повлияло на глобальный, то есть общепланетный, круговорот углерода. Дело в том, что лигнин с его разнообразными мономерами и перепутанными химическими связями исключительно неподатлив к действию ферментов. Поэтому растительной тканью, в которой много лигнина, почти невозможно питаться. Из всех земных живых организмов эффективно разлагать лигнин “научились” только грибы, причем не все и не сразу[48]. Именно они и стали главными разрушителями стволов мертвых деревьев. До этого вся огромная биомасса лигнифицированной древесины просто захоранивалась как есть, создавая залежи каменного угля. В честь этих залежей получил название целый геологический период — каменноугольный, или карбон.
Карбоновые леса непрерывно вели фотосинтез и выделяли в атмосферу огромное, немыслимое ни в какие более ранние эпохи количество кислорода. Мы знаем, что свободный кислород (O2) нужен для дыхания, то есть для полного окисления питательных веществ. Таким питательным веществом могла бы служить и древесина погибших деревьев. Но в карбоновом периоде эффективные деструкторы еще не возникли, поэтому перерабатывать древесину было некому. Стволы деревьев просто захоранивались, и заключенный в них углерод уходил из экологического круговорота вовсе. А живые деревья тем временем продолжали выделять кислород, который накапливался в атмосфере. В результате атмосферная концентрация кислорода достигла уникальной в истории Земли цифры 35%[49]. Как известно, современная атмосфера Земли содержит “всего” 21% кислорода. На самом деле по космическим меркам и это невероятно много, но в карбоне было в полтора раза больше. А дело тут именно в том, что огромная биомасса стволов деревьев в карбоне не съедалась никакими живыми существами. В отличие от современной ситуации, когда упавшие стволы измельчаются насекомыми, перерабатываются грибами и в итоге их углеродные соединения окисляются дыханием до углекислоты (CO2). При этом расходуется кислород, а углекислота выдыхается и уходит в атмосферу.
До той биомассы, которая успела захорониться в виде каменного угля раньше, чем возникли эффективные деструкторы, живая природа смогла добраться только с появлением человека, который неутомимо откапывает каменный уголь и жжет его, используя в качестве топлива. Будем иметь в виду, что процессы дыхания и горения описываются строго одним и тем же суммарным уравнением:
C6H12O6 (глюкоза) + 6O2 → 6CO2 + 6H2O
Одна молекула глюкозы взаимодействует с шестью молекулами кислорода, давая в итоге шесть молекул углекислого газа и шесть молекул воды. С точки зрения интересов жизни на Земле главное тут — высвобождение углерода в виде углекислого газа. А уж фотосинтезирующие организмы (то есть растения) могут, захватив этот углекислый газ, синтезировать из него гораздо более сложные углеродные соединения, пригодные для построения тел живых существ. В этом плане влияние человека на общепланетный круговорот углерода скорее положительно. Огромная масса углерода, которая сотни миллионов лет была “заперта” в пластах каменного угля, благодаря нашим шахтам, паровозам и тепловым электростанциям вновь пошла в дело.
Мы уже мимоходом упомянули, что бывают и другие, нецеллюлозные типы клеточных стенок. Еще один чрезвычайно распространенный в природе полисахарид — хитин, входящий в состав клеточных стенок грибов (наряду с полимерами глюкозы, которые там тоже есть). Кроме того, хитина много в наружных покровах некоторых животных, например насекомых, ракообразных и паукообразных. И грибов, и насекомых на Земле очень много. Потому и общая масса хитина на планете получается гигантской. Хитин — полимер, во многом похожий на целлюлозу. Он состоит из остатков бета-глюкозы, но только модифицированных. Дело в том, что хитин — это азотсодержащий полисахарид. Его мономером является, строго говоря, не сама глюкоза, а ацетилглюкозамин — производное глюкозы, где к одному из атомов углерода вместо гидроксила присоединена аминоацетильная группа –NH–CO–CH3.
Наконец, клеточные стенки бактерий состоят из еще более сложных азотсодержащих производных глюкозы, к которым дополнительно ковалентно “пришиты” цепочки аминокислот. Такой многокомпонентный полимер называется пептидогликаном. Самое интересное, что в состав пептидогликанов входят не только L-, но и D-аминокислоты. Это именно тот случай, когда D-аминокислоты в живых организмах все-таки присутствуют. В состав белков они, конечно, не входят и здесь, но в состав других соединений — в конце концов, почему бы и нет.
Мир, окрашенный по Граму
В 1884 году датский микробиолог Ганс Христиан Грам опубликовал новый метод окрашивания бактерий. Основой метода было применение сочетания органических красителей, главный из которых родствен по структуре обычным аминам (см. главу 1). Тут надо сказать, что окрашивание — это важно. Без окрашивания под микроскопом, как правило, толком ничего не рассмотреть. К тому же окрашивание должно быть стойким — чтобы не смывалось спиртами и другими растворителями при изготовлении препаратов, и, по возможности, дифференциальным — чтобы не красило все сплошь, ведь тогда в объекте, опять же, будет не разобраться. В общем, окраска объектов для микроскопии — это целая наука. В XIX веке, когда многое делалось наугад, изобретение нового красителя требовало как отличного знания химии, так и незаурядной интуиции.
Азотсодержащий краситель, предложенный Грамом, прекрасно действовал на бактерий. Но не на всех. Одних он исправно окрашивал в стойкий синий цвет, а на других почему-то вообще не держался — при промывке препарата они обесцвечивались. Так появилось разделение бактерий на грамположительных и грамотрицательных.
Умерший в 1938 году Ганс Христиан Грам, возможно, и сам не успел вполне осознать, насколько важную вещь он открыл. Обнаруженное им разделение бактерий по типу окрашивания оказалось признаком фундаментальнейших различий в строении клетки (см. рис. 6.6). У грамположительных бактерий снаружи от мембраны находится толстая пептидогликановая клеточная стенка. В этом плане их клетка более-менее похожа, скажем, на растительную, не считая того, что материал клеточной стенки другой. У грамотрицательных бактерий дело обстоит совершенно иначе. Их наружная оболочка включает две полноценные билипидные мембраны с тонкой пептидогликановой клеточной стенкой, расположенной между ними. Клеточная стенка грамотрицательных бактерий заключена между наружной и внутренней клеточными мембранами, как начинка сэндвича. Так не устроены никакие другие клетки.
Есть гипотеза, что первые на Земле живые организмы были именно грамотрицательными бактериями, и только у их потомков вторая — наружная — мембрана исчезла[50]. К сожалению, эта красивая идея слабо поддерживается молекулярно-биологическими данными, поэтому сейчас она не слишком популярна. Но независимо от того, верна она или нет, эволюционный зигзаг тут получился очень занятный.
7. нуклеотиды
— Как вообще может анаэроб развиться в сложный многоклеточный организм и тем более — двигаться настолько быстро, как эта тварь? Подобный уровень активности жрет массу АТФ.
— Может, они не используют АТФ, — предположила Бейтс, пока я полез за справкой в КонСенсус: аденозинтрифосфат, источник энергии для клетки.
Питер Уоттс. Ложная слепотаВспомним, как устроена молекула бензола. Она состоит из шести атомов углерода, соединенных в кольцо таким образом, что одинарные углерод-углеродные связи чередуются с двойными (см. главу 1). Свободные связи в бензоле, как и всюду, заняты атомами водорода. го краткая формула — C6H6. Именно эта молекула когда-то напомнила Фридриху Августу Кекуле кольцо из переплетающихся змей. Молекула бензола прекрасна и самодостаточна — казалось бы, что в ней можно поменять?
Кое-что можно. Например, заменить один из атомов углерода на атом азота. Азот трехвалентен, и это вполне позволяет ему встроиться в бензольное кольцо (только без водорода при нем). Тогда получается кольцевая молекула с пятью атомами углерода, одним атомом азота и тремя двойными связями, которая называется пиридин.
Можно заменить атомами азота и два атома углерода (не соседних, а через один). Получится кольцо с тремя двойными связями, четырьмя атомами углерода и двумя атомами азота. Эта молекула называется пиримидин (см. рис. 7.1). И вот она в биологии очень важна.
Присоединив к пиримидиновому ядру две гидроксильные группы (–OH), мы получим соединение, которое называется урацил. Полное химическое название урацила — 2,4-дигидроксипиримидин. Члены пиримидинового кольца принято нумеровать, считая от одного из атомов азота.
Если дополнительно присоединить к урацилу еще и метильную группу (–СH3), получится новое соединение — тимин. А если заменить в урациле одну из гидроксильных групп на аминогруппу (–NH2), то получится цитозин. Полное название тимина — 5-метил-2,4-дигидроксипиримидин. А полное название цитозина — 2-гидрокси-4-аминопиримидин. Запоминать эти названия (как и нумерацию, на которой они основаны) ни в коем случае не надо. Но они полезны тем, что в случае надобности позволяют безошибочно восстановить всю формулу нужного вещества. Честно говоря, сомнительно, что любой биолог помнит формулы урацила, тимина и цитозина наизусть. Но вот о том, что такие вещества существуют, знает абсолютно каждый, кто имеет к биологии хоть какое-то отношение. Знаем теперь и мы.
Возможна и другая, более сложная молекула, где к пиримидиновому шестичленному циклу добавлено еще одно кольцо — пятичленное, с двумя атомами азота. Такое соединение называется пурином (см. рис. 7.2). Молекула пурина включает в общей сложности пять атомов углерода и четыре атома азота.
Есть довольно много соединений, где к пуриновому ядру присоединяются различные боковые цепи. Например, именно к производным пурина относится такое популярнейшее вещество, как кофеин. В молекуле кофеина к пуриновому ядру присоединены две гидроксильные группы и три метильные.
Но для биологов гораздо важнее два других пуриновых соединения. Одно из них — аденин, молекула которого состоит из пуринового ядра с присоединенной к нему аминогруппой. Второе — гуанин, в котором есть аминогруппа (не там, где у аденина) и гидроксильная группа.
Полные названия аденина и гуанина, соответственно, 6-аминопурин и 2-амино-6-гидроксипурин. Повторимся, что эти названия даются тут не для того, чтобы кто-нибудь пытался их запомнить, а просто ради общего представления о том, как этой номенклатурой в принципе можно пользоваться. Дальше нам это еще пригодится.
Пуриновые и пиримидиновые молекулы только что описанного типа называют азотистыми основаниями, потому что входящий в них азот проявляет основные свойства, подобно аммиаку (см. главу 1). Урацил, тимин, цитозин, аденин и гуанин — это азотистые основания. Урацил, тимин и цитозин — пиримидиновые азотистые основания, а аденин и гуанин — пуриновые. Вообще-то химикам известны десятки азотистых оснований, но для понимания основ биологии вполне хватит этих пяти. Другие азотистые основания встречаются в живых организмах реже, и значение их там гораздо меньше.
Завершая знакомство с азотистыми основаниями, совершенно необходимо добавить, что у них — да, и у них тоже! — есть одна особая разновидность изомерии. Состоит она в следующем. Входящая в состав азотистого основания гидроксильная группа (вместе с углеродом, к которому она присоединена, имеющая вид С–OH) может потерять водород и превратиться в кетогруппу (C=O). Система двойных связей в пиримидиновом или пуриновом ядре при этом перестраивается, а потерянный гидроксилом водород переходит на ближайший атом азота. В живых организмах азотистые основания всегда находятся не в спиртовой форме (с гидроксильными группами), а именно в кето-форме. Это распространяется на все важнейшие азотистые основания, кроме аденина, который выглядит всегда одинаково: у него гидроксильной группы просто нет.
По ту сторону рассвета
Пять азотистых оснований, с которыми мы познакомились, с биологической точки зрения — самые главные. Не секрет, что они используются земными живыми организмами для хранения и передачи генетической информации. Как именно это происходит, мы пока что “не знаем”, хотя уже довольно скоро узнаем (в главах 8 и 9). Но вот почему главными оказались именно эти пять оснований, а не какие-то другие родственные им? Ведь разных азотистых оснований, и пиримидиновых, и пуриновых, можно придумать очень много.
Ответ на этот вопрос надо, как всегда, искать в прошлом. И в данном случае это будет очень далекое прошлое. Сейчас точно известно, что химическая эволюция азотистых оснований началась задолго до возникновения жизни, а скорее всего, даже и до возникновения планеты Земля. Тут дело обстоит точно так же, как и с аминокислотами (см. главу 3). В большинстве углеродсодержащих (так называемых углистых) метеоритов при тщательном химическом анализе были найдены азотистые основания. В общей сложности их там не меньше десятка, и по структуре молекул они довольно разнообразны[51]. Очевидно, синтез этих веществ шел прямо на частицах протопланетного облака.
Например, если по-разному присоединять к пурину аминогруппы, то можно получить аденин (у него аминогруппа одна), а можно и основания с двумя аминогруппами — например, 2,6-диаминопурин или 6,8-диаминопурин (см. рис. 7.2Б). Главное же здесь вот что. Ни 2,6-диаминопурин, ни 6,8-диаминопурин не встречаются в земных живых организмах, а вот в углистых метеоритах они обнаруживаются легко. Причем их присутствие там никак нельзя объяснить биогенным загрязнением метеорита, уже упавшего на Землю, потому что на Земле этих соединений просто нет. Это — остатки добиологического разнообразия сложных молекул, которые синтезировались на ранних этапах эволюции Солнечной системы. Углистые метеориты, никогда не входившие в состав планет, служат “заповедниками” этого разнообразия — точно так же, как в случае с аминокислотами. Разных азотистых оснований там вполне могли быть десятки.
При возникновении жизни и аминокислоты, и азотистые основания подверглись процессу, подобному естественному отбору. Одни основания оказались удачными и вошли в состав живых систем, а другие — большинство — были отсеяны и в состав живых систем не вошли. В итоге начальное высокое химическое разнообразие исчезло. Остались несколько широко распространенных соединений, с которыми мы сейчас в основном и имеем дело. Причем они были выбраны отнюдь не случайно. Предполагается, например, что одним из критериев стала устойчивость оснований к ультрафиолетовому излучению Солнца, которое на древней Земле было очень серьезным фактором риска. Одна из научных работ, написанных на эту тему, прямо так и озаглавлена — “Выживание наиболее приспособленных до начала жизни”[52].
Нуклеозиды
Молекула, состоящая из остатков азотистого основания и сахара, называется нуклеозидом (см. рис. 7.3). Сахаром, входящим в нуклеозиды, по умолчанию является рибоза, но иногда — дезоксирибоза. Как мы помним, они отличаются друг от друга всего на один атом кислорода. Азотистое основание присоединяется к первому по счету углеродному атому сахара, который здесь принято обозначать единицей со штрихом (1'). От этого атома отщепляется гидроксил (–OH), а от одного из атомов азота, входящих в азотистое основание, одновременно отщепляется водород (–H). В результате выделяется вода, а между азотистым основанием и сахаром замыкается ковалентная связь. Так нуклеозид и получается.
Названия нуклеозидов являются производными от названий входящих в них азотистых оснований. Пять нуклеозидов, с которыми в основном имеют дело биологи, — уридин, тимидин, цитидин, аденозин и гуанозин. Если в качестве сахара в данный нуклеозид входит не рибоза, а дезоксирибоза, то к его названию прибавляется приставка “дезокси-”. Но иногда ее опускают, если по контексту и так понятно, о чем идет речь.
Теперь мы наконец знаем, почему атомы углерода в составе рибозы и дезоксирибозы обозначаются не просто цифрами, а цифрами со штрихами (см. главу 6). Дело как раз в том, что эти два сахара входят в состав нуклеозидов. А в любом нуклеозиде есть еще и азотистое основание, атомы которого имеют свою собственную нумерацию. Штрихи нужны, чтобы никто не спутал номера атомов сахара с номерами атомов азотистого основания.
Нуклеозиды могут делать многое. Например, аденозин интересен тем, что является одним из нейротрансмиттеров, то есть веществ, передающих сигналы между нервными клетками. Именно на передачу этих сигналов действует кофеин — вещество, тоже относящееся к группе пуринов (см. рис. 7.4А). И сейчас у нас уже вполне достаточно знаний, чтобы разобраться, в чем тут дело.
Кофеин является блокатором аденозиновых рецепторов. Что это значит? К любому сигнальному веществу есть специальные рецепторы, то есть воспринимающие элементы. В данном случае это интегральные белки (см. главу 5), которые сидят в наружной мембране нервной клетки и узнают молекулы аденозина по принципу ключа и замка, то есть примерно так же, как ферменты узнают свой субстрат (см. главу 3). Что же касается кофеина, то его молекула похожа на молекулу аденина — ключевой составной части аденозина. Молекула кофеина связывается с тем же участком белка-рецептора, с которым должен связаться адениновый остаток аденозина, и застревает в нем, после чего никакой аденозин уже не может туда войти (см. рис. 7.4Б). По такому принципу действуют очень многие лекарства, яды и психоактивные вещества, в том числе и наркотики — они ведь обычно тоже связываются с рецепторами, предназначенными для нейротрансмиттеров, либо блокируя, либо активируя их.
Сам аденозин как сигнальное вещество обладает преимущественно тормозным действием, то есть, попросту говоря, успокаивающим. Выделение аденозина обычно является сигналом усталости, знаком, что активность пора приостановить. От него, например, уменьшается частота сердечных сокращений и снижается артериальное давление. Блокируя действие аденозина, кофеин снимает все эти эффекты, а вместе с ними и чувство утомления. Но никакой дополнительной энергии он не дает — просто помогает перераспределить имеющиеся силы.
Можно ли считать кофеин наркотиком? Пожалуй, все-таки нельзя. Ведь тут недостаточно общего с типичными наркотиками механизма действия. Для отнесения вещества к категории наркотиков есть четкий набор критериев, большинству из которых кофеин не соответствует. Нет толерантности (это когда для достижения одного и того же эффекта требуется постепенное повышение дозы), нет вызываемой употреблением вещества социальной дезадаптации, нет жесткой “ломки”, то есть болезненного синдрома отмены, ну и так далее.
Справедливости ради надо сказать, что в 2013 году Американская психиатрическая ассоциация после долгих колебаний все-таки отнесла кофеиновую зависимость к психическим расстройствам, но только в том случае, если она явно вызывает утомляемость, сонливость, повышенную возбудимость, мышечные судороги, тахикардию, аритмию и (или) другие подобные последствия (см. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, сокращенно DSM-5). Чтобы добиться таких эффектов, надо пить кофе буквально литрами, да еще и с предрасположенностью должно не повезти. Если же их нет, то волноваться, скорее всего, не о чем.
Так называемый аддиктивный потенциал у кофеина, по всем данным, довольно низкий. Например, у никотина (который действует очень похожим способом на рецепторы к другому нейротрансмиттеру, ацетилхолину) аддиктивность гораздо выше и синдром отмены тяжелее — это знает каждый, кто привыкал и к кофе, и к курению. Мы сейчас не касаемся вопроса о вреде курения для здоровья, потому что это, как ни странно, не имеет прямого отношения к нашей теме. Дело в том, что практически все вредные последствия курения вызываются не никотином (он-то как раз относительно безвреден), а многочисленными сопутствующими веществами, образующимися при сгорании табака. На нервную систему эти вещества почти не действуют, а вот на другие системы — очень даже. В кофе подобного набора вредных сопутствующих веществ и близко нет.
В общем, на данный момент от науки не приходится ждать никаких однозначных рекомендаций по вопросу, пить или не пить кофе. Для здорового человека это дело личного выбора, и только. Так ведь тоже бывает.
Знакомство с нуклеотидами
Теперь отвлечемся на время от нуклеозидов и познакомимся поближе с одним важным понятием, которое мы, в общем-то, уже знаем.
Существует химическая реакция под названием фосфорилирование: присоединение фосфата к любому соединению, в котором есть гидроксильная группа, с образованием сложного эфира фосфорной кислоты. Мы уже встречались с этой реакцией, когда говорили о фосфолипидах: там фосфорилированию подвергался глицерин и получался глицерофосфат (см. главу 5). Фосфолипиды, из которых состоит клеточная мембрана, образуются как раз этим путем.
На самом деле объектами фосфорилирования бывают самые разнообразные молекулы, несущие гидроксильные группы. Это могут быть белки (особенно такие, где есть серин, треонин или тирозин — фосфат присоединяется именно к этим аминокислотным остаткам), могут быть спирты (например, тот же глицерин), а могут быть и сахара, благо уж в них-то гидроксильных групп сколько угодно. Фосфорилирование — это универсальный биохимический “оператор”, способный предсказуемо менять свойства разных молекул. Есть специальная большая группа ферментов, занимающихся только фосфорилированием, — они называются киназами.
Напомним еще раз, что “фосфорная кислота” и “фосфат” — в биохимии практически одно и то же. Фосфорная кислота в водном растворе всегда диссоциирует, то есть отдает протоны, превращаясь в анион. Но в формулы ее часто вписывают в недиссоциированном виде — просто для удобства, чтобы не обозначать заряды. Кроме того, при реальном фосфорилировании, происходящем в живой клетке, остаток фосфата чаще всего не приходит в свободном виде из раствора, а передается от специального переносчика. Но в упрощенных записях реакций это может и не отображаться.
Нуклеозид, фосфорилированный по сахару, называется нуклеотидом (см. рис. 7.5). Фосфорилирование нуклеозидов, как правило, идет по пятому углеродному атому сахара, через присоединенную к этому атому гидроксильную группу. Итак, нуклеотид — это молекула, состоящая из азотистого основания, пятиуглеродного сахара (рибозы или дезоксирибозы) и фосфата.
Правило образования названий нуклеотидов таково: название нуклеотида = название нуклеозида + числительное + фосфат. Числительное нужно обязательно, потому что к фосфату могут присоединяться еще фосфаты, как бы последовательно фосфорилирующие друг друга, — всего их бывает до трех штук. Если фосфат один, то числительное — “моно”, если два — “ди”, если три — соответственно “три”. Например, если один раз фосфорилировать аденозин, то получится аденозинмонофосфат (АМФ). Кроме того, если входящий в состав нуклеотида сахар не рибоза, а дезоксирибоза, то ко всему названию добавляется приставка “дезокси”.
Один из самых интересных нуклеотидов — аденозинтрифосфат (АТФ, см. рис. 7.6). Иногда его называют аденозинтрифосфорной кислотой, но название “аденозинтрифосфат” используется чаще. В растворе, заполняющем клетку, АТФ находится в виде аниона, так что фактически это не кислота, а соль. Как видно из названия, эта молекула состоит из аденина, рибозы и трех остатков фосфата.
АТФ может распадаться с участием воды на аденозиндифосфат (АДФ) и обычную фосфорную кислоту. При этом высвобождается довольно много энергии, которая может быть использована для любых внутриклеточных процессов — таких, например, как синтез полимеров, транспорт веществ или мышечное сокращение. При превращении АДФ в АТФ энергия, наоборот, поглощается молекулой последнего и запасается в ней. В целом получается обратимая реакция, которую можно записать очень просто:
АТФ + H2O (вода) ⇌ АДФ + H3PO4 (фосфат) + энергия
Это и есть простейшая схема оборота АТФ в живой клетке. И это — процесс, от которого напрямую зависит все наше существование.
Фермент, превращающий АДФ в АТФ и тем самым запасающий в молекуле АТФ энергию, называется АТФ-синтазой. Фермент, расщепляющий АТФ до АДФ и использующий высвобожденную энергию для какой-нибудь работы, называется АТФазой. Эти названия ни в коем случае не надо путать — они относятся к строго противоположным процессам. За сутки в организме человека синтезируется, по разным подсчетам, от 40 до 75 килограммов химически чистого АТФ. Но он не накапливается, а почти сразу расщепляется обратно до АДФ, расходуясь в качестве “топлива”. Как запасное вещество АТФ не используется, потому что его слишком неудобно хранить. Среднее время жизни отдельно взятой молекулы АТФ — меньше одной минуты. С другой стороны, запаса АТФ, имеющегося в каждый данный момент, любой живой клетке хватит не больше чем на несколько секунд, так что он должен постоянно синтезироваться заново. Именно синтез АТФ является главным конечным результатом процессов получения энергии — таких, например, как дыхание.
В 1939 году известные биохимики Владимир Александрович Энгельгардт и Милица Николаевна Любимова совершили поразительное открытие. Их интересовала биохимия мышечного сокращения, и они сумели выделить из клеток мышечный белок — миозин, — конденсированный в виде нитей. Дальше оказалось, что если поместить эти нити в раствор АТФ, то происходят одновременно два процесса. Во-первых, АТФ расщепляется до АДФ и фосфата, надо полагать — под действием миозина. А во-вторых, нити миозина при этом... укорачиваются. Во всяком случае, существенно уменьшается максимальная длина, до которой их можно растянуть.
Так была открыта АТФазная активность миозина. И заодно было очень наглядно показано, что энергия, высвобожденная при расщеплении АТФ, может тут же “конвертироваться” в механическую работу. Правда, на самом деле чистого миозина для этого недостаточно, нужен как минимум еще один белок — актин. Но в принципе Энгельгардт и Любимова все поняли абсолютно верно. Их открытие, кстати, было сразу же оценено современниками: в 1943 году авторы получили за него высшую тогда в СССР награду — Сталинскую премию.
Любая АТФаза является белком, который, расщепляя АТФ, за счет высвобожденной при этом энергии одновременно совершает работу (не обязательно механическую: с тем же успехом это может быть перенос веществ через клеточную мембрану или какой-нибудь энергоемкий синтез). Если белки-АТФазы — аналоги маленьких двигателей, то АТФ служит для клетки самым настоящим топливом.
Иногда связи между остатками фосфата в формуле АТФ обозначают не прямой черточкой, как обычные ковалентные связи, а волнистой (~). Это предложенное немецким биохимиком Фрицем Липманом обозначение тех связей, при разрыве которых, собственно, и выделяется достаточно большая по биохимическим меркам энергия. Такие связи называются высокоэнергетическими или макроэргическими. АТФ — не единственное вещество с макроэргическими связями, но, безусловно, самое распространенное. Это энергетическая “разменная монета” живой клетки.
Во избежание недоразумений надо сказать, что количество энергии, высвобождаемое при разрыве макроэргической связи в АТФ, на самом деле вовсе не является каким-то потрясающе огромным. Как раз наоборот, по меркам обычной химии, особенно неорганической, оно скорее невелико. Это объясняется очень просто: слишком большую разовую порцию энергии клетке было бы труднее пустить в дело.
Фермент аденилатциклаза может превратить АТФ в другое интересное соединение — циклический аденозинмонофосфат (цАМФ). Это довольно странно выглядящая молекула, где один и тот же фосфат связан сразу с двумя гидроксилами рибозы (третьим и пятым). Ни для переноса энергии, ни для построения каких-либо более сложных соединений цАМФ не годится. Зато это важное сигнальное вещество, служащее посредником при передаче информации внутри клеток, а иногда и между клетками.
Например, цАМФ может через цепочку посредников запустить процесс распада нерастворимого гликогена до растворимой глюкозы — это существенно ускоряет обмен веществ (см. главу 6). Для того чтобы этот эффект не длился слишком долго, существует фермент фосфодиэстераза, который разрывает в молекуле цАМФ фосфатный мостик и превращает его в безобидный обычный АМФ, лишенный сигнальных функций. Благодаря этому ферменту молекулы цАМФ в клетках быстро расщепляются, и мы избегаем перерасхода энергии. А самым распространенным блокатором фосфодиэстеразы является не что иное, как уже знакомый нам кофеин. Это еще один способ, которым кофеин может действовать на организм. Тут мы имеем дело с типичным случаем конкурентного ингибирования, когда активный центр фермента “запирается” молекулой, близкой по структуре к нормальному субстрату этого фермента, но слегка отличающейся от него (см. главу 3). Именно такой молекулой кофеин и служит. Правда, на фосфодиэстеразу кофеин действует только в огромных концентрациях, которые в организме достигаются редко. Так что развенчивать кофеин, лишая его статуса психоактивного вещества, не стоит: в первую очередь он действует все-таки на аденозиновые рецепторы, которые сидят на нервных клетках.
8. нуклеиновые кислоты
Биохимией называют у нас те случаи, когда скверные химики занимаются грязными и плохими работами на малоподходящем для химии материале. Не это биохимия. Биохимия — это физико-химический структурный анализ активных макромолекул.
Николай Тимофеев-Ресовский (цитируется по документальному роману Даниила Гранина “Зубр”)Полимер, мономерами которого являются нуклеотиды, называется нуклеиновой кислотой.
Что можно сказать о таком полимере? Прежде всего, он в некотором отношении сложнее, чем состоящий из аминокислот белок, потому что любой нуклеотид — это (как мы теперь знаем) куда более сложная молекула, чем любая аминокислота. В нуклеиновой кислоте остатки сахара, принадлежащие разным нуклеотидам, соединены между собой через фосфатные группы. В результате получается длинная цепочка чередующихся остатков сахара и фосфата — так называемый сахаро-фосфатный остов, вбок от которого торчат азотистые основания. Представим эту картину, и можно считать, что общее представление о нуклеиновой кислоте мы уже получили.
Разные нуклеиновые кислоты называются по-разному в зависимости от того, какой у них в нуклеотидах сахар. Если это рибоза, то кислота рибонуклеиновая, а если дезоксирибоза — соответственно, дезоксирибонуклеиновая. Сокращения, обозначающие эти кислоты, — ДНК и РНК — вряд ли будут для кого-то из читателей большой новостью. В нашем перенасыщенном информацией мире про них труднее не услышать, чем услышать.
Объединить нуклеотиды в нуклеиновую кислоту в принципе очень просто. От гидроксильной группы, принадлежащей сахару одного нуклеотида, отщепляется водород (–H). От фосфата, принадлежащего другому нуклеотиду, отщепляется гидроксильная группа целиком (–OH). Эти отщепленные фрагменты образуют воду (H–O–H), а нуклеотиды соединяются по освободившимся связям. В результате между сахаром одного нуклеотида и фосфатом другого остается атом кислорода (–O–). Правда, в реальной живой клетке все происходит несколько сложнее (синтез нуклеиновой кислоты там начинается не с нуклеозидмонофосфатов, а с нуклеозидтрифосфатов). Но нам это сейчас неважно. Важно, что в итоге получается цепочка нуклеотидов, сахара которых соединены фосфатными мостиками.
Теперь — серьезное дополнение (см. рис. 8.1А). Соединяющий нуклеотиды фосфатный мостик всегда расположен между 3'-углеродом одного сахара и 5'-углеродом другого. У возникающей цепочки нуклеотидов два конца, на одном из которых находится свободный фосфат (это 5'-конец), а на другом — свободная гидроксильная группа сахара (это 3'-конец; в устной речи прямо так и говорится — “пять-штрих-конец” и “три-штрих-конец”). Запомним это! Различать направления 5'→3 и 3'→5' очень важно: некоторые биологические функции нуклеиновых кислот без этого просто невозможно понять.
Хорошо еще, что ДНК и РНК — линейные полимеры, то есть неветвящиеся. Правда, чисто химически их ветвление вполне возможно, но современные живые организмы эту возможность почти нигде не реализуют.
Две кислоты
Между РНК и ДНК есть три главных отличия (см. рис. 8.1Б):
* ДНК имеет форму двойной спирали и используется для долговременного хранения генетической информации. РНК же почти всегда одноцепочечная и используется для передачи генетической информации, но не для ее постоянного хранения. Исключение можно найти только у такой странной (с нашей точки зрения) формы жизни, как РНК-содержащие вирусы.
* Вместо рибозы в ДНК входит дезоксирибоза — сахар, имеющий на один атом кислорода меньше.
* Из трех пиримидиновых азотистых оснований в РНК входят только урацил и цитозин, а в ДНК — только тимин и цитозин. Фактически в ДНК урацил заменен тимином.
Нет сомнений, что эти отличия должны иметь эволюционное объяснение, и довольно скоро мы попробуем его найти.
Исторически сложилось так, что поначалу в центре внимания биологов оказалась не РНК, а именно ДНК. В клетке ее обычно больше, и выделить ее для химического анализа легче. Кстати говоря, на самом деле природная ДНК — это не столько кислота, сколько соль. Кислотой ее называют из-за фосфатных групп. Но в условиях живого организма эти группы диссоциируют (отдают протоны), и остаются обнаженные отрицательные заряды, которые компенсируются положительно заряженными ионами натрия (Na+), благо натрий в окружающем растворе всегда есть. Так что с чисто химической точки зрения правильнее было бы называть ДНК дезоксирибонуклеатом натрия. И действительно, во многих старых классических работах ее именно так и называют. Но сейчас название “ДНК” настолько прочно вошло в язык, что менять его, видимо, уже не придется.
Главный источник ДНК в природе — ядра клеток эукариот. Как мы помним, эукариотами, собственно, и называются организмы с клеточными ядрами, то есть животные, растения, грибы и многие одноклеточные вроде инфузорий и амеб (см. главу 5). Что такое само клеточное ядро, мы пока “не знаем”, и нам не важны никакие детали его устройства, кроме самых простых фактов. Ядро — это находящаяся внутри клетки полость, окруженная оболочкой из двух мембран, в целом подобных наружной клеточной мембране, и содержащая очень много ДНК. Обычно клеточное ядро прекрасно видно под микроскопом. Само название “нуклеиновые кислоты” происходит именно от латинского слова, обозначающего ядро (nucleus). Вместе с белками, на которые она намотана, ядерная ДНК образует нити, которые тоже бывают хорошо заметны под микроскопом (эти нити принято называть хромосомами). Но и в клетках бактерий и архей, у которых нет никакого ядра, ДНК тоже всегда есть. Собственно, она есть абсолютно в любой современной живой клетке. Исключением могут быть только заведомо обреченные на скорую гибель клетки вроде, например, наших красных кровяных телец — эритроцитов (которые, надо заметить, и клетками-то не все биологи согласны считать).
К тому же молекулы ДНК просто огромны. У эукариот они могут состоять буквально из миллиардов нуклеотидных звеньев. Это самые длинные полимеры, какие только существуют в живой природе.
В общем, не заметить такое вещество было бы трудно. Но вот что и как оно делает — оставалось загадкой в течение нескольких десятков лет. Сейчас мы посмотрим, как эта тайна постепенно раскрывалась.
Тут не обойтись без небольшого авторского вступления. Эта книга ни в коем случае не труд по истории науки. Принятый в ней порядок изложения — логический, а не исторический. Это означает, что рассказ, по возможности, ведется, исходя из логики природных явлений, а не из того, что и в каком порядке открывали разные профессора, жившие сотню лет назад или еще раньше. В конце концов, наша главная цель — узнать что-то о современной биологии. Извилистые пути, пройденные научной мыслью давным-давно, тут могут подождать. И все же ради истории исследований ДНК хочется сделать исключение. Эта тема так важна и в то же время так поучительна, что мы позволим себе на ней остановиться — хотя бы кратко, в виде сжатого обзора, фиксирующего главные вехи.
Первый этап: открытие
Само существование ДНК открыл в 1869 году швейцарец Фридрих Мишер. Это открытие ни в коей мере нельзя назвать случайным. Фридрих Мишер, 25-летний на тот момент ученый, буквально чуть ли не с рождения вошел в научную элиту своего времени. Он был сыном профессора-медика, а его родной дядя — Вильгельм Гис — оказался выдающимся эмбриологом и анатомом, имя которого нередко упоминается в учебниках и сейчас, в XXI веке. (Каждый студент-медик знает, например, пучок Гиса, проходящий в продольной перегородке человеческого сердца.) Племянник и дядя дружили. И скорее всего, именно от Вильгельма Гиса еще совсем юный Фридрих Мишер воспринял мечту раскрыть самые фундаментальные тайны живой природы. В 17 лет он поступил на медицинский факультет, но работать практикующим врачом, судя по всему, не собирался ни дня. Ему просто нужна была хорошая естественно-научная база, чтобы приступить к поиску, как он говорил, “теоретических оснований жизни”. Мишер очень рано пришел к общему с Гисом убеждению, что “последние оставшиеся вопросы, касающиеся развития тканей, могут быть решены только на базе химии”[53]. И он решил стать биохимиком. Правда, этого слова тогда еще не существовало, но было понятие “физиологическая химия”, означавшее то же самое. Поработав в великолепных немецких химических лабораториях, Мишер приобрел серьезную квалификацию химика-органика — и занялся изучением химического состава живых клеток.
Свой любимый объект — гной — Мишер обнаружил в хирургической клинике, по соседству с которой в тот момент работал. Из гноя оказалось очень удобно получать целые клетки, в первую очередь, конечно, лейкоциты — клетки иммунной системы, ответственные за воспаление. Именно из лейкоцитов Мишер и выделил вещество, обладавшее следующими четырьмя свойствами:
* оно всегда находится в высокой концентрации в клеточных ядрах, но почти отсутствует во внеядерной части клетки, так называемой цитоплазме;
* его молекулы — большие, вполне сравнимые по размеру с молекулами белков;
* оно определенно является по химическим свойствам кислотой;
* оно состоит из углерода, водорода, кислорода, азота и довольно большого количества фосфора, но совершенно не содержит серы.
К тому времени биохимики уже знали, что в белках сера присутствует обязательно (как мы сейчас понимаем, она входит в состав некоторых аминокислот). А вот фосфора в них нет. Это со всей определенностью означало, что открытое Мишером вещество не белок, а нечто совсем другое.
Сам Мишер назвал это вещество “нуклеин”, от латинского слова nucleus — ядро. Через 20 лет Рихард Альтман переименовал “нуклеин” в “нуклеиновую кислоту”. Это название в науке и прижилось.
Мишер прекрасно понимал, что “нуклеин” не белок, и допускал, что это вещество выполняет какую-то особую функцию, свойственную только материалу клеточных ядер. Чтобы изучить химию нуклеина более детально, он использовал сперматозоиды — мужские половые клетки животных, в которых, кроме ядра, почти ничего толком и нет.
Между тем представление, что процессы передачи наследственной информации как-то связаны с клеточным ядром, к тому времени уже вошло в научный оборот. Это называлось ядерной теорией наследственности. Почему бы тогда “нуклеину” и не оказаться материальным носителем наследственных качеств? И действительно, в 1874 году Мишер записал: “Если бы мы предполагали, что какое-то одно вещество является специфической причиной оплодотворения, в первую очередь нам, несомненно, пришлось бы рассмотреть нуклеин”.
Второй этап: рутина
Фридриху Мишеру необыкновенно повезло. В своем стремлении раскрыть главную химическую тайну жизни он сразу выбрал абсолютно правильное направление поиска. Полученные им результаты подготовили науку к грандиозному прорыву. Но вот самого прорыва как раз и не произошло. В течение следующих 40 лет, примерно с 1890 по 1930 год, исследования нуклеиновых кислот оставались в общем-то непопулярной областью биохимии. Люди, которым хватало квалификации, чтобы ставить биохимические опыты, в этот период гораздо больше интересовались белками. Тогда уже было ясно, что белки — универсальные химические “слагаемые” жизни. В отношении нуклеиновых кислот такой уверенности не было даже у энтузиастов, при том что исследование этих веществ по чисто химическим причинам было заметно более трудоемким, чем исследование белков. Неудивительно, что желающих ими заниматься находилось относительно немного.
Правда, и в этот период у некоторых людей случались озарения. Вопрос о биологической роли ДНК не обошел стороной, например, известный физиолог Жак Лёб. В вышедшей в 1906 году книге под названием “Динамика живой материи” он совершенно четко сформулировал два предположения:
* наследственная информация при оплодотворении, скорее всего, передается каким-то одним строго определенным химическим веществом;
* нуклеиновые кислоты являются гораздо более вероятными кандидатами на роль этого вещества, чем белки.
Лёб стремился сводить всю живую природу к простым физико-химическим факторам, и это, конечно, вызывало у многих биологов возражения, особенно когда применялось к таким сложным явлениям, как, например, поведение животных. Но именно в отношении передачи наследственной информации Лёб оказался абсолютно прав. Он, что называется, попал в яблочко. К сожалению, в 1924 году, когда ученый умер, оценить этого еще никто не мог. Предложенная им гипотеза о веществе наследственности просто затерялась среди множества других гипотез, казавшихся тогда не менее вероятными.
Американский биолог Леонард Троланд высказал другую смелую гипотезу: нуклеиновые кислоты — это своего рода небелковые ферменты, запускающие процесс копирования генетической информации[54]. Гораздо позже стало понятно, что эта мысль не просто красива, но и (опять же) в немалой степени верна. У некоторых нуклеиновых кислот такая функция действительно есть.
Увы и увы, 100 лет назад все эти идеи разбились о полное равнодушие профессиональных генетиков, интересы которых в тот период были совершенно другими. Впрочем, самих генетиков тут тоже можно понять. Их юная наука, только в 1905 году получившая свое название, развивалась невероятно бурно — и охватить все возможные направления просто-напросто не получалось. А при этом ни концептуальный аппарат генетики, ни создавшие ей славу “фирменные” методы исследований изначально ни с какой химией связаны вовсе не были. И в результате генетики начала XX века практически единодушно решили, что поиск химического носителя наследственной информации — дело далекого будущего, а пока что на это отвлекаться не следует.
Таким образом, биохимики (вернее, те из них, кого это вообще интересовало) были вынуждены изучать ДНК в гордом одиночестве. Причем “сухой остаток” от этой долгой и трудной работы был довольно скромным. Стало понятно, что нуклеиновая кислота — это полимер, состоящий из нуклеозидов, соединенных фосфатными мостиками, то есть, иными словами, из нуклеотидов. И выяснилось, что нуклеотиды в ДНК бывают четырех типов: адениновый, гуаниновый, цитозиновый или тиминовый. Никаких далеко идущих выводов эти факты не породили. Ну, вещество себе и вещество. Ясно, что оно участвует в клеточном ядре в каких-то биохимических процессах, ну так мало ли там всего разного участвует! Где-то так, по-видимому, и думало большинство биологов к началу 1930-х годов.
Третий этап: споры
Между тем гигантский маховик под названием “развитие научных представлений” продолжал проворачиваться. В 1926 году американский генетик Герман Мёллер открыл радиационный мутагенез, то есть повышение частоты генетических мутаций под действием электромагнитных лучей, в данном случае — рентгеновских. Если попадание кванта рентгеновского излучения может изменить структуру гена, значит, ген — это молекула? А если молекула, то должна же у нее быть какая-то химическая формула! И таким образом, вопрос о химической природе наследственного вещества вновь встал на повестку дня.
В начале 1930-х практически все биологи, задававшиеся этим вопросом, считали, что гены — это белки. Почему? Во-первых, к тому времени уже все знали, что белки химически гораздо разнообразнее: в них входит 20 разных типов мономеров, а в составе ДНК — всего четыре типа. Во-вторых, биохимики, изучавшие ДНК в первой трети XX века, наряду со множеством полезных открытий допустили одну простительную, но тем не менее очень серьезную неточность. Они решили, что четыре типа нуклеотидов (адениновый, гуаниновый, тиминовый и цитозиновый) входят в состав ДНК в строго равных концентрациях:
[А] = [Т] = [Г] = [Ц]
Самое логичное объяснение этих данных выглядело так: ДНК, какой бы длины она ни была, должна состоять из одинаковых четырехнуклеотидных блоков, в каждом из которых есть по одному “А”, по одному “Т”, по одному “Г” и по одному “Ц”. Представить, что такой однообразный полимер каким-то образом хранит информацию, было невозможно. Приходилось считать, что ДНК — рядовой участник обмена веществ, разве что специфичный почему-то именно для клеточных ядер.
Впрочем, мнения и тогда бывали разные. В 1933 году работавший в США хорватский биолог Милислав Демерец опубликовал буквально витавшую к тому времени в воздухе гипотезу, что любой ген — это молекула[55]. Пусть и большая молекула, но одна-единственная. Тогда генетическая мутация — просто изменение взаимного расположения атомов в этой молекуле. А в качестве примера того, из чего такая молекула могла бы состоять, Демерец привел не что иное, как схему гипотетического четырехнуклеотидного блока ДНК! Биология опять почти нащупала материальный носитель наследственности — и опять отступила (правда, теперь уже ненадолго). На этот раз биологов подвела химия. Структура нуклеиновых кислот была все-таки еще слишком плохо известна. К примеру, на предложенной Демерцом формуле ДНК значилась гликозидная связь между остатками сахара (см. главу 6), чего на самом деле ни в каких нуклеиновых кислотах не бывает.
Тут самое время вспомнить замечательного русского биолога Николая Константиновича Кольцова, занимавшего в интересующие нас годы должность директора Института экспериментальной биологии в Москве, на улице Воронцово Поле, что у Яузского бульвара. Кольцов — фигура ярчайшая, о его роли в нашей биологии написано немало статей и книг. Сейчас достаточно сказать, что он одним из первых задумался не только о химической основе наследственных качеств, но и о молекулярном механизме их передачи и тут сумел во многом, что называется, опередить свое время (см. главу 3). В 1935 году Кольцов опубликовал следующую гипотезу: ген — это участок очень длинной белковой цепочки, возможно состоящей из тысяч или десятков тысяч аминокислот, чередованием которых, собственно, и кодируется генетическая информация. Забегая вперед, сообщим, что если бы Кольцов заменил белок на ДНК, а аминокислоты на нуклеотиды, то он бы оказался попросту абсолютно прав. К сожалению, такого чуда не случилось. В тех же самых статьях Кольцов убежденно возражает Демерцу: ДНК — “сравнительно простое органическое соединение, которому было бы странно приписывать роль носителя наследственных свойств”. То ли дело белки! Приведем сокращенную цитату:
“Некоторые цитологи придают нуклеиновой кислоте особо важное значение. Так, Демерец считает, что все гены являются лишь вариантами или даже просто изомерами нуклеиновой кислоты. Я никак не могу с этим согласиться, так как молекулярная структура нуклеиновой кислоты слишком проста и однородна. Ведь это, прежде всего, не белковая молекула. У всех животных и растений нуклеиновая кислота одинакова или почти одинакова: думать о миллионах изомеров этой молекулы не приходится. Я считаю поэтому, что нуклеиновая кислота никакого отношения к генам не имеет”.
Поясним, что цитология — это область биологии, изучающая строение клетки. А мысль о том, что все гены являются изомерами нуклеиновой кислоты, не только красива, но и, как мы сейчас понимаем, по сути абсолютно верна. В данном случае Кольцов попал пальцем в небо из-за того, что слишком доверился биохимикам. А последние как раз в те годы стали почему-то склоняться к мнению, что ДНК — вообще не полимер, а совсем небольшая молекула, состоящая всего-то из четырех нуклеотидов (те самые “А”, “Т”, “Г” и “Ц”). Просто в ядре таких молекул очень много, вот и получается большая масса. Сам Кольцов не был биохимиком, поэтому не мог оценить, насколько эти данные надежны или ненадежны. Если бы он отважился допустить, что его открытая “на кончике пера” молекула наследственности не состоящий из тысяч аминокислот белок, а состоящая из тысяч нуклеотидов ДНК, это могло бы изменить всю мировую биологию. Но, насколько можно судить, Кольцову такое в голову не пришло. И никому другому в 1930-е годы — тем более.
Полемика Кольцова и Демерца хорошо показывает, сколь непрямыми путями обычно идет научная мысль. Две идеи, каждая из которых в отдельности была совершенно верна, столкнулись и разошлись. Слияния не произошло. Хотя ждать его оставалось уже совсем недолго.
Четвертый этап: эксперименты
В 1944 году американский биолог Освальд Эвери экспериментально показал, что ДНК, и только ДНК может вызвать трансформацию одной разновидности бактерий в другую — в данном случае безопасного штамма пневмококка в болезнетворный, вызывающий инфекционное воспаление легких[56]. Вот этот момент и следует считать открытием генетической роли ДНК (см. рис. 8.2).
Освальд Эвери на протяжении всей своей научной карьеры, больше 40 лет, занимался только пневмококками — бактериями, которые вызывают пневмонию. Тут надо сказать, что ему невероятно повезло с объектом. Сам факт, что некая таинственная “растворимая субстанция” может передаваться от одной бактерии к другой и навсегда менять наследственные свойства бактерии-реципиента, был открыт именно на пневмококках еще в 1920-х годах. Но вот ответ на вопрос, что это за субстанция такая, требовал очень тонких, технически сложных биохимических опытов, поставить которые долгое время никто не мог. Эвери стал первым. Он многие годы работал над этой темой, продолжил работу несмотря на то, что уже вышел в официальную отставку по возрасту, и добился-таки успеха (в момент выхода главной статьи ему было 67 лет).
На самом деле поворотная точка была пройдена в марте 1943 года, когда Эвери прочитал перед попечителями Рокфеллеровского фонда небольшой доклад, завершавшийся однозначным выводом: субстанция, способная вызывать стойкую трансформацию бактерий, — это ДНК. Задержка выхода статьи на год объясняется в основном тем, что с ее подачей медлили, обдумывая каждое слово. Эвери и его сотрудники прекрасно понимали, насколько важный результат они получили.
В том же 1944 году австралиец Фрэнк Макфарлейн Бёрнет опубликовал ключевой тезис: ДНК ведет себя так, как будто гены именно из нее и состоят. После работы Эвери этот вывод вроде бы напрашивался, так что выяснение приоритета тут выглядит похожим на знаменитый спор о том, кто первым сказал “э”. Но на самом деле все было не так просто. Очень многие крупные биологи и после 1944 года все еще по инерции держались за убеждение, что гены состоят из белка, а ДНК — в лучшем случае всего лишь мутагенное вещество (правда, вызывающее какие-то уж очень странные предсказуемые мутации). Именно так поначалу решил, например, знаменитый генетик Феодосий Добржанский. Сам Эвери, насколько можно судить, колебался. И вообще, без споров не обошлось. Бёрнет — между прочим, выдающийся вирусолог и иммунолог, впоследствии совсем за другие заслуги получивший Нобелевскую премию, — оказался смелее большинства мэтров.
Так или иначе, теперь все убедились, что во всяком случае какое-то отношение к генетической информации ДНК имеет точно. Цель была определена, и охота началась.
Пятый этап: двойная спираль
Результаты Эвери (которые вскоре были подтверждены и в других лабораториях) оживили угасший было интерес биохимиков к нуклеиновым кислотам. Во второй половине 1940-х годов эта тема пережила своего рода возрождение. Эрвин Чаргафф, высококвалифицированный биохимик европейской школы, довольно быстро опроверг сбивавшую всех с толку старую “тетрануклеотидную теорию”, согласно которой ДНК должна состоять из одинаковых блоков по четыре нуклеотида. Как мы помним, эта теория исходила из того, что четыре азотистых основания присутствуют в ДНК в равных количествах. Чаргафф провел точные измерения, показавшие, что это неверно. На самом деле количество аденина строго равно количеству тимина, а количество гуанина строго равно количеству цитозина:
[А] = [Т]
[Г] = [Ц]
Эти соотношения называются правилами Чаргаффа. Отношение [А+Т]/[Г+Ц] константой как раз не является и может отличаться у разных организмов. А вот правила Чаргаффа соблюдаются всегда. Что же это может означать? Никаких четырехнуклеотидных блоков в составе ДНК нет, иначе соотношения совершенно точно были бы иными. Но почему бы там не быть не четверкам, а парам? Правила Чаргаффа легче всего объяснить, предположив, что нуклеотиды входят в ДНК в составе пар: или АТ, или ГЦ.
В этом месте полезно вспомнить, что, собственно говоря, означают буквы А, Т, Г и Ц. Аденин (А) и гуанин (Г) — это пуриновые азотистые основания, а цитозин (Ц) и тимин (Т) — пиримидиновые. И мы тут же получаем вытекающее из правил Чаргаффа важнейшее утверждение: в одной и той же молекуле ДНК общее количество пуриновых оснований (А и Г) всегда строго равно общему количеству пиримидиновых (Т и Ц). В этом плане предполагаемые пары АТ и ГЦ устроены одинаково: в каждой паре одно основание пуриновое, другое — пиримидиновое.
Оставалось сделать последний шаг: установить трехмерную структуру молекулы ДНК, решив задачу из области науки, которая называется стереохимия.
Пытаясь разобраться в устройстве ДНК, американец Джеймс Уотсон и англичанин Фрэнсис Крик увидели, что возникающие между азотистыми основаниями водородные связи делают пары аденин-тимин и гуанин-цитозин фактически идентичными друг другу по общей форме. И там и там возникает одна и та же легко узнаваемая структура из трех колец (см. рис. 8.3А).
У Уотсона и Крика получилось, что между аденином и тимином должны образоваться две водородные связи, а между гуанином и цитозином — три. Поэтому пара ГЦ должна быть прочнее, чем пара АТ (сейчас мы знаем, что это действительно так). Зато в обеих парах — один пурин и один пиримидин, как и ожидалось.
Надо заметить, что решить эту задачу Уотсону и Крику удалось не с первого раза. Помните, мы говорили, что у азотистых оснований бывают две изомерные формы — спиртовая и кетонная (см. главу 7)? Так вот, в учебниках биохимии 1940-х годов чаще всего изображалась только спиртовая форма. Уотсон и Крик исходили именно из нее, и ничего собрать у них не получалось, пока профессиональный химик Джерри Донохью не объяснил им, что это бесполезное занятие: в физиологических условиях азотистые основания всегда находятся не в спиртовой форме, а в кето-форме! Ни Уотсон, ни Крик химиками вообще-то не были, так что эта помощь оказалась драгоценной.
Но теперь у них получилась модель молекулы, идеально соответствовавшая правилам Чаргаффа. С самим Чаргаффом, кстати говоря, у Уотсона и Крика общение не сложилось — тот счел их дилетантами, с которыми и разговаривать-то серьезно не стоит. “Презрение Чаргаффа к нам достигло предела, когда Фрэнсис вынужден был признаться, что не помнит химических различий между четырьмя азотистыми основаниями”, — писал потом Уотсон. Но это было уже неважно.
Осталось сопоставить полученную модель с данными рентгеноструктурного анализа, дававшего размытые и нечеткие, но все-таки снимки молекул ДНК в рентгеновских лучах. К счастью, по соседству с Уотсоном и Криком работали сильные рентгеноструктурщики — Морис Уилкинс и Розалинд Франклин. Забегая вперед, надо сказать, что через несколько лет Уилкинс получил вместе с Уотсоном и Криком Нобелевскую премию, а Франклин, к сожалению, нет, потому что безвременно умерла от рака.
В итоге Уотсон и Крик собрали (в самом буквальном смысле, из проволоки и жести) модель молекулы ДНК, полностью отвечавшую как биохимическим, так и рентгеноструктурным данным (см. рис. 8.3Б). Оказалось, что молекула состоит из двух цепочек. И против любого основания в одной цепочке должно стоять дополнительное к нему (комплементарное) основание в другой: против аденина — тимин, против тимина — аденин, против гуанина — цитозин и против цитозина — гуанин. Причем эти цепочки должны быть антипараллельны, то есть противоположно направлены. Вот здесь нам как раз пригодится усвоенное в начале этой главы представление о 5'-конце и 3'-конце цепочки нуклеиновой кислоты. У двух цепочек, образующих молекулу ДНК, эти концы всегда направлены в противоположные стороны. С параллельными цепочками модель не собиралась, антипараллельность неожиданно оказалась совершенно обязательным условием. Никаких ковалентных связей между двумя цепочками ДНК нет — только водородные. Так что формально это две отдельные молекулы, их просто традиционно принято считать за одну.
В трехмерном пространстве изученная Уотсоном и Криком молекула ДНК имеет форму двойной спирали, напоминающую двойной штопор (такие редко, но встречаются). Если ее раскрутить, то к каждой из двух цепочек можно будет автоматически достроить комплементарную — конечно, при наличии в окружающем растворе нужных мономеров-нуклеотидов. Стереохимия азотистых оснований просто не допустит другого варианта: к аденину может пристроиться только тимин, к гуанину — только цитозин и так далее. А это означает, что Уотсон и Крик открыли не более и не менее как механизм копирования наследственной информации.
В свете этого осознания авторский комментарий, сделанный Уотсоном и Криком в их знаменитой статье 1953 года, воистину выглядит шедевром скромности. Там сказано:
“It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests possible copying mechanism for the genetic material”.
(В переводе: “От нашего внимания не ускользнуло то, что постулированное нами специфическое спаривание немедленно предполагает возможный механизм копирования генетического материала”[57].)
По существу, задача была решена в тот момент, когда удалось установить одинаковую форму пар АТ и ГЦ. Именно в этот день Фрэнсис Крик принялся рассказывать всем подряд в кембриджском пабе “Орел”, что они с коллегой только что раскрыли секрет жизни (отчего даже Уотсону, никогда не страдавшему избытком скромности, стало не по себе). Но и в самом деле, собрать правильную трехмерную модель ДНК после этого оказалось делом техники.
Вся эта история отлично показывает, насколько коллективным процессом является наука. Уотсон и Крик при всем их огромном таланте были еще и необычайно удачливы: в их распоряжении оказалось готовое полное условие задачи, которую оставалось только решить. Например, их модель двойной спирали была бы невозможна без результатов биохимического анализа Чаргаффа и равным образом — без рентгенограмм Уилкинса и Франклин. Причем получить все это самостоятельно Уотсон и Крик не могли — у них просто не было такой профессиональной подготовки. А Чаргафф, в свою очередь, работал на основе старой “тетрануклеотидной теории”, хоть и опроверг ее. Двигаясь таким образом вспять по цепочке ученых, каждый из которых делал возможной работу следующего, мы получим некий причудливый граф, где Уотсон и Крик будут располагаться в одной из вершин. Впрочем, о чем-то подобном писал еще в XII веке Бернар Шартрский: “Мы подобны карликам, усевшимся на плечах великанов; мы видим больше и дальше, чем они, не потому, что обладаем лучшим зрением, и не потому, что выше их, но потому, что они нас подняли и увеличили наш рост собственным величием”.
Самое главное в двойной спирали ДНК не то, что она спираль, а то, что она двойная. Теоретически двойная цепь ДНК вполне могла бы быть и линейной, как застежка-молния, без всякой спиральности. На ее свойства как носителя информации это нисколько не повлияло бы. Спиральная конформация энергетически выгоднее по чисто химическим причинам, из-за углов между ковалентными связями. Но тут химия неожиданно совпала с эстетикой: двойная спираль просто красива. Неудивительно, что она быстро стала широко известным символом глубинного механизма жизни.
И снова две кислоты
Теперь самое время прояснить вопрос: в чем же смысл химических отличий между ДНК и РНК?
Прежде всего напомним, что главное из этих отличий выражено в самом названии: в состав РНК входит рибоза, а в состав ДНК — дезоксирибоза. Добавив к этому факту кое-что еще, мы получим следующую картину:
* РНК гораздо легче синтезируется, потому что реакция синтеза дезоксирибозы требует более сложных ферментных систем, чем реакция синтеза рибозы;
* ликвидация 2'-гидроксильной группы (той самой, которой дезоксирибоза лишена) резко уменьшает химическую активность нуклеиновой кислоты, и в том числе ее подверженность спонтанному распаду с участием воды;
* ДНК редко бывает одноцепочечной (только у некоторых вирусов), а в двуцепочечной форме она очень устойчива из-за огромного количества водородных связей и — дополнительно — из-за гидрофобного взаимодействия между множеством налегающих друг на друга плоских колец азотистых оснований.
Создается явное впечатление, что ДНК была “специально придумана” природой как долговременное надежное хранилище информации.
Есть и еще одно важное отличие. В 1980-х годах было обнаружено, что некоторые РНК способны вести себя как ферменты, катализируя определенные химические реакции (например, разрезание или синтез других РНК). Такие РНКовые аналоги ферментов называются рибозимами. Эта способность вовсе не является редкостью, она не требует большой длины РНК или какой-то уникальной нуклеотидной последовательности. Рибозимы часто бывают длиной в 100–200 нуклеотидов или меньше. Самый маленький известный рибозим имел длину всего 13 нуклеотидов[58]. Это означает, что химическая эволюция могла создать рибозимы очень легко. Даже при совершенно случайном переборе последовательностей РНК какие-нибудь рибозимы обязательно появятся, причем довольно быстро.
У ДНК же каталитическая способность резко ослаблена все той же потерей 2'-гидроксильной группы. Таким образом предотвращается, например, случайное возникновение саморазрезающихся рибозимов — в РНК бывает даже такое. Живым организмам совершенно не нужна каталитическая способность ДНК. Наоборот, чем она инертнее, тем лучше. Для редактирования генетической информации есть другие молекулы. А ДНК должна ее просто хранить.
Открытие рибозимов сразу вызвало к жизни так называемую гипотезу РНК-мира. Сторонники этой гипотезы считают, что первоначально живые системы состояли в основном из разнообразных молекул РНК. Эти молекулы РНК служили и носителями информации, и катализаторами всевозможных химических реакций. И только потом специализированными катализаторами стали белки, а специализированными хранителями информации — молекулы ДНК. За самой же РНК остались функции, связанные с передачей генетической информации и частично с регуляцией работы генов.
В самом деле, мы скоро убедимся, что ДНК, в отличие от РНК, не является в системе передачи генетической информации абсолютно необходимым звеном. Все генетические процессы в принципе можно было бы осуществить с помощью одних только РНК, которые и в современном мире довольно разнообразны. Генетическую систему, включающую только РНК, сконструировать можно, а вот включающую только ДНК — нельзя.
К этому можно добавить, что соединения рибозы и сами по себе, независимо от нуклеиновых кислот, играют важную роль в обмене (например, в энергетическом), чего никак нельзя сказать о соединениях дезоксирибозы: последняя нужна для синтеза ДНК, и больше ни для чего. Все это показывает, что ДНК — продукт гораздо более глубокой специализации, чем РНК, и в целом подкрепляет гипотезу РНК-мира.
Теперь обратимся еще к одному отличию, уже нам известному: в состав ДНК вместо урацила почему-то входит тимин. Напомним, что тимин отличается от урацила всего лишь одной дополнительной метильной группой (–CH3). А дело тут, скорее всего, вот в чем. Есть еще одно азотистое основание, которое входит и в РНК, и в ДНК, и при этом является химически довольно неустойчивым. Это цитозин. Он легко подвергается спонтанному дезаминированию — потере аминогруппы, на место которой приходит гидроксильная группа. А цитозин с гидроксилом вместо аминогруппы — это не что иное, как урацил. Такие уж у этих веществ формулы. Получается, что если хранить генетическую информацию на РНК, то она неминуемо будет постепенно “засоряться” урацилом, образующимся из-за спонтанного дезаминирования цитозина.
А вот из ДНК урацил исключен вообще. Всеобщая замена урацила на тимин дает возможность легко исправлять ошибку дезаминирования, “настроив” соответствующие ферменты на вырезание любых нуклеотидов с урацилом как заведомо ошибочных. Но такая замена имеет смысл только в том случае, если ДНК уже используется как носитель информации! И получается сильный чисто химический довод за то, что ДНК была выбрана живыми системами на роль долговременного хранилища генетической информации “специально”. Никакой другой функции у нее никогда и не было.
Остается понять, какие живые организмы и когда создали это новшество. Это — интереснейший и совершенно нерешенный вопрос. Есть, например, гипотеза, что ДНК как таковая была “изобретена” ДНК-содержащими вирусами, которые потом инфицировали древнейшие клетки, еще содержавшие только РНК, и передали им свою “информационную технологию”. Если это верно — значит, современная клетка, содержащая ДНК, возникла в результате взаимодействия (или даже слияния) древней РНК-содержащей клетки с крупным ДНК-содержащим вирусом[59]. Правда, тут возможна и более сложная последовательность событий — о том, какая именно, мы поговорим в главах 12 и 14.
ЧАСТЬ II МЕХАНИЗМ ЖИЗНИ
9. генетическая информация
И если бы самому ему пришло в голову задаться вопросом, почему, например, дети похожи на родителей, он бы только подивился неожиданному баловству мысли, узревшей вопрос в естественном порядке вещей, а искать ответ он бы даже не попытался.
Аркадий и Борис Стругацкие. Отягощенные злом, или сорок лет спустяО том, что наследственность существует, люди знали всегда. Признаки передаются от предков к потомкам и у человека, и у животных, и у растений. Простой крестьянин, живший век или два назад, мог не иметь ровно никаких теоретических представлений об устройстве природы, но уж то, что детям положено быть похожими на родителей, он знал твердо. И это имело для него ясное практическое значение: в русских деревнях невесту присматривали “по породе”, стремясь, чтобы у нее в роду не было наследственных заболеваний, калек или сумасшедших[60]. Не менее наглядным был опыт разведения домашних животных и растений. Никто из людей, имевших хоть какое-то отношение к сельскому хозяйству, в существовании наследственности не сомневался.
Примечательно, что ни в одном из трех дореволюционных изданий словаря Даля слова “наследственность” все же нет. Очевидно, народному сознанию это явление представлялось настолько естественным, что особое обозначение для него не требовалось. Скорее наоборот, удивление вызывали слишком явные отклонения от точного наследования (мол, “в кого ты такой уродился?”). Для подобных отклонений в науке придумано понятие “изменчивость”. В целом — на это стоит обратить внимание — о наследственности обычно говорят в том случае, если она хотя бы потенциально не является абсолютно точной, то есть если хоть какая-то изменчивость все же налицо. Эти понятия — взаимодополняющие.
Любому, кто пытался осмыслить явление наследственности, было ясно: дети получают от своих родителей нечто, решающим образом влияющее на их качества. Как же это “передаваемое нечто” можно назвать? Отец биологических наук Аристотель воспользовался тут довольно сложным понятием “энтелехия”. Аристотелевская энтелехия — это нематериальная сущность, определяющая форму и структуру развивающегося организма. Жизнь этой концепции оказалась очень долгой, некоторые биологи обращались к ней еще в первой половине XX века. Но сейчас энтелехию окончательно вытеснило другое понятие, гораздо более четкое: наследственная информация.
Почему энтелехия исчезла из науки? Не в последнюю очередь потому, что ее так никто никогда и не сумел количественно измерить. Информация же вполне измерима, о чем прекрасно знает любой пользователь современного компьютера. А ведь наследственная информация по своей природе ничем принципиально не отличается от той, которая записывается и копируется в технических устройствах.
Есть два способа записи информации — аналоговый и цифровой. При аналоговой записи кодирующий параметр может меняться сколь угодно постепенно: например, форма звуковой дорожки на виниловой пластинке (если в наше время еще кто-нибудь помнит, что это такое) повторяет форму той самой звуковой волны, которую нужно записать. При цифровой записи кодирующий параметр может принимать всего несколько строго определенных значений безо всяких промежутков между ними. Предельный случай цифровой записи — это двоичный код, где кодирующий параметр может принимать всего два значения: или 0, или 1. Технология записи обычного текста — тоже типично цифровая. Есть строго определенный набор букв, промежуточные состояния между которыми не предусматриваются.
Важнейший для понимания всей современной биологии факт состоит в следующем: наследственная информация — цифровая. В XVIII веке об этом догадался французский физик Пьер Луи Моро де Мопертюи. А через 100 лет к тому же выводу пришел всем известный Грегор Мендель — тоже физик, но увлекшийся ботаникой и ставший в ней первоклассным специалистом. Причем если Мопертюи опирался на наблюдения, то Мендель доказал цифровой характер наследственной информации уже экспериментально. Конечно, ни Мопертюи, ни Мендель не знали терминов, которые мы сейчас употребляем, но с нашей формулировкой насчет цифровой записи они наверняка согласились бы.
Отступление об основателях
Пьер Луи Моро де Мопертюи был одним из самых блестящих умов французского Просвещения. Он не преподавал в университетах, не имел профессорского звания, а просто занимался наукой в свое удовольствие, время от времени публикуя результаты исследований. И это очень рано сделало его известным ученым и членом нескольких академий — в XVIII веке такое еще было вполне возможно. Именно Мопертюи получил решающие данные о форме Земли, доказав, что она представляет собой сплюснутый с полюсов эллипсоид вращения, как и было несколько ранее предсказано Ньютоном. Мопертюи открыл (и математически обосновал) принцип наименьшего действия — один из самых общих принципов физики, оказавшийся полезным для вычислений как в механике, так и в оптике. Убежденный космополит, Мопертюи по приглашению короля Фридриха Великого переехал из Парижа в Берлин и там стал президентом Прусской академии наук. Это создало ему большие проблемы на родине через несколько лет, когда началась Семилетняя война между Францией и Пруссией, — увы, жизнь мыслителей в разделенном мире редко бывает безоблачной. Умер он в возрасте 61 года в эмиграции, в Базеле, в 1759 году, военные события которого, по мнению многих историков, определили поражение Франции в борьбе за мировое господство[61].
Заинтересовавшись теорией наследственности, Мопертюи не стал пытаться разглядывать структуру клеток под микроскопом: он прекрасно понимал, что текущее состояние естественных наук не позволит там ничего толком разобрать. Он выбрал совершенно другой путь, а именно занялся исследованием человеческих родословных. Фактически он применил известный кибернетический принцип “черного ящика”: если мы и не можем пока вскрыть механизм наследственности, то некоторые его черты наверняка можно будет описать, если аккуратно сопоставить данные “на входе” и “на выходе”.
Прежде всего Мопертюи показал, что наследственные качества совершенно равноправно передаются потомкам от обоих родителей. Это называлось бипарентальной теорией наследственности, и в XVIII веке в этом были убеждены далеко не все. Одни ученые считали, что зародыш получает наследственные качества в основном от отца (анималькулисты), другие — что в основном от матери (овисты). Мопертюи с фактами в руках опроверг обе эти теории. Что же касается его собственных взглядов на наследственность, то их можно сформулировать в нескольких пунктах.
* Предки передают потомкам наследственное вещество, состоящее из материальных частиц (“задатков”), между которыми существует химическое сродство еще неизвестного типа. Эти частицы являются носителями памяти. Для каждой части организма существует своя наследственная частица, определяющая свойства этой части.
* При размножении организмов наследственные частицы по каким-то еще не известным закономерностям расходятся и комбинируются заново.
* В одном организме могут сочетаться разные наследственные частицы, контролирующие один и тот же признак. В этом случае одна частица может “перекрывать” (l'emporte) влияние другой. Здесь Мопертюи открыл явление, которое Мендель в следующем веке назовет доминированием.
* Комбинация наследственных частиц при возникновении нового организма может быть неточной. Если какая-то частица потеряна, возникает урод, лишенный соответствующего органа (monstre par defaut). Если какая-то частица лишняя, то возникает урод с избыточными органами (monstre par exces). Здесь пока можно лишь сказать, что современная генетика действительно знает подобные эффекты.
* Спонтанные изменения наследственных частиц могут мгновенно создавать новые наследуемые признаки. Хорошей иллюстрацией тут послужило явление человеческой многопалости. У двух нормальных родителей, не имевших в обозримом прошлом никаких многопалых предков, может внезапно родиться ребенок с многопалостью, которая потом оказывается наследственной. Документально подтвердив такой случай, Мопертюи фактически открыл мутации (хотя этого термина тогда еще не было).
* При скрещиваниях могут создаваться новые сочетания наследственных частиц и, тем самым, новые разновидности организмов. Именно это делает человек при разведении домашних животных и растений. Нет никаких оснований считать, что те же самые процессы не происходят в дикой природе. Здесь у Мопертюи теория наследственности естественным образом переходит в теорию эволюции: получается, что одного без другого не бывает. Насколько мы сейчас понимаем, это абсолютно верно. Хотя даже ученые XIX–XX веков, знавшие гораздо больше, чем Мопертюи, пришли к этой мысли далеко не сразу.
Интересно, что Мопертюи не допускал никакого наследования благоприобретенных признаков, в отличие от многих ученых XIX и даже XX веков, державшихся так называемого ламаркизма — версии эволюционной теории, согласно которой приобретенные полезные признаки постепенно, в ряду поколений, трансформируются в наследственные. Это особенно важно для Франции, где ламаркизм долгое время был очень влиятелен. На самом деле “мопертюистская” традиция старше ламаркистской. Именно ее по большому счету и продолжает современная генетика.
Есть версия, что Пьер Луи Моро де Мопертюи послужил одним из прототипов доктора Моро, героя знаменитого романа Уэллса “Остров доктора Моро”[62]. Прямых доказательств этому нет, но совпадение первой части фамилии — Моро — с фамилией доктора, скорее всего, не случайно. И атмосфера в этом романе в целом подходящая.
Итак, Мопертюи первым пришел к выводу, что материальная основа наследственности (какой бы она ни была) образована дискретными частицами, которые не смешиваются между собой. В XIX веке это было подтверждено экспериментально. Например, французский ботаник Огюстен Сажрэ скрещивал дыни разных сортов, отличающихся друг от друга формой плодов. Поначалу Сажрэ ожидал, что у межсортовых гибридов форма плодов будет какой-нибудь промежуточной. Вместо этого оказалось, что у разных особей гибридов встречаются признаки, свойственные или одному, или другому исходному сорту, и эти признаки как бы “конкурируют” между собой в ряду поколений, переходных же состояний между ними нет. Эти и другие данные убедили Сажрэ, что наследственные качества определяются некими устойчивыми единицами (он называл их “зачатками”), которые не могут сливаться или смешиваться. Передаваясь от родителей к детям, они вступают в самые разные комбинации, но сами по себе остаются стабильными, примерно как атомы в химических реакциях.
Через 20 лет после Сажрэ австриец Грегор Мендель продемонстрировал в серии аккуратнейших опытов, что такой механизм наследственности действительно работает — по крайней мере, у некоторых растений. Более того, Мендель показал, что знание этого механизма позволяет делать проверяемые количественные предсказания. “Задатки” Мопертюи, “зачатки” Сажрэ или “факторы” Менделя — это разные названия для дискретных частиц наследственности, в некотором смысле эквивалентных буквам, составляющим текст; недаром в классической генетике их именно буквами и обозначали. Любая отдельно взятая частица такого типа либо унаследована данным организмом, либо нет. Это и есть цифровой способ передачи информации.
Закончить этот разговор, как всегда, можно подходящей цитатой из Станислава Лема. В его рассказе “Одиссей из Итаки” говорится о вымышленном (к сожалению) ученом, который пришел к идее цифровой записи наследственной информации еще в начале эпохи Возрождения:
“...Есть среди них увесистый том некоего Мираля Эссоса из Беотии, который изобретательностью превзошел Леонардо да Винчи; после него остались проекты логической машины из спинного мозга лягушек; задолго до Лейбница он додумался до идеи монад и предустановленной гармонии; он применил трехценностную логику к некоторым физическим феноменам; он утверждал, что живые существа рождают подобных себе потому, что в их семенной жидкости содержатся письма, написанные микроскопическими буковками, и комбинации таких “писем” определяют строение взрослой особи; все это — в XV веке”.
Вот с теми самыми “микроскопическими буковками”, которыми написаны эти “письма”, мы сейчас и познакомимся.
Атомы наследственности
Открытия Мопертюи, Сажрэ и Менделя были несовершенны в одном важном для нас аспекте. Частицы, которые они принимали за элементарные единицы наследственности, таковыми на самом деле вовсе не были. Все эти “задатки” и “факторы” вполне поддаются дроблению на более мелкие части (как мы сейчас совершенно точно знаем). В XIX веке просто не существовало методов, позволяющих это увидеть. А вот в XX веке, с началом так называемых исследований тонкой структуры гена, сразу стало ясно, что “атомы наследственности” — если они и есть в природе — должны быть гораздо мельче.
И все-таки сторонники дискретности оказались в конечном счете правы. Неделимые носители наследственной информации действительно существуют. Это — нуклеотиды. Вот они-то и есть те самые “буквы”, которыми написан генетический текст. Надо заметить, что нуклеотид — это достаточно крупная молекула по меркам обычной химии (см. главу 7). И если его расщепить на части, то они носителями наследственной информации уже не будут. Таким образом, “атом наследственности” можно считать обнаруженным.
В оправдание исследователей прошлых веков надо сказать, что они очень многое угадали верно. Дело в том, что дискретность существует на разных уровнях. Нуклеотиды объединяются в гораздо более крупные комплексы, которые бывают чрезвычайно устойчивыми и очень часто (хотя и не всегда!) в самом деле ведут себя как независимые друг от друга единицы. Вот именно это явление и зафиксировал Мендель. Ну а о существовании самих нуклеотидов ни он, ни тем более его предшественники не имели никакого понятия: время для этого еще не пришло.
Зато к середине XX века биохимики со всей определенностью выяснили, что главным носителем наследственной информации служит ДНК (см. главу 8). Молекула ДНК — это, попросту говоря, длинная цепочка нуклеотидов, которые бывают четырех типов: адениновый (А), тиминовый (Т), гуаниновый (Г) или цитозиновый (Ц). Итак, генетический “алфавит” — четырехбуквенный. В общем-то, ничего особенного. В двоичном коде всего две “буквы”, в наиболее ходовой версии латинского алфавита 26, ну а здесь четыре.
Цепочка ДНК вполне подобна тексту, где записана некая информация четырехбуквенным алфавитом. С той особенностью, что эта цепочка — двойная. Надо, впрочем, заметить, что такая особенность не является абсолютно необходимой для хранения генетической информации: она просто полезна, но не больше. Дублирование молекулы ДНК заметно повышает надежность системы (если одна цепь почему-то разрушится — есть вторая), но ничего не прибавляет к самому содержанию записанных нуклеотидным текстом сообщений.
Однако что же это за сообщения? Как раз к тому времени, когда биологи выяснили генетическую роль ДНК, ответ (полученный другими биологами и оказавшийся правильным) был готов. Крупные устойчивые комплексы нуклеотидов — гены — должны каким-то образом нести информацию о структуре белков, тех самых огромных молекул, которые делают в клетке почти все (см. главу 3). Множество генов (геном) некоторым неизвестным нам пока способом определяет собой множество белков (протеом). Вот именно этот вывод и оформился в сознании биологов к середине 1950-х годов.
Тут надо оговориться, что геном — это вообще-то не только набор генов. В геномах обычно есть и другие участки ДНК, ни в какие гены не входящие (но они нас пока не интересуют). Что касается самих генов, то каждый из них включает тысячи нуклеотидов, а очень часто и десятки тысяч. Целые геномы обычно состоят из миллионов нуклеотидов, а иногда и из миллиардов. И в принципе все эти нуклеотиды можно пересчитать, современные биохимические методы вполне позволяют это сделать.
Как же геном кодирует белки?
Начнем с того, что любой белок — это цепочка аминокислот. Причем всегда линейная, то есть неветвящаяся. Именно здесь это становится очень важно. Порядок аминокислот в цепочке называется первичной структурой белка (см. главу 3). Все остальные уровни структуры — вторичная, третичная и четвертичная — относятся уже к сворачиванию аминокислотной цепи в объеме, в трехмерном пространстве.
И вот тут возникает важнейший факт, который вообще-то относится к физической химии, но — внезапно — оказывается ключевым для понимания такой тонкой материи, как наследственность. Факт этот следующий. Первичная структура белка (то есть аминокислотная последовательность), как правило, однозначно определяет все остальные уровни его структуры, то есть всю укладку молекулы в объеме. Именно поэтому простая линейная последовательность нуклеотидов — иначе говоря, нуклеотидный текст — может полностью определить все свойства любой сколь угодно сложной белковой молекулы. Ведь первичная структура такой молекулы тоже линейна, и ее тоже можно считать текстом. Только вот “буквы” в этих текстах разные.
И перед нами немедленно возникает следующий вопрос: каким образом нуклеотидный “алфавит” переводится в аминокислотный?
Генетический код
Пока большинство биологов считало гены белками, все было относительно просто. Белок, как мы знаем, представляет собой линейную цепочку аминокислот, которые могут чередоваться в любом порядке. Двадцать аминокислот — это количество, вполне сравнимое с количеством букв в каком-нибудь древнем алфавите, вроде греческого или финикийского. Такая система кодирования позволяет хранить любую информацию не хуже, чем в обычной книге. Получается, что “белок является как бы длинным предложением, записанным с помощью двадцати букв”[63].
Правда, надо тут же заметить, что до открытия великой двойной спирали практически никто из биологов в таких понятиях не рассуждал. Перейти с привычного “аналогового” языка традиционной биологии на “цифровой” язык новой биологии, изучающей информационные процессы, им и в дальнейшем было непросто. Многим даже очень крупным ученым, профессионально сложившимся до 1953 года, это вообще так никогда и не удалось. Идея цифровой записи наследственной информации вживалась в биологию с удивительным трудом, несмотря на то что со времен работ Менделя к тому времени прошло уже почти 100 лет. Впору предположить, что эта идея противоречила какой-то фундаментальной особенности склада ума большинства людей, выбиравших биологию своей профессией.
Так или иначе после открытия генетической роли ДНК все заметно усложнилось. Стало понятно, что “базой данных”, хранящей последовательности белков, служит не какой-то особый белок, специально приспособленный для записи информации (как это вполне можно было бы вообразить), а совершенно другой полимер, резко отличающийся от белка химически и к тому же содержащий всего-навсего четыре типа мономеров вместо 20. Так возникла проблема перекодировки, или, в более привычных нам терминах, проблема генетического кода.
Тут обязательно нужно пояснение. В сети и публицистике довольно часто встречается мнение, будто генетический код — примерно то же самое, что и генетическая информация. Так вот, это совершенно неправильно. Код — это не сама информация, а словарь, с помощью которого ее можно прочитать. Или более строго: генетический код — это способ перевода друг в друга текстов, записанных с помощью двух разных алфавитов — нуклеотидного и аминокислотного. Своего рода шифровальный ключ. Последнее — даже не метафора: первые теоретики, писавшие о генетическом коде, сразу предложили использовать для его расшифровки математический аппарат криптографии, благо эта наука после Второй мировой войны была развита отлично.
Итак, чего стоит ожидать от генетического кода? У тех ученых, которые сразу после открытия двойной спирали ДНК первыми занялись этим вопросом, получилось примерно следующее:
* аминокислот в составе белков 20, а разновидностей нуклеотидов в ДНК всего четыре. Значит, каждая аминокислота должна кодироваться не одним нуклеотидом, а неким их сочетанием. Примерно так, например, вводятся с помощью клавиш китайские и японские иероглифы;
* отличающихся друг от друга двоек нуклеотидов (дублетов) может существовать максимум 16. Для кодирования всех аминокислот этого не хватит. Значит, генетический код должен быть как минимум триплетным[64];
* отличающихся друг от друга троек нуклеотидов (триплетов) может существовать максимум 64. То есть их намного больше, чем аминокислот. Значит, каждая аминокислота, скорее всего, кодируется не одним триплетом, а несколькими разными. Таким образом, надо ожидать, что генетический код — избыточный (иногда это называют заимствованным из квантовой физики термином “вырожденный”).
Человека, который первым опубликовал эти соображения, звали Георгий Антонович Гамов. Это был крупный физик-теоретик, причастный к созданию теории Большого взрыва. Занятия биологией для него были эпизодом, но очень плодотворным. Гамов вычислил “на кончике пера” основные параметры генетического кода, и вскоре эксперименты показали, что предсказал он их в основном правильно.
Почти одновременно с Гамовым и, похоже, даже немного раньше очень сходные выкладки совершенно независимо подготовил другой ученый — молодой советский эмбриолог Александр Александрович Нейфах. Но его статью не приняли к публикации! “Редакция “Известий Академии наук. Серия биологическая” отклонила статью, сославшись на то, что формальные математические соображения неприменимы к такой самобытной науке, как биология”[65]. Эта история как нельзя лучше показывает, насколько трудно было подавляющему большинству биологов переключиться с “аналогового” мышления на “цифровое”. А Нейфах в результате остался без приоритета, и вся советская наука вместе с ним. После Гамова публиковать статью с теми же расчетами было уже бессмысленно.
“Самым трудным в проблеме кода было понять, что код существует, — писал соавтор Гамова Мартинас Ичас. — На это потребовалось целое столетие. Когда это поняли, то для того, чтобы разобраться в деталях, хватило каких-нибудь десяти лет”.
Полный генетический код выглядит достаточно просто. Это таблица из 64 ячеек, в каждой из которых значится определенная тройка нуклеотидов (вернее, азотистых оснований, входящих в их состав, — ведь все остальные части в нуклеотидах, составляющих ДНК, одинаковы). Эти тройки называются кодонами. Генетический код состоит из 61 кодона, кодирующего аминокислоты, и трех стоп-кодонов, на которых синтез белковой цепи останавливается. Есть всего две аминокислоты, кодирование которых не является избыточным, то есть подчиняется правилу “одна аминокислота — один кодон”. Это метионин и триптофан. Любая другая аминокислота кодируется как минимум двумя разными кодонами. Многие аминокислоты кодируются четырьмя кодонами, а некоторые даже шестью.
Кодоны, кодирующие одну и ту же аминокислоту, называются синонимичными. Например, кодон ТТТ (три тимина подряд) кодирует аминокислоту фенилаланин, и кодон ТТЦ (тимин-тимин-цитозин) — тоже. Довольно часто (но не всегда!) бывает, что синонимичные кодоны отличаются друг от друга только последней “буквой”, как мы это в случае с фенилаланином и видим.
Вместо тимина (Т) в таблице генетического кода можно везде поставить урацил (У) и наоборот (см. рис. 9.1). Эти два азотистых основания в данном контексте взаимозаменяемы. Дело в том, что они очень похожи друг на друга по структуре: урацил, так же как и тимин, может комплементарно спариваться с аденином, и только с ним. Единственная метильная группа, которой тимин отличается от урацила, никак на это его свойство не влияет.
Откуда берутся белки
Разобравшись в самых общих чертах с тем, как генетическая информация записывается, посмотрим теперь, как она читается. Процесс чтения информации всегда подразумевает, что эта информация вызывает в воспринимающей системе некоторое активное ответное действие. В случае генетической информации таким действием, очевидно, будет синтез белка с “продиктованной” геном аминокислотной последовательностью. Итак, откуда же в клетке берутся белки?
Это хорошо известно. Для синтеза белков служит специальная сложная молекулярная машина, называемая рибосомой (см. рис. 9.2). Любая рибосома “собрана” из нескольких молекул РНК и довольно большого набора (несколько десятков) особых белков, дело которых — обеспечивать сборку других белков. РНК, образующая основу рибосом, так и называется рибосомной РНК, сокращенно рРНК. Например, у животных и растений молекул рРНК в каждой рибосоме четыре. Рибосомная РНК обычно составляет около 70% всей РНК клетки, потому что рибосом очень много: молекулы всевозможных белков со временем изнашиваются, и их надо постоянно производить взамен.
Любой белок по определению кодируется собственным геном и синтезируется на рибосоме. Именно этим белки отличаются от других пептидов (см. главу 3). Мимоходом отметим, что пептиды, не являющиеся белками, в живой природе тоже встречаются. В их состав могут входить непротеиногенные аминокислоты — в том числе бета-аминокислоты и D-аминокислоты, которых в белках никогда не бывает. Небелковые пептиды всегда короткие, и для их синтеза нужны ферменты, то есть опять же “нормальные” белки рибосомного происхождения.
Сам процесс синтеза белка на рибосоме называется трансляцией. Отметим два момента, очень важных для того, чтобы понять ее механизм.
Во-первых, аминокислоты, из которых строится белок, поступают в рибосому из окружающего внутриклеточного раствора — там они всегда есть. Но поступают они оттуда вовсе не в свободном виде. Каждая аминокислота предварительно связывается со специальным, предназначенным только для нее переносчиком, и воспринимается рибосомой только в этом состоянии.
Во-вторых, нуклеиновая кислота, с молекулы которой рибосома считывает транслируемую последовательность, — как ни странно, отнюдь не ДНК. Прямо с ДНК трансляция в живой природе не идет никогда. Это редкий в биологии случай, когда можно сделать категоричное утверждение без всяких оговорок.
Ну а с чего же тогда трансляция идет? Молекулярно-биологические исследования довольно быстро выявили два факта, помогающих ответить на этот вопрос.
* Для синтеза белка совершенно необходима РНК, причем — внимание! — не только рибосомная, но и какая-то еще.
* У таких организмов, как животные и растения, ДНК находится в клеточном ядре, в то время как синтез белка всегда идет снаружи от ядра, в цитоплазме. То есть эти процессы четко разделены в пространстве.
При таких вводных было весьма логично предположить следующее. Накануне трансляции где-то в ядре (если оно есть) синтезируется некая молекула-посредник, копирующая нуклеотидную последовательность того участка ДНК, который надо транслировать в белок. (В английском молекула с такой функцией называется словом messenger, однокоренным с широко известным словом message — сообщение, послание.) Затем эта молекула-посредник покидает ядро, перемещается к месту синтеза белка и дает рибосоме “инструкцию”, в каком порядке соединять аминокислоты. В результате получается белок с последовательностью, определенной соответствующим геном. Но сама ДНК при этом остается в покое — с рибосомой она ни в какой момент не контактирует.
Описанная молекула-посредник действительно существует. Она называется информационной РНК, или сокращенно иРНК. Информационная РНК точно повторяет последовательность заданного участка ДНК — разумеется, с заменой дезоксирибозы на рибозу, а тимина на урацил (см. главу 8). Иногда информационную РНК называют матричной (мРНК) — тут заодно получается калька с английского термина messenger RNA, mRNA. Информационная и матричная РНК — синонимы. Но в целом в русском научном языке термин “информационная РНК” встречается чаще, и тут мы будем пользоваться именно им. Итак, информационная РНК — та молекула, с которой непосредственно идет трансляция. Именно с нее считывается информация, необходимая для синтеза белка.
Что делают гены
Перенос информации с ДНК на РНК называется транскрипцией (переписыванием). Это достаточно интересный процесс, механизм которого хорошо изучен. Но, прежде чем о нем рассказывать, давайте сделаем краткое отступление на тему того, как вообще современный человек может узнать что-то о законах природы.
Проблема состоит вот в чем. Когда идет разговор о науке, почти невозможно сообщить кому-то что-то важное, не опираясь, как на ступеньку, на уже существующее знание каких-нибудь элементарных (а иногда и не слишком элементарных) вещей, которые должны быть заранее знакомы всем собеседникам. Как замечал главный программист Института чародейства и волшебства Александр Привалов, “невозможно, например, объяснить термин “гиперполе” человеку, плохо разбирающемуся в теории физического вакуума”. И даже более того, от авторитетных коллег этого ученого мы узнаем, что “курс управления умклайдетом (то есть волшебной палочкой) занимает восемь семестров и требует основательного знания квантовой алхимии”. Стоит ли удивляться, что “самые интересные и изящные научные результаты сплошь и рядом обладают свойством казаться непосвященным заумными и тоскливо-непонятными”? Увы и увы, все это намного ближе к истине, чем широко известное неосторожное высказывание Ричарда Фейнмана: “Если вы ученый и не можете в двух словах объяснить пятилетнему ребенку, чем вы занимаетесь, — вы шарлатан”. Крайне сомнительно, что сам Фейнман (при всей его признанной гениальности) смог бы быстро, внятно и без потерь для смысла объяснить пятилетнему ребенку основы своей любимой квантовой электродинамики. Во всяком случае, в реальности ему понадобились для такого объяснения несколько пространных лекций, причем не перед пятилетними детьми, а перед студентами, которые уж точно лучше, чем дети, были подготовлены к восприятию подобного материала. И то он потом признавался, что долго обдумывал, как бы подойти к теме.
С другой же стороны, любая область науки всегда открывается небольшим числом базовых понятий, которые, как правило, сами по себе очень просты. А уж если они известны, то и по-настоящему сложную вещь становится возможно сообщить в одной короткой фразе. Вот тут-то и обнажается красота чистых идей.
Короче говоря, научное (и в том числе биологическое) знание сугубо иерархично. Это следует принять как факт. И сейчас у нас есть возможность оценить, насколько это на самом деле полезно. Ведь мы теперь уже знаем, что такое водородная связь, фермент, мономер, полимер, нуклеозид, нуклеотид, ДНК, РНК, 3'-конец, 5'-конец, комплементарность и антипараллельность. Про все эти понятия рассказано в предыдущих главах (со 2-й по 8-ю). Вот почему в рассказе про транскрипцию мы обойдемся без введения.
Итак, в начале процесса транскрипции двойная спираль ДНК частично раскручивается, ее цепи разделяются (естественно, с разрывом водородных связей), и фермент под названием ДНК-зависимая РНК-полимераза ползет по одной из цепей от 3'-конца к 5'-концу, синтезируя комплементарную этой цепи РНК. Отметим, что синтезируемая РНК точно так же, как и вторая цепочка ДНК, антипараллельна той цепи, которой она комплементарна. Это означает, что 5'-конец и 3'-конец у нее направлены в другую сторону (см. рис. 9.3).
Цепь ДНК, с которой идет транскрипция, называют кодирующей, противоположную — некодирующей. Тут возникает вопрос: откуда РНК-полимераза “знает”, какая из цепей — кодирующая? Ответ: РНК-полимераза распознает кодирующую цепь по наличию в ней особой сигнальной нуклеотидной последовательности — промотора. В некодирующей цепи промотора нет, а есть комплементарная ему последовательность, которая распознана РНК-полимеразой не будет.
Пока мы еще не запутались, обратим внимание, что получающаяся в итоге иРНК будет повторять нуклеотидную последовательность именно некодирующей цепи (в том значении этого термина, которое мы сейчас приняли). Только, конечно, с повсеместной заменой тимина на урацил, как и при любом переносе информации с ДНК на РНК.
Ну, а мономерами, из которых строится новая молекула нуклеиновой кислоты, в клетке всегда служат нуклеозидтрифосфаты, то есть нуклеотиды с дополнительными фосфатными группами. В данном случае это АТФ, ГТФ, ЦТФ и УТФ. “Лишние” фосфатные группы от них в процессе транскрипции отсекаются, а то, что остается, монтируется в сахарофосфатный остов новой РНК.
Вот, собственно, и все. Теперь мы знаем, что делают гены. Если отбросить всевозможные оговорки, ответ будет простым: они транскрибируются. Смысл существования любого гена состоит в том, чтобы рано или поздно синтезировалась РНК, повторяющая его нуклеотидную последовательность. Иначе говоря, чтобы произошла транскрипция. А механизм транскрипции — вот он, перед нами.
Центральная догма
Теперь мы можем объединить наши знания о транскрипции и трансляции в простую общую схему. Вот она:
ДНК
⇩ транскрипция
РНК
⇩ трансляция
белок
Именно так устроен поток генетической информации, который почти непрерывно бурлит в любой живой клетке. Он направлен от ДНК к белкам и проходит через РНК, служащую в передаче информации совершенно необходимым посредником.
Ключом к передаче информации тут, конечно, служит генетический код. Заглянув в таблицу генетического кода, мы можем, например, убедиться, что РНКовая последовательность АУГААГУУУУАГ кодирует аминокислоты метионин (АУГ), лизин (ААГ) и фенилаланин (УУУ). Четвертый присутствующий здесь кодон — УАГ — является стоп-кодоном. Это как бы “знак препинания”, на котором транскрипция прерывается[66]. Если же подняться по пути потока информации выше, к ДНК, мы увидим, что обсуждаемому фрагменту соответствует последовательность АТГААГТТТТАГ в некодирующей цепи ДНК и ТАЦТТЦААААТЦГ — в кодирующей. Почему именно так, сразу станет понятно, если взглянуть на уже знакомый нам механизм транскрипции и вспомнить правила комплементарности: А в двойной цепи ДНК всегда спаривается с Т, а Г с Ц.
Переведем дух и поздравим себя. Отныне мы знакомы с великой формулой “ДНК → РНК → белок”, которая с легкой руки Фрэнсиса Крика получила название центральной догмы молекулярной биологии. Эта формула (как и большинство подобных кратких формул) на самом деле требует множества оговорок, но самое главное о потоке генетической информации мы теперь знаем. Информация передается с ДНК на белок через посредство РНК (см. рис. 9.4).
Заодно мы сейчас видим, почему таблицу генетического кода лучше сразу давать в РНКовом варианте, то есть с заменой Т на У. Во-первых, в реальной живой природе трансляция всегда идет именно с РНК. А во-вторых, в ДНК нам пришлось бы постоянно разбираться в том, какая цепь кодирующая, а какая некодирующая (причем аминокислотной последовательности белка будет парадоксальным образом соответствовать последовательность некодирующей цепи, которая не транскрибируется). С точки зрения существа дела это ничего не меняет, а вот запутать может здорово. Переходя сразу к РНК, мы этих сложностей избегаем.
Центральная догма (дополнение)
Не нами замечено, что читателей научно-популярных книг по биологии, а также слушателей научно-популярных лекций и тому подобную публику можно приближенно разделить на две группы: тех, для кого заклинание “ДНК-РНК-белок” имеет какой-то смысл, и тех, для кого оно пока ничего не значит. Первая категория — это, что называется, “продвинутые пользователи”, у вторых, вероятно, все еще впереди. Мы с вами теперь знаем, что такое “центральная догма”, а значит, относимся к первой категории. Как видим, тут нет ничего особенно сложного. Но давайте посмотрим на нее, на “догму”, повнимательнее.
Само слово “догма” в этом контексте является просто провокационной шуткой Фрэнсиса Крика (термин “центральная догма” предложил именно он). Ясно, что на самом деле в естественных науках никаких догм не бывает. И история “центральной догмы молекулярной биологии” отлично подтверждает это.
Сначала “центральная догма” выглядела просто: информация в клетке движется строго однонаправленно, по пути ДНК — РНК — белок. Однако на большинстве современных схем мы увидим не только стрелочку, направленную от ДНК к РНК (это транскрипция), но еще и другую стрелочку, направленную, наоборот, от РНК к ДНК. Примерно вот так:
ДНК ⇔ РНК ⇒ белок
Эта новая стрелочка обозначает обратную транскрипцию, то есть синтез ДНК, воспроизводящей последовательность заданной РНК. Обратная транскрипция — очень серьезное отступление от первоначально сформулированной “центральной догмы”, настолько серьезное, что поначалу в него просто-напросто не поверили. Сейчас известно, что это вполне реальный процесс (на нем специализируются некоторые вирусы). Однако важнее всего тут сам факт: встречный поток генетической информации все-таки существует. Фермент, синтезирующий ДНК по последовательности данной РНК, называется, естественно, РНК-зависимой ДНК-полимеразой.
Обратная транскрипция упоминается в знаменитой повести Стругацких “За миллиард лет до конца света”. Один из героев этой повести, биолог Валентин Вайнгартен, говорит друзьям: “Вы этого, отцы, понять не можете, это связано с обратной транскриптазой, она же РНК-зависимая ДНК-полимераза, она же просто ревертаза, это такой фермент в составе онкорнавирусов, и это, я вам прямо скажу, отцы, пахнет нобелевкой…” Между прочим, Стругацкие здесь поразительно точны. Действие повести “За миллиард лет до конца света” происходит в 1972 году, именно в тот исторический момент, когда открытие обратной транскрипции было актуальной научной новостью.
Кодаза и код
А теперь вернемся к процессу трансляции. В нем остались интересные детали, которые нам стоит обсудить.
Откуда рибосома “знает”, какую именно аминокислоту она должна в данный момент присоединить к растущей белковой цепочке? Оказывается, в этом ей помогает еще одна разновидность РНК. Это — транспортная РНК (тРНК), занимающаяся только переносом аминокислот.
Транспортная РНК — одноцепочечная, но она причудливым образом фигурно сложена (см. рис. 9.5А). И, кроме того, на разных ее отрезках есть комплементарные друг другу участки, способные, сближаясь друг с другом, образовывать двойные спирали. Типичная конформация тРНК, перехваченная этими двойными спиралями в трех местах, имеет характерный вид трилистника и называется “клеверным листом”. (Между прочим, именно стилизованный “клеверный лист” тРНК является официальной эмблемой биологического факультета МГУ.) Для каждой аминокислоты есть своя тРНК, и чаще всего не одна.
Мимоходом отметим, что у транспортных РНК есть еще одна интересная особенность: в их состав входит много разных химически модифицированных нуклеотидов, которые называют минорными. Например, буквой ψ (“пси”) принято обозначать минорный нуклеотид псевдоуридин, в состав которого входит вместо урацила один его довольно экзотичный изомер. Транспортная РНК кодируется собственными генами, синтезируется путем транскрипции (точно так же, как информационная РНК), а потом некоторые нуклеотиды в ней модифицируются. Тем не менее по общей формуле это обычная нуклеиновая кислота.
Транспортная РНК — относительно небольшая молекула, ее длина обычно всего 70–90 нуклеотидов. Вблизи ее 3'-конца находится универсальная для всех тРНК концевая последовательность ЦЦА. (Тут стоит обратить внимание на то, что нуклеотидные последовательности по умолчанию принято читать от 5'-конца к 3'-концу, подобно тому, как обычный буквенный текст читают слева направо.) Именно к 3'-концу тРНК всегда присоединяется аминокислота.
Само присоединение аминокислоты выглядит так (см. рис. 9.5Б). Фермент аминоацил-тРНК-синтетаза (он же просто кодаза) сшивает с выделением воды 3'-гидроксил концевого аденозина тРНК и карбоксильную группу аминокислоты. Последняя тем самым временно превращается в ковалентно связанный с рибозой остаток R–CH(NH2)–CO–, который называется аминоацилом. Также в этой реакции участвует АТФ, который расщепляется в ходе нее до АМФ. Но главный продукт реакции — это аминоацил-тРНК, то есть молекула транспортной РНК с висящей на “черешке клеверного листа” ковалентно пришитой аминокислотой, временно превратившейся в аминоацил.
На вершине самой дальней от “черешка” петли тРНК всегда находится антикодон — нуклеотидный триплет, комплементарный кодону той самой аминокислоты, которую данная тРНК переносит. Например, если аминокислота фенилаланин кодируется кодоном УУУ, то соответствующая транспортная РНК несет антикодон ААА (поскольку, как мы знаем, урацил комплементарен аденину). Чтобы соединение произошло правильно, активный центр кодазы должен одновременно распознать и молекулу тРНК, и аминокислоту — не какую угодно, а ту, которая кодируется триплетом, комплементарным антикодону этой тРНК. Это сложная задача, но кодаза с ней обычно справляется.
Дальше вступает в действие простой механизм (см. рис. 9.6). Во время трансляции любая проплывающая мимо аминоацил-тРНК может чисто случайно столкнуться с тем кодоном иРНК, который в данный момент находится в активном центре рибосомы. Но свяжется она с ним только в том случае, если ее антикодон будет этому кодону комплементарен. Тогда рибосома отрежет аминокислоту от тРНК, присоединит ее к растущей белковой цепочке, а сама продвинется по иРНК на один шаг вперед (в сторону 3'-конца). После чего цикл повторится.
Антикодон тРНК, связанной с рибомосой, всегда комплементарен кодону, находящемуся в данный момент в активном центре этой рибосомы. Иначе трансляция не пойдет. Добавим, что белок при трансляции всегда синтезируется от N-конца к C-концу, то есть от свободной аминогруппы к свободному карбоксилу, но не наоборот (см. главу 3). Именно поэтому аминокислотные последовательности белков в таком же порядке и записываются в базах данных.
Источниками энергии для трансляции (и для транскрипции тоже) служат нуклеозидтрифосфаты. Причем в данном случае это не столько уже знакомый нам АТФ, сколько гораздо менее распространенный ГТФ. Почему так? Ведь АТФ в клетке больше, а с точки зрения энергии выбор между АТФ и ГТФ не дает ни заметного проигрыша, ни заметного выигрыша, энергетическая “цена” реакций распада этих веществ примерно одна и та же.
Поставим вопрос иначе: почему вообще самой универсальной “энергетической валютой” стал АТФ, а не ГТФ, ЦТФ или УТФ? Простейшую подсказку можно получить, если взглянуть на формулы четырех азотистых оснований. Аденин — единственное из них, в котором нет ни одного атома кислорода. В молекулах гуанина, цитозина и урацила кислород есть. На древней Земле, где свободного кислорода в атмосфере было очень мало, аденин наверняка легче всего синтезировался, и, соответственно, адениновые нуклеотиды тоже. Клетки использовали тот химический субстрат, который был самым доступным. Возможно, как раз поэтому именно молекула АТФ стала универсальным переносчиком энергии[67].
Но универсальность АТФ имеет и свои минусы. Дело в том, что из-за особой важности этого вещества его концентрация (а точнее, соотношение концентраций [АТФ]/[АМФ]) очень жестко контролируется внутриклеточными регуляторными системами. В многоклеточном организме слишком резкое отклонение этого параметра от нормы может вызвать даже “самоубийство” целой клетки, так называемый апоптоз. На ГТФ этот контроль не распространяется, поэтому менять его концентрацию можно гораздо свободнее. Возможно, смысл “подключения” транскрипции и трансляции к ГТФ состоит как раз в том, чтобы сделать эти жизненно важные процессы автономными, снизив их зависимость от всего остального происходящего в клетке.
Открытие механизма трансляции тут же дало ученым превосходный ключ к расшифровке генетического кода. Например, что будет, если синтезировать искусственную иРНК, в которую из всех азотистых оснований входит только урацил, и поместить ее в обычный водный раствор, предварительно добавив туда рибосомы, полный набор аминоацил-тРНК и источники энергии? Оказалось, что в этом случае прямо в пробирке, без всякого участия живых клеток, может синтезироваться белок, состоящий из одной-единственной аминокислоты, а именно из фенилаланина. Этот эксперимент был реально поставлен в 1960 году, и в результате его был расшифрован первый кодон — УУУ. Это кодон фенилаланина[68]. Расшифровка всех остальных кодонов после этого была уже только делом биохимических опытов, пусть и непростых технически, но абсолютно прозрачных по смыслу. Завершить ее удалось всего за каких-то пять лет. К 1965 году генетический код был полностью взломан (cracked). Именно так это тогда называли в статьях, а еще чаще в разговорах, вполне в духе основоположника научного мировоззрения сэра Фрэнсиса Бэкона, некогда заявившего на весь мир, что знание — сила.
Экспрессия
Весь процесс переноса генетической информации от ДНК через РНК к белкам называется экспрессией генов. Тут мы в который раз, и теперь уже вплотную, сталкиваемся с понятием “ген”. И пора, пожалуй, немного его обсудить, прежде чем идти дальше.
Итак, что же такое ген? Слово это слышал каждый. Но вот дать строгое определение гена на самом деле не так уж и легко. Довольно часто встречается мнение, что ген — это участок ДНК, кодирующий структуру одного белка (концепция “один ген — один белок”). Для большинства генов это верно. Но не для всех. Например, белок, у которого есть четвертичная структура, кодируется несколькими генами. В самом деле, такой белок по определению состоит из нескольких аминокислотных цепочек, которые могут синтезироваться отдельно, а объединяться только после трансляции.
Еще большую проблему для “белкового” определения гена составляют РНК. Все клеточные РНК транскрибируются с генов, но довольно многие из них потом не транслируются ни в какие белки. Например, это относится ко всем рибосомным и транспортным РНК. Между тем те участки ДНК, на которых закодированы последовательности рРНК и тРНК, — это тоже гены, нет никаких оснований не считать их таковыми.
Обойти эти трудности можно, если решить, что ген — это единица транскрипции, то есть участок ДНК, кодирующий одну любую РНК (информационную, транспортную или рибосомную). Правда, к этому определению при желании тоже можно придраться: например, в некоторых геномах встречаются гены, которые транскрибируются обычно вместе, хотя кодируют разные белки. Словом, ген — это типичный пример общего понятия, которое в разных случаях может применяться немного по-разному.
Условимся, что если к слову “ген” не сделано никаких оговорок, то речь идет, скорее всего, о гене, который кодирует один белок, состоящий из одной аминокислотной цепочки, то есть из одного полипептида (см. главу 3). О рядовом гене, так сказать. В этом случае определение “один ген — один белок” будет верным.
Число генов у каждого отдельного живого существа обычно измеряется тысячами или первыми десятками тысяч. Например, у многоклеточных животных генов чаще всего 15 000–20 000. У бактерий — всего несколько тысяч или, в редких случаях, даже несколько сотен (правда, обладатели таких маленьких геномов могут жить только внутри чужих клеток, от которых и получают большую часть нужных веществ — своих ферментов им для этого, как правило, не хватает). А у некоторых цветковых растений число генов переваливает за 40 000, и вот это, видимо, уже близко к естественному пределу. Во всяком случае, сотен тысяч и миллионов генов ни у какого земного живого организма нет.
Всевозможные процессы “включения” и “выключения” генов, ослабления и усиления их активности и тому подобного в сумме называются регуляцией экспрессии. Надо сказать, что способы регуляции экспрессии невероятно многообразны. Прежде всего, экспрессию гена можно регулировать как на уровне транскрипции (запуск или прекращение синтеза РНК), так и на уровне трансляции (ускорение или задержка синтеза белка на готовой иРНК). Регуляция на уровне транскрипции — более базовая, на уровне трансляции — более тонкая, и ее мы пока не будем касаться.
Но и транскрипцию можно регулировать по-разному. Давайте рассмотрим рядовой ген, то есть отрезок ДНК, несущий полную информацию о некотором белке (см. рис. 9.7А). Он состоит из кодирующей части, где записана последовательность аминокислот, и нескольких некодирующих участков, нужных только для регуляции работы самого гена. Главный из этих некодирующих участков называется промотором. Промотор — это та самая последовательность, которую обязательно должна распознать РНК-полимераза, чтобы транскрипция гена вообще произошла. А вот перед промотором находятся дополнительные регуляторные участки, которые нужны для связывания белков, влияющих на активность гена. Главный из таких белков: конечно, РНК-полимераза, которая, собственно говоря, транскрипцию и осуществляет. И ей в этом помогают еще несколько белков — так называемые общие факторы транскрипции, необходимые для самого процесса синтеза РНК. Но, кроме того, есть еще и регуляторные факторы транскрипции, которые в синтезе РНК непосредственно не участвуют. Их работа — связываться с ДНК, или облегчая, или затрудняя посадку РНК-полимеразы на соответствующий ген (см. рис. 9.7Б). ДНК-связывающий белок, усиливающий таким образом транскрипцию, называется активатором, а ДНК-связывающий белок, блокирующий транскрипцию, — репрессором. Белок-репрессор просто не дает РНК-полимеразе сесть в нужную точку ДНК, а белок-активатор, наоборот, меняет конформацию ДНК так, чтобы РНК-полимеразе было удобнее с ней связаться. Несколько упрощая, можно сказать, что белок-активатор включает ген, а белок-репрессор выключает его.
Самое тут интересное, что регуляторные белки (и активаторы, и репрессоры, и любые другие), разумеется, тоже являются продуктами каких-то генов. И эти гены тоже должны быть кем-то или запущены, или заторможены. Гены, кодирующие регуляторные белки, очень легко взаимодействуют через свои продукты, включая и выключая друг друга и образуя в результате целые цепочки и сети. Неудивительно, что генные сети (gene regulatory networks, сокращенно GRN) стали популярнейшим объектом изучения современной биологии.
Еще один способ регуляции экспрессии — прямая химическая модификация ДНК. Самый частый вид такой модификации — метилирование цитозина (см. рис. 9.7В). В этом случае на определенном отрезке ДНК каждый цитозин получает дополнительную метильную группу и превращается в 5-метилцитозин. Такие участки ДНК транскрибируются слабее, “замолкают”. Метилирование ДНК обратимо и может быть снято соответствующими ферментами, если выключенные этим способом гены потребуется опять включить.
Репликация
Теперь нам осталось поговорить еще про репликацию, то есть копирование ДНК. Как-никак самовоспроизводство — одно из самых главных свойств живых организмов, а без репликации оно совершенно невозможно.
Репликация ДНК — полуконсервативная (см. рис. 9.8А). Двойная спираль расшивается с разрывом водородных связей, после чего к каждой нити ДНК достраивается комплементарная нить из находящихся в растворе нуклеозидтрифосфатов (превращающихся попутно в нуклеозидмонофосфаты). И в результате получается две двойные спирали, в каждой из которых одна цепь “старая”, а другая — “новая”.
Фермент, который синтезирует из мономеров новую цепь ДНК, комплементарную к имеющейся, называется ДНК-полимеразой. На самом деле в любой клетке есть несколько ДНК-полимераз, отличающихся по функциям. Заодно тут сразу возникает несколько проблем, которые с одним классом ферментов в любом случае не решить (см. рис. 9.8Б).
Во-первых, чтобы репликация стала возможна, комплементарные цепи ДНК надо как-то разделить. Для этого фермент хеликаза разрывает водородные связи между азотистыми основаниями, а фермент топоизомераза раскручивает двойную спираль ДНК, разрывая для этого ковалентные связи между нуклеотидами и тут же сшивая их заново. Последнее неизбежно, потому что двойную спираль невозможно раскрутить, не разрывая, если нам недоступны ее концы. Для простоты можно представить себе вместо нее обыкновенный узел, концы шнурков от которого уходят куда-то в бесконечность, а нам тем не менее надо разделить шнурки, чтобы они шли параллельно и не перепутывались. Не будет другого выхода, кроме как разрезать их и потом сшить. Вот это топоизомераза и делает.
Во-вторых, ДНК-полимераза не может начать создавать новую цепь с нуля. Ей нужна затравка в виде короткой комплементарной РНК, которую синтезирует фермент праймаза. Новая ДНК может синтезироваться в виде целой серии фрагментов, ковалентно связанных с РНК-затравками (фрагменты Оказаки). Потом особые ферменты вырезают РНК, помещают на ее место комплементарные исходной цепи дезоксирибонуклеотиды, и ДНК-лигаза сшивает все это в единую цепь ДНК.
В-третьих, цепи ДНК антипараллельны. А любая ДНК-полимераза может двигаться по исходной цепи от 3'-конца к 5'-концу, но никак не наоборот. Это означает, что новая цепь ДНК синтезируется начиная с 5'-конца, так же как и РНК при транскрипции. ДНК-полимеразы, способной ползти по цепи в обратную сторону, в природе не существует. Поэтому две цепи ДНК вынужденно реплицируются по-разному. Цепь, по которой ДНК-полимераза может непрерывно ползти от 3'-конца к 5'-концу, называется лидирующей. Тут механизм репликации упрощен: ДНК-полимераза начинает с единственной РНКовой затравки и дальше может сколько угодно наращивать новую цепь вдоль исходной по мере того, как та раскрывается. Цепь, вдоль которой ДНК-полимераза непрерывно ползти не может, называется отстающей. ДНК-полимераза проходит ее отрезок за отрезком, как бы перемещаясь скачками и каждый раз начиная с новой затравки. Тут как раз и образуются фрагменты Оказаки, а потом лигаза сшивает их вместе.
Мы видим, что кроме ДНК-полимераз в репликации участвуют белки, раскручивающие ДНК и удерживающие ее в раскрученном состоянии, создающие затравку для новой цепи, и другие — в общей сложности несколько десятков белков. Очевидно, что в таком сложном, многоступенчатом, затратном процессе не может не быть ошибок. Собственно говоря, ошибки и так неизбежны в любом процессе копирования информации — просто из-за случайного характера движения молекул. Но чем больше этапов и состыковок, тем больше возможностей сделать что-то неточно. И действительно, процесс репликации ДНК всегда включает некоторую вполне заметную долю ошибок, которая отличается у разных живых организмов, но никогда не равняется нулю. Часть этих ошибок тут же исправляется (репарация), а часть сохраняется и передается следующим поколениям (конвариантная редупликация). Наличие конвариантной редупликации — это важнейшее свойство всех живых систем, отличающее их от всех неживых.
Тут не помешает историческая справка. Термин “конвариантная редупликация” придумал выдающийся генетик Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, и означает он самокопирование информационных молекул с сохранением случайно возникающих изменений. А еще это означает, что сейчас мы наконец добрались до самого смыслового ядра современной биологии. The very heart, как говорят англичане. Ведь биология — это, по сути, и есть наука о поведении конвариантно редуплицирующихся структур и их всевозможных надстроек. Именно благодаря конвариантной редупликации происходит биологическая эволюция. Более того, для любой конвариантно редуплицирующейся структуры эволюция физически неизбежна просто потому, что точность копирования информации никогда не бывает абсолютной и изменения накапливаются из поколения в поколение.
В современных научных и научно-популярных книгах молекулы, способные к самокопированию, принято называть репликаторами. Любой ген — это типичный репликатор. Он потому и существует, что способен создавать собственные копии, а вернее — побуждать организмы к созданию таких копий. От этих соображений остается один шаг до современной эволюционной теории.
10. эукариотная клетка
На общедоступном языке мы можем назвать ядро администратором клетки. Два главных свойства роднят его с более знакомыми нам администраторами: оно стремится плодить себе подобных и чрезвычайно успешно отражает все наши попытки узнать, чем же именно оно занимается. Только попытавшись обойтись без него, мы можем наконец убедиться, что оно действительно работает.
Дэниел Мазия (цитируется по сборнику “Физики продолжают шутить”)А сейчас обсудим одну особую группу живых организмов, которая называется эукариотами. Раньше мы уже встречались с этим названием (см. главы 5 и 8). К эукариотам относятся животные, растения, грибы и многие (но не все) одноклеточные существа — такие, как описанные в традиционных школьных учебниках зоологии амебы, эвглены и инфузории. Две другие главные группы клеточных организмов, кроме эукариот, — это бактерии и археи. Причем молекулярные данные показывают, что эукариоты произошли, скорее всего, от архей, а не от бактерий. Архей и бактерий вместе часто называют прокариотами, но надо иметь в виду, что это не название эволюционной ветви, а сборное понятие, образованное методом исключения: вот, мол, есть эукариоты, а есть все прочие.
Самые древние предполагаемые эукариоты, остатки которых удалось найти палеонтологам, имеют возраст 2,2 миллиарда лет[69]. При этом общепризнанный возраст планеты Земля равен 4,6 миллиарда лет, а возраст самых древних предполагаемых следов жизни составляет, по-видимому, 4,1 миллиарда лет (см. главу 16). Первые живые клетки на Земле, несомненно, были прокариотными. И, судя по датам, они оставались такими в течение двух миллиардов лет. Иначе говоря, получается, что на протяжении половины времени своего существования земная жизнь обходилась безо всяких эукариот. В эту эпоху она была чисто прокариотной, то есть бактериальной и архейной.
Если кратко просуммировать основные отличия эукариотной клетки от прокариотной, у нас получится примерно следующий список (см. рис. 10.1):
* большой размер клеток: средний одноклеточный эукариот крупнее среднего одноклеточного прокариота примерно в 10 раз по длине и примерно в 1000 раз по объему;
* ДНК эукариот всегда заключена в клеточное ядро, окруженное оболочкой из двух мембран;
* ДНК эукариот линейна, в отличие от кольцевой ДНК бактерий и архей;
* эукариотная клетка пронизана сложной системой внутренних мембранных полостей и пузырьков (эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, вакуоли);
* у эукариот есть система внутриклеточных опорно-двигательных образований, называемая цитоскелетом;
* у эукариот широко распространены дополнительные внутриклеточные структуры, окруженные собственными мембранами, — митохондрии (обеспечивают дыхание) и хлоропласты (обеспечивают фотосинтез).
Чтобы познакомиться с эукариотами, мы должны поговорить про эти отличия чуть подробнее.
ЭПС и ядро
Начнем с самого общего. В любой эукариотной клетке впридачу к наружной мембране есть внутренняя система взаимосвязанных мембранных полостей и каналов, которая называется эндоплазматической сетью (ЭПС). Основные функции ЭПС, если описать их буквально парой слов, — синтез и транспорт белков, липидов и некоторых других веществ. Принято различать шероховатую и гладкую ЭПС. На шероховатой ЭПС снаружи сидят рибосомы, а на гладкой — нет. Поскольку единственной функцией рибосом является синтез белка, то и связанная с ними шероховатая ЭПС занимается в первую очередь тем, что накапливает и транспортирует белки. У гладкой ЭПС функции другие, более разнообразные.
Благодаря ЭПС и другим мембранным структурам эукариотная клетка, как принято говорить, очень сильно компартментализована. Это означает, что она разделена на ограниченные мембранами отсеки (компартменты), переход веществ между которыми, как правило, возможен только с помощью специальных транспортных белков. Надо сказать, что это куда более фундаментальная особенность, чем может показаться на первый взгляд. Прокариотную клетку, ни на какие отсеки не разделенную, можно в грубом приближении рассматривать как единый мешок с раствором (пусть и вязким). А вот для эукариотной клетки такое приближение не работает в принципе. Внутри прокариотной клетки ДНК, белки и другие молекулы перемещаются из конца в конец путем простой физической диффузии, как в любом сосуде с обычным водным раствором. В эукариотной клетке такое совершенно невозможно: там практически все молекулы вынуждены добираться от места синтеза до “места работы” с помощью сложных транспортных систем, обеспечивающих направленные переходы из отсека в отсек, часто еще и с затратой энергии. Все это означает, что у эукариотной клетки гораздо выше внутренняя упорядоченность, или, говоря научным языком, ниже энтропия. Справедливо замечено, что с точки зрения физики более фундаментальное отличие трудно придумать[70].
Специализированное разрастание ЭПС, заключающее в себе почти всю ДНК клетки, называется клеточным ядром (см. рис. 10.2). Пространство между двумя мембранами ядра непосредственно продолжается во внутреннюю полость ЭПС. Во избежание путаницы надо сразу пояснить, что ДНК находится не в этой полости, а снаружи от нее, между цистернами ЭПС, сомкнутыми в шар. Этот шар и есть ядро (хотя бывают и ядра куда более сложной формы). Часть содержимого клетки, находящуюся за пределами ядра, принято называть цитоплазмой.
Транспорт из ядра в цитоплазму и обратно происходит через ядерные поры — отверстия, пронизывающие обе ядерные мембраны и окруженные довольно сложными белковыми комплексами, которые избирательно пропускают разные молекулы в ту или другую сторону. Белки, которые образуют ядерные поры, называются нуклеопоринами.
Основное содержимое ядра — ДНК, связанная со специальными белками. Важнейшие, хотя и далеко не единственные, из этих белков — гистоны, на которые ядерная ДНК эукариот буквально наматывается. В гистонах всегда много лизина и аргинина — положительно заряженных аминокислот, заряды которых облегчают взаимодействие с ДНК (ведь ее молекула заряжена, как мы знаем, отрицательно). Кроме того, гистоны часто подвергаются дополнительным химическим модификациям, которые бывают важны для регуляции экспрессии генов.
Совершенно особая часть ядра — ядрышко, в котором экспрессируются рибосомные гены и формируются составные части рибосом. В целые рибосомы они собираются уже в цитоплазме, потому что целая рибосома не пройдет сквозь ядерную пору. По-латыни ядро называется nucleus, а ядрышко — nucleolus.
Клеточное ядро — важнейший признак эукариот. Собственно говоря, “эукариоты” буквально и значит “обладающие настоящим ядром”. У всех современных эукариот ядро полностью сформировано, так что никаких переходных состояний между эукариотами и прокариотами мы не видим. Происхождение клеточного ядра — на сегодняшний день одна из самых больших загадок во всей эволюционной биологии.
Вакуоли и цитоскелет
Любая находящаяся внутри клетки замкнутая полость с жидкостью, ограниченная мембраной, называется вакуолью. Строго говоря, вся эндоплазматическая сеть — это не что иное, как сложная система ветвящихся, сливающихся, переходящих друг в друга вакуолей. Но в любой эукариотной клетке есть еще и множество самостоятельных мелких вакуолей, функции которых очень разнообразны. Они могут служить для переваривания захваченных клеткой пищевых объектов (пищеварительная вакуоль), для собирания и удаления лишней воды (сократительная вакуоль) или просто для транспорта разных веществ.
Кроме того, в эукариотной клетке обычно есть специализированная транспортная система, которая называется аппаратом Гольджи (по имени итальянского биолога Камилло Гольджи). Это стопка крупных плоских вакуолей, от краев которых могут отшнуровываться подвижные маленькие вакуоли. Разные молекулы “упаковываются” в эти маленькие вакуоли и отправляются в них по назначению.
Как правило, аппарат Гольджи развит тем лучше, чем больше веществ клетка должна транспортировать внутри себя и (или) выделять наружу. Например, очень мощный аппарат Гольджи имеют нервные клетки, что и понятно: они должны постоянно и в довольно большом количестве выделять сигнальные вещества — нейротрансмиттеры.
Сложные формы клеток эукариот, а заодно и все виды их внутриклеточной подвижности возможны только благодаря системе внутриклеточных опорных структур, которая называется цитоскелетом. Ни у бактерий, ни у архей цитоскелета нет (по крайней мере, полноценно развитого, насколько мы сейчас знаем).
Цитоскелет эукариот делится на микротрубочки (состоящие из белка тубулина), микрофиламенты (состоящие из белка актина) и промежуточные филаменты (они имеют разнообразный состав). Очень важным свойством цитоскелета является динамическая нестабильность. Это означает, что ни микротрубочки, ни микрофиламенты, ни промежуточные филаменты не образуются раз и навсегда — они могут постоянно собираться и разбираться. Эти процессы требуют затрат энергии, но именно благодаря им эукариотные клетки бывают крупными, сложными по форме, а очень часто и подвижными.
Взглянув на элементы цитоскелета по отдельности, мы обнаружим, что они достаточно сильно отличаются друг от друга. Микротрубочки — это полые цилиндры, собранные из множества молекул белка тубулина (см. рис. 10.3А). Надо заметить, что молекулы тубулина бывают нескольких разных типов, например альфа- и бета-тубулин. Они кодируются отдельными генами и входят в микротрубочки в строго определенных соотношениях. Сборка и разборка микротрубочек питается энергией за счет расщепления ГТФ.
Именно микротрубочки, как правило, придают эукариотным клеткам постоянную форму. Но это далеко не единственная их задача. Микротрубочки служат еще и своего рода “рельсами”, по которым ездят по клетке мелкие транспортные вакуоли. Разумеется, это всегда происходит при участии дополнительных двигательных белков, которые расщепляют АТФ и движутся вдоль микротрубочек за счет высвобожденной энергии. Еще более важно участие микротрубочек в клеточном делении.
И наконец, микротрубочки образуют основу специализированных двигательных структур — жгутиков и ресничек (см. рис. 10.3Б). Эти структуры есть у одноклеточных эукариот, ставших широко известными благодаря попаданию в школьный учебник зоологии, — эвглены (жгутики) и инфузории-туфельки (реснички). Внутри каждого жгутика и каждой реснички проходит пучок микротрубочек, организованный строго определенным образом. Обычно это две самостоятельные микротрубочки в центре и девять сдвоенных микротрубочек по краю, так называемая схема 9+2 (см. рис. 10.3В). С помощью специальных моторных белков эта система микротрубочек совершает ритмичные движения, изгибая жгутик и помогая в итоге двигаться всей клетке.
Микрофиламенты состоят не из тубулина, а из актина, и имеют форму не трубочек, а гораздо более тонких нитей (см. рис. 10.3Г). Они меньше подходят для поддержания постоянной формы клетки, но зато (в отличие от микротрубочек) могут сокращаться. Делают они это с помощью белка миозина, расщепляющего АТФ. Если микротрубочки — это в полном смысле слова внутриклеточный скелет (цитоскелет), то микрофиламенты скорее своего рода внутриклеточная мускулатура (“цитомускулатура”). Правда, надо всегда иметь в виду, что в отличие от скелета и мышц многоклеточного животного тубулиновый цитоскелет и актиновая “цитомускулатура” вовсе не являются образованиями, данными клетке раз и навсегда. Они могут легко собираться и разбираться. Образно говоря, трудно представить животное с настолько пластичным скелетом, чтобы его перестройки на протяжении жизни превращали это животное, например, из крысы в морскую звезду или из змеи в осьминога. А вот цитоскелет такие возможности клетке дает.
Большинство типов клеточной подвижности, свойственных эукариотам, связаны не с микротрубочками, а с микрофиламентами. Утверждение, что микрофиламенты способны сокращаться, строго говоря, неточно. На самом деле длина каждого отдельного микрофиламента при сокращении не меняется. Вместо этого микрофиламенты скользят относительно друг друга по молекулам моторного белка миозина таким образом, что в результате вся клетка или ее часть меняет форму — например, становится короче. Мышечное сокращение устроено именно так. Любая мышечная клетка буквально набита микрофиламентами, которые движутся согласованно. Но, кроме того, микрофиламенты ответственны и за многие другие виды движения клеток. Например, взаимные перемещения микрофиламентов могут вызывать амебоидное движение, при котором клетка постоянно меняет форму, выпуская и втягивая временно существующие выросты — ложноножки (см. рис. 10.3Д). Так ползает амеба и многие похожие на нее одноклеточные существа. А заодно тем же способом ползают внутри организма некоторые клетки тел животных, в том числе и человеческого тела.
Фагоцитоз
Актин, связанный с миозином, кратко называют актино-миозиновым комплексом. Это основа большинства типов движения, на которые способны эукариотные клетки. Самый внешне впечатляющий из них, конечно, мышечное сокращение. Но оно есть только у многоклеточных животных (и то не у всех). Это далеко не самый древний и не самый распространенный способ движения из тех, что имеют подобную природу.
Например, только благодаря актино-миозиновому комплексу возможен такой вид активности, как фагоцитоз — захват клеткой посторонней частицы с ее изоляцией внутри пищеварительной вакуоли и последующим перевариванием (см. рис. 10.4). Открывший фагоцитоз в XIX веке Илья Ильич Мечников сразу понял, что это важнейший механизм иммунитета. Действительно, в организме многоклеточного животного, в том числе и в человеческом, обычно есть подвижные клетки с ложноножками, готовые буквально проглотить и переварить любого подходящего по размеру незваного гостя, например какую-нибудь бактерию. Однако, кроме того, фагоцитоз очень часто используется просто для питания. Одноклеточным эукариотам он вообще только для этого и нужен. Но и многоклеточные животные нередко по старинке усваивают пищу с помощью фагоцитоза. (У человека, правда, фагоцитоз в пищеварении не участвует.)
Вакуоль, образующаяся непосредственно в результате фагоцитоза и заключающая в себе проглоченные объекты, называется фагосомой. Она транспортируется цитоскелетом до места слияния с другой вакуолью — лизосомой, содержащей пищеварительные ферменты, которые могут расщепить слишком крупные молекулы до мономеров (например, белки до аминокислот). После слияния вакуолей образуется фаголизосома, в которой захваченные частицы и перевариваются.
При фагоцитозе клетка может потерять за счет включения в фагосому довольно большую часть наружной мембраны, особенно если она “проглотила” что-то очень крупное. Но это ненадолго: по мере того как проглоченная пища переваривается, от фаголизосомы отделяются маленькие вакуольки, которые перемещаются к наружной мембране и встраиваются в нее, чтобы вернуть мембранные липиды обратно. Этот процесс называется рециклизацией мембран. У прокариот такого активного круговорота мембран нет, а вот для эукариотных клеток он очень характерен.
Именно путем фагоцитоза питается, например, попавшая в школьный учебник зоологии обыкновенная амеба. Клетки, активно занимающиеся фагоцитозом, есть и в человеческом теле. Это разновидности белых кровяных клеток (лейкоцитов), которые называются нейтрофилами и моноцитами, а также подвижные клетки рыхлой соединительной ткани — макрофаги. Последние есть во всех органах человека, и в них могут превращаться моноциты, выползающие из кровеносных сосудов. Макрофаги постоянно ползают по организму амебоидным способом, меняя форму клетки и образуя с помощью своего актино-миозинового комплекса временные выросты, то есть ложноножки. А в наружной мембране макрофага при этом сидят специальные белки-рецепторы, которыми он “проверяет” все встречные объекты. Любые клетки, на внешней поверхности которых нет некоторого определенного набора белков и липидов, макрофаг тут же заглатывает. Это довольно эффективный способ борьбы, например, с вредными бактериями. Разумеется, работа макрофага строго регулируется в зависимости от того, какие химические сигналы он получает из внешней среды. В его наружной мембране есть рецепторы, срабатывание которых запускает фагоцитарную активность, а есть и такие, срабатывание которых, наоборот, тормозит ее[71].
Правда, бактерии тоже сопротивляются клеткам, которые пытаются их съесть. И иногда это сопротивление бывает крайне изощренным. Например, возбудитель проказы — грамположительная бактерия, которую в честь первооткрывателя называют палочкой Хансена, — научился жить аж внутри макрофагов. Как мы знаем из главы 6, грамположительные бактерии отличаются от грамотрицательных отсутствием второй клеточной мембраны, так что их самой наружной оболочкой является толстая клеточная стенка. У палочки Хансена клеточная стенка в основном полисахаридная. Но, кроме того, в ней содержится много очень необычных жирных кислот с длинными разветвленными цепями и трехуглеродными замкнутыми кольцами в них (по этим кольцам формулу такой кислоты сразу можно опознать). Они называются миколовыми кислотами. Молекулы миколовых кислот делают поверхность бактерии чрезвычайно гидрофобной и устойчивой к внешним воздействиям — в том числе и к действию лизосомных пищеварительных ферментов, которые, по идее, должны расщеплять все что угодно. В каком-то смысле миколовые кислоты и есть главная тайна возбудителя проказы. Именно благодаря им палочки Хансена, поглощенные макрофагами, с большим удовольствием живут и размножаются прямо в цитоплазме этих клеток. К счастью, у большинства бактерий таких невероятных биохимических способностей все-таки нет.
Фагоцитоз есть далеко не у всех эукариот. Во-первых, многим из них хватает других способов питания, а во-вторых (и это еще важнее), фагоцитоз несовместим с наличием клеточной стенки. Сквозь клеточную стенку, которая находится снаружи от мембраны и часто бывает довольно толстой, никого проглотить невозможно. А если от клеточной стенки отказаться, это сразу же делает клетку и менее прочной, и менее защищенной. Как раз по этим причинам нет фагоцитоза, например, у зеленых растений — им-то клеточная стенка уж точно нужнее. Но у самых древних эукариот он, скорее всего, был.
Рождение чудовища
Все эти истории рассказываются вот к чему. Мы теперь знаем, что фагоцитоз возможен только при наличии актино-миозинового комплекса. Это чисто эукариотное свойство. У бактерий и архей актино-миозинового комплекса нет, поэтому к фагоцитозу они неспособны. Хищные прокариоты (очень, надо заметить, немногочисленные) всегда меньше своих жертв и являются на самом-то деле скорее паразитами. Такой бактериальный “хищник” вбуравливается в толщу клеточной стенки более крупной бактерии, питается находящимися там белками, липидами и полисахаридами и там же размножается. А вот проглотить свою жертву целиком никакая бактерия не может в принципе.
Это означает, что до появления эукариот — то есть в первые два миллиарда лет истории жизни — на Земле не было настоящих хищников. Самыми крупными и сложными живыми объектами тех времен были строматолиты, подушкообразные многослойные колонии прокариотных синезеленых водорослей (они же цианобактерии). Наработанная ими биомасса в основном просто захоранивалась в морских осадках: поедать и разлагать ее, возвращая в итоге в атмосферу в виде углекислого газа, было некому. Цепи питания были очень короткими и простыми.
Появление хищника, способного к фагоцитозу, мгновенно изменило ситуацию. Адекватным ответом жертвы на давление такого хищника был естественный отбор в сторону увеличения размера, чтобы хищник не смог ее проглотить. Но и хищники стали увеличивать размеры в ответ. Возникла положительная обратная связь, и началась эволюционная гонка вооружений. (Это не метафора, подобные процессы описываются теми же дифференциальными уравнениями, что и гонка вооружений в экономике.) Клетки постепенно становились все более крупными и сложными. И наконец, когда увеличивать размер отдельной клетки стало уже некуда, в ход пошел последний довод эукариот: многоклеточность.
Этот сценарий навел некоторых ученых на мысль, что именно появление цитоскелета, и особенно актино-миозинового комплекса, было тем самым начальным звеном, за которым последовало возникновение всего остального набора эукариотных признаков[72]. Эндоплазматическая сеть, вакуоли, аппарат Гольджи, ядро — все это появилось несколько позже, чтобы структурировать внутренний объем разросшейся громадной клетки. В начале же был цитоскелет, и только он.
Эта гипотеза хороша тем, что поддается проверке фактами. Есть ли основания считать, что цитоскелет действительно появился раньше других признаков эукариот? Да, есть. В последние несколько лет было обнаружено, что белки, очень близкие к актину и тубулину, имеются у некоторых архей. Правда, фагоцитоз эти археи еще не освоили: они умеют создавать в лучшем случае выросты клеток, но не впячивания, а последнее для фагоцитоза необходимо. Однако то, что белки цитоскелета действительно очень древние, теперь ясно.
Итак, если мы посмотрим на предка эукариот с точки зрения бактерии, то увидим невероятного монстра. Лишенный клеточной стенки и постоянной формы тела, он компенсирует это гигантским размером, а главное — направо и налево пожирает своих соседей по сообществу, как Безликий Бог из знаменитого аниме “Унесенные призраками”. В общем, это поистине прокариотный ночной кошмар, nightmare.
Хорошей иллюстрацией этого эволюционного сценария служит один из самых древних и архаичных эукариот, доживших до современности, — пресноводный жгутиконосец Collodictyon (см. рис. 10.5). Это крупный одноклеточный хищник, обладающий как жгутиками, так и ложноножками. Он склонен питаться очень крупными объектами, вплоть, например, до колоний зеленых водорослей, состоящих из восьми клеток. Причем зеленые водоросли тоже эукариоты, так что клетки у них довольно большие, но коллодиктиона и это не останавливает. Весьма вероятно, что первые эукариоты были на него во многом похожи (см. главу 15). Трудно даже представить, какую революцию в мирном прокариотном сообществе должно было произвести появление такого суперхищника.
Тут мы видим сюжет, интересный с точки зрения общих закономерностей биологической эволюции. На первый взгляд кажется очевидным, что хищник всегда зависит от жертвы (например, его численность напрямую зависит от численности жертв: чем больше зайцев, тем больше рысей). И это действительно так — в экологическом масштабе времени, то есть на коротких временных отрезках, где эволюцией самих хищников и жертв можно пренебречь. А вот в эволюционном масштабе времени картина сплошь и рядом меняется на обратную: хищник начинает диктовать жертве условия, задавая направление ее эволюции. Это называется эффектом опережающей специализации хищника[73]. Появление первых эукариот, пожалуй, самый яркий пример этого эффекта во всей истории Земли (во всяком случае, до появления нового сверхуниверсального суперхищника — человека). При этом эукариоты моментально начали охотиться и друг на друга. Некоторых из них на время спасла многоклеточность, дававшая крупный размер и тем самым какую-никакую защиту. Судя по всему, эукариотным хищникам было гораздо сложнее стать многоклеточными, чем эукариотам с растительным типом питания (см. главы 15, 16). Отсюда — множество эволюционных ветвей многоклеточных водорослей (красные, бурые, золотистые, желтозеленые, зеленые, харовые). Многоклеточность послужила для них своего рода “убежищем” — хоть и временным, но время это было долгим. Эффект опережающей специализации хищника вообще часто работает ускорителем эволюции, порождающим новые формы живых организмов.
Симбиогенез
Обычно считается, что именно путем фагоцитоза были приобретены такие клеточные структуры эукариот, как митохондрии и хлоропласты. Напомним, что митохондрии осуществляют дыхание, то есть распад глюкозы до углекислого газа и воды с получением химической энергии, запасаемой в виде АТФ. Митохондрии есть у подавляющего большинства эукариот. Что касается хлоропластов, их задача — фотосинтез, то есть синтез глюкозы из углекислого газа и воды с использованием энергии света. Хлоропласты есть у многих эукариот, но далеко не у всех. Тем, у кого они есть, для питания в принципе достаточно углекислого газа и света, без дополнительных источников энергии они могут обойтись.
Сейчас является общепринятой следующая гипотеза. И митохондрии, и хлоропласты — это потомки бактерий, которые когда-то были поглощены эукариотной клеткой и остались в ней жить, снабжая своего хозяина полезными продуктами обмена веществ. Митохондрии в первую очередь поставляют хозяйской клетке АТФ, хлоропласты — глюкозу. Если это верно, значит, мы видим тут типичный пример симбиоза, то есть взаимовыгодного сожительства разных организмов. Симбиоз, один из участников которого живет внутри другого, называется эндосимбиозом. А теорию, согласно которой многие важные признаки эукариот возникли в результате симбиоза, принято называть симбиогенетической или просто теорией симбиогенеза.
В пользу симбиогенетической теории есть ряд очень веских доводов. Во-первых, и митохондрии, и хлоропласты могут сохранять собственную ДНК. Причем эта ДНК, как правило, кольцевая, как у бактерий. Во-вторых, и хлоропласты, и особенно митохондрии могут сохранять собственный аппарат синтеза белка со своими рибосомами, причем это (опять же) рибосомы бактериального типа: они меньше эукариотных и несколько отличаются от них по строению. Таким образом получается, что в эукариотной клетке действуют одновременно два типа рибосом: обычные эукариотные рибосомы в цитоплазме и бактериальные рибосомы в хлоропластах и митохондриях. В-третьих, ни митохондрии, ни хлоропласты никогда не образуются de novo, то есть с нуля. Они самостоятельно размножаются делением, примерно как обычные свободноживущие бактерии. В-четвертых, оболочка митохондрий и хлоропластов всегда состоит минимум из двух мембран (а не из одной, как у простых вакуолей). Логично предположить, что внешняя мембрана митохондрии или хлоропласта — это мембрана пищеварительной вакуоли хозяина, а внутренняя — мембрана самой проглоченной бактерии.
Идея симбиогенеза “витала в воздухе” еще с конца XIX века, мелькая в самых разных научных работах. Но первым, кто сформулировал ее совершенно четко и во всеуслышание, был русский ботаник Константин Сергеевич Мережковский (старший брат знаменитого писателя Дмитрия Мережковского). Его первая статья на эту тему вышла в 1905 году. Мережковский был уверен, что хлоропласты высших растений и большинства водорослей — это не результат дифференциации цитоплазмы материнской клетки, а внешние по отношению к ней симбионты, имеющие независимое происхождение. Причем предками хлоропластов он считал прокариотные синезеленые водоросли (цианобактерии), как это потом и подтвердилось.
Из биологов первой половины XX века теорией симбиогенеза не заинтересовался почти никто. Слишком уж она была смелой и (по тогдашним меркам) необычной. Например, американский биолог Эдмунд Уилсон, автор самого авторитетного в первой половине XX века учебника по биологии клетки, высказывался о теории симбиогенеза как о чистой фантастике. “Дальнейший полет воображения Мережковского, — писал Уилсон, — приводит его к допущению, что зеленые растения возникли от симбиоза бесцветных ядросодержащих клеток и мельчайших синезеленых водорослей, из которых последние дали начало хлоропластам. Без сомнения, многим такие спекуляции могут показаться слишком фантастичными, чтобы о них можно было упоминать теперь в приличном обществе биологов”.
Второе рождение теории симбиогенеза было связано с работами выдающейся женщины — американского биолога Линн Маргулис. Она настаивала на симбиотическом происхождении не только хлоропластов, но и митохондрий, и некоторых других клеточных структур, например жгутиков. Последнее, как мы сейчас понимаем, неверно. Но зато симбиотическое происхождение митохондрий и хлоропластов с тех пор подтверждено очень надежно. На данный момент это скорее твердо установленный факт, чем гипотеза. Союз предков митохондрий и хлоропластов с эукариотами, безусловно, настоящий симбиоз. Бывшие бактерии снабжают своего хозяина полезными веществами, получая взамен стабильные условия и защиту от других хищников.
Известно даже, какие именно это были бактерии. Митохондрии, скорее всего, произошли от пурпурных альфа-протеобактерий, а хлоропласты — от уже упоминавшихся цианобактерий, они же синезеленые водоросли. В этом пункте Мережковский оказался совершенно прав.
Митохондрии, несомненно, появились гораздо раньше, чем хлоропласты. Во многих эволюционных ветвях эукариот (в том числе и в нашей) никаких хлоропластов просто нет и, судя по всему, никогда не было. С митохондриями ситуация совершенно иная. На данный момент можно твердо сказать, что практически у всех современных эукариот есть или собственно митохондрии, или их маленькие остатки, сохранившие часть биохимических функций, или — на худой конец — отдельные митохондриальные гены, успевшие когда-то мигрировать в ядро и встроиться в ядерный геном. Это означает, что у общего предка всех современных эукариот митохондрии уже были. Их отсутствие (по крайней мере, у современных эукариот — не забудем про эту оговорку) бывает только вторичным, то есть результатом утраты.
Приобретение митохондрий — единственный доступный для эукариот способ быть аэробными, то есть получать энергию с помощью кислорода. Предки современных эукариот стали аэробными только после того, как приобрели митохондрии. Если же какой-нибудь эукариот теряет митохондрии, то он, наоборот, становится анаэробным, приспособленным жить в бескислородной среде. В этом случае кислород бесполезен, кислородное дыхание невозможно, а глюкоза распадается только до молочной кислоты или этилового спирта, что дает в несколько раз меньше полезной энергии.
Между тем потеря митохондрий может случаться у эукариот очень легко (по эволюционным меркам, конечно). Обычно это происходит при переходе к жизни в бескислородных условиях, где митохондрии бесполезны. Причем такое бывает не только с одноклеточными эукариотами, но и с многоклеточными. Бескислородные условия, в которых митохондрии не нужны, — это чаще всего или чей-нибудь кишечник, или некоторые типы морских и пресноводных донных отложений. Например, митохондрий нет у некоторых представителей лорицифер, очень своеобразных мелких морских червей с выворачивающимся хоботом и пластинчатым панцирем[74]. И вероятно, они не одни такие. В случае с этими многоклеточными животными уж точно нет никаких сомнений, что митохондрии у них когда-то были, а исчезли вторично, за ненадобностью.
Отдельный интересный сюжет, связанный с митохондриями, касается вариабельности генетического кода. Когда генетический код только расшифровали, считалось, что он абсолютно единый и всеобщий для всех живых существ Земли — от вируса до слона. Это почти так и есть, но не совсем. Митохондриальные геномы как раз одно из тех мест, где в генетическом коде встречаются отклонения, причем достаточно многочисленные и разные у разных эукариот. Например, генетический код митохондрий человека отличается от “базового” генетического кода, действующего у того же человека в ядерном геноме, значениями четырех кодонов. Кодон УГА, в “базовом” коде являющийся стоп-кодоном, в митохондриях соответствует триптофану, а кодон АУА, в “базовом” коде соответствующий изолейцину, здесь кодирует метионин — и так далее. Для клетки в целом это некритично: поскольку митохондрия имеет собственный аппарат синтеза белка, то на работу ядерных генов изменения в ее генетическом коде никак не влияют. Просто получается, что в одной и той же клетке одновременно функционируют два разных генетических кода — ядерный и митохондриальный.
Скорее всего, изменения в генетическом коде митохондрий стали накапливаться уже после того, как митохондрии окончательно стали внутриклеточными симбионтами. Со временем большая часть митохондриальных генов перешла в ядро, а оставшийся митохондриальный геном стал таким маленьким, что сбой его работы (который неизбежен при любом изменении генетического кода) перестал быть непременно смертоносным. Надо учитывать, что митохондриальные гены, мигрировавшие в ядро и вошедшие в состав ядерного генома, экспрессируются там, где они теперь находятся, то есть в ядре. А их белковые продукты (даже если эти белки нужны только для митохондрий) синтезируются на обычных эукариотных рибосомах, находящихся в цитоплазме, и внутрь митохондрий попадают уже оттуда, с помощью специальных переносчиков.
После того как в митохондриальном генетическом коде накопилось некоторое количество изменений, митохондриальные белки стало уже невозможно правильно синтезировать на эукариотных рибосомах. Вот тогда-то миграция митохондриальных генов в ядро и прекратилась. Если бы не это, митохондрии, вероятно, в конце концов совсем потеряли бы свой генетический аппарат, и тогда разгадать их симбиотическое происхождение было бы гораздо труднее.
И наконец, еще один важнейший факт состоит в том, что — как мы сейчас знаем — эукариоты эволюционно близки не к бактериям, а к археям. Это выяснилось еще тогда, когда археи как отдельная эволюционная ветвь были только открыты (см. главу 5). Скорее всего, эукариоты прямо от них и произошли. А вот предки митохондрий и хлоропластов, наоборот, не археи, а бактерии. Тут произошло довольно редкое событие, а именно слияние совершенно разных эволюционных ветвей.
“Первичный фагоцит”
Факты, которые мы теперь знаем, легко встраиваются в следующий довольно простой эволюционный сценарий (см. рис. 10.6). Когда-то в далекой древности (вероятно, два с лишним миллиарда лет назад) некая бесцветная архея приобрела сложный цитоскелет, включающий актино-миозиновый комплекс. Клеточную стенку она, наоборот, потеряла. Получился “первичный фагоцит” — подвижная клетка, способная активно ползать, выпуская ложноножки, и фагоцитировать (то есть заглатывать целиком) любые более мелкие объекты, в том числе и клетки бактерий. Это оказалось очень выгодным способом питания. Но такое питание непременно предполагает, что хищник должен быть крупнее жертвы. И действительно, современные эукариотные одноклеточные хищники — амебы и жгутиконосцы — по линейным размерам примерно в десять раз превосходят бактерии, которыми они питаются.
Оговорка про линейные размеры тут очень важна. Если увеличить линейный размер клетки в десять раз (обычный порядок разницы между эукариотами и прокариотами), то — по законам геометрии — ее объем увеличится примерно в 1000 раз, с пропорциональным ростом нагрузки на все внутриклеточные системы синтеза и транспорта. Вот для того, чтобы структурировать огромный внутренний объем, у предков эукариот и образовалась система внутренних мембран, включающая ЭПС, аппарат Гольджи, множество вакуолей и ядро. Возникший в результате организм представлял собой что-то вроде крупной бесцветной хищной амебы. Ничего особенного, подобные эукариоты есть и сейчас, разве что они нередко обладают еще и жгутиками в придачу к ложноножкам.
Питание путем фагоцитоза предопределило возможность появления у эукариот внутриклеточных сожителей, то есть, по-научному говоря, симбионтов. Для прокариот, лишенных способности заглатывать кого бы то ни было, приобретение симбионтов таким способом невозможно. А вот амебоидный эукариот может легко превратить некоторые захваченные клетки из пищи в симбионтов, если “примет решение” не переваривать их, а предоставить им жить в хозяйской клетке, делясь с хозяином полезными продуктами обмена веществ. В современных научных статьях такой захват эукариотами чужих клеток часто буквально называют порабощением (enslavement). Именно путем такого “порабощения” эукариотная клетка и приобрела сначала митохондрии, а потом хлоропласты.
К сожалению, на самом деле все не так просто. Познание природы имеет свои закономерности: как правило, чем больше мы узнаем, тем больше возникает новых вопросов, причем таких, которые на предыдущем уровне знания просто не могли бы никому прийти в голову. И проблема происхождения эукариот может послужить отличной иллюстрацией того, что так бывает очень часто. Мы сейчас увидим, что есть как минимум два соображения, заново затуманивающих, казалось бы, предельно ясно описанную картинку.
Прежде всего, в ядерных геномах эукариот обнаружено много генов бактериального происхождения, причем — что самое интересное — полученных не только от предков митохондрий и хлоропластов, но и от других групп бактерий, которые внутри эукариотных клеток никогда не жили. Напомним еще раз, что центральная часть эукариотной клетки, включающая ядро, несомненно, произошла от клетки какой-то древней археи (а не бактерии). Между тем подробный анализ эукариотных белков и генов, которые их кодируют, показывает следующее. Непосредственно от архей эукариоты унаследовали в первую очередь белки, работа которых связана с передачей генетической информации, — например, белки транскрипции, трансляции и репликации. А вот белки, обеспечивающие обмен веществ в цитоплазме, оказались в большой степени унаследованными от бактерий, причем от разных (см. рис. 10.7). Сильно упрощая, можно сказать, что “информационные” гены, ответственные за работу самого генома, эукариоты получили в основном от архей, а вот “операционные” гены, ответственные за питание клетки и ее взаимодействие с внешней средой, — в основном от бактерий[75].
Судя по всему, эти данные невозможно объяснить без введения нового для нас понятия — горизонтальный перенос генов. Вообще говоря, то, что одновременно живущие и часто вовсе не родственные друг другу живые организмы более или менее постоянно обмениваются между собой генами “по горизонтали”, — это на сегодняшний день общепризнанный факт. Причем перенос может происходить как в результате прямого захвата клеткой обрывков ДНК из внешней среды, так и более сложными способами — например, с помощью РНК-содержащих вирусов, которые приносят с собой копии некоторых чужеродных генов и встраивают их в геном хозяина посредством обратной транскрипции (см. главу 9). У прокариот горизонтальный перенос генов распространен настолько широко, что любое эволюционное древо, построенное по последовательностям большого набора прокариотных генов, будет на самом-то деле представлять собой не древо, а сеть. То, что предков эукариот это тоже коснулось, само по себе совершенно неудивительно. Но интенсивность горизонтального переноса генов там, где жил предок эукариот, должна была быть чрезвычайно высокой. Вероятно, это было какое-то сложное многовидовое сообщество, в котором нахвататься соседской ДНК было легче, чем не нахвататься.
Второе соображение вот какое. При взгляде на эволюционное древо у непредвзятого наблюдателя невольно складывается довольно стойкое впечатление, что эволюционная история митохондрий и хлоропластов была принципиально различна. Хлоропласты в самом деле достаточно легко приобретаются путем обычного фагоцитоза, этому есть прямые свидетельства. А вот в отношении митохондрий таких свидетельств нет. Хлоропласты совершенно достоверно приобретались разными эукариотами много раз. Митохондрии — только один раз, общим предком всех современных эукариот. Мы даже и представить себе не можем, как должен был бы выглядеть эукариот, никогда не имевший митохондрий.
Интересно, а были ли такие эукариоты вообще? Собранные факты как-то уж слишком упорно наводят на мысль, что митохондрии (но не хлоропласты!) — это древнейший признак эукариот как таковых. Возможно, не менее древний, чем ЭПС и ядро. И вполне вероятно, что приобретение митохондрий произошло каким-то особым способом, отличающимся от обычного фагоцитоза, — недаром же во всей дальнейшей эволюции больше ни разу не случилось ничего подобного.
“Кунинский сценарий”
И тут возникает парадоксальная гипотеза. По мнению биоинформатика Евгения Викторовича Кунина, “эукариогенез был инициирован эндосимбиозом, а система внутренних мембран, включающая ядро, развилась как защита против инвазий бактериальной ДНК”[76]. На всякий случай это высказывание надо пояснить. Мудреным словом “эукариогенез” тут назван сам процесс приобретения эукариотных признаков. Эндосимбиоз — это, как мы уже знаем, такой симбиоз, один из участников которого живет внутри другого. Ну а “инвазия” значит просто “вторжение”. Итак, Кунин фактически считает, что появление митохондрий было не следствием, а причиной превращения древней археи в эукариота (см. рис. 10.8).
Новый сценарий предполагает примерно следующую последовательность событий[77]:
1 Предком эукариот была древняя архея, лишенная клеточной стенки, зато имевшая зачатки актинового цитоскелета. Это позволило архейной клетке стать крупной и приобрести сложную форму.
2 В складках наружной мембраны крупной археи стали поселяться разнообразные бактерии, которые паразитировали на ней или просто находили удобное убежище.
3 Близость этих бактерий создала поток чужеродных генов, от которого архее надо было защищаться, чтобы ее собственный геном не разладился. Именно защищаясь от чрезмерного проникновения генетического материала бактерий-паразитов, архея выработала сложную систему внутренних мембран, усовершенствовала внутриклеточный транспорт и цитоскелет. А паразитизм в конце концов превратился в симбиоз.
4 Один из бактериальных сожителей оказался настолько полезным в плане получения энергии, что архея навсегда замкнула его внутри собственной клетки, превратив из внешнего симбионта во внутреннего. Так появились митохондрии.
5 Фагоцитоз возник только в самом конце этих событий, как побочный эффект от усложнения цитоскелета и появления системы рециклизации мембран (последнее совершенно необходимо при постоянном обороте временных мембранных пузырьков, с которым связана работа ЭПС и аппарата Гольджи).
“Кунинский сценарий” имеет несколько красивых подтверждений. Например, известны современные морские археи с гигантскими клетками сложной формы, которые действительно покрыты снаружи симбиотическими бактериями. Причем эти внешние симбионты — не кто-нибудь, а протеобактерии, дальние родственники тех самых пурпурных бактерий, от которых произошли митохондрии[78]. Кроме того, сравнительный анализ белковых последовательностей показывает, что актиновый цитоскелет, скорее всего, сначала был неподвижным. Белки, позволяющие актиновым микрофиламентам еще и сокращаться, появились заметно позже. А это означает, что начаться прямо с фагоцитоза эволюция эукариот не могла.
Споры вокруг митохондрий
На самом деле сейчас конкурируют по меньшей мере два сценария происхождения эукариот: “раннемитохондриальный” (mito-early) и “позднемитохондриальный” (mito-late). Первый предполагает, что появление митохондрий было очень ранним событием, может быть даже запустившим эукариогенез как таковой. Второй гораздо ближе к уже рассмотренным классическим представлениям: сначала сформировалась полноценная эукариотная клетка с ядром, прочими мембранными структурами и фагоцитозом, а потом она проглотила будущую митохондрию и сделала ее своим симбионтом.
В последние несколько лет “раннемитохондриальная” гипотеза успела если не утвердиться, то, во всяком случае, набрать большую популярность. И, как и следовало ожидать, ее сразу начали подвергать скептическим проверкам. Например, недавняя работа испанских биоинформатиков показала, что эукариотные белки делятся по уровню древности на три группы[79].
К самой древней группе относятся белки архейного происхождения, в основном ядерные и (или) выполняющие функции, связанные с передачей генетической информации. Эти белки унаследованы прямо от архейного предка основной части эукариотной клетки, включающей ядро и цитоплазму. (Иногда эту часть клетки называют “ядерно-цитоплазматический компонент”, ЯЦК.)
Более молодые белки имеют бактериальное происхождение и локализуются в цитоплазме, но не в ядре. Их функции часто связаны с мембранными структурами — эндоплазматической сетью (ЭПС) и аппаратом Гольджи. Причем вновь показано, что эти белки были заимствованы не от одной группы бактерий, а от нескольких разных — вероятнее всего, путем горизонтального переноса генов, когда архейный предок жил в составе какой-то сложной многовидовой колонии. Пока что, как видим, все соответствует модели Кунина.
А вот третья группа белков — самая молодая — происходит от альфа-протеобактерий и локализуется в митохондриях. Несомненно, они были приобретены вместе с бактериальными симбионтами, которые этими самыми митохондриями стали. Вот это уже противоречит модели Кунина, которая, совсем наоборот, предполагает, что симбиоз с предками митохондрий был “спусковым крючком эукариотизации”: сначала появились они, а потом уже ЭПС, ядро и все остальное. А тут получается, что субъектом, который приобрел митохондрии, была достаточно сложная клетка, уже являвшаяся генетической химерой, то есть совмещавшая в себе архейные и бактериальные гены.
Тем не менее считать, что модель Кунина опровергнута, пока не стоит. Ведь если архейная клетка к моменту захвата митохондрий уже имела множество бактериальных генов, то возникает вопрос: откуда она этих генов набралась? А как раз модель Кунина дает на этот вопрос очень внятный ответ. Кунин считает, что предком эукариот была неподвижная архея, имевшая зачатки цитоскелета и в связи с этим создавшая крупную “ветвящуюся” клетку со множеством складок внешней поверхности. В этих-то складках и поселились многочисленные бактерии — как альфа-протеобактерии, так и разные другие. Альфа-протеобактерии в дальнейшем были поглощены архейной клеткой и стали митохондриями — вот это, скорее всего, и запустило новый этап миграции их генов в ядро. Все остальные бактерии не были заключены внутри архейной клетки и эндосимбионтами не стали (скорее всего, потому, что архейной клетке это было не столь выгодно), но своими генами все равно успели щедро поделиться.
При всем этом не исключен (во всяком случае, не может считаться опровергнутым) и такой сценарий, согласно которому альфа-протеобактериальных симбионтов было два — древний и более поздний, причем митохондрии произошли от последнего. Эту гипотезу мы подробно обсудим в главе 14.
Предок, вывернутый наизнанку
Дальнейшим развитием “кунинского сценария” стала еще более парадоксальная гипотеза, согласно которой основная часть предковой архейной клетки соответствует ядру, и только ему. Цитоплазма же, по этой гипотезе, произошла от слившихся между собой внешних выростов архейной клетки, которые поначалу служили для обмена веществами с наружными симбионтами — предками митохондрий (см. рис. 10.9). Эту гипотезу предложили в 2014 году два американских биолога, двоюродные братья Дэвид и Базз Баумы[80] [81].
Гипотеза Баумов сразу объясняет, почему от архей у эукариот остались в основном белки, связанные с генетическими процессами. Да потому, что остаток собственно архейной клетки — это ядро! Кроме того, из новой гипотезы следует, что эндоплазматическая сеть — это на самом деле участок внешнего пространства, охваченный сомкнувшимися разрастаниями первичной клетки. Тогда получается, что внутри эндоплазматической сети могут найтись остатки архейной клеточной стенки. И действительно, там обнаружены белки, очень похожие на такие остатки. Это так называемые N-гликозилированные белки, в которых к боковым цепям аминокислоты аспарагина через атом азота присоединены остатки сахаров[82]. То, что эти белки найдены у эукариот не на поверхности клетки, а глубоко в полости ЭПС, в самом деле заставляет очень серьезно задуматься.
Ну а происхождение митохондрий в новой версии уж точно выглядит совершенно не связанным с фагоцитозом. Хлоропласты — иное дело, но они и приобретены были намного позже. Впрочем, в любом случае надо иметь в виду, что если само по себе симбиотическое происхождение митохондрий — твердо установленный факт, то все подробности того, как это случилось, относятся к области гипотез, которые пока что проверяются[83]. В главе 15 мы еще вернемся к этой теме.
Дела генетические
Между прокариотами и эукариотами есть несколько серьезных отличий, касающихся не столько устройства клетки (которое можно воочию увидеть под микроскопом), сколько принципов функционирования генетического аппарата. Перечислим важнейшие из этих отличий очень кратко.
Во-первых, прокариоты и эукариоты различаются способом “упаковки” генов в геном. Молекулу ДНК, заключающую в себе весь геном либо его существенную часть и связанную тем или иным способом со специальными белками, принято называть хромосомой. У прокариот хромосома чаще всего одна, а у эукариот почти всегда несколько, и они линейные, а не кольцевые.
Во-вторых, у эукариот полностью разобщены в пространстве процессы транскрипции и трансляции. При наличии ядра иначе и быть не может. У прокариот вполне возможна ситуация, когда на торчащий “хвост” информационной РНК, синтез которой еще продолжается, сразу же садится рибосома и начинает трансляцию. У эукариот такое полностью исключено. Транскрипция идет только в ядре, трансляция — только в цитоплазме. Даже те белки, которые в силу своих функций используются исключительно внутри ядра (например, гистоны), у эукариот синтезируются в цитоплазме и потом переправляются в ядро через ядерные поры.
В-третьих, между окончанием транскрипции и началом трансляции иРНК эукариот проходит через достаточно сложное созревание (процессинг), в ходе которого она химически модифицируется. Самая важная из этих модификаций называется кэпированием и относится к 5'-концу РНК (см. рис. 10.10А). Вот тут нам хорошо бы кое-что вспомнить. “Нормальная” — то есть прокариотная — иРНК оканчивается на 5'-конце нуклеозидтрифосфатом: это неудивительно, поскольку именно нуклеозидтрифосфаты служат исходными “кирпичиками”, из которых РНК собирается (см. главу 9). У эукариот к этому концевому нуклеозидтрифосфату присоединяется особый гуаниновый нуклеотид, в котором гуанин помечен дополнительной метильной группой. Причем присоединяется он через очень экзотическую, не используемую больше нигде 5'-5'-трифосфатную связь, то есть как бы задом наперед по отношению к нормальному расположению нуклеотидов в РНК. Вот этот добавочный перевернутый модифицированный нуклеотид и называется кэпом. Его функция исключительно сигнальная: без кэпа, например, эукариотная рибосома не может узнать иРНК и начать трансляцию. Ни у каких прокариот нет ничего подобного, и зачем это нужно эукариотам — никогда толком не было понятно.
В-четвертых, в эукариотных генах, как правило, полно некодирующих вставок, которые называются интронами. Это бессмысленные отрезки ДНК, не кодирующие никаких полезных аминокислотных последовательностей и расположенные прямо внутри гена. В типичном эукариотном гене кодирующие участки (экзоны) чередуются с некодирующими — интронами — таким образом, что последние как бы разбивают кодирующую последовательность на части. В одном гене вполне могут быть десятки и сотни интронов, причем обычно они длиннее экзонов (см. рис. 10.10Б). Представим себе литературный текст, где аккуратно построенные фразы в случайных местах разрываются длинными последовательностями букв, лишенными знаков препинания и какого бы то ни было намека на смысл. Вот примерно так выглядят интроны в гене. При транскрипции вся последовательность гена (и экзоны, и интроны) переписывается на иРНК целиком, но в ходе процессинга интроны вырезаются, экзоны сшиваются и получается гораздо более короткая зрелая иРНК, состоящая из одних экзонов. Ее уже можно транслировать. Сам процесс вырезания интронов из РНК называется сплайсингом. Это еще одна составная часть процессинга, в придачу к кэпированию.
Эти особенности генетического аппарата было бы неплохо как-то объяснить. Причем в идеале — все сразу, ведь породивший их эволюционный процесс был единым. К сожалению, такого единого объяснения пока нет, но начать можно и по отдельности. Попробуем.
Интроны и ядро
Проще всего, как это ни странно, с интронами. Ключ к разгадке тут может дать вот какой факт. У прокариот интроны тоже встречаются, но в основном в генах, кодирующих рибосомные или транспортные РНК. Почему? А потому, что эти РНК не транслируются. Они проходят процессинг (вернее, сплайсинг), а потом используются по назначению как есть, образуя рибосомы или транспортируя аминокислоты. А вот процессинг информационных РНК у прокариот почти невозможен по уже названной причине: эти РНК очень часто начинают транслироваться до завершения полной транскрипции, еще буквально вися на ДНК, с которой транскрипция идет. Резать и сшивать их некогда и негде. Именно поэтому в генах, кодирующих белки, у прокариот интроны не накапливаются. Они вынужденно сразу удаляются естественным отбором — иначе белки будут получаться ни к чему не пригодными, ведь сплайсинга-то нет, а значит, не только в иРНК, но и в белке останутся большие бессмысленные куски.
Разделение процессов транскрипции и трансляции, вызванное появлением ядра, сняло это ограничение. Поэтому у эукариот интроны стали стремительно “размножаться”, а сплайсинг стал совершенно необходимым этапом подготовки эукариотной иРНК к трансляции.
Заодно это привело к тому, что появился дополнительный способ регуляции экспрессии генов — альтернативный сплайсинг (см. рис. 10.10В). Например, если в некотором гене есть пять экзонов (1, 2, 3, 4 и 5), то в одном случае можно транслировать все пять из них, во втором — только четыре (скажем, 1, 2, 4 и 5), а в третьем — тоже только четыре, но в другом составе (скажем, 1, 2, 3 и 5). Во втором и третьем случаях ненужные экзоны будут вырезаны вместе с интронами. И таким образом, манипулируя ферментами сплайсинга, можно будет получать с одного гена три разных белка. В реальности таких белков, кодируемых одним и тем же геном, может быть гораздо больше — вплоть до многих тысяч. Количество экзонов в эукариотных генах вполне допускает такое число комбинаций. И иногда это бывает очень полезно (например, для белков иммунной системы позвоночных, которым в силу их функций нужна высочайшая изменчивость).
Таким образом, в данном случае усложнение и самого генома, и механизма его работы оказалось побочным эффектом главной, “титульной” особенности эукариот — появления ядра. Откуда же оно все-таки взялось?
В 2001 году австралийский биолог Филип Белл и японский биолог Масахару Такемура почти одновременно предложили вирусную теорию происхождения ядра[84] [85]. Вирусы — это неклеточная и чисто паразитическая форма жизни. У вируса есть гены, но нет собственного аппарата синтеза белка. Генетическая информация у разных вирусов может записываться как на РНК, так и на ДНК. Так вот, известно, что некоторые ДНК-содержащие вирусы (например, вирус оспы) имеют оболочку из двух липидных мембран, очень похожую на клеточное ядро. Там есть даже аналоги ядерных пор. ДНК у таких вирусов линейная — тоже как в эукариотном ядре. И что самое интересное, у них есть собственный аппарат транскрипции (но не трансляции), и этот вирусный аппарат транскрипции включает механизм обязательного кэпирования иРНК — опять же устроенный так же, как у эукариот. В принципе нет ничего невероятного в предположении, что эукариоты получили этот механизм от каких-то ДНК-содержащих вирусов путем горизонтального переноса генов. Но Белл и Такемура пошли дальше. Они предположили, что все ядро целиком произошло от крупного вируса, который вселился в будущую эукариотную клетку, превратился из паразита в постоянную внутриклеточную структуру и постепенно включил в себя почти весь хозяйский геном. Эта теория хороша тем, что она логично объясняет сразу несколько особенностей эукариотной клетки: двумембранное ядро, разобщение транскрипции и трансляции, линейность ДНК, кэпирование.
Правда, популярность вирусной теории происхождения ядра, взлетевшая было несколько лет назад, сейчас снижается. То, что в ядерном аппарате эукариот есть кое-какие белки вирусного происхождения, — установленный факт. Но вот вирусное происхождение всего ядра — это совсем иное дело. К тому же вирусная теория происхождения ядра решительно противоречит уже обсуждавшейся нами теории Баумов, согласно которой ядро произошло от клетки археи, а цитоплазма — от ее сомкнувшихся выростов. Тут уж придется выбрать или одно, или другое.
В любом случае надо честно признать, что происхождение клеточного ядра на данный момент неизвестно. Если с митохондриями дело хотя бы в общих чертах ясное, то с ядром о такой степени ясности пока что и мечтать не приходится. Загадка его происхождения не решена. Хотя и можно надеяться, что она решится в ближайшее время: биология сейчас развивается быстро.
Независимо от того, какая теория происхождения ядра правильна, мы можем совершенно точно сказать, что эукариотная клетка — это химерная структура, “собранная” из составных частей нескольких неродственных организмов. Если бы обитатели Земли три миллиарда лет назад могли мыслить, эукариотная клетка, скорее всего, была бы для них таким же нелепым и невероятным созданием, как для нас — самое фантастическое чудовище из древней мифологии, вроде той же химеры, василиска или уж вовсе невероятного мирмиколеона. А с другой стороны, именно на примере с возникновением эукариот мы прекрасно видим, что ветви эволюционного древа могут не только расходиться, но и сливаться. В этом месте древо жизни превращается в “кольцо жизни” (см. рис. 10.11).
Фундамент многоклеточности
У эукариот есть две особенности, очень облегчающие всевозможные межклеточные взаимодействия. Это наличие цитоскелета и — в некоторых группах — полная потеря клеточной стенки. Скорее всего, именно благодаря своему цитоскелету эукариоты, в отличие от прокариот, относительно легко становятся многоклеточными. Без цитоскелета слишком трудно сориентировать делящиеся клетки в пространстве таким образом, чтобы они создали упорядоченную трехмерную структуру.
Но и становиться многоклеточными можно по-разному. Есть многоклеточные эукариоты, которые питаются путем фотосинтеза, то есть синтезируя глюкозу из воды и углекислоты с использованием энергии солнечного света. Такое питание называется фототрофным. Многоклеточных фототрофов принято называть растениями (в широком смысле этого слова). Жизненная форма растений возникала в эволюции эукариот несколько раз совершенно независимо, на основе разных эволюционных ветвей. Примерами тому служат зеленые наземные растения, а также красные, бурые, золотистые и другие водоросли.
Другие многоклеточные эукариоты фотосинтезировать не умеют. Некоторые из них питаются, выделяя во внешнюю среду пищеварительные ферменты, расщепляющие крупные молекулы до мелких, и всасывая потом эти мелкие молекулы сквозь свою клеточную мембрану. Такое питание называется осмотрофным, то есть всасывательным. Оно требует огромной относительной поверхности тела, поэтому многоклеточность у таких эукариот на самом деле очень условная. Как правило, большая часть их тела на протяжении большинства стадий жизненного цикла представляет собой систему тонких — толщиной в одну клетку — ветвящихся нитей, которые пронизывают субстрат (например, почву) и всасывают оттуда питательные вещества. По-настоящему сложными у таких организмов бывают только органы размножения. Самые типичные осмотрофы — это грибы. Жизненная форма гриба возникала как минимум два раза независимо в разных эволюционных ветвях эукариот (у настоящих грибов и у так называемых ложных грибов, или оомицетов).
И наконец, есть эукариоты, которые ухитрились совместить многоклеточность с фаготрофным питанием, основанным на захвате пищевых частиц отдельными клетками путем фагоцитоза. Многоклеточные фаготрофы — это животные. Насколько мы знаем, жизненная форма животных возникла за всю историю Земли только один раз, в единственной эволюционной ветви.
Как раз потому, что у животных нет клеточной стенки, разнообразие способов межклеточных взаимодействий у них особенно велико (см. рис. 10.12А–Г). Есть по меньшей мере четыре типа межклеточных контактов, очень важных для животных:
* плотные контакты, в которых мембраны соседних клеток предельно сближены и сшиты особыми интегральными белками (клаудинами и окклюдинами). Система таких контактов может объединить клетки в непроницаемый слой, что и требуется животным довольно часто. Со стороны цитоплазмы белки плотных контактов всегда связаны с актиновыми микрофиламентами;
* десмосомы — контакты, обеспечивающие прочное механическое сцепление клеток. Интегральные белки, создающие такое сцепление, называются кадгеринами (они довольно разнообразны). Десмосомы особенно важны в тех тканях, которые часто подвергаются давлению или растяжению. Со стороны цитоплазмы белки десмосом связаны с сетью промежуточных филаментов, которая тоже достаточно прочна;
* щелевые контакты, сквозь которые клетки обмениваются молекулами и ионами, плывущими по цитоплазме. Такой контакт представляет собой группу ультрамикроскопических белковых “трубочек” (правильнее говоря, каналов), пронизывающих мембраны сразу двух соседних клеток. Эти каналы могут открываться и закрываться. Состоят они из белка коннексина;
* фокальные контакты, которые, строго говоря, нельзя назвать межклеточными. Они соединяют клетки с внеклеточными структурами — обычно белковыми волокнами или перепонками. Благодаря фокальным контактам клетки могут ползать, менять форму, а могут и сидеть на перепонке постоянно. Со стороны клетки фокальный контакт образуют молекулы белка интегрина, прикрепленные к актиновым микрофиламентам.
Надо обязательно добавить, что это описание, во-первых, сильно упрощено и, во-вторых, строго говоря, относится только к позвоночным животным (включая человека). У других животных межклеточные контакты могут быть устроены немного иначе, а главное — они могут состоять из других белков. Но по функциям они все равно будут аналогичны.
Кроме того, у многих животных есть и более сложные типы межклеточных контактов — например, синапсы, через которые передаются сигналы между нервными клетками. Но разговор о них уже выходит за пределы тем, охваченных этой книгой.
У растений система межклеточных контактов устроена совершенно по-другому. Главная особенность, отличающая растительную клетку от животной, — это наличие клеточной стенки, причем довольно толстой (см. главу 6). Из-за нее между клетками крайне затруднены любые другие контакты, кроме пронизывающих клеточные стенки цитоплазматических мостиков — плазмодесм (см. рис. 10.12Д). Через них могут передаваться любые вещества. В плазмодесмах мембраны соседних клеток сливаются (чего никогда не бывает в щелевых контактах животных), и их цитоплазма становится единой. Наличие системы плазмодесм означает, что все клетки данного растения слиты в единое “соклетие” — как говорят ботаники, симпласт. Это обычная ситуация для наземных зеленых растений.
Межклеточные взаимодействия — в некотором смысле самое главное, что происходит в любом многоклеточном организме. “Элементная база” этих взаимодействий, состоящая из белков с многообразными функциями, очень богата и способна быстро эволюционировать. И в то же время корни этого явления очень древние. Например, такие белки, как кадгерины и интегрины, совершенно точно есть уже у одноклеточных родственников животных[86]. Это и есть молекулярный фундамент многоклеточности — явления, породившего самые большие и сложные живые организмы на Земле.
11. энергия
Огонь — это нечто глубоко личное и универсальное. Он живет в сердце. Он живет в небесах. Он вырывается из глубин вещества наружу, как дар любви. Он прячется в недрах материи, тлея под спудом, как затаенная ненависть и жажда мести. Из всех явлений он один столь очевидно наделен свойством принимать противоположные значения — добра и зла.
Гастон Башляр. Психоанализ огняИз всех понятий, порожденных наукой, энергия упоминается в обыденной речи едва ли не чаще всего. Пожалуй, разве что про информацию современные люди говорят еще чаще (но в этой главе тема информации нас, для разнообразия, интересовать не будет). Слово “энергия” вызывает ассоциации со светом, теплом, электричеством, огнем, пищей, распадом атомных ядер, нефтью и природным газом, с ветром, полетом, потоками и взрывами, бурей и натиском и, наконец, просто с любым движением. Что же это такое?
Простое определение, в то же время не слишком далекое от истины, можно сформулировать вот как: энергия — это способность совершать работу, то есть осуществлять любое движение или превращение, требующее приложения силы. Ее можно хранить, накапливать, передавать или тратить с разной степенью полезности. В отличие, например, от света (кванты которого называются фотонами), энергия не связана ни с каким особым видом частиц. Но тем не менее она вполне измерима, то есть может быть точно выражена в числах. Общепринятой единицей энергии является джоуль. А ее оборот во Вселенной ограничивается законом сохранения энергии, он же первый закон термодинамики. Этот закон гласит, что энергия никогда не появляется и не исчезает. Она может сколько угодно переходить из одной формы в другую, но не может ни возникнуть из ничего, ни пропасть бесследно. Альберт Эйнштейн показал, что у любого тела, имеющего массу, есть определенная энергия покоя, которая при разрушении тела может высвободиться. Поэтому закон сохранения энергии иногда переименовывают в закон сохранения массы и энергии. Суть дела от этого не меняется.
Представление об энергии имеет очень древние истоки. О том, что за любыми процессами движения скрывается вездесущий невидимый огонь, говорили еще античные философы, например Гераклит Эфесский. Последний очень точно сформулировал идею энергии как универсального эквивалента движения: “На огонь обменивается все, и огонь — на все, как на золото — товары и на товары — золото”. Но охарактеризовать этот “огонь” как-то поточнее, а тем более соотнести его с какой-нибудь величиной, поддающейся измерению на практике, у исследователей долго не получалось.
В конце XVII века Готфрид Вильгельм Лейбниц ввел в физику понятие “живая сила” (vis viva), уже очень близкое к тому, что мы сейчас называем энергией. В современных терминах “живая сила” Лейбница — это не что иное, как кинетическая энергия, которой обладает любое движущееся тело просто в силу факта своего движения (в состоянии покоя она равна нулю). Но распространить это понятие на другие виды энергии Лейбницу не удалось, слишком уж мало было в его время про все это известно.
Между тем разновидностей энергии во Вселенной достаточно. Энергия бывает механическая, электромагнитная, ядерная, тепловая, химическая и так далее. К счастью, в этой главе нас будут интересовать исключительно те виды энергии, которыми могут пользоваться в своих интересах живые организмы. А их, как мы увидим, не так уж и много.
Две валюты
Любой живой клетке постоянно нужна энергия — примерно так же, как она нужна, например, холодильнику или всякому другому непрерывно работающему электроприбору (самая простая и понятная для современного человека аналогия). Эту энергию нужно, во-первых, откуда-то получать, во-вторых, где-то хранить и, в-третьих, иметь налаженную технологию ее использования. Надо сразу отметить, что последний пункт тут не менее важен, чем первые два. От энергии, которую невозможно высвободить, нет никакого проку. А с другой стороны, если слишком много энергии высвободится беспорядочно, то она скорее разрушит все вокруг, чем принесет какую-нибудь пользу.
Итак, начнем с пункта первого. Откуда энергию можно взять? Большинство природных видов энергии по тем или иным причинам не подходят для того, чтобы живые организмы — не считая, конечно, человека — использовали их как внешние ресурсы. Например, это относится к тепловой и ядерной энергии. Чтобы полезным источником энергии служила теплота, нужен очень большой перепад температур, который в живых организмах (в отличие от искусственных тепловых машин) практически невозможен. А чтобы таким источником служили ядерные реакции, нужны очень изощренные и опасные механизмы их проведения, которых ни у кого, кроме человека, просто нет. (В прекрасном рассказе Айзека Азимова “Паштет из гусиной печенки” фигурирует гусыня, в буквальном смысле несущая золотые яйца, и ученые приходят к выводу, что в ее организме есть ферменты, катализирующие ядерные реакции. К сожалению, такое пока бывает только в научной фантастике.) В общем, на практике земные живые существа могут утилизировать энергию всего лишь двух видов: энергию электромагнитных волн (как правило, световую) и химическую энергию. Световая энергия идет от Солнца, а химическая выделяется при перестройках молекул во время химических реакций.
Способы утилизации энергии света, довольно разнообразные по своей биохимической природе, объединяются под общим названием “фотосинтез”. Способы утилизации химической энергии еще разнообразнее, один из них — это знакомое нам по собственному опыту дыхание. Но в любом случае каждый живой организм так или иначе получает свою энергию. А что он делает с ней дальше? Ясно, что использует, но как?
Тут возникает вот какая проблема. Дело в том, что энергоемких биологических процессов — великое множество. Даже в самой простой бактериальной клетке одновременно идет несколько десятков таких процессов, причем совершенно разных по своей природе. Все они, естественно, требуют обеспечения энергией, которая именно для этого и усваивается организмом. Но очевидно, что при таком разнообразии конечных потребителей энергия, откуда бы она ни поступала, должна храниться в клетках в какой-то универсальной форме. Тогда она будет “свободно конвертируемой” и сможет пригодиться для чего угодно.
Долгое время биологи думали, что есть только одна — абсолютно универсальная — разновидность такой “свободно конвертируемой энергетической валюты”. Это молекулы аденозинтрифосфата, сокращенно АТФ (см. главу 7 и рис. 11.1). При распаде этих молекул выделяется энергия, которую очень удобно использовать в других химических реакциях. Действительно, значение АТФ для жизни на Земле колоссально. Но на самом деле есть не одна универсальная “энергетическая валюта”, а как минимум две. Первая — это АТФ (и некоторые аналогичные ему молекулы), а вот вторая вовсе не имеет химической природы — по крайней мере в энергии химических связей там ничего не запасается. Второй тип “энергетической валюты” — это ионные потенциалы на мембранах. Что это такое, мы узнаем чуть ниже. Сначала разберемся с уже более-менее знакомым нам АТФ, а потом — с ионными потенциалами.
АТФ и полифосфат
Мы уже знаем, что молекула АТФ состоит из пяти частей (см. главу 7):
* аденин;
* рибоза;
* фосфатные группы (три штуки).
Энергия, пригодная для использования в живых клетках, выделяется при разрыве связей между фосфатными группами. Обратим внимание, что фосфатных групп в АТФ три, а вот связей между ними две. Если забыть про все подробности, структуру молекулы АТФ можно записать так: А–Р–Ф~Ф~Ф. Здесь А — аденин, Р — рибоза, Ф — фосфат, а волнистыми линиями по принятой традиции обозначены те самые связи, которые соединяют фосфаты между собой. Как мы уже знаем, эти связи называются макроэргическими. Именно разрыв макроэргической связи служит источником энергии, когда молекула АТФ используется по назначению. “Макроэргические” — буквально значит высокоэнергетические. На языке обычной химии связь данного типа, возникающая между двумя фосфатами с отщеплением воды, называется фосфоангидридной. На самом деле бывают и другие типы макроэргических связей, фосфоангидридная просто самая распространенная из них.
Теперь обратим внимание еще вот на что. Источником энергии в АТФ служат фосфоангидридные связи между фосфатами, и только они. К чему эти фосфаты прикреплены — не так уж важно (по крайней мере, с точки зрения получаемой энергии). Их носителем может быть рибоза в комплекте с аденином, а может быть и что-то другое. И действительно, существуют биохимические реакции, в которых источником энергии вместо АТФ (аденозинтрифосфата) служит ГТФ (гуанозинтрифосфат) или даже УТФ (уридинтрифосфат). Энергетический выход от них примерно такой же. Например, ГТФ используется как “топливо” при синтезе белка и при сборке микротрубочек, а УТФ — при создании бактериальной клеточной стенки.
А не может ли послужить источником энергии просто цепочка фосфатных групп? Оказывается, может. Без органического носителя тут вполне удается обойтись. Биохимики уже давно обнаружили, что в живых клетках довольно часто накапливается полифосфат — полимер, состоящий из множества фосфатов, соединенных друг с другом теми самыми фосфоангидридными связями. В молекуле полифосфата может быть до тысячи фосфатных остатков. Первое время биохимики думали, что это просто запасы фосфорной кислоты, и ничего больше. Возможно, у большинства организмов так и есть. Но еще в середине XX века польский биохимик Мариан Шимона обнаружил, что существуют бактерии, у которых полифосфат участвует в обмене углеводов точно так же, как АТФ[87]. Значит, эти соединения в принципе взаимозаменяемы.
Реакцией, которую подробно изучил Шимона, было фосфорилирование глюкозы (см. главы 6 и 7). Именно с этой реакции обычно начинается усвоение глюкозы в энергетическом обмене. К молекуле глюкозы “пришивается” фосфат, и получается соединение, которое называется глюкозо-6-фосфат (цифра во всех подобных названиях относится к номеру углеродного атома в сахаре). У подавляющего большинства живых организмов источником фосфата для этой реакции всегда служит АТФ. Полифосфат используется вместо АТФ только у некоторых бактерий.
Что же это за бактерии? Заинтересовавшись этим вопросом, ученые из Института биохимии и физиологии микроорганизмов в городе Пущино провели серию сравнительных исследований (“мозгом” и руководителем этой группы был профессор Игорь Степанович Кулаев). Оказалось, что полифосфат используется вместо АТФ всего у нескольких близких друг к другу групп бактерий. Это пропионовые бактерии, микрококки, тетракокки, микобактерии и еще некоторые. Все они грамположительные, и все входят в одну достаточно компактную эволюционную ветвь, которая в современной систематике называется актинобактериями. Молекулярно-биологические данные подтверждают, что эта ветвь находится не слишком далеко от общего корня эволюционного древа клеточных организмов[88].
Это позволило Кулаеву высказать следующую гипотезу[89]. Фосфорилирование глюкозы с помощью полифосфатов — это “ископаемая” биохимическая реакция, которая, возможно, была свойственна очень древним формам жизни. Актинобактерии — единственная эволюционная ветвь, где она до сих пор сохранилась. А вот все остальные живые существа вместо полифосфата стали использовать АТФ.
Отсюда один шаг до предположения, что полифосфаты вообще были главными макроэргическими соединениями на заре жизни. В конце концов, они гораздо более распространены в обычной неживой природе, чем АТФ, который синтезируется практически только живыми организмами. И ведь должен же был энергетический обмен с чего-то начаться! Кулаев считал, что начаться он мог именно с полифосфатов, а уже потом переключиться на АТФ, оборот которого значительно легче регулировать.
Есть и еще одна молекула, служащая у некоторых бактерий источником энергии. Это пирофосфат, или пирофосфорная кислота (H4P2O7). Ее молекула — это два фосфата, соединенных уже хорошо знакомой нам фосфоангидридной связью. Естественно, при разрыве этой связи выделяется энергия. Известный биохимик Фриц Липман — тот самый, с именем которого связаны понятия “макроэргическая связь” и “макроэргическое соединение”, — еще в 1960-х годах говорил, что первичным для земной жизни источником энергии, вероятно, был именно пирофосфат[90]. Потом его заменили полифосфаты, которых на древней Земле наверняка было много. И только после этого на смену полифосфатам пришел АТФ. Одним словом, Липман считал, что главные энергоносители жизни замещали друг друга в такой последовательности:
пирофосфат → полифосфат → АТФ
Надо учитывать, что пирофосфат — это ведь, по сути, просто маленький обрывок полифосфата. А полифосфатов на древней Земле, по всем данным, хватало. Геологи говорят, что в них легко конденсировались летучие соединения фосфора, содержавшиеся в вулканических газах, — а вулканическая активность в те времена, когда возникала жизнь, была очень высока[91]. Так что в качестве внешнего источника фосфатных групп полифосфаты наверняка пригодились первым живым существам. Вот в какой мере они служили энергетическими посредниками во внутреннем обмене — тут еще надо разбираться. Но, во всяком случае, невероятными гипотезы Кулаева и Липмана не выглядят.
АТФ и прочие молекулы
Итак, в ходе биологической эволюции цепочка фосфатных групп с высокоэнергетическими связями была посажена на органический носитель. И этим носителем оказалась рибоза с присоединенным к ней аденином. В результате получился АТФ, который и стал самым универсальным энергоносителем во всей живой природе. Естественно задать вопрос: чем же эта молекула так хороша?
Признаемся честно, на данный момент мы вряд ли сможем обосновать дедуктивным методом (то есть идя от общего к частному) утверждение, что АТФ в этой роли лучше любой другой молекулы. В конце концов, это может оказаться просто неверно. В состоявшемся выборе могла сыграть роль и обыкновенная случайность. Но перечислить несколько — если так можно выразиться — параметров оптимизации, по которым АТФ в этой роли лучше некоторых других молекул, вполне можно уже прямо сейчас.
Прежде всего, АТФ — это молекула, далеко не чуждая клетке и сама по себе, то есть независимо от своей энергетической функции. Она служит одним из четырех “кирпичиков”, из которых в обязательном порядке собирается любая РНК. А РНК — это, судя по всему, основа основ древней жизни (см. главу 8). Тогда, однако, сразу возникает следующий вопрос: почему в качестве главного энергоносителя была выбрана именно молекула АТФ, а не ГТФ, ЦТФ или УТФ? Ведь для синтеза РНК они имеют точно такое же значение.
Одна из причин может быть в том, что аденин — единственное из широко распространенных азотистых оснований, в котором нет атомов кислорода. Можно поэтому предположить, что на древней Земле, где свободного кислорода в атмосфере практически не было, аденин самопроизвольно синтезировался особенно легко (см. главу 7). Но есть и другой фактор. Широко известно, что в современной атмосфере Земли есть озоновый слой, который отражает ультрафиолетовую составляющую солнечных лучей. Озон — это молекула, состоящая из трех атомов кислорода (O3), и образуется он из обычного молекулярного кислорода (O2). Но в эпоху, когда жизнь на Земле только возникла, кислорода в атмосфере не было. И озона, соответственно, тоже. Ультрафиолетовые лучи свободно достигали поверхности Земли. Так вот, показано, что аденин в силу структуры своей молекулы прекрасно эти лучи улавливает. А если квант ультрафиолетового излучения будет “пойман” молекулой АДФ, то она с заметной вероятностью может спонтанно присоединить еще один фосфат и превратиться в АТФ. Это явление называется фотофосфорилированием. То, что так бывает, проверено экспериментально, и попутно показано, что нуклеотиды, содержащие другие азотистые основания, этим свойством не обладают. Получается, что именно особенности взаимодействия с ультрафиолетовыми лучами могли создать на заре жизни небольшой избыток АТФ и в результате, так сказать, дать этому веществу “преимущество на старте”, которое и сделало главным источником энергии именно его, а не какую-нибудь другую аналогичную молекулу[92].
Чисто энергетические характеристики АТФ тоже по-своему интересны. Но чтобы их понять, надо предварительно сказать несколько слов о том, от чего зависят направления химических реакций.
Начнем с того, что любая материальная система обладает некоторой внутренней энергией. И эта внутренняя энергия может уменьшаться, а может прирастать. При этом известно, что в природе есть два способа передачи энергии: работа (упорядоченное движение любого рода) и теплота (хаотичное движение отдельных частиц)[93]. Часть внутренней энергии системы, которую можно превратить в работу, называется свободной энергией. Любой процесс, и в том числе химическая реакция, может идти самопроизвольно только в том случае, если суммарная свободная энергия системы в результате уменьшается. Это следует из второго закона термодинамики, вникать в который мы сейчас не будем, но который, безусловно, является одним из фундаментальных законов природы.
Свободную энергию системы можно вычислять разными способами. В химии, в том числе и биологической, чаще всего используют свободную энергию Гиббса, которая рассчитывается для условий с постоянной температурой и давлением. Ее принято обозначать буквой G. Химическая реакция может протекать самопроизвольно, если энергия Гиббса в результате уменьшается, и не может, если она увеличивается. В естественных науках принято обозначать изменение какого-либо параметра греческой буквой Δ (“дельта”). Итак, любая химическая реакция может самопроизвольно пойти, если ΔG<0, и не может, если ΔG>0. Повторим, что ΔG — это происходящее в результате данной реакции изменение свободной энергии Гиббса той системы, где реакция идет.
Надо учитывать, что свободная энергия всегда рассчитывается для строго определенного количества вещества и для строго определенных условий, принятых за стандартные. Единица ее измерения — килоджоуль на моль (кДж/моль). Килоджоуль — это единица энергии (1 килоджоуль = 1000 джоулей), а моль — это принятая в химии единица количества вещества, характеризующая число молекул или любых других частиц просто в штуках. Без остальных подробностей мы сейчас можем обойтись.
Как же это работает? Возьмем для примера какую-нибудь химическую реакцию, прекрасно идущую самопроизвольно, например реакцию водорода (H2) с кислородом (O2). Если эти газы смешать и нагреть, произойдет весьма впечатляющий взрыв, в результате которого водород с кислородом соединятся, образовав воду (H2O). Вот уравнение этой реакции:
H2 + ½O2 → H2O
Коэффициент ½ перед кислородом тут означает, что для образования любого данного количества воды нужно вдвое меньше молекул кислорода, чем молекул водорода. Ну а изменение энергии Гиббса для этой реакции будет следующим:
ΔG = –237,6 кДж/моль
Поскольку это намного меньше нуля, то самопроизвольное протекание реакции вполне возможно, что, собственно, и будет наблюдать каждый, кто умудрится поджечь водород. Между прочим, именно из-за большого отрицательного изменения энергии Гиббса в этой реакции происходили все пожары и взрывы водородных дирижаблей, в том числе знаменитая катастрофа германского дирижабля “Гинденбург”, погибшего над Северной Америкой в 1937 году. Если уж летать на дирижаблях, то гораздо лучше наполнять их гелием, который с кислородом не реагирует. “Гинденбург” погиб потому, что немцам в 1930-х годах добыча промышленных количеств гелия была недоступна: на Земле, в отличие от космического пространства, это очень редкий газ.
Ну а теперь вернемся к АТФ. Вернее, не только к нему. Дело в том, что кроме полифосфатов и нуклеозидтрифосфатов (АТФ, ГТФ, УТФ, ЦТФ...) в биохимии встречается и много других молекул, содержащих фосфатные группы. Как правило, фосфат может отрываться от такой молекулы с участием воды, то есть путем гидролиза (разрыв фосфоангидридной связи в АТФ — это и есть типичный пример гидролиза). И эта реакция сопровождается снижением свободной энергии, а значит, может идти самопроизвольно. Но точная величина ΔG тут будет для каждого соединения своя.
Рассмотрим еще две молекулы, содержащие фосфат, но совсем не родственные АТФ по структуре. Первая из них — фосфоенолпируват, трехуглеродная молекула с карбоксильной группой и двойной связью (производное пировиноградной кислоты). Вторая — глицерофосфат, трехуглеродная молекула с двумя гидроксильными группами и без двойных связей (производное спирта глицерина). Обе эти молекулы могут отдавать фосфат путем гидролиза, точно так же, как и АТФ. Вот упрощенные уравнения этих реакций:
АТФ + H2O → АДФ + фосфат
глицерофосфат + H2O → глицерин + фосфат
фосфоенолпируват + H2O → пируват + фосфат
Во всех этих реакциях происходит один и тот же процесс, а именно отрыв фосфата. Изменение свободной энергии, однако, в этих трех случаях будет совершенно разным. Давайте посмотрим на цифры.
Для гидролиза глицерофосфата ΔG = –9,2 кДж/моль.
Для гидролиза АТФ ΔG = –31,8 кДж/моль.
И наконец, для гидролиза фосфоенолпирувата ΔG = –58,2 кДж/моль.
Что мы тут видим? Во-первых, все три значения меньше нуля, то есть реакции, бесспорно, самопроизвольные. Во-вторых (это тоже важно), можно заметить, что все три значения по численной величине намного меньше, чем ΔG реакции сгорания водорода (см. выше), которую можно назвать более-менее типичной для “обычной” неорганической химии. Отсюда мы видим, что перепады энергии в биохимических реакциях на самом-то деле обычно не так уж и велики. Потому что слишком большие могли бы стать разрушительными.
И главное: из приведенных цифр хорошо видно, что АТФ далеко не самое высокоэнергетическое соединение из тех, что доступны обычной земной биохимии. Например, от распада фосфоенолпирувата энергетический выход гораздо больше. Видимо, от вещества-энергоносителя вовсе не требуется, чтобы порция энергии, которую несет его молекула, была огромной. Гораздо важнее, чтобы эта порция подходила для как можно большего числа процессов-потребителей и могла быть ими сразу усвоена (тогда никакая часть энергии не будет пропадать зря). Вот этому условию АТФ, надо думать, и отвечает. Как и во многих других случаях, тут выбрано не максимальное, а оптимальное значение ключевого параметра.
Протоны и энергия
Представим себе два водных объема, разделенных мембраной. Это вполне может быть обычная липидная мембрана, изолирующая от внешней среды живую клетку или любой компартмент внутри нее (см. главы 5, 10). Нам сейчас абсолютно неважно, что по какую сторону, важно только, что мембрана отделяет друг от друга два заполненных водой “отсека”.
Теперь представим, что в один из “отсеков” добавили кислоту. Кислота — это любая молекула, которая в водном растворе распадается с выделением иона водорода H+, то есть, иначе говоря, протона (см. главу 1). В результате по одну сторону мембраны станет намного больше ионов H+, чем по другую (см. рис. 11.2А). Клеточная мембрана практически непроницаема для ионов H+, если только в ней нет специальных каналов для них. Итак, по разные стороны мембраны возникнет устойчивая разность концентраций ионов H+.
Между тем известно, что при отсутствии препятствий концентрация любого вещества в любом объеме всегда стремится выравняться. Этот процесс выравнивания называется диффузией. Диффузия всегда идет самопроизвольно: любое вещество как бы само собой стремится занять весь отведенный ему объем. Это относится и к газу, который перемешали с другим газом, и к сахару, растворенному в чашке чая, и к кислоте, которая попала в воду.
Но в нашем случае на пути диффузии стоит преграда. По одну сторону мембраны концентрация ионов H+ намного выше, чем по другую, и при этом пройти сквозь мембрану они не могут. Точнее, они бы еще как прошли, если бы их пропустили! И в результате существующая разность концентраций протонов обращается в запас потенциальной энергии, которую, в свою очередь, вполне можно превратить в работу.
Сделать это очень просто. Нужно создать в мембране каналы, через которые протоны смогут свободно проходить. Тогда они тут же сами собой потекут с той стороны мембраны, где их больше, на ту, где их меньше. И вот энергию этого движения протонов вполне можно будет использовать для работы — для любой работы, в том числе и для синтеза АТФ. Для этого понадобится “всего лишь” ухитриться совместить протонный канал с молекулярным аналогом старинной водяной мельницы, которая будет крутиться под напором протонов, переводя их энергию в какую-нибудь другую, более полезную форму. Сама мембрана в этом случае играет роль плотины, с которой водяная мельница связана. А разность концентраций протонов аналогична разности уровня воды выше и ниже этой плотины.
Внимание: мы только что познакомились с принципом работы реально существующего и очень важного белка, который называется протонная АТФ-синтаза (см. рис. 11.3). Это огромный белок со сложнейшей четвертичной структурой, то есть собранный из целого набора отдельных субъединиц. Строго говоря, это даже целый комплекс белков, работающих как единое целое. Этакая “супермолекула”. Единым белком ее называют только ради простоты. На электронной микрофотографии протонная АТФ-синтаза выглядит как грибовидная структура, вставленная в мембрану. Активный центр, синтезирующий АТФ, находится в “шляпке гриба” (она всегда обращена на ту сторону мембраны, где протонов меньше). А в “ножке гриба” проходит протонный канал, пропускающий протоны с одной стороны мембраны на другую.
Как и многие другие белки, молекула АТФ-синтазы представляет собой полноценную механическую машину, вполне сравнимую по сложности с настоящей мельницей или, скажем, с каким-нибудь револьвером (если отвлечься от тонких деталей субатомного уровня). Активных центров, которые синтезируют АТФ, в типичной протонной АТФ-синтазе на самом деле три. Все они расположены в “шляпке”. Под действием протонов, текущих сквозь находящийся в “ножке” канал, “шляпка” вращается, как барабан трехзарядного револьвера, и в ней происходят конформационные изменения активных центров, превращающие АДФ в АТФ. Причем “спусковым крючком”, запускающим это вращение, служит протонирование карбоксильной группы в боковой цепи определенного остатка аминокислоты аспартата — тем самым отрицательный заряд этой аминокислоты меняется на нулевой (см. главу 3). На всякий случай вспомним, что протонирование — это переход карбоксильной группы из формы –COO– в форму –COOH, происходящий, если в окружающем растворе много протонов (H+). Уж где-где, а в открытом протонном канале, по которому протоны сами текут, это условие выполняется.
Протонная АТФ-синтаза — великолепный образец того, что биофизики называют молекулярными машинами. Фактически молекула протонной АТФ-синтазы представляет собой самый настоящий электродвигатель с роторным механизмом[94]. Это один из высших примеров сложности, которой могут достигать белковые молекулы. В 1997 году два биохимика, англичанин Джон Уокер и американец Пол Бойер, получили за открытие роторного механизма АТФ-синтазы Нобелевскую премию по химии. Одна известная обзорная статья на эту тему прямо так и называется: “АТФ-синтаза — чудесный роторный двигатель клетки”[95].
А теперь следует сказать вот что. Есть огромное количество живых организмов, у которых основным источником АТФ является именно работа протонных АТФ-синтаз (по крайней мере, с большим отрывом от любых других поставляющих энергию процессов). В частности, именно протонные АТФ-синтазы создают большую часть тех нескольких десятков килограммов АТФ, которые ежесуточно синтезируются в организме человека (см. главу 7). Это уже достаточная причина, чтобы присмотреться к роли протонных АТФ-синтаз повнимательнее.
Великая протонная альтернатива
Все началось в 1929 году, когда немецкий биохимик Карл Ломан открыл АТФ[96]. Сначала ему удалось выделить из тканевых экстрактов некое доселе неизвестное бесцветное вещество, содержащее азот и фосфор и явно принимающее участие в энергетическом обмене. Потом Ломан показал, что гидролиз этого вещества (то есть его распад с участием воды) дает две части фосфорной кислоты, одну часть аденина и одну часть рибозо-5-фосфата. Мысленно собрав все эти части вместе, как элементы конструктора, Ломан в итоге совершенно правильно установил структуру исходной молекулы, которая и оказалась аденозинтрифосфатом.
После этого стали очень быстро накапливаться разнообразные данные, показывающие, что АТФ служит в живых организмах универсальным резервуаром химической энергии. Стало ясно, что он активно участвует и в дыхании, и в мышечном сокращении, и во многих других жизненно важных процессах. Вывод, что АТФ является всеобщей “энергетической валютой”, был сделан биохимиками уже к началу 1940-х годов. Именно тогда Фриц Липман (кстати, работавший некоторое время в одной лаборатории с Карлом Ломаном) предложил уже знакомое нам понятие макроэргической связи, подразумевая, конечно, в первую очередь связи между фосфатами в АТФ.
Следующий важный вопрос возник при изучении дыхания, то есть производимого живыми организмами окисления глюкозы до углекислого газа и воды. В результате дыхания синтезируется очень много АТФ — это было ясно. Проблема была в том, что ученым никак не удавалось найти химическую реакцию, непосредственно “привязывающую” окончательный распад глюкозы к синтезу АТФ из АДФ и фосфата. В конце концов им пришлось предположить, что между этими этапами дыхания есть какой-то добавочный макроэргический посредник: энергия, высвобожденная в результате распада глюкозы, сначала передается на этот посредник, а потом уже с него на АТФ. Но и молекулу-посредник найти тоже никак не удавалось. Как раз наоборот, чем тщательнее биохимики исследовали процесс дыхания, тем более неуловимым этот загадочный посредник начинал выглядеть.
Проблему решил английский биохимик Питер Митчелл. Он сначала предположил, а потом и сумел строго доказать, что никакой молекулы-посредника вообще не существует. Хотя промежуточное энергетическое звено действительно есть. Но это не молекула (какая бы то ни было), а всего лишь разность концентраций протонов по разные стороны мембраны. Именно разность концентраций протонов создает так называемую протондвижущую силу, действие которой, в свою очередь, приводит к синтезу АТФ. Получается, что в живых организмах есть еще один — альтернативный — резервуар энергии, не имеющий ни с какими макроэргическими связями ничего общего. Неудивительно, что, когда открытие Митчелла подтвердилось, он получил за него Нобелевскую премию — правда, почему-то по химии (в 1978 году). Кстати, это один из немногих примеров, когда Нобелевская премия за экспериментальное исследование получена в одиночку. Митчелл был очень самостоятельным гением. В науке XX века такие фигуры редки, но Митчелл был именно таков.
Ну а теперь подведем итог тому, что мы уже знаем, с помощью строгих определений. Потенциальная энергия ионов H+, скопившихся по одну сторону непроницаемой для них мембраны, называется протонным потенциалом. (Уточним, что потенциальной энергией мы называем — если можно так выразиться — запас способности произвести работу, связанный с расположением неких объектов в пространстве относительно друг друга. Потенциальная энергия может превратиться в работу, если эти объекты получат возможность переместиться. С точки зрения такой почтенной науки, как физика, это пояснение довольно-таки неуклюже, но нам здесь его хватит.) В общем случае величина протонного потенциала зависит, во-первых, от концентрации самих протонов и, во-вторых, от того, как по разные стороны мембраны распределены электрические заряды (созданные самими протонами или любыми другими частицами независимо от них). Мы ведь помним, что протоны заряжены положительно, поэтому при прочих равных условиях они будут сильнее стремиться туда, где преобладает отрицательный заряд. По этому поводу ученые говорят, что протонный потенциал имеет две составляющие — концентрационную и электростатическую (см. рис. 11.2А, Б).
Разность протонных потенциалов между двумя мембранными отсеками обозначается ∆μH (“дельта-мю-аш”). Здесь ∆ — символ разности, H означает водород, а буквой μ принято обозначать величину, которая называется химическим потенциалом и является, по сути, химической разновидностью потенциальной энергии. Протонный потенциал — это очень простой частный случай химического потенциала. В реальных задачах всегда, без исключений, обсуждается только разность протонных потенциалов между некоторыми двумя точками или отсеками (например, между наружной и внутренней сторонами клеточной мембраны). Поэтому протонный потенциал и ∆μH — это фактически одно и то же, слово “разность” тут сплошь и рядом опускают.
Итак, мы теперь знаем, что в клетке есть по меньшей мере две совершенно разные “энергетические валюты” — концентрация АТФ и протонный потенциал, — которые могут достаточно свободно “конвертироваться” друг в друга:
∆μH ⇌ АТФ
Задачей уже знакомой нам протонной АТФ-синтазы является (в этих терминах) не что иное, как “конвертирование” энергии протонного потенциала в энергию связей АТФ. Впрочем, обратная операция тоже вполне возможна. Белок, способный с затратой АТФ переносить протоны через мембрану против разности потенциалов (то есть туда, где их и так больше), называется протонной АТФазой, или протонным насосом. Очевидно, что протонный насос, наоборот, превращает энергию связей АТФ в энергию протонного потенциала. Бывают ситуации, когда это нужно.
Третий резерв
Есть еще и третья разновидность широко распространенной “энергетической валюты”. Это натриевый потенциал, устроенный точно так же, как протонный.
Натрий — это металл. Он обозначается химическим символом Na, а в водном растворе образует положительно заряженные ионы Na+. Наиболее широко известное соединение натрия — поваренная соль NaCl, кристаллы которой состоят из положительно заряженных ионов натрия (Na+) и отрицательно заряженных ионов хлора (Cl–).
Ионы натрия, как и протоны, практически не проходят через клеточную мембрану. (Оговорка насчет “практически” тут добавлена не просто так. Она означает, что подтекать сквозь мембрану ионы на самом деле все-таки могут, но по сравнению с типичными скоростями внутриклеточных процессов это происходит настолько медленно, что в большинстве случаев может вовсе не учитываться. С протонами ситуация точно такая же. В нужном нам сейчас приближении клеточная мембрана практически непроницаема как для натрия, так и для протонов.) Поэтому, если по одну сторону мембраны скопилось много ионов натрия, а по другую сторону их нет (или мало), разность концентраций надолго останется устойчивой. И в результате возникнет натриевый потенциал ∆μNa. Как и протонный потенциал, он включает в себя не только концентрационную составляющую, но и электростатическую. Это означает, что, если концентрации окажутся одинаковыми, натрий, дай ему волю, будет течь туда, где электрический заряд отрицательный, а не положительный, в полном соответствии с законом Кулона (см. главу 1).
Энергию натриевого потенциала можно перевести в энергию связей АТФ, если дать натрию протечь через специально предназначенные для него каналы. Роль биохимической “водяной мельницы” при этом исполнит белок, родственный протонной АТФ-синтазе, — натриевая АТФ-синтаза. Можно и создать натриевый потенциал с нуля, если, наоборот, потратить энергию АТФ на перекачку натрия. Для этого служат натриевые насосы. В общем, тут, как и в случае с протонным потенциалом, возможно “конвертирование” энергии в обе стороны:
∆μNa ⇌ АТФ
Можно утверждать, что протонный и натриевый потенциалы взаимозаменяемы — по крайней мере, у микроорганизмов. Служить источником энергии может и тот и другой. В клетках эта энергия извлекается одинаковыми способами, хотя оба варианта имеют свои мелкие достоинства и недостатки. В целом натриевая энергетика служит полноценной альтернативой по отношению к протонной[97]. В условиях, которые распространены на Земле сейчас, протонный потенциал, как правило, производительнее, поэтому у современных бактерий и архей он используется гораздо чаще. Но бывают и ситуации, когда натриевая энергетика становится выгоднее протонной. Это происходит или при очень низкой кислотности (иными словами, в щелочном растворе), или при очень высокой, по меркам живых организмов, температуре, например около 60 °С. В щелочном растворе протонов просто слишком мало. А при высокой температуре клеточные мембраны начинают пропускать протоны, в то время как натрий они все еще “держат”. В этих случаях может дойти и до полного отказа от протонного потенциала в пользу натриевого.
Современных микробов с чисто натриевой мембранной энергетикой относительно немного. Большинство из них приспособлены или к щелочной среде (алкалофилы), или к жизни в горячей воде (гипертермофилы). Но не все. Исследования последних десятилетий показали, что натриевая энергетика распространена у микробов гораздо шире, чем думали раньше[98]. Возможно, это связано с тем, что данный тип обмена эволюционно очень древний. Более того, есть основанная на сравнительном исследовании разных АТФ-синтаз гипотеза, что натриевая энергетика древнее протонной[99]. Это означает, что когда в глубине веков первый микроб “научился” синтезировать АТФ, пропуская сквозь мембрану ионы, то это были именно ионы натрия. Аналогичный механизм, использующий протоны, возник позже. Если эти выводы подтвердятся, они, в свою очередь, могут подсказать нам много интересного о самых ранних этапах биологической эволюции и о среде, в которой возникла жизнь. Чуть ниже мы об этом еще поговорим.
Натриевые и протонные потенциалы важны для многих областей биологии, вплоть до физиологии человека и животных. У животных (в том числе, разумеется, и у человека) внешняя клеточная мембрана относительно плохо “держит” протоны, поэтому протонный потенциал на ней не используется в качестве источника энергии. А вот натриевый — используется. Правда, там это реализуется не путем синтеза АТФ, а некоторыми другими способами, с которыми мы тоже сейчас познакомимся.
Мембраны и транспорт
Хорошо известно, что одной из главных задач, постоянно решаемых любым живым организмом, является поддержание так называемой внутренней среды (которая противопоставляется внешней, или окружающей, среде и в идеале никогда не должна с ней смешиваться). Это относится и к отдельной клетке. Внутриклеточная жидкость и внеклеточная среда отличаются друг от друга содержанием практически всех молекул, включая самые простые. Например, цитоплазма абсолютного большинства живых клеток содержит гораздо больше ионов калия (K+), чем ионов натрия (Na+), хотя и в пресной, и в морской воде соотношение обратное: там солей натрия больше, чем солей калия. А уж по части более сложных молекул различия между клеткой и внешней средой еще сильнее. Как же эти различия создаются?
Ответ нам известен. Границей между любой живой клеткой и окружающей средой служит мембрана (в данном случае — внешняя, или плазматическая). Она всегда замкнутая. Внешняя мембрана есть даже у некоторых вирусов, а уж клетка без нее немыслима вовсе. В 1940-е некоторые биологи считали, что клетка — это безмембранный компартмент, поддерживающий свою структуру за счет физических свойств полужидкой цитоплазмы, а вовсе не благодаря мембране, существование которой эти ученые отрицали. Споры на эту тему закончились, когда мембрану удалось воочию увидеть под электронным микроскопом. С тех пор никто не сомневается, что любая живая клетка просто по определению ограничена мембраной.
Самое важное с точки зрения живого организма свойство мембраны называется избирательной проницаемостью. Попросту говоря, это значит, что одни молекулы сквозь нее проходят, а другие нет. Например, вода проходит через мембрану очень хорошо (хотя все равно с некоторыми ограничениями), а вот белки не проходят совсем, потому что их молекулы для этого слишком велики. Что касается молекул среднего размера, то с ними все бывает по-разному. Относительно хорошо сквозь мембрану проходят гидрофобные молекулы, которые несут очень мало локальных электрических зарядов (см. главу 2). Именно таковы, например, молекулы стероидных гормонов, которые могут поэтому проникать прямо в клеточное ядро (см. главу 5). И наоборот, гидрофильные молекулы, где локальных электрических зарядов много, проходят сквозь мембрану с трудом.
Но ведь при всем этом любая живая клетка является открытой системой. А это значит, что она должна постоянно обмениваться с внешней средой не только энергией, но и веществом. (Система, способная обмениваться с внешней средой только энергией, называется закрытой, но в биологии таких систем практически не бывает.) Короче говоря, клетка должна получать нужные вещества и выводить ненужные. Само собой разумеется, что весь этот обмен идет через мембрану.
Молекулы любого вещества, во-первых, находятся в непрерывном хаотическом движении и, во-вторых, всегда стремятся переходить из области с более высокой концентрацией этого вещества в ту область, где его концентрация ниже. Мы уже знаем, что этот процесс называется диффузией. Принято говорить, что диффузия идет по градиенту концентрации. (Словом “градиент” в естественных науках называют направленное изменение некоторого параметра в пространстве. Например, бывают градиенты концентрации, температуры, плотности, солености, освещенности.) Движение молекул по градиенту концентрации идет самопроизвольно, с уменьшением свободной энергии. А вот движение молекул против градиента (то есть от низкой концентрации к высокой) не может быть самопроизвольным ни при каких условиях. Для этого нужна энергия, подводимая извне.
Однако ясно, что и движение молекул по градиенту, энергетически “разрешенное” и даже выгодное, не сможет осуществиться, если для него есть непреодолимая преграда. Вот такой преградой и служит клеточная мембрана. Например, ионы натрия, которых снаружи клетки обычно гораздо больше, чем внутри, “стремятся” попасть внутрь, но при замкнутой мембране сделать этого не могут.
Для молекул, которые с трудом преодолевают мембрану, но при этом нужны клетке (или, наоборот, совершенно не нужны и должны быть из нее выведены), существуют специальные переносчики. Обычно таким переносчиком служит встроенный в мембрану интегральный белок (см. главу 5). Молекула этого белка захватывает ту молекулу, которую нужно перенести, на одной стороне мембраны и высвобождает ее на другой. Никакой энергии, кроме той, что потребовалась на создание переносчика и его встраивание в мембрану, клетка при этом не тратит. Белок-переносчик просто облегчает молекулам путь сквозь мембрану, который они в принципе могли бы пройти и сами, но гораздо медленнее. Это называется облегченной диффузией.
Белки, производящие облегченную диффузию, принято называть каналами (рис. 11.4А, Б). Молекула белка-канала часто бывает устроена как вставленный в мембрану колодец (обычно со створкой, которая может открываться и закрываться). Очень важное свойство белков-каналов — селективность, то есть избирательность. Как правило, каждый из них предназначен только для одной молекулы или иона. Например, натриевый канал плохо пропускает калий и наоборот. Ионные каналы — натриевые, калиевые, протонные, хлорные — очень широко распространены в природе, их разнообразие просто огромно.
В отличие от облегченной диффузии активный транспорт — это перемещение молекул против градиента концентрации (см. рис. 11.4Д). При активном транспорте молекулы переходят оттуда, где их концентрация низка, туда, где она и без того уже высока, и на это тратится энергия. Мембранные белки, производящие активный транспорт, называются насосами. Широко известен, например, натрий-калиевый насос, который одновременно переносит ионы натрия изнутри клетки наружу, а ионы калия снаружи внутрь — и то и другое против градиента концентрации. Нечего и говорить, что энергии на это нужно немало. На самом деле для многих клеток именно работа мембранных насосов образует одну из главных “статей расхода”, на которую тратится огромное количество АТФ. Насос устроен сложнее, чем канал. Селективность у него ничуть не хуже: любой мембранный насос, как правило, переносит только ту молекулу, для которой он изначально предназначен.
Кроме того, существует сопряженный транспорт, когда один и тот же белок-переносчик одновременно переносит через мембрану разные молекулы — одну по градиенту концентрации, а другую — против. Тут есть как минимум два разных варианта.
Сопряженный транспорт, при котором две молекулы (или ионы) переносятся белком-переносчиком в одну и ту же сторону, называется симпортом. Какая от него может быть польза? Вот, например, представим себе животную клетку, которой нужна глюкоза (то есть в общем-то любую животную клетку). Глюкоза — важнейший промежуточный продукт обмена веществ, ее концентрация в любой клетке заведомо гораздо выше, чем во внеклеточной среде. Тем не менее переправить ее из этой среды внутрь клетки как-то нужно. Конечно, эту задачу можно было бы решить, просто потратив АТФ. Но есть и обходной путь, причем очень удобный. Мы уже говорили, что в любой живой клетке, в том числе и животной, обычно очень мало натрия. Снаружи от клетки — в крови, в тканевой жидкости, где угодно — его намного больше. Сам по себе натрий клетке не нужен. Но если все-таки дать ему в нее войти, это будет диффузия, приводящая к снижению свободной энергии, попросту говоря, энергетически выгодный процесс. Так вот, существует белок-переносчик, который одновременно пропускает внутрь клетки ионы натрия и молекулы глюкозы (рис. 11.4, В). В результате перенос глюкозы энергетически “оплачивается” ценой переноса натрия — без всякой траты АТФ! Именно с помощью такого глюкозного транспортера происходит, например, всасывание глюкозы клетками нашего кишечника.
Сопряженный транспорт, при котором молекулы или ионы переносятся одним и тем же белком-переносчиком в разные стороны, называется антипортом. Тут возможно точно такое же энергетическое сопряжение, как и в симпорте: одна молекула переносится по градиенту, вторая — против градиента, и перенос первой “оплачивает” перенос второй. Например, допустим, что из животной клетки нужно вывести накопившиеся там лишние ионы H+, при том что в жидкости снаружи от клетки их еще больше. Белок, способный решить эту задачу, называется натрий-протонным антипортером (рис. 11.4, Г). Он впустит в клетку некоторое количество ионов натрия (которых снаружи всегда больше, поэтому их вход энергетически выгоден) и в обмен на них выведет из клетки протоны. Этот механизм действует, например, в наших почках: именно с помощью натрий-протонного антипортера ненужные протоны выбрасываются в мочу, чтобы быть окончательно удаленными из организма.
Очень широко используют натрий-протонный антипорт бактерии. Обменивая протоны на ионы натрия, они фактически конвертируют натриевый мембранный потенциал в протонный (или, с тем же успехом, наоборот):
∆μNa ⇌ ∆μH.
Это позволяет одной и той же бактерии использовать в качестве запасов энергии и протонный, и натриевый потенциалы, переходя от одного к другому в зависимости от условий внешней среды. Раз уж такая возможность есть, почему бы ею не пользоваться? Вот бактерии и пользуются, для них это полезный инструмент адаптации.
Как видим, транспорт через клеточную мембрану занимает в энергетическом обмене важнейшее место. Настолько важное, что впору задать вопрос: не началась ли жизнь как таковая именно с мембранной энергетики? И в самом деле, такую мысль иногда высказывают. Мы еще вернемся к ней.
Окислительно-восстановительные реакции
В зависимости от того, откуда живые организмы берут энергию, их можно разделить всего на две главные категории: фототрофы, для которых источником энергии является свет, и хемотрофы, для которых источником энергии являются окислительно-восстановительные химические реакции. В отношении света нам вполне достаточно понимать, что это разновидность электромагнитных волн. А вот что такое окислительно-восстановительные реакции — придется пояснить, благо все необходимые для этого понятия мы из предыдущих глав уже знаем.
Итак, представим себе любое вещество, состоящее из молекул. Атомы в типичной молекуле соединены между собой ковалентными связями, каждая из которых образована парой электронов. Число ковалентных связей, которые может образовать данный атом, называется его валентностью (см. главу 1). Валентность водорода равна 1, кислорода 2, азота 3, углерода 4 и фосфора 5. В соединениях с ионными связями, где электроны целиком переходят от одного атома к другому, валентность каждого иона приравнивается к величине его заряда.
Ковалентные связи делятся на полярные и неполярные (см. главу 2). В неполярной ковалентной связи электроны, условно говоря, расположены точно посредине, а в полярной они смещены в сторону одного из атомов. Сила, с которой этот атом оттягивает на себя электроны, называется его электроотрицательностью. На самом-то деле правильнее говорить, что смещаются не целые электроны, а максимум плотности электронного облака. Но так или иначе из-за этого частичного смещения электронов атомы, участвующие в полярной ковалентной связи, приобретают маленькие (намного меньше единицы) электрические заряды. На одном атоме этот заряд положительный, на другом отрицательный. Например, на кислороде он обычно отрицательный, потому что электроотрицательность кислорода очень высока. Это означает, что он почти во всех своих соединениях оттягивает электроны на себя.
Еще древние философы знали, что человеческому уму гораздо удобнее работать с дискретными единицами, чем с непрерывными совокупностями. Вот поэтому химики и придумали чисто формальное, зато достаточно емкое понятие под названием “степень окисления”. Степень окисления — это условный заряд данного атома, вычисленный исходя из предположения, что все его связи являются ионными (независимо от того, так ли это на самом деле). Неполярные ковалентные связи, в которых партнеры строго равноправны, в рамках этого определения игнорируются. А вот любую полярную ковалентную связь мы мысленно заменяем на ионную и воображаем, что каждый участвующий в ней электрон целиком захвачен каким-нибудь из атомов. Каким именно — зависит от электроотрицательности. Но в любом случае степень окисления может быть только целым числом. Например, молекула воды (H2O) состоит из одного атома кислорода (O) и двух атомов водорода (H), каждый из которых соединен с атомом кислорода одинарной ковалентной связью. Электроотрицательность кислорода больше, чем у водорода, поэтому электроны, образующие ковалентные связи, он оттягивает на себя. Это означает, что в молекуле воды атом кислорода имеет степень окисления –2, а каждый из атомов водорода +1. Молекула углекислого газа (CO2) состоит из атома углерода и двух атомов кислорода, соединенных с ним двойными ковалентными связями. В этой молекуле атом углерода имеет степень окисления +4, а каждый из атомов кислорода –2. Сумма степеней окисления всех атомов в любой частице равна ее полному электрическому заряду. Если эта частица — незаряженная молекула, то сумма степеней окисления всех атомов равна нулю. На примере углекислого газа и воды мы видим, что это действительно так.
Теперь посмотрим на вещи чуть шире. Некоторые химические реакции приводят к тому, что распределение электронной плотности у атомов существенно меняется. Попросту говоря, это означает, что около каких-то атомных ядер электронов становится меньше, а около каких-то больше. Понижение электронной плотности у данного атома называется окислением, а ее повышение — восстановлением. Говоря формально, окисление — это потеря электронов, а восстановление — приобретение электронов. Если атом, степень окисления которого до реакции была равна нулю, в результате реакции окислился, то его степень окисления становится положительной, а если восстановился, то отрицательной (поскольку заряд электрона равен –1). В реальных химических реакциях электроны могут только переходить от одних атомов к другим, поэтому процессы окисления и восстановления всегда идут одновременно. Вот те реакции, в которых они идут, и называются окислительно-восстановительными. Особо подчеркнем, что к этой категории относятся не все химические реакции, а только некоторые.
Например, уже знакомая нам реакция взаимодействия водорода и кислорода с образованием воды является типично окислительно-восстановительной. Посмотрим еще раз на уравнение этой реакции:
H2 + ½O2 → H2O.
В левой части этого уравнения степени окисления водорода и кислорода по определению равны нулю. В правой же части мы видим, что водород окислился, а кислород восстановился. Иначе говоря, произошло перераспределение электронной плотности: у водорода она уменьшилась, а у кислорода увеличилась. Эта реакция (как мы уже знаем) энергетически выгодна. И неудивительно, что есть бактерии, способные реально использовать ее как источник энергии, — они называются водородными бактериями.
Вот еще один пример окислительно-восстановительной реакции, используемой некоторыми живыми существами для получения энергии:
CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O.
Здесь происходит превращение углекислого газа (CO2) в метан (CH4), в результате которого атом углерода восстанавливается. В подобных случаях часто говорят попросту: углекислый газ восстанавливается до метана. Агентом-восстановителем в данном случае служит водород, который сам при этом окисляется. (Водород вообще часто бывает восстановителем, а его отнятие, наоборот, во многих реакциях равносильно окислению.) И это дает энергию, которую можно запасти в виде АТФ. Восстановление углекислого газа до метана — реакция, на которой основана вся жизнь метанообразующих архей, для краткости называемых метаногенами. Это очень древние и широко распространенные микробы, живущие в самых разных средах — от болот и горячих источников до кишечника млекопитающих.
Окислительно-восстановительные реакции, которыми пользуются живые организмы как источниками энергии, довольно разнообразны. Например, дыхание — это тоже окислительно-восстановительная реакция. В ходе нее углерод не восстанавливается, как у метаногенов, а, наоборот, окисляется до состояния углекислого газа (CO2). Эта реакция исключительно энергетически выгодна, так что АТФ в ходе нее получается очень много.
Для некоторых живых существ источниками энергии могут служить и неорганические окислительно-восстановительные реакции, идущие без всякого участия углерода. Простой пример такой реакции — окисление сероводорода (H2S) до чистой серы (S), степень окисления которой при этом меняется с отрицательной на нулевую:
H2S + ½O2 → H2O + S.
Микроорганизмы, владеющие этим способом получения энергии, называются серобактериями (в данном случае это именно бактерии, а не археи). Энергетический обмен бактерий вообще очень многообразен. Есть, например, бактерии, которые не окисляют, а восстанавливают серу. А есть и такие, которые используют для получения энергии неорганические реакции с участием других элементов, например железа или азота. Кроме того, многие бактерии умеют получать энергию сразу несколькими способами, переключаясь с одного на другой в зависимости от внешних условий. Например, зеленые серобактерии владеют одновременно и окислением сероводорода, и фотосинтезом, то есть могут получать энергию просто из света. Надо еще раз оговорить, что под энергией мы сейчас фактически подразумеваем АТФ. “Способ получения энергии” — это любой процесс, позволяющий его синтезировать.
Интересно, что есть некоторое количество бактерий, вообще не умеющих (или почти не умеющих) самостоятельно синтезировать АТФ. Это — внутриклеточные паразиты, которые ухитряются довольствоваться готовым АТФ, синтезируемым клеткой хозяина. Их часто называют “энергетическими паразитами”. Весь их механизм получения энергии может сводиться к АТФ-транспортерам, встроенным во внешнюю мембрану. Судя по современным данным, такими транспортерами служат в основном белки-антипортеры, одновременно переправляющие ненужный АДФ наружу и полезный АТФ внутрь.
Источники углерода
Мы хорошо знаем, что жизнь на Земле построена на основе соединений углерода. Любому живому организму необходимы как минимум аминокислоты, сахара, азотистые основания и липиды, иначе он просто не сможет существовать. Откуда все эти молекулы берутся? Очевидно, что их можно получить с пищей, а можно синтезировать самостоятельно. По типу питания живые организмы делятся на две большие группы, границу между которыми принято проводить (как мы сейчас понимаем) достаточно произвольно. Организмы, которые нуждаются только в углекислом газе (CO2) и могут самостоятельно синтезировать все остальные углеродные соединения из него, называются автотрофами. А организмы, которым надо дополнительно получать из внешней среды еще какие-нибудь углеродные соединения, называются гетеротрофами. (Тут есть одно исключение, до которого мы скоро дойдем, но пока примем эти понятия как данность.)
Если с автотрофностью все более-менее ясно, то степень гетеротрофности бывает очень разной. С одной стороны, некоторым бактериям-паразитам жизненно необходимо получать из внешней среды полный набор аминокислот, нуклеотиды и даже целые белки. А с другой стороны, есть и такие бактерии, которым хватает ровно одного органического источника углерода. Этим источником может быть, например, глюкоза, или мочевая кислота (соединение, родственное аденину), или какой-нибудь спирт, а все другие углеродные соединения такие организмы умеют синтезировать сами. Но в любом случае они гетеротрофы, раз уж нуждаются во внешнем источнике органики.
То, что граница между автотрофами и гетеротрофами по своей сути несколько искусственна, становится очень наглядным, если взглянуть на используемые микробами одноуглеродные соединения. Дело в том, что есть достаточно большой набор молекул, содержащих только один углеродный атом, любая из которых реально служит единственным источником углерода для какой-нибудь группы бактерий или архей. Примеры таких молекул — углекислый газ (CO2), угарный газ (CO), муравьиная кислота (HCOOH), формальдегид (НСНО), метиловый спирт (CH3OH), метиламин (CH3NH2) и метан (CH4). Помимо бактерий, использующих углекислый газ, к автотрофам можно отнести еще и тех, кто использует угарный газ CO (редкий пример соединения, где валентность углерода равна не 4, а 2). Это и есть то исключение, о котором говорилось выше. А все остальные номинально относятся к гетеротрофам, поскольку муравьиная кислота, формальдегид, метиловый спирт, метиламин и метан принято считать органическими веществами. Хотя реальная биохимическая разница между автотрофами и гетеротрофами, живущими на одноуглеродных субстратах, может быть совсем невелика.
Деление живых существ на автотрофов и гетеротрофов сложилось в XIX веке, когда в поле зрения биологов были в основном растения и животные. Растения — типичные автотрофы, животные — типичные гетеротрофы, ну а промежуточные случаи тогда были просто неизвестны. Что ж, такое деление по крайней мере наглядно. В любой современной экосистеме автотрофы создают органическое вещество, а гетеротрофы разлагают его, превращая обратно в углекислый газ и выдыхая (если, конечно, у них есть дыхание). Это картина, привычная жителю современной Земли. С более объективной точки зрения — например, с точки зрения исследователя из другой галактики, которому любая разновидность углеродной биохимии одинаково чужда, — было бы, возможно, правильнее классифицировать типы обмена не по отношению к углекислому газу, а по наличию или отсутствию в источнике углерода химических связей между углеродными атомами (C–C). Очевидно, что ни в каких одноуглеродных молекулах этих связей нет, и столь же очевидно, что для создания биологически активных соединений они абсолютно необходимы.
Впрочем, есть особое понятие, объединяющее всех микробов, которые питаются восстановленными одноуглеродными субстратами (то есть любыми одноуглеродными молекулами, кроме углекислого и угарного газов). Такие микробы называются метилотрофами. Потребители муравьиной кислоты, формальдегида, метилового спирта, метана — все это типичные примеры метилотрофов. Существует старая, но подтверждаемая данными современной биохимии гипотеза, что древние живые организмы освоили потребление муравьиной кислоты и формальдегида раньше, чем связывание углекислоты[100]. Причем способность связывать CO2, вероятно, появилась несколько раз независимо в разных эволюционных ветвях[101]. Если все это верно — значит, автотрофность исторически развилась на основе метилотрофности. Иное дело, что сейчас все многочисленные разновидности метилотрофности отошли на второй план, вытесненные гораздо более выгодным, как показали события последних трех миллиардов лет, усвоением углекислого газа.
Формы жизни
В 1907 году известный революционер и ученый Николай Александрович Морозов опубликовал удивительно интересный рассказ под названием “Эры жизни”. Жанр рассказа обозначен автором как “научная полуфантазия”, а его действие происходит в XIX столетии, в царствование Александра II. Герой рассказа — безымянный ученый, арестованный властями за участие в политической деятельности, — сидит в одиночной камере Петропавловской крепости и размышляет об отдаленном будущем земного шара. По его представлениям (общепринятым для того времени), через много тысячелетий Земля остынет, вся вода на ней замерзнет и жизнь исчезнет. Но ученый задается вопросом — что будет дальше? — и приходит к выводу, что на ледяной Земле может возникнуть новый океан, состоящий из жидкой углекислоты (CO2). Обращаясь затем к далекому прошлому, он предполагает, что на древней раскаленной Земле, где вода была только в виде пара, мог существовать океан из расплавленного кварца (SiO2), то есть в буквальном смысле из стекла. В итоге перед мысленным взором героя проходит целая последовательность грандиозных эпох, за время которой континенты и океаны возникали на Земле много раз, при разных температурах и на разной химической основе. Стеклянный океан, водный океан, углекислотный океан — звенья этой последовательности. И почему бы в любую из этих эр не существовать жизни, в том числе и разумной, конечно, основанной не на белках, а на их химических аналогах, приспособленных к совершенно другим условиям?
Взволнованный этими мыслями, герой рассказа прикладывает ладонь к холодной каменной стене своей комнаты, расположенной в печально знаменитом Алексеевском равелине.
“И эти твердые камни, — тихо прошептал он, — когда-то бушевали могучими волнами и грозно били в давно минувшие берега. И неужели из всей этой бесконечной цепи океанов лишь один наш водный океан населен живыми существами? Неужели только азотисто-углеводородные соединения, всецело приспособленные лишь к современной эре земной жизни, одни способны к построению живого, чувствующего и разумного существа, когда та же единая и вечная материя, прибавив или убавив в каждой их частице несколько атомов, может образовать другие вещества, совершенно аналогичные им и способные к той же функции создания жизни и физиологического обмена, но при других температурах и стихиях?”
Николай Александрович Морозов был исключительно самостоятельно мыслящим человеком. Он прожил долгую насыщенную жизнь, в которой 25-летнее заключение в Шлиссельбургской крепости за терроризм оказалось лишь эпизодом, и всегда непрерывно пополнял свои знания, генерируя “на выходе” весьма оригинальные идеи. Его самый известный научный труд — это многотомная ревизия всемирной истории с поистине невероятными выводами, которые многим сейчас знакомы по работам последователя Морозова, академика Анатолия Тимофеевича Фоменко. Нечего и говорить, что, с точки зрения специалистов-историков (которые, конечно, абсолютно правы), эти построения несерьезны. Однако именно Морозов одним из первых высказал и обосновал совершенно верную мысль, что атомы не являются неделимыми единицами материи, а имеют способную к перестройкам внутреннюю структуру. Что касается рассказа “Эры жизни”, то мнения о нем разделились даже среди личных знакомых автора. Революционерка Вера Николаевна Фигнер отозвалась об этом рассказе как о “настоящей галлюцинации сумасшедшего” и усомнилась, в своем ли уме был Морозов, когда его писал. Сейчас, через 100 лет, поддержать такой резкий отзыв никак невозможно. Наоборот, многие рассуждения Морозова выглядят в начале XXI века удивительно современными. Например, возможность жизни в углекислотном океане рассматривается нынешними учеными вполне всерьез, она не противоречит никаким известным фактам или законам (см. главу 2). Правда, описанная Морозовым грандиозная последовательность “эр жизни” все-таки малореальна — но не по фундаментальным причинам, а потому, что для нее, как мы сейчас понимаем, скорее всего, просто-напросто не хватит времени существования Земли как планеты.
В любом случае Морозов и его литературный герой с редкой проницательностью оценили размах, до которого многообразие проявлений жизни может доходить. Реальные формы жизни, существующие на Земле прямо сейчас, почти так же разнообразны, как морозовские “эры жизни”; если это и преувеличение, то не слишком большое. Разные формы жизни совершенно по-разному взаимодействуют и с энергией, и с веществом. Чтобы наглядно убедиться в этом, достаточно сравнить, например, человека и дерево. Но даже различия между животными и растениями — это всего лишь краешек огромного многообразия обменных процессов, большая часть которого относится к невидимому простым глазом миру микробов.
Совокупность химических реакций, идущих в организме для поддержания жизни, называется метаболизмом. Термины “метаболизм” и “обмен веществ” часто используют как синонимы. Нечего и говорить, что любой метаболизм очень сложен. Для удобства его делят на две группы процессов, которые в некотором приближении можно рассматривать отдельно друг от друга:
* энергетический метаболизм, результатом которого является получение энергии, пригодной для превращения в работу;
* конструктивный метаболизм, результатом которого является синтез сложных молекул — белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов.
Конечно, энергетический и конструктивный метаболизм связаны между собой и иногда очень тесно (бывает, например, что исходным субстратом для них служит одно и то же вещество). Но деление все равно полезное. Обо всех главных разновидностях этих уровней метаболизма мы на самом деле уже говорили. По типу энергетического метаболизма все живые организмы делятся на фототрофов и хемотрофов, а по типу конструктивного метаболизма — на автотрофов и гетеротрофов. Фототрофы синтезируют АТФ за счет энергии света, хемотрофы — за счет энергии окислительно-восстановительных химических реакций. Автотрофы получают углерод из углекислого газа (или иногда из угарного), гетеротрофы — из более сложных углеродных соединений, которые люди называют органическими. Захват углекислого газа или любой другой простой молекулы для включения в более сложные соединения принято называть фиксацией, так что автотрофы — это те, кто живет за счет фиксации CO2 или CO. Скомбинировав оба деления друг с другом, мы тут же получаем четыре возможных типа жизненных форм:
1 Фотоавтотрофы, которые (1) синтезируют АТФ за счет энергии света и (2) не нуждаются ни в каких источниках углерода, кроме углекислого газа. Энергия света посредством некоторого достаточно сложного механизма переводится в энергию АТФ и попутно используется для фиксации углекислоты. Весь этот процесс принято называть фотосинтезом. На Земле сейчас особенно распространен кислородный фотосинтез, в ходе которого расходуется вода (H2O). Отобранный у нее водород восстанавливает углекислоту, а оставшийся кислород выводится в атмосферу как побочный продукт. Этим типом фотосинтеза обладают цианобактерии и растения. Бывает и бескислородный фотосинтез, в котором расходуется не вода, а другие восстановители — например, сероводород (H2S), молекулярный водород (H2) или некоторые соединения железа. Выделением кислорода он не сопровождается. Если кислородным фотосинтезом пользуются цианобактерии и растения, то бескислородным — пурпурные, зеленые и некоторые другие бактерии. У эукариот бескислородного фотосинтеза нет.
2 Хемоавтотрофы, которые (1) синтезируют АТФ за счет энергии неорганических химических реакций и (2) не нуждаются ни в каких источниках углерода, кроме углекислого или угарного газа. В самом простом случае такие организмы могут использовать одно и то же вещество и для получения энергии, и для синтеза органики. Например, это осуществили уже упоминавшиеся метаногены, которые получают энергию, восстанавливая углекислый газ до метана, и из продуктов фиксации того же углекислого газа синтезируют абсолютно все нужные им органические вещества. Метаногенам не нужны никакие источники углерода и энергии, кроме углекислого газа и водорода. В свете они не нуждаются, а перерабатывать внешнюю органику все равно не умеют, даже живя прямо в ее гуще (например, в чьих-нибудь кишках).
К этой же категории относятся довольно разнообразные бактерии, окисляющие или восстанавливающие соединения серы, азота, железа (из них мы упоминали серобактерий, получающих энергию путем окисления сероводорода). За счет полученной в ходе неорганических реакций энергии эти бактерии фиксируют углекислый газ, который нужен им только для конструктивного метаболизма, то есть для синтеза собственной органики. То же самое делают водородные бактерии, способные жить за счет окисления молекулярного водорода. И наконец, к этой же категории приходится отнести карбокситрофов, которые питаются угарным газом. Они получают энергию, окисляя угарный газ до углекислого, а образующийся углекислый газ фиксируют и используют в конструктивном метаболизме. Окислительно-восстановительная реакция, на которой основана жизнь карбокситрофных бактерий, выглядит так:
СO + H2O → CO2 + H2.
Этим бактериям не нужны никакие источники углерода и энергии, кроме угарного газа и воды. Обратим внимание, что в качестве побочного продукта они выделяют водород, который вполне могут потом использовать другие организмы — например, те же метаногены и водородные бактерии. Так образуются микробные сообщества.
3 Хемогетеротрофы, которые (1) синтезируют АТФ за счет энергии окисления органических молекул и (2) нуждаются во внешних источниках этих молекул, потому что синтезировать всю нужную им органику из углекислого газа не могут. Под “окислением органических молекул” мы сейчас подразумеваем окисление входящего в них углерода, то есть, говоря более предметно, уменьшение электронной плотности на этом углероде. Этот процесс дает энергию очень многим живым организмам, в том числе и людям.
Хемогетеротрофы — группа огромная и сборная. В нее входит большинство прокариот и все эукариоты, кроме фотосинтезирующих. Прежде всего, к хемогетеротрофам по определению должны быть отнесены метилотрофы, окисляющие одноуглеродные субстраты — муравьиную кислоту, формальдегид, метиловый спирт, метан, метиламин и т.п. Надо еще раз подчеркнуть, что бактерии, питающиеся угарным газом, по сути своей делают то же самое, что и метилотрофы: окисляют частично восстановленный одноуглеродный субстрат до углекислоты. То, что им приписывается иной тип питания, есть чистейший формализм, вызванный людскими привычками.
Кроме того, многие хемогетеротрофы (включая нас) питаются гораздо более сложными веществами, содержащими целые цепочки атомов углерода. Это могут быть сахара, спирты, карбоновые кислоты, аминокислоты или азотистые основания. При окислении такие вещества распадаются на более простые молекулы с разрывом углерод-углеродных связей (C–C).
Есть два способа переработки сложных органических веществ: брожение и дыхание. Брожение не требует участия молекулярного кислорода (для многих бродильщиков он даже ядовит) и может от начала до конца идти в обычном растворе, где нет никаких мембран и связанных с ними переносчиков протонов. В отличие от брожения, дыхание требует непосредственного участия кислорода (или хотя бы богатых им окислителей вроде нитратов или сульфатов) и обязательно включает этап переноса протонов через мембрану, сопровождаемого синтезом АТФ. В ходе дыхания протоны, отобранные у молекул субстрата, сначала скапливаются по одну сторону непроницаемой для них мембраны, а потом образовавшийся протонный потенциал разряжается с помощью протонной АТФ-синтазы: ∆μH → АТФ.
Конечные продукты брожения разнообразны, но это всегда вещества, в которых углерод окислен не до конца: молочная кислота (C3H6O3), этиловый спирт (C2H5OH), пропионовая кислота (CH3CH2COOH), ацетон (CH3–СO–CH3) или некоторые другие. А конечным продуктом дыхания является углекислый газ (CO2), в котором углерод окислен до крайнего предела, дозволенного законами химии. Организмы, владеющие дыханием, всегда владеют и брожением, но не наоборот.
Можно для наглядности сравнить суммарные уравнения реакций распада глюкозы путем широко распространенного молочнокислого брожения (при котором глюкоза распадается на две молекулы молочной кислоты) и путем классического кислородного дыхания:
C6H12O6 → 2C3H6O3
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O
Для первой реакции ∆G = –197 кДж/моль, а для второй ∆G = –2870 кДж/моль. Это означает, что дыхание примерно в 15 раз энергетически выгоднее.
4 Фотогетеротрофы, которые (1) получают энергию в виде света, но (2) при этом все-таки нуждаются во внешнем источнике органического углерода. Этот удивительный для нас тип метаболизма возникает в случае, если фотосинтез используется для синтеза АТФ, а вот механизма фиксации углекислоты при этом нет. Такой неполноценный фотосинтез обязательно сочетается с брожением. Типичные обладатели фотогетеротрофности — гелиобактерии, живущие в почве, в болотах или на заливаемых водой рисовых полях.
Помимо прочего, гелиобактерии известны своим умением фиксировать азот, то есть брать прямо из атмосферы молекулы чистого азота (N2) и включать этот азот в состав органических соединений. Эта способность не уникальна для гелиобактерий, но у них она очень хорошо развита, и именно от нее в большой степени зависит плодородие рисовых полей. Как известно, азот составляет 78% современной атмосферы Земли, и примерно так же было более-менее во все известные времена. Наша атмосфера — в первую очередь азотная. Казалось бы, это прекрасно: ведь азот необходим для синтеза любой аминокислоты и любого нуклеотида, а вот и его источник “под боком”. Но, к сожалению, азот в форме молекулы N2 почти недоступен для использования живыми существами. Дело в том, что в этой молекуле атомы соединены тройной связью (N≡N), которую очень трудно разорвать. Поэтому фиксация азота — чрезвычайно энергоемкий процесс. Для усвоения одной молекулы азота надо потратить энергию 12 молекул АТФ. Так что гелиобактериям есть на что расходовать АТФ, заработанный путем фотосинтеза. Добавим, что никакие эукариоты самостоятельно фиксировать азот не умеют: в этом плане они полностью зависят от бактерий.
Классификация, с которой мы только что познакомились, — почти всеобъемлющая.
Она охватывает все живые организмы, кроме вирусов, у которых вообще нет собственного метаболизма (во всяком случае, независимого от метаболизма зараженных ими клеток; см. об этом главу 12). Иначе говоря, эта классификация относится к любым клеточным организмам. Все они делятся на фотоавтотрофов, фотогетеротрофов, хемоавтотрофов и хемогетеротрофов.
Однако нетрудно заметить, что эти четыре типа обмена веществ распределены по древу жизни очень неравномерно. Например, все типы обмена, которыми владеют эукариоты, — это кислородный фотосинтез, брожение (причем далеко не все его разновидности) и дыхание. Больше эукариоты не умеют ничего — по крайней мере, без помощи бактериальных симбионтов, которые иногда встречаются в их телах. А вот у бактерий и архей способов метаболизма, принципиально отличающихся друг от друга, можно насчитать десятки. Например, никакие эукариоты не могут питаться метаном или угарным газом, или чистым водородом, или муравьиной кислотой, или железом. Зато бактерии или археи — иначе говоря, прокариоты — все это умеют. На уровне простой прокариотной клетки жизнь невероятно пластична. И это, кстати говоря, дает нам немалые шансы найти хотя бы прокариотную жизнь (или ее аналоги) на других планетах, пусть даже условия там и сильно отличаются от земных.
Три закона биоэнергетики
В конце XX века биохимик Владимир Петрович Скулачев сформулировал — во многом на основе своих собственных открытий — серию обобщений, которые он назвал законами биоэнергетики[102]. Нелишне будет сказать, что на момент написания этих строк (февраль 2017 года) Владимир Петрович жив и активно работает — в частности, он остается деканом им же основанного факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ; это к вопросу о том, что далеко не все классики уже умерли и существуют только в виде пыльных портретов на стенах. Само название “биоэнергетика”, означающее изучение преобразований энергии в живых организмах, стало общепринятым именно благодаря Скулачеву, который посвятил этой науке полвека своей жизни. Протонные и натриевые потенциалы, связь синтеза АТФ с окислительно-восстановительными реакциями, механизмы фотосинтеза и дыхания — все это типичные предметы биоэнергетики. Как и азимовских законов роботехники, законов биоэнергетики по Скулачеву насчитывается ровно три. Давайте же их сформулируем, благо все нужные для этого понятия нам теперь уже знакомы.
Первый закон биоэнергетики: живая клетка избегает прямого использования энергии внешних ресурсов (света или химических реакций) для совершения полезной работы. Она сначала превращает их в одну из трех конвертируемых форм энергии (“энергетических валют”), а именно в АТФ, ∆μH или ∆μNa, и уже эти “валюты” расходуются на разные энергоемкие процессы.
Примером такого энергоемкого процесса может послужить самая обыкновенная механическая работа. Чаще всего на нее тратится АТФ: например, именно за счет расщепления АТФ сокращаются мышцы. Между прочим, когда в 1939 году Энгельгардт и Любимова открыли АТФазную активность миозина (см. главу 10), то многие коллеги вначале не хотели им верить: ну не может же вся мышечная клетка быть набита расщепляющим АТФ ферментом! Оказалось, вполне может. Жгутик какой-нибудь эвглены (или любого другого жгутиконосца) тоже работает за счет распада АТФ.
Правда, это относится только к эукариотному жгутику, который представляет собой покрытый плазматической мембраной вырост клетки с проходящим внутри пучком микротрубочек. Бактериальный жгутик устроен совершенно иначе (см. рис. 11.5). Это тонкая жесткая трубка из белка флагеллина, изогнутое основание которой (в его состав входит еще несколько разных белков) вмонтировано в клеточную стенку бактерии таким образом, что может относительно нее свободно вращаться. Если бактерию поймать за жгутик (например, если она им за что-нибудь зацепится), она станет вращаться относительно жгутика сама. В нормальной же ситуации жгутик обеспечивает бактериям очень быстрое движение, хотя ни с какими белками, расщепляющими АТФ, он не связан. Проще говоря, на вращение бактериального жгутика АТФ не тратится. Его вращение происходит не за счет энергии АТФ, а за счет протонного потенциала ∆μH, который преобразуется в работу без всякого химического посредника. Механизм этого оказался относительно простым. Основание бактериального жгутика связано с клеточной мембраной, на которой поддерживается разность концентраций протонов — снаружи их гораздо больше. Когда открываются протонные каналы, протоны текут внутрь клетки и попутно действуют на специальные моторные белки таким образом, что заставляют вставленный в мембрану диск крутиться. А вместе с ним крутится и жгутик. Установлено, что на один оборот жгутика расходуется энергия примерно 1000 протонов.
Стоит добавить, что если бактерия грамотрицательная, то все рассказанное относится к ее внутренней мембране, а не к наружной (см. главу 5). Через наружную мембрану жгутик проходит насквозь (там тоже для этого есть специальные белки), но в генерации движения она не участвует.
Самое интересное, что существуют и такие бактерии, у которых жгутик работает не на протонах, а на ионах натрия. Энергия натриевого потенциала может точно так же переходить в механическую работу и вращать жгутик, механизм там очень схожий. Более того, есть морские бактерии, которые имеют сразу два типа жгутиков — с протонными “моторами” и с натриевыми, и пользуются теми или другими в зависимости от солености окружающей среды, благо жгутики можно по мере надобности собирать и разбирать. В морской воде, где снаружи много натрия, выгоднее пользоваться натриевым движителем, а вне моря можно перейти на протонный. Эта история очень наглядно показывает, что протонный и натриевый потенциалы взаимозаменяемы.
Жгутик архей по своей конструкции похож на бактериальный, хотя и показано, что он сформировался независимо на основе других белков. У общего предка бактерий и архей никакого жгутика не было. Но при этом архейный жгутик тоже вращается и тоже работает на протонном потенциале. Это означает, что механизм вращения жгутика за счет потока протонов возник в ходе эволюции по меньшей мере дважды — у бактерий и у архей.
Второй закон биоэнергетики: любая живая клетка располагает как минимум двумя основными “энергетическими валютами”. Одна из них — всегда АТФ, вторая — или ∆μH, или ∆μNa.
Нередко бывает, что у одной и той же бактерии в клетке есть все три “валюты” — и АТФ, и ∆μH, и ∆μNa (с возможностью между ними переключаться). Впрочем, это зависит от среды: например, у пресноводных бактерий ∆μNa обычно не используется, потому что натрия в среде обитания просто маловато. Все три “валюты” есть и в животной клетке. Там они разделены в пространстве: на внешней (плазматической) мембране энергетика натриевая, а на внутриклеточных мембранах протонная. У животных натриевая энергетика очень активно используется и для транспорта веществ, и для обеспечения работы нервных клеток. У растений значение натриевой энергетики меньше, но нередко она тоже есть (а сочетание протонной энергетики и АТФ есть всегда). Живых организмов, обходящихся только одной энергетической валютой, по-видимому, просто не существует. Этих валют всегда не меньше двух. Исключение — только вирусы, у которых нет собственных энергетических систем.
Третий закон биоэнергетики: все три “энергетические валюты” могут свободно конвертироваться друг в друга. Поэтому одной из них (любой) в принципе достаточно для поддержания жизнедеятельности.
Например, при фотосинтезе за счет энергии захваченных квантов света сначала образуется протонный потенциал (∆μH) на специально предназначенной для этого мембране, а потом уже с помощью протонной АТФ-синтазы энергия этого потенциала трансформируется в энергию связей АТФ. То же самое происходит и при дыхании. Но есть морские бактерии, у которых в процессе дыхания генерируется не протонный потенциал (как у большинства других дышащих бактерий и у всех эукариот), а натриевый. Тут мы снова видим, насколько эти потенциалы взаимозаменяемы.
Благодаря ионным АТФ-синтазам и ∆μH, и ∆μNa могут свободно конвертироваться в энергию АТФ. И наоборот — тоже; если, например, клетке выгодно “инвестировать” энергию АТФ в протонный потенциал, она всегда может это сделать. Дело в том, что роторный механизм любой АТФ-синтазы можно раскрутить в другую сторону, и тогда она будет делать строго обратное тому, что делает “штатно”: расщеплять АТФ, перекачивая ионы против градиента концентрации. Так что с переводом энергии протонного (или натриевого) потенциала в энергию АТФ или обратно нет никаких трудностей. И наконец, ∆μH и ∆μNa могут свободно конвертироваться друг в друга вообще без всяких посредников, с помощью уже упоминавшегося натрий-протонного антипортера.
Загадка дыхания
Теперь мы в общих чертах представляем себе, насколько многообразны биохимические пути (то есть цепочки реакций), служащие живым существам для превращений энергии. И тут будет уместно задаться вопросом: есть ли у этого многообразия какие-нибудь пределы?
В 1960-х годов, на волне впечатлений от открытого тогда единства генетического кода, среди биологов распространилось убеждение, что и все другие важные биологические механизмы столь же едины: “То, что верно для бактерии, верно и для слона”. В этот период Джеймс Уотсон — тот самый, который прославился открытием двойной спирали ДНК, — регулярно говорил на лекциях своим студентам, что, по его мнению, на текущем этапе развития науки биологам вообще не следует изучать никакие многоклеточные организмы: ведь все интересующие нас молекулярные основы жизни есть и у бактерий, экспериментировать с которыми гораздо проще. (Уотсон продолжал твердить это студентам, несмотря на недовольство многих коллег. Всяческих зоологов, ботаников и эмбриологов он в те годы откровенно считал биологами второго сорта.)
Но первые свидетельства того, что на самом деле не все так просто, появились очень быстро. По словам некоторых генетиков, уже в 1970-х годах было бы гораздо правильнее сказать: “То, что верно для бактерии, неверно даже для дрожжей”[103]. А с тех пор данных о разнообразии механизмов жизни накопилось еще больше. Где же истина?
Здесь может помочь вот какая аналогия. Знаменитый лингвист Ноам Хомский сумел убедить большинство своих коллег, что все земные языки объединены одной и той же универсальной грамматикой, основы которой “встроены” в мозг человека. По Хомскому, если бы на Землю попал марсианский ученый, он наверняка решил бы, что все земляне говорят на диалектах одного языка. Так вот, в этом смысле с разнообразием живых организмов дело обстоит примерно так же, как и с разнообразием языков. У живых организмов есть своя “универсальная грамматика”, роль которой исполняет единство набора аминокислот, генетического кода и аппарата трансляции. А уже на ее основе развились бесчисленные варианты и формы — “бесконечное число самых прекрасных форм”, как сказал когда-то Чарльз Дарвин; но сама “универсальная грамматика” при этом осталась незыблема. Правда, живые организмы (в противоположность языкам) явно отличаются друг от друга по сложности, так что для корректности нам лучше ограничить сравнение биохимическими механизмами. В этом случае тут же окажется, что биохимия человека отличается от биохимии какой-нибудь водородной бактерии примерно так же, как, например, китайский язык от алгонкинского, — не больше и не меньше.
В этой книге у нас нет ни возможности, ни цели подробно рассмотреть все многочисленные биохимические пути, снабжающие жизнь энергией. Некоторые из них, правда, мы уже мимоходом упомянули. А сейчас обсудим (очень кратко и бегло) только один выбранный в качестве примера путь, который называется кислородным дыханием. Есть целых три причины, чтобы особо его выделить. Во-первых, так уж сложилось, что мы, люди, относимся к тем формам жизни, для которых кислородное дыхание — вещь исключительно важная. Во-вторых, механизм дыхания сам по себе очень интересен; даже марсианский ученый с этим, скорее всего, согласился бы. И в-третьих, дыхание как бы венчает собой несколько других важных биохимических путей: оно служит продолжением как брожения (вернее, его начального этапа), так и фотосинтеза.
Природа процесса дыхания долго оставалась для ученых полной загадкой. Сейчас-то мы понимаем, что вопрос об этой природе было невозможно не то что решить, но даже адекватно поставить, пока не возникла полноценная научная химия. Базовая идея, что при дыхании организм поглощает и усваивает некоторую составную часть воздуха, отвергая другие его части, была впервые четко сформулирована только в XVI веке — ее автором считается Парацельс, который вообще ратовал за химический подход к жизненным явлениям. Но что это за составные части воздуха, Парацельс выяснить не мог. Это выяснил больше чем через 200 лет после него Антуан Лоран Лавуазье, к тому времени уже знавший, что такое кислород. Лавуазье опытным путем установил, что “чистый воздух, войдя в легкие, выходит из них частично в виде связываемого воздуха или меловой кислоты. Следовательно, чистый воздух, проходя через легкие, претерпевает такое разложение, которое имеет место при горении угля”. Меловой кислотой Лавуазье называл не что иное, как хорошо знакомый нам углекислый газ. Растворяясь в воде, он и правда моментально превращается в кислоту, которая сейчас называется угольной (H2CO3) и соли которой действительно составляют основу мела. Таким образом Лавуазье фактически сказал, что дыхание — это процесс, с химической точки зрения строго тождественный горению. И он был прав. В процессе дыхания глюкоза (C6H12O6) с помощью кислорода (O2) превращается в углекислый газ (CO2) и воду (H2O). Точно такой же результат получится, если эту глюкозу просто сжечь. И в самом деле, люди испокон веку жгут для обогрева древесину, которая (если она сухая) представляет собой массу пустых растительных клеточных стенок. А главный материал, из которого состоят растительные клеточные стенки, — это целлюлоза, полимер глюкозы, о котором мы говорили в главе 6.
Разница между дыханием и горением в том, что при горении энергия выделяется сразу, а при дыхании — постепенно, маленькими порциями, в процессе, состоящем из ряда регулируемых этапов. Именно эта разбивка на порции позволяет захватывать выделяемую энергию и запасать ее в молекулах АТФ. Это было бы невозможно, если бы выделение энергии происходило бурно, как при горении или тем более при взрыве.
Дыхание — это окислительно-восстановительная реакция. Как мы уже знаем, окислительно-восстановительными называются такие реакции, в которых происходит перенос электронов от некоего донора (восстановителя) к некоему акцептору (окислителю). Окислительно-восстановительные реакции, идущие в живых организмах, катализируются ферментами, которые называются оксидоредуктазами. Таких ферментов очень много. Само собой разумеется, что каждая оксидоредуктаза катализирует только одну реакцию — ту, для которой она предназначена.
Дыхание используется гетеротрофными организмами. Значит, исходным субстратом для него всегда будет органическое вещество. Как вообще может выглядеть окисление органических молекул? Например, можно отобрать атомы водорода у двух соседних атомов углерода, вынудив последние образовать между собой двойную связь. Есть и другой широко распространенный вариант: отнятие водорода у спиртовой группы (C–OH), на месте которой в результате образуется альдегидная или кетонная группа (C=O). Вот уравнения соответствующих реакций:
–CH2–CH2– → –CH=CH– + 2H+ + 2e–
–CHOH– → –CO– + 2H+ + 2e–
Обратим особое внимание на правую часть этих уравнений, где значится отобранный у органических молекул водород. Мы знаем, что атом водорода состоит из одного протона (H+) и одного электрона (e–). Сейчас в наших уравнениях эти частицы записаны по отдельности. И не случайно: их дальнейшая судьба может быть разной.
Итак, куда же деваются частицы, отобранные у окисленной органической молекулы (H+ и e–)? С протонами все просто: их всегда можно сбросить в водный раствор, где они прекрасно себя чувствуют (другими словами, для них энергетически выгодно нахождение там). При надобности их легко можно будет оттуда же и взять. Реакция диссоциации воды (H2O ⇌ H+ + OH–) идет постоянно, поэтому любой водный раствор в любой момент содержит практически неограниченный запас протонов.
А вот электроны в свободном виде в водном растворе существовать не могут. Для них нужен специальный переносчик. Любой фермент, отнимающий у кого-то водород, должен обязательно содержать в себе ловушку для электронов. Причем в реальности такими ловушками служат не аминокислоты, входящие в состав фермента (как можно было бы подумать), а особые молекулы, связанные с ферментом, однако сами имеющие небелковую природу. Их называют коферментами или кофакторами. Любой белок, катализирующий окислительно-восстановительную реакцию, обязательно содержит тот или иной кофактор, который сам может обратимо окисляться и восстанавливаться. По химической структуре кофакторы очень разнообразны — они бывают даже неорганическими; но чаще всего это небелковая органика. Многие кофакторы связаны с белками постоянно и настолько прочно, что не отделяются от них никогда (во всяком случае, пока не развалится сам белок). Но бывают и свободные кофакторы, которые взаимодействуют с ферментами только непосредственно в ходе реакций, а остальное время просто плавают в растворе. Познакомимся для начала с одним связанным кофактором и с одним свободным.
Самый распространенный связанный кофактор называется гемом (см. рис. 11.6А). Это органическая молекула, представляющая собой довольно-таки сложную конструкцию: четыре пятичленных кольца с четырьмя атомами углерода и одним атомом азота в каждом, соединенные перемычками с двойными связями и имеющие вдобавок несколько разнообразных боковых цепочек (с метильными, карбоксильными и прочими группами — их точный набор зависит от разновидности гема). Иногда гем связан со своим белком ковалентно, а иногда другими способами, но все равно очень прочно. А в центре гема обязательно находится атом железа (Fe). Это — сердце гема. Дело в том, что железо, как и любой металл, достаточно легко превращается в положительно заряженный ион, но при этом оно является элементом с переменной валентностью: ионы железа бывают двухвалентными (Fe2+), а бывают и трехвалентными (Fe3+). Присоединяя электрон, ион железа переходит из трехвалентной формы в двухвалентную, а отдав его — наоборот. Кстати, это тоже окислительно-восстановительная реакция, хоть и очень простая:
Fe3+ + e– ⇌ Fe2+
Именно за счет этой реакции гем и служит отличным переносчиком электронов. Когда надо, он присоединяет электрон, когда надо — отдает.
Самый распространенный свободный кофактор — никотинамидадениндинуклеотид, сокращенно НАД (см. рис. 11.6Б). Эта молекула не так сложна, как гем. Вот из каких компонентов она состоит:
* рибоза (две штуки);
* фосфат (две штуки);
* аденин;
* амид никотиновой кислоты, он же просто никотинамид.
Фактически молекула НАД — это два нуклеотида, соединенных друг с другом через свои фосфатные группы фосфоангидридной связью. В одном из этих нуклеотидов азотистым основанием служит обыкновенный аденин. А вот во втором азотистое основание необычное. Представим себе замкнутое кольцо, состоящее из пяти атомов углерода и одного атома азота, с такой же системой двойных связей, как в бензоле (см. главу 1). Эта молекула будет называться пиридином (см. главу 7). Теперь представим себе, что к одному из атомов углерода в пиридине (но не к соседнему с азотом, а через один) присоединена карбоксильная группа. Вот это и будет молекула, которая называется никотиновой кислотой. Она была когда-то впервые получена при окислении известного растительного яда никотина — того самого, что содержится в табаке. А теперь представим себе, что от карбоксильной группы никотиновой кислоты (–COOH) оторвали гидроксил (–OH) и присоединили взамен него аминогруппу (–NH2). Тогда вместо карбоксила получится группа –CONH2. Производное кислоты, образовавшееся в результате такой операции, называется амидом.
В молекуле НАД никотинамид связан с сахаром через атом азота, находящийся в пиридиновом кольце. В результате этот азот становится четырехвалентным — ничего удивительного здесь нет, мы можем сейчас вспомнить, что уже видели подобное в ионе аммония NH4+ (см. главу 1). В этих молекулах четырехвалентный азот образует структуру, очень похожую на четырехвалентный углерод, но с другим зарядом ядра центрального атома. А в результате молекула никотинамида, оказавшаяся в составе НАД, приобретает положительный заряд в области атома азота. Это ее характерная особенность. Поэтому если молекула НАД находится в состоянии покоя (то есть никого не присоединила), то ее сокращенное название обычно пишут с указанием заряда: НАД+.
Именно остаток никотинамида служит в молекуле НАД+ коллектором электронов, способным восстанавливаться и окисляться (см. рис. 11.6В). Когда он восстанавливается, в пиридиновом кольце становится на одну двойную связь меньше и на один атом водорода больше, а положительный заряд исчезает. Уравнение этой реакции выглядит вот как:
НАД+ + 2H ⇌ HAДH + H+
Молекула НАД+ присоединяет один атом водорода целиком (электрон и протон), а от второго — только электрон. Оставшийся от второго атома протон уходит в окружающий раствор. Это, как мы уже знаем, не беда, поскольку протон из раствора можно в любой момент взять обратно.
В названии восстановленной формы никотинамидадениндинуклеотида — НАДH — первая буква — это русская Н, а последняя — латинская “аш”, их не надо путать. И НАД+, и HAДH хорошо растворяются в воде, так что использовать их во всевозможных реакциях очень удобно. В общем, молекула НАД+ отлично подходит для приема электронов, отобранных у окисленного субстрата.
В некоторых биохимических реакциях (не в дыхании) вместо НАД+ участвует его фосфорилированное производное, носящее еще более замечательное название никотинамид-адениндинуклеотидфосфат (НАДФ+). На самом деле это тот же НАД+, в состав которого вместо обычной рибозы входит рибозо-2-фосфат. Иными словами, НАД+ и НАДФ+ не отличаются ничем, кроме одной фосфатной группы. Обычно НАДФ+ принимает участие в конструктивном метаболизме, то есть во всевозможных синтезах. На свойства молекулы, касающиеся переноса электронов, наличие “пришитой” к сахару фосфатной группы никак не влияет. Скорее всего, она нужна просто затем, чтобы ферменты не путали НАД+ и НАДФ+ между собой, а использовали их в разных реакциях. А это, в свою очередь, нужно для того, чтобы энергетический и конструктивный метаболизм не были связаны друг с другом через общий кофактор, а были разделены: тогда их будет легче независимо регулировать.
Многие кофакторы синтезируются из содержащихся в нашей пище биологически активных веществ, которые называются витаминами. Собственно говоря, большинство витаминов — это и есть либо кофакторы, либо их прямые химические предшественники. Время жизни молекул кофакторов велико, так что они могут использоваться в реакциях огромное число раз повторно. Поэтому организму они нужны в довольно малом количестве. И по этой же причине человеку требуется лишь очень небольшое количество витаминов. Но если того или иного витамина в пище нет совсем, могут начаться серьезные проблемы. Например, никотиновая кислота, без которой невозможен синтез НАД+, организмом человека не синтезируется. Она должна поступать в него с пищей. А если никотиновой кислоты в пище не хватает, начинается серьезная болезнь — пеллагра. Вылечить ее можно, если давать больному никотиновую кислоту или даже прямо никотинамид. Неудивительно, что никотиновая кислота иначе называется витамином PP, что значит “предотвращающий пеллагру” (pellagra preventing).
Еще один важный свободный кофактор называется убихиноном, или коферментом Q (см. рис. 11.6Г). Его структура несложна, но по-своему интересна. Представим себе бензольное кольцо (с соответствующей системой двойных связей), к которому друг против друга присоединены две гидроксильные группы (–OH). Это будет спирт. Теперь представим, что у каждой гидроксильной группы отобрали по атому водорода. Это типичная окислительно-восстановительная реакция, в результате которой кислороду бывшего гидроксила ничего не останется, кроме как образовать с углеродом двойную связь. А поскольку валентность углерода в органике всегда равна 4, то система двойных связей в бывшем бензольном кольце вынужденно перестроится: их станет две вместо трех. И получится молекула, которая называется хиноном. Так вот, убихинон — это типичный хинон, к ядру которого добавлено несколько боковых цепей, а именно метильная группа, две группы –O–CH3 и (это самое главное) длинная углеводородная цепочка, которая может включать несколько десятков атомов углерода. Присоединив к себе два атома водорода, убихинон может легко восстановиться и превратиться в спирт:
убихинон (окисленная форма) + 2H+ + 2e– ⇌ убихинол (восстановленная форма)
Вот на этой реакции и основано использование убихинона в качестве кофактора. Однако убихинон отличается от НАД+ тем, что он из-за своей длинной углеводородной боковой цепи совершенно нерастворим в воде. Растворяться он может только в гидрофобных веществах, то есть в липидах. Это тоже иногда бывает нужно. Убихинон действует как кофактор прямо внутри мембраны, в ее гидрофобной фазе.
Убихинон в норме синтезируется организмом человека, но при некоторых заболеваниях его может там не хватать. Поэтому к витаминам его можно отнести только с оговорками (витаминами принято называть молекулы, которые не синтезируются организмом человека вовсе). Но иногда убихинон все-таки считают витамином и тогда обозначают его как витамин Q. Это жирорастворимый витамин, в отличие от никотиновой кислоты, которая относится к водорастворимым витаминам.
Ну а теперь поговорим о дыхании.
От глюкозы до пирувата
Первый этап процесса дыхания — гликолиз — представляет собой цепочку из 10 последовательных реакций, в результате которых молекула глюкозы (C6H12O6) превращается в две молекулы пировиноградной кислоты, или пирувата (C3H4O3). Это замечательное вещество с красивым названием открыл в 1835 году великий шведский химик Йенс Якоб Берцелиус, автор терминов “протеин”, “органическая химия” и многих других (см. главу 3). Пировиноградная кислота — это трехуглеродная кислота, состоящая из карбоксильной группы, кетогруппы и метильной группы (см. главу 1 и рис. 1.8). Вот суммарное уравнение гликолиза:
C6H12O6 + 2НАД+ + 2АДФ + 2H3PO4 → 2C3H4O3 + 2НАДH + 2H+ + 2АТФ + H2O
Здесь мы на самом деле видим сразу три сопряженных процесса. Первый из них — распад глюкозы (C6H12O6) до пирувата (C3H4O3); еще раз напомним, что в биохимии различие между кислотами и их анионами часто игнорируется, так что пировиноградная кислота и пируват для нас одно и то же. Второй процесс — восстановление двух молекул НАД+ до состояния “НАДH + H+”. Разумеется, это произошло за счет водорода, отнятого у глюкозы. (Если быть точным, атомы водорода отбираются не прямо у глюкозы, а у одного из промежуточных продуктов ее распада, и происходит это во время шестой по счету из составляющих гликолиз десяти реакций.) Ну а третий процесс, ради которого все, вообще говоря, и затевалось, — это синтез двух молекул АТФ. Уравнение показывает, что АТФ синтезируется из АДФ и фосфорной кислоты (H3PO4) с выделением воды (H2O). На уровне начальных и конечных продуктов так и есть, хотя реальный механизм тут гораздо сложнее. Но в любом случае образовавшиеся молекулы АТФ захватили свободную энергию, выделившуюся при распаде глюкозы и частичном окислении продуктов этого распада. Именно ради их синтеза вся эта система реакций и была нужна.
Гликолиз хорош тем, что абсолютно не требует участия молекулярного кислорода (O2). Поэтому, если кислородное дыхание по какой-то причине невозможно, гликолиз в принципе можно превратить в единственный способ получения энергии. И некоторые живые организмы на это действительно способны. В том случае, если гликолиз не предполагает продолжения в виде кислородного дыхания, к нему добавляется еще одна реакция, а именно восстановление пировиноградной кислоты (пирувата) до молочной кислоты (лактата):
C3H4O3 (пируват) + НАДH + H+ → С3H6O3 (лактат) + НАД+
Как ни странно, смысл этой реакции вовсе не в пирувате и не в лактате. Ее истинный главный продукт — это кофактор НАД+. Дело в том, что запасы кофакторов в клетках обычно очень малы: мы уже говорили, что их молекулы оборачиваются в одних и тех же реакциях несчетное число раз. Но если молекулы НАД+ уже загружены водородом (то есть перешли в состояние НАДH), то использовать их для новых актов гликолиза невозможно. Чтобы продолжить переработку поступающей в клетку глюкозы, нужно сначала окислить НАДH до НАД+, вернув кофактор в рабочее состояние. На ученом языке это называют регенерацией НАД+. Вот именно для этого реакция образования лактата и нужна. Сам лактат является тут только побочным продуктом. А гликолиз вместе с реакцией образования лактата складывается в процесс, который называется молочнокислым брожением.
Надо учитывать, что гликолиз и молочнокислое брожение не синонимы, но в них совпадают 10 из 11 реакций (то есть все, кроме последней). Есть и другие типы брожения, основу которых тоже составляет гликолиз, но с иными “надставками”.
Достойно внимания, что биохимический путь молочнокислого брожения одинаков у молочнокислых бактерий, с помощью которых мы получаем кисломолочные продукты, и у многих эукариот, включая человека. Открытие этого биохимического пути было в свое время, пожалуй, исторически первой полученной наглядной иллюстрацией фундаментального единства жизни на Земле. Человек, конечно, не способен полностью перейти на брожение, но тем не менее наши клетки могут на него временно переключаться в случаях, когда дыхательные ферменты не успевают до конца окислять глюкозу — например, при очень сильных мышечных нагрузках. Это та самая ситуация, когда молочная кислота накапливается в мышцах. После прекращения нагрузки накопившуюся молочную кислоту приходится все-таки метаболизировать: с кровью она поступает в печень и там вновь превращается в пируват, который уже можно использовать в кислородном дыхании.
Нельзя не сказать, что у биохимического пути гликолиза есть второе красивое название: путь Эмбдена — Мейергофа — Парнаса. Это имена трех биохимиков, каждый из которых посвятил десятки лет своей жизни изучению обмена углеводов. Густав Георг Эмбден и Отто Фриц Мейергоф были блестящими представителями классической немецкой биохимии. Эмбден умер в 1933 году, не успев получить Нобелевскую премию, хотя несколько раз номинировался на нее. Мейергоф получил свою Нобелевскую премию еще в 1922 году, а в 1938-м эмигрировал из Германии, спасаясь от нацистов, и закончил свою жизнь профессором в Пенсильвании. И наконец, судьба последнего из этой тройки оказалась еще более сложной. Якуб Кароль Парнас, он же Яков Оскарович Парнас, родился в Западной Украине, которая тогда входила в состав Австро-Венгрии. Высшее образование он получил в Германии, затем в роли самостоятельного исследователя сотрудничал с университетами Кембриджа, Неаполя, Страсбурга, Гента и Цюриха, но в качестве основного места работы выбрал Львов, к тому времени уже принадлежавший независимой Польше. При Львовском университете Парнас создал целый Институт медицинской химии с группировавшейся вокруг него мощной научной школой. В сентябре 1939 года Польша рухнула, и ее бывшая восточная часть — то есть Западная Украина и Западная Белоруссия — была присоединена к СССР. Парнас мог бы попытаться эмигрировать, но предпочел остаться во Львове и продолжить свою работу. Советская власть поначалу приняла его очень хорошо, он — к тому времени уже всемирно известный ученый — стал академиком АН СССР. В конце июня 1941 года Парнас успел эвакуироваться из Львова за считаные сутки, если не часы, до вступления в город немецких войск; если бы он задержался, то, скорее всего, был бы убит нацистами, как десятки оставшихся во Львове польских профессоров и тысячи простых евреев. Парнас переехал в Москву, где стал первым директором созданного в 1944 году Института биологической и медицинской химии (этот институт существует до сих пор под названием ИБМХ РАН). Однако в начале 1949 года он был арестован советским министерством государственной безопасности по надуманному обвинению в шпионаже и умер в тюрьме прямо в день ареста то ли от инфаркта, то ли от диабетической комы. Никаких подтверждений обвинения против Парнаса в дальнейшем не получили — причины его ареста явно были чисто политическими, возможно, связанными с тем, что он, как и Мейергоф, был евреем по национальности. Это одна из многих трагических судеб ученых в страшную “эру разобщенного мира” первой половины XX века.
Цикл лимонной кислоты
Итак, мы остановились на том, что молекула глюкозы распалась до двух молекул пирувата, то есть пировиноградной кислоты. Ее формула нам уже давно знакома, и сейчас достаточно просто напомнить, что это — молекула с тремя атомами углерода. Если к пировиноградной кислоте добавить вторую карбоксильную группу, она превратится в молекулу, которая называется щавелевоуксусной кислотой (ЩУК). Это соединение с четырьмя атомами углерода, двумя карбоксильными группами и кетогруппой. А из щавелевой кислоты можно при желании получить еще более великолепную на вид молекулу, которая называется лимонной кислотой: соединение с шестью атомами углерода, тремя карбоксильными группами и одной гидроксильной группой в придачу (см. главу 1 и рис. 1.8). В дальнейших биохимических событиях эти вещества принимают самое активное участие. Итак, запомним, что пировиноградная кислота — это трехуглеродная молекула, щавелевоуксусная — четырехуглеродная, а лимонная — шестиуглеродная.
Местом “приключений” всех этих веществ служит митохондрия. Если гликолиз происходит в обычной цитоплазме, то все дальнейшие процессы, составляющие дыхание, могут идти только внутри митохондрий (если мы говорим об эукариотной клетке, конечно). Поэтому именно сейчас есть смысл рассмотреть митохондрии чуть детальнее, чем мы делали это до сих пор.
Митохондрии были открыты с помощью микроскопа еще в XIX веке В то время их описывали как находящиеся внутри клеток палочки или зерна. На самом деле форма митохондрий весьма разнообразна. В некоторых клетках митохондрии вообще сливаются друг с другом, образуя сложные ветвящиеся структуры. Кроме того, митохондрии обычно связаны с цитоскелетом (точнее, с микротрубочками). Это помогает им занимать фиксированное положение, а когда нужно, то и перемещаться по клетке.
Любая митохондрия имеет две мембраны — наружную и внутреннюю. Промежуток между ними называется межмембранным пространством. Это типичный пример компартментализации — разделения клетки на мембранные отсеки (см. главу 10). В наружную мембрану митохондрии в изобилии встроены каналообразующие интегральные белки (порины), которые пропускают туда и обратно практически все не слишком крупные молекулы. Грубо говоря, наружная мембрана митохондрии похожа на сито. Поэтому химический состав межмембранного пространства примерно такой же, как у окружающей митохондрию цитоплазмы, то есть у обычного содержимого клетки.
Наоборот, внутренняя мембрана митохондрии очень мало проницаема для молекул и особенно для ионов (свойства липидного состава этой мембраны таковы, что ее проницаемость уменьшена до предела). Пространство, ограниченное внутренней мембраной митохондрии, называется матриксом. Кроме того, внутренняя мембрана митохондрии всегда имеет множество складок, которые принято называть кристами. Это нужно для увеличения ее поверхности. Переход молекул из межмембранного пространства в матрикс возможен только с помощью особых мембранных белков, часто использующих сопряженный транспорт. Именно в матриксе и происходят дальнейшие превращения пирувата.
Превращения эти, прямо скажем, довольно сложны. Мы сейчас ограничимся предельно упрощенным описанием, в котором будем обращать внимание в основном на судьбу атомов углерода. В конечном итоге путь этих атомов всегда завершается тем, что они окисляются до углекислого газа (CO2). Углекислый газ — бесполезный для дышащих существ конечный продукт, из которого вся энергия уже извлечена; дальше его можно только выдохнуть. Помня об этом, дальнейшую судьбу пировиноградной кислоты (то есть пирувата) легко разбить на четыре стадии.
* Вначале пировиноградная кислота декарбоксилируется. Это означает, что от нее отрывается карбоксильная группа, остаток которой в данном случае сразу же окисляется до углекислого газа (CO2).
* Фрагмент, оставшийся от пировиноградной кислоты и содержащий теперь только два атома углерода, уносится специальным кофактором и присоединяется к щавелево-уксусной кислоте (четырехуглеродной), которая превращается тем самым в лимонную кислоту (шестиуглеродную).
* Молекула лимонной кислоты еще дважды декарбоксилируется, попутно перестраиваясь. Последнее означает, что во всех реакциях, кроме первой, на самом деле фигурирует уже не сама лимонная кислота, а ее производные, но мы не будем их тут перечислять, а удовольствуемся конечным результатом. Важно то, что на этой стадии в итоге образуется еще две молекулы углекислоты (CO2). Таким образом, все три атома углерода, которые были в пировиноградной кислоте, теперь окислены до предела. Эти реакции требуют расхода воды (H2O), потому что кислорода, содержащегося в самой пировиноградной кислоте, на такое полное окисление не хватит.
* В конечном счете четырехуглеродный фрагмент, оставшийся от лимонной кислоты после реакций декарбоксилирования, превращается обратно в щавелевоуксусную кислоту. Тем самым цепочка реакций замыкается в цикл, который называют циклом лимонной кислоты, или циклом Кребса (см. рис. 11.7).
Большинство реакций, входящих в цикл Кребса, являются окислительно-восстановительными. Вот типичный пример такой реакции:
HOOC–CH2–CHOH–COOH + НАД+ → HOOC–CH2–CO–COOH + НАДH + H+
Здесь перед нами окисление яблочной кислоты (слева) до щавелевоуксусной (справа). Между этими двумя кислотами есть одно-единственное различие: там, где в яблочной кислоте находится гидроксильная группа (–CHOH–), в щавелевоуксусной кислоте на ее месте кетогруппа (–CO–). Чтобы превратить гидроксильную группу в кетогруппу, нужно отнять у молекулы два атома водорода (H). Именно это и делает фермент под названием малатдегидрогеназа. Это название легко расшифровать: малат — анион яблочной кислоты, а дегидрогеназы — общее название всех ферментов, отнимающих водород. Ферменты-дегидрогеназы — это одна из подгрупп ферментов-оксидоредуктаз, о которых мы говорили выше. Как и во многих других подобных реакциях, отобранные у яблочной кислоты два атома водорода тут же захватывает кофермент НАД+, который превращается при этом в НАДН (плюс протон в растворе).
Итак, в матриксе митохондрий идет целая серия окислительно-восстановительных реакций, конечные продукты которых, во-первых, углекислый газ и, во-вторых, отобранный у субстрата водород (см. рис. 11.8). Углекислый газ — это отход, который просто выдыхается (его молекулы так малы, что даже внутренняя мембрана митохондрии для них проницаема). Теперь от исходного субстрата, то есть от глюкозы, ничего не осталось, кроме отобранных атомов водорода, судьба которых совершенно особая.
Дыхательная цепь
Итак, молекула глюкозы, с которой мы начали разговор о дыхании, наконец-то полностью распалась. И произошло это в ходе цикла лимонной кислоты. Давайте посмотрим на главные особенности этого процесса.
Во-первых, он идет в матриксе митохондрий (то есть в замкнутом пространстве, ограниченном внутренней мембраной митохондрии), и только там.
Во-вторых, он не требует молекулярного кислорода (O2).
В-третьих, он хотя и сопровождается синтезом АТФ, но в очень малом количестве (всего одна молекула на каждый оборот цикла).
Главный продукт цикла лимонной кислоты — восстановленные формы свободных кофакторов. “Восстановленные” в данном случае, конечно, значит “нагруженные водородом”. Кофакторов с такой функцией, фигурирующих на выходе из цикла лимонной кислоты, существует два. Первый из них — это уже хорошо знакомый нам НАД+. Со вторым же мы еще не сталкивались. Не будем вникать в его молекулярную структуру, а ограничимся названием, благо оно красивое: флавинадениндинуклеотид, сокращенно ФАД. Химический предшественник ФАД хорошо известен медикам как водорастворимый витамин B2. Молекула ФАД может присоединить к себе два атома водорода, перейдя в восстановленную форму, а может и отдать их обратно:
ФАД + 2H ⇌ ФAДH2
В грубом приближении (которого мы и будем тут придерживаться) можно вообще игнорировать ФАД и свести весь “окислительно-восстановительный сюжет” к обороту НАД, вклад которого все равно существенно больше. Если говорить точно, в результате каждого оборота цикла лимонной кислоты восстанавливаются три молекулы НАД+ и одна молекула ФАД. Легко сосчитать, что вместе они поглощают восемь атомов водорода.
Проблема в том, что никакой механизм регенерации этих кофакторов в цикле лимонной кислоты не предусмотрен. А это должно означать, что использовать их можно только один раз. Дальше они нагружаются водородом и в рамках самого цикла лимонной кислоты разгружены быть не могут. Что же с ними делать?
Вот тут-то и начинается самое интересное. Но чтобы оценить, насколько это интересно, нужно (в который уже раз) небольшое вступление.
Начать тут лучше всего с немецкого биохимика Эдуарда Бухнера. В 1880-х годах, когда Бухнер начинал работать, химики и биологи вовсю спорили о природе брожения. Имело место противостояние двух мнений. Одни ученые были уверены, что брожение есть физиологический акт, неотделимый от живой материи по самой своей природе, и воспроизвести его вне живой клетки принципиально невозможно. Другие же считали, что брожение — это чисто химический процесс, требующий, конечно, определенных катализаторов, но потенциально вполне способный протекать и без всяких клеток, в любом растворе, где эти катализаторы есть. Обе точки зрения имели своих яростных защитников, и спор растянулся на несколько десятилетий. В 1897 году Бухнеру удалось наконец-то однозначно решить эту проблему. Он превратил клетки дрожжей в бесклеточный экстракт, растерев их в ступке с песком, и показал, что если добавить этот экстракт в раствор сахара, то там произойдет брожение, абсолютно идентичное естественному (в данном случае это было спиртовое брожение, конечными продуктами которого являются углекислый газ и этиловый спирт). Между прочим, это отличный пример того, как биолог вынужденно разрушает живое тело, превращая его в неживое, чтобы выяснить действующие там механизмы, а потом мысленно воссоздать живой объект, уже понимая, как он устроен. Такая аналитическая наука, как биохимия, основана на этом подходе практически целиком[104]. А историю современной биохимии часто отсчитывают именно от работы Бухнера, экспериментально доказавшего, что брожение — это обычный химический процесс, в котором ферменты играют роль катализаторов[105].
Сам Бухнер сразу понял огромное значение своего открытия. Зная высочайшую требовательность немецких химиков (как-никак лучших в то время в мире), он потратил еще месяц на тщательное проведение повторных опытов и только потом опубликовал сообщение о них. И оно произвело сенсацию. Теперь Бухнеру была обеспечена блестящая профессорская карьера, а в 1907 году он получил одну из первых Нобелевских премий по химии. К сожалению, жизнь Бухнера оказалась не слишком долгой из-за того, что он, как и многие другие немецкие интеллектуалы кайзеровской эпохи, был настроен довольно милитаристски. В момент начала Первой мировой войны ему было уже 54 года, но он все равно вступил в армию, где через некоторое время получил Железный крест и чин майора. В 1917 году он погиб от ранения на второстепенном и, по сути, не нужном никому из участников этой войны Румынском фронте.
Почему все это для нас важно? А вот почему. После открытия Бухнера у биохимиков сложилось стойкое убеждение, что живая клетка — это в общем-то просто мешок с ферментами. В 1901 году австриец Франц Хофмейстер, известный исследователь белков, выступил с четким предсказанием: для любой жизненно важной химической реакции должен найтись специфический внутриклеточный фермент. Буквально за считаные годы эта позиция стала общепринятой. Теперь для посвященных клетка выглядела не таинственным вместилищем жизни, а просто неким объемом с раствором, где идут реакции, вызываемые набором довольно сложных, но вполне поддающихся обычному химическому исследованию белковых катализаторов (то есть ферментов). И это, конечно, была правда. Но вот беда — не вся.
Дело тут вот в чем. И гликолиз, и брожение, и цикл лимонной кислоты — это цепочки химических реакций, идущих в однородной (гомогенной) жидкой среде, в которой ферменты просто растворены. Вопрос о направлении такой реакции в пространстве не только не имеет ответа, но и вообще лишен смысла (как и для подавляющего большинства реакций, изучаемых “обычной” химией). А вот дальше нам придется иметь дело с реакциями, организация которых в пространстве имеет важнейшее значение, потому что в них происходят строго направленные переходы молекул между разными фазами. Среду, где идут такие реакции, уже невозможно рассматривать как простой мешок с раствором ферментов. Это система с внутренней структурой, где есть направления, границы, поверхности раздела. И первым, кто это понял, был гениальный Питер Митчелл. Однако давайте обо всем по порядку.
Согласно общепринятому определению, фаза — это часть объема системы, однородная по составу и свойствам и отделенная от других частей той же системы поверхностью раздела. Последнее очень важно. Там, где никакой поверхности раздела нет, говорить о разных фазах нельзя. Например, если растворить в воде поваренную соль, получится система, не разделенная на фазы (обычный раствор). Но если насыпать в воду столько соли, чтобы она начала выпадать в осадок, то получится уже система с двумя фазами — жидкой (раствор) и твердой (кристаллы соли). Еще более простой пример системы c жидкой и твердой фазами — обычная вода, в которой плавают куски льда.
Система с двумя жидкими фазами тоже вполне возможна. Например, вода и бензол не растворяются друг в друге, потому что бензол — ярко выраженное гидрофобное вещество (см. главы 1 и 2). Если попытаться их смешать, в сосуде образуется два слоя: сверху бензол (он легче), снизу вода. И между ними будет четкая поверхность раздела.
Давно известно, что и клеточную мембрану можно в неплохом приближении рассматривать как гидрофобную жидкость, зажатую в очень тонком слое. И таким образом, на арене, где происходит дыхание (то есть внутри митохондрии), мы видим систему из трех жидких либо полужидких фаз: (1) матрикс, (2) внутренняя мембрана митохондрии и (3) межмембранное пространство. Первая и третья из этих фаз — гидрофильные, а вот вторая — гидрофобная. И она тут никак не менее важна, чем остальные две. Мы уже видели, что есть специальные кофакторы, способные работать только в гидрофобных условиях, то есть внутри мембраны: например, убихинон, который нерастворим в воде, зато хорошо растворяется в “жирных” средах. Но главное, прямо в мембране находится несколько ферментов-оксидоредуктаз, называемых вместе дыхательной цепью. И эти ферменты могут не только присоединять к себе остатки атомов водорода (то есть электроны), но и передавать их друг другу по цепочке — потому они так и названы.
Ферменты дыхательной цепи сами по себе очень интересны. Они были открыты еще в XIX веке и активно изучаются биохимиками до сих пор. Это огромные белки со сложнейшей четвертичной структурой, дрейфующие в фосфолипидном море мембраны, подобно айсбергам, верхушки которых высовываются наружу — в водную фазу. Каждый фермент дыхательной цепи обязательно связан со своим кофактором, который, собственно, и захватывает электроны (это может быть упоминавшийся выше гем, но могут быть и другие кофакторы, которые мы не обсуждали, потому что “нельзя объять необъятное”). Поскольку мембрана по своим физическим свойствам близка к жидкости, ферменты и кофакторы могут в ней перемещаться, сталкиваясь друг с другом и передавая электроны по цепи. Причем один из этапов этого переноса электронов внутри мембраны осуществляет даже не белок, а гораздо более простой свободный кофактор — уже знакомый нам убихинон.
Ну а теперь вернемся к тому, что происходит дальше с конечными продуктами цикла лимонной кислоты.
Главный из этих продуктов — конечно, НАДH. Напомним, что это восстановленный вариант НАД+, присоединивший к себе два электрона (e–) и один протон (H+). При наличии желания и возможности молекулу НАДH можно разложить на составные части:
НАДH ⇌ НАД+ + H+ + 2e–
Именно это разложение ферменты дыхательной цепи и осуществляют. Молекуле НАДH, плавающей в матриксе, нужно только приблизиться к мембране, чтобы соответствующий фермент дыхательной цепи (он называется комплексом I) отобрал у нее оба электрона. А пройдя всю цепь, электроны доходят до комплекса IV, который тут же захватывает молекулярный кислород — только сейчас он наконец-то понадобился! — и объединяет его с электронами и протонами (последних, как мы знаем, всегда хватает в окружающем растворе). В результате два электрона, один атом кислорода и два протона монтируются в молекулу воды:
½O2 + 2H+ + 2e– → H2O
Теперь глюкоза “сгорела” окончательно — до углекислого газа и воды. Процесс дыхания завершен.
А заодно произошла регенерация НАД+. Его теперь можно заново использовать в цикле лимонной кислоты или в любых других реакциях, в каких только захочется. Мы видим, что в данном случае именно кислород забрал у восстановленного НАДH атомы водорода, которыми тот был нагружен. Вот зачем, собственно, и нужен кислород при дыхании: чтобы послужить окислителем, отбирающим электроны у НАДH. Суммарное уравнение этого процесса выглядит так:
НАДH + H+ + ½O2 → НАД+ + H2O
Справа у нас тут восстановленный НАДH (с протоном) и кислород, а слева — окисленный НАД+ и вода. Таким образом, мы имеем полное формальное право сказать, что НАДH окисляется кислородом. Хотя физически молекула НАДH вообще не взаимодействует с молекулой O2: они разделены целой цепочкой ферментов, передающих электроны.
Осталось выяснить, каким же, собственно говоря, способом организм получает при этом энергию. Ведь к моменту окончания цикла лимонной кислоты молекул АТФ у нас пока еще мало, в несколько раз меньше, чем могло бы синтезироваться за счет полного сгорания глюкозы, если исходить из свободной энергии этого процесса. Чтобы понять, откуда в дыхательной цепи берется энергия, нужно обратить внимание на обмен протонов.
Зубчатые колеса
Что происходит с протонами, пока во внутренней мембране митохондрии работает дыхательная цепь (она же цепь переноса электронов)?
Дать ответ на этот вопрос нам сейчас уже не составит особого труда. Но, прежде чем к нему перейти, отметим несколько важных фактов, которые мы на самом-то деле уже знаем.
Во-первых, из-за того, что вода постоянно диссоциирует (Н2О ⇌ H+ + OH–, см. главу 1), запас протонов в водных растворах неограничен. С точки зрения подавляющего большинства реакций они там всегда в избытке. Но — внимание! — этот избыток отнюдь не означает, что концентрации протонов всюду равны. Их вполне может быть где-то больше, а где-то меньше.
Во-вторых, внутренняя мембрана митохондрии практически непроницаема для всех ионов, не исключая и протоны (особенности ее состава таковы, что она даже более непроницаема для них, чем другие мембраны в той же клетке).
В-третьих, внутренняя мембрана митохондрии строго асимметрична: две ее стороны обладают разными свойствами. Белки дыхательной цепи “высовываются” из мембраны в окружающий водный раствор, но каждый — только в свою сторону, в согласии с той функцией, которую он выполняет. А нередко и разные части одного и того же белкового комплекса бывают направлены в разные стороны, причем каждая — в точном соответствии со своим предназначением. Например, белковый комплекс I, который отбирает электроны у НАДH, имеет два совершенно разных активных центра, один из которых “высовывается” из мембраны в матрикс, а другой — совсем наоборот, в сторону межмембранного пространства. Это типичная ситуация.
В-четвертых, давайте вспомним о завершающем дыхательную цепь белковом комплексе IV, который захватывает кислород и соединяет его с электронами и протонами, образуя воду. Электрон и протон в сумме дают атом водорода. На одну молекулу кислорода (O2) тратится четыре электрона (e–) и четыре протона (H+), давая в результате две молекулы воды (H2O). Электроны приходят по мембранной цепи, их переносящей, а протоны захватываются из водного раствора. Так вот, активный центр этого комплекса обращен на внутреннюю сторону мембраны, то есть в матрикс. Где, таким образом, протонов по ходу его работы становится меньше.
И наконец, последний важнейший момент. Перенос электронов с НАДH на конечный окислитель, в данном случае на кислород, — это энергетически очень выгодный процесс. Количество свободной энергии, которая в нем выделяется, вполне сравнимо с количеством свободной энергии, выделяемой в настоящем пламени. Весь смысл процесса дыхания в том и состоит, чтобы, захватив эту энергию, конвертировать ее в форму, подходящую для дальнейшего использования.
Что же это за форма такая? Мы уже давно знаем, что самый популярный в современной живой природе способ запасания энергии — это обратить ее в энергию связей АТФ. Что ж, ничто не мешает нам вообразить встроенную в мембрану молекулярную машину в виде белка, конвертирующего энергию переноса электронов прямо в АТФ. Такое вполне, что называется, мыслимо. В наглядных образах эту “машину” можно было бы представить как две сцепленные шестеренки, одна из которых вертится под напором текущих электронов, а вторая автоматически пришивает фосфаты к АДФ, превращая его в АТФ.
Однако, хотя ничего принципиально невозможного в существовании такого белка нет, эволюция его почему-то не создала. Наша аналогия не совсем фантастична: некоторые (отдаленные, конечно) аналоги сцепленных шестеренок в белках дыхательной цепи и в самом деле присутствуют. Но энергию потока электронов они используют не для синтеза АТФ, а для транспорта протонов. Это типичный активный транспорт: протоны принудительно переносятся из матрикса (где их и так меньше) в межмембранное пространство (где их и так больше). Причем такие встроенные системы сопряженного транспорта есть подряд в нескольких белках дыхательной цепи, через которые последовательно проходят переносимые электроны. В результате изнутри наружу суммарно выбрасывается 64 протона на каждую исходную молекулу глюкозы. И таким образом, снаружи от мембраны становится не просто больше, а намного больше протонов, чем внутри:
[H+]out ≫ [H+]in
Теперь дело сделано. Ведь разность концентраций протонов, она же протонный потенциал (∆μH), — это не что иное, как еще один универсальный способ хранения энергии. Уж это мы теперь прекрасно знаем. Согласно законам биоэнергетики, энергию протонного потенциала всегда можно конвертировать в энергию АТФ:
∆μH ⇌ АТФ
Именно это и делает встроенная во внутреннюю мембрану митохондрии протонная АТФ-синтаза. С белками дыхательной цепи она не связана. Она просто пропускает накопившиеся протоны снаружи (где их больше) внутрь (где их меньше), а за счет высвобожденной при этом энергии синтезирует АТФ. Тот самый АТФ, благодаря которому мы живем. Подсчеты показывают, что из 38 молекул АТФ, которые синтезируются в результате полного окисления одной молекулы глюкозы, 34 синтезирует протонная АТФ-синтаза. Последней всего-то и остается, что открыть протонный канал да позволить крутиться своей “водяной (вернее, протонной) мельнице” (см. рис. 11.9). Вот этот завершающий процесс и открыл в свое время Питер Митчелл, получив в результате Нобелевскую премию.
Интересно, а могла бы дыхательная цепь обойтись вообще без переходного звена, каковым тут является активный транспорт протонов? Что мешает перевести энергию переноса электронов на окислитель прямо в энергию АТФ, отказавшись от ее промежуточного запасания в виде протонного (или, у некоторых бактерий, натриевого) потенциала? Чисто физически, видимо, ничто не мешает. О белках дыхательной цепи известно, что они могут отвечать серьезными конформационными изменениями даже на присоединение одного-единственного электрона. Тогда почему бы и не создать электронную АТФ-синтазу? Но за четыре миллиарда лет биологической эволюции этого так и не произошло. Может быть, вариант с протонным потенциалом чем-то выгоднее (например, тем, что протонный потенциал автоматически распределяется по всей протяженности сколь угодно длинной и разветвленной митохондрии — в некоторых клетках митохондрии даже специально сливаются друг с другом, чтобы использовать эту возможность). А может быть, дело в том, что это наследие очень древнего эволюционного прошлого, отказ от которого потребовал бы столь серьезной перестройки обмена веществ, что лучше уж было оставить все как есть. Вероятно, мы поймем это несколько лучше, когда разберемся в том, какой из способов запасания энергии эволюционно первичен.
Поэма начала
В этой главе мы уже говорили о том, насколько разными способами живые существа получают энергию. Теперь нам осталось сузить эту проблему до предела и обсудить способы синтеза АТФ, которых насчитывается всего-то навсего два (причем чаще всего они наблюдаются одновременно у одних и тех же организмов).
Первый способ называется субстратным фосфорилированием. В этом случае по ходу предназначенного для поставки энергии биохимического пути создается некоторая молекула, включающая в себя фосфат с макроэргической связью (X~Ф). А потом этот фосфат переносится на АДФ. В результате получается молекула АТФ, содержащая новую макроэргическую связь и запасающая энергию в себе:
X~Ф + АДФ → X + АТФ
Именно так генерируется энергия в процессе гликолиза (веществом, которое мы обозначили как X~Ф, там служит фосфоенолпируват). Подобные реакции идут просто в растворе, никакая сложная структура среды с выделенными направлениями и границами для них не нужна. А это означает, что субстратное фосфорилирование вполне соответствует бухнеровскому представлению о клетке как простом мешке с растворенными ферментами.
Второй способ — мембранное фосфорилирование — представляет собой уже хорошо знакомое нам обращение энергии протонного (или натриевого) потенциала в энергию АТФ с помощью соответствующей ионной АТФ-синтазы. Ясно, что для мембранного фосфорилирования необходима замкнутая мембрана, сквозь которую протоны (или ионы натрия) будут проходить только с помощью особых белков и только в одну сторону. Этот способ получения АТФ — основной и в дыхании, и в фотосинтезе. В ходу он и у обладателей многих других типов метаболизма. Например, метаногенные археи (которые живут за счет восстановления углекислого газа до метана) тоже пользуются мембранным фосфорилированием как главным источником энергии. Они создают на своей внешней мембране протонный потенциал, а потом конвертируют его в энергию связей АТФ.
А теперь зададимся вопросом, который наверняка покажется самым интересным во всей этой истории многим биологам независимо от того, связаны ли они с биохимией (хочется надеяться, что и многим небиологам тоже): какое фосфорилирование появилось раньше — субстратное или мембранное?
Сразу признаемся, что это вопрос исключительно сложный (даже сама возможность его поставить появилась считаные десятилетия назад) и никакого окончательного ответа на него нет. Как раз наоборот, на эту тему прямо сейчас идет активная полемика. И чтобы разобраться в ее предмете, нам придется обратиться к самым истокам жизни.
В 1929 году английский биолог Джон Холдейн опубликовал статью о происхождении жизни, в которой бегло, вовсе не претендуя на окончательную истину, попытался обрисовать свои тогдашние представления об этом процессе[106]. Холдейн всегда отличался ясностью и смелостью мыcли. Предложенный им сценарий происхождения жизни оказался невероятно убедительным — до такой степени, что вошел в школьные учебники и породил многочисленные мемы (вроде, например, изображений консервных банок с надписью “Haldane’s Primordial Soup” — “Первичный бульон Холдейна”). Сводится этот сценарий вот к чему. Изначально древняя Земля, разумеется, была совершенно безжизненной. Она имела водный океан и атмосферу, состоявшую в основном из углекислого газа (CO2), аммиака (NH3) и водяного пара. Свободного кислорода в атмосфере не было и озонового слоя, соответственно, тоже. Поэтому ультрафиолетовый компонент солнечных лучей свободно достигал поверхности воды. Ультрафиолетовые лучи несли вполне достаточно энергии, чтобы вызывать спонтанные превращения углекислого газа, аммиака и воды в органические молекулы, которыми постепенно заполнялся океан. Так и возник знаменитый “первичный бульон”: целый океан, представлявший собой теплый разбавленный раствор уже довольно разнообразной органики. Идеальная питательная среда для жизни, которой на тот момент еще не было. В этой-то среде и появились первые живые существа — очень простые, возможно (говорит Холдейн) похожие на вирусы: ведь те и по сей день проявляют активность, только оказавшись в богатой питательной среде, внутри чужой клетки. Во всяком случае, Холдейн был уверен, что первые на Земле живые организмы были гетеротрофами, и считал, что их способом питания, скорее всего, было брожение (тут он цитирует великого французского биолога Луи Пастера: “Брожение — это жизнь без кислорода”). Вот в таком виде гипотеза Холдейна и обрела огромную популярность, которой он, возможно, и сам не ожидал.
Почему эта гипотеза важна для нас? А вот почему. Брожение — это способ получения энергии, полностью основанный на субстратном фосфорилировании. В брожении не участвуют никакие мембранные белки, оно от начала до конца протекает в растворе, и с этой точки зрения его механизм выглядит очень примитивным. Казалось бы, все отлично соответствует гипотезе Холдейна. Однако со времен Холдейна накопилось много фактов, заставляющих серьезно усомниться в том, что первые живые организмы на Земле могли быть бродильщиками[107].
Прежде всего, брожение попросту малоэффективно. Его реакции идут в общем-то на грани энергетической выгоды и дают очень мало АТФ (две молекулы на одну молекулу глюкозы, как мы уже знаем). А вот биохимическая “машинерия” брожения, хоть и не требующая мембранных белков, на самом деле весьма сложна. Для молочнокислого или спиртового брожения нужно примерно 12 ферментов, катализирующих последовательные реакции, причем каждый из этих ферментов представляет собой довольно сложный белок, кодируемый особым геном. А ведь любой из этих белков и генов сам должен быть продуктом долгой эволюции. Трудно поверить, что подобный тип обмена возник самым первым. Гораздо вероятнее, что он появился позже, как пристройка к неким более простым и в то же время более эффективным энергетическим механизмам. У современных специализированных бродильщиков эти древние механизмы исчезли, а брожение осталось. В общем, из того, что брожение обходится без мембранного фосфорилирования, никак не следует, что этот способ добычи энергии очень прост, и уж тем более не следует, что он был исходным для всех живых существ.
Современная молекулярная биология подтверждает эти мысли. На эволюционных деревьях видно, что все бродильщики относятся к производным эволюционным ветвям, достаточно далеким от общего предка всех клеточных организмов. К тому же показано, что ферменты гликолиза у бактерий и у архей не имеют между собой ничего общего[108]. Все это означает, что брожение — довольно позднее приобретение, появлявшееся в ходе эволюции независимо несколько раз. Ничего невероятного в таком выводе нет, мы знаем и другие примеры, когда достаточно сложные механизмы неоднократно независимо “изобретались” разными эволюционными ветвями; по всей видимости, это относится к фотосинтезу и даже к репликации ДНК (см. главу 9). Вот и с брожением та же история.
Сравнивая друг с другом современные живые организмы, легко убедиться, что мембранное фосфорилирование гораздо более универсально, чем субстратное. Оно есть и у бактерий, и у архей, и у эукариот. На мембранном фосфорилировании основана система получения энергии у всех без исключения организмов, использующих фотосинтез или дыхание, а также у метаногенов, карбокситрофов, метилотрофов, водородных бактерий и серобактерий. И ведь это еще неполный список: надо учитывать, что некоторые типы метаболизма мы тут просто не обсуждали (хотя в знакомую нам теперь классификацию все они, конечно, так или иначе входят). Специализированные бродильщики — вообще единственные в современном мире, кто получает энергию просто из реакций, идущих в растворе внутри клетки, без всякой генерации потенциала на плазматической мембране этой клетки.
К этому можно добавить, что и у бродильщиков ионный потенциал на мембране обычно все-таки есть. Если он и не служит для получения энергии, то служит для других целей, в первую очередь для сопряженного транспорта. Всевозможные симпорты и антипорты очень удобно осуществлять, когда на мембране постоянно поддерживается разность концентраций каких-нибудь ионов.
Английский биохимик Ник Лейн считает, что все эти факты не оставляют сомнений в огромной древности ионных потенциалов вообще и мембранного фосфорилирования в частности. По мнению Лейна, для утверждения, что у общего предка всех современных живых клеток было мембранное фосфорилирование, есть примерно столько же оснований, сколько и для утверждения, что у него были, например, рибосомы (в чем давно уже никто не сомневается). Тогда получается, что у него была мембрана, уже способная “держать” либо протонный, либо натриевый потенциал и пригодная для выработки полезной энергии.
Тут надо сказать пару слов о самом Нике Лейне. Он не только биохимик, но и известный популяризатор науки; четыре его книги уже вышли на русском языке (они называются “Лестница жизни. Десять величайших изобретений эволюции”, “Энергия, секс и самоубийство. Митохондрии и смысл жизни”, “Кислород. Молекула, изменившая мир” и “Вопрос жизни”). А его любимая узкая специальность — биоэнергетика. Неудивительно, что сквозь многие работы Лейна, что называется, красной нитью проходит одна и та же мысль: современная биология уделяет слишком много внимания проблеме информации в ущерб проблеме энергии. Давайте присмотримся к этой мысли.
Не кто иной, как Джон Холдейн, в свое время определил жизнь как способ существования самовоспроизводящихся структур за счет притока энергии извне. В этом определении важны обе части. Основу живых самовоспроизводящихся структур образуют носители наследственной информации, то есть у большинства живых организмов молекулы ДНК; процесс их копирования хорошо нам знаком, он называется репликацией (см. главу 9). А теперь подумаем о том, что в ходе репликации любая цепочка ДНК собирается из большого количества — от тысяч до миллионов — отдельных плавающих в растворе мономеров-нуклеотидов, которые специальные ферменты должны сначала захватить, потом расположить в необходимом порядке, примерно как типографские литеры при наборе текста, потом сшить фосфатными мостиками, а потом еще придать получившейся молекуле строго определенную пространственную укладку. Нечего и говорить, что этот сложный процесс, без которого земная жизнь немыслима, требует огромных (по молекулярным меркам) затрат энергии. Откуда эта энергия берется? И откуда она бралась, когда жизнь только-только возникала?
На этот вопрос Лейн дает вот какой общий ответ. Пусть мы и не знаем точно, в какой именно природной системе появилась жизнь, но из общих соображений следует ожидать, что эта система была, выражаясь научным языком, термодинамически неравновесной. Это означает, что в ней наверняка существовал какой-нибудь устойчивый перепад или поток, к которому новорожденная жизнь могла бы, грубо говоря, “присосаться”. Древний океан, освещенный Солнцем, подходит на роль такой системы очень плохо. Во-первых, он слишком однороден. Во-вторых, ультрафиолетовое излучение, служащее в этих условиях главным поставщиком энергии (его кванты мощнее, чем кванты видимого света), разрушает примерно столько же химических связей, сколько создает. Использовать его как источник энергии для синтеза сложных молекул очень трудно. И таким образом, Мировой океан, постепенно превращающийся в полный питательной органики первичный бульон, — вещь малореальная.
А что, если жизнь возникла на границе двух растворов, резко отличавшихся друг от друга содержанием каких-то важных ионов? Это не только сразу решает вопрос об источнике энергии (любая разность концентраций ионов — готовый потенциал, который можно превратить в работу), но и объясняет, почему мембранные потенциалы настолько широко распространены: да потому, что именно на создающей их поверхности раздела жизнь когда-то и началась.
Есть, например, остроумная идея, что подходящие для этого условия вполне могли бы предоставить бьющие на океанском дне, на окраинах рифтовых зон, щелочные гидротермальные источники. Они в меру горячи (достаточно для ускорения большинства реакций, но не настолько, чтобы в них разрушались органические молекулы), отличаются высоким содержанием молекулярного водорода (H2) и, что для нас сейчас особенно важно, чрезвычайно низкой кислотностью. А важно это вот почему. Древняя атмосфера Земли, скорее всего, содержала колоссальную долю углекислого газа (тут очень показательно, что атмосферы двух других планет земного типа — Венеры и Марса — по сей день состоят преимущественно из углекислоты). Растворяясь в воде, углекислый газ (CO2) превращается в угольную кислоту (H2CO3), которая тут же диссоциирует, распадаясь на анионы и протоны. А это с неизбежностью означает, что океан древней Земли был очень кислым. И получается, что внутри геотермального источника среда была щелочная и восстановительная (там много ионов OH– и молекул H2), а снаружи от него в то же время — кислая и окислительная (там много ионов H+ и молекул CO2). Просто идеальные условия, чтобы использовать перепад концентрации протонов для получения энергии. Особенно если теплый источник и окружающая его океанская толща были чем-то разделены — ну, для начала хотя бы перегородкой или трубкой из отложенных водой пористых минералов (а это уж точно вполне реально, такие перегородки и трубки при источниках подобного типа образуются сами). Тогда сразу возникает система из двух компартментов с естественной протондвижущей силой между ними. Вот эту-то силу зарождающаяся жизнь и может “оседлать”.
Добавим, что направление протонного градиента во всех клетках, использующих его для получения энергии, именно таково, как предсказывается этой моделью. Снаружи протонов гораздо больше, чем внутри. Это относится и к бактериям, у которых синтез АТФ идет прямо на плазматической мембране клетки, и к потомкам бактерий — митохондриям, где синтез АТФ идет на внутренней мембране (вероятно, происходящей из плазматической мембраны бывшей бактерии). Во всех этих случаях энергетически выгодный поток протонов направлен снаружи внутрь.
На сегодняшний день существует подробно разработанная модель, описывающая возможные первые шаги возникновения жизни в горячих щелочных источниках[109]. Главный энтузиаст этой модели — биохимик Уильям Мартин. Недавно при его участии было проведено исследование, на основании сравнений прочитанных геномов восстановившее несколько вероятных признаков общего предка всех живых клеток[110]. Получилось там следующее. Общий предок бактерий, архей и эукариот, скорее всего, был анаэробом (жил в отсутствие кислорода) и термофилом (жил при довольно высокой по нынешним меркам температуре). По типу метаболизма он был или метаногеном (восстанавливающим углекислый газ до метана), или ацетогеном (восстанавливающим углекислый газ до уксусной кислоты). И наконец, у него не было протонных насосов, зато были протонные АТФ-синтазы. Последнее означает, что он не умел самостоятельно создавать трансмембранную разность концентраций протонов, зато умел использовать уже существующую разность для генерации энергии. И весь этот набор признаков отлично согласуется с идеей, что наш далекий предок жил на границе щелочного горячего источника.
Тут, однако, нужно притормозить, чтобы четко разделить статусы обсуждаемых утверждений. Например, широчайшая распространенность мембранных потенциалов у самых разных живых организмов — это просто факт. Первичность мембранного фосфорилирования по отношению к субстратному — гипотеза, хотя и довольно правдоподобная. А происхождение жизни в щелочных геотермальных источниках — это сценарий, основанный на целом наборе допущений и, к сожалению, по самой своей природе трудно поддающийся проверке. Как говорит сам же Уильям Мартин, даже если мы построим в лаборатории реактор, в который с одного конца подаются водород, углекислый газ и азот, а с другого конца выходят готовые бактерии, это будет доказательством того, что жизнь в принципе может возникнуть таким образом, но не того, что она действительно возникла именно так в реальной истории планеты Земля. Хотя и первое, конечно, тоже было бы очень интересно, тем более что попытки создать такой реактор уже предпринимаются[111].
Сделаем еще одно отступление. В 1952 году американский фантаст Рэймонд Джоунс опубликовал замечательный рассказ под названием “Уровень шума”, сюжет которого следующий. Некая чрезвычайно солидная государственная организация приглашает крупных физиков и сообщает им, что один молодой изобретатель недавно построил антигравитационную машину. К сожалению, при испытании машины изобретатель погиб, и никаких записей после него не осталось. Но то, что машина работала, — факт. Это подтверждается снятым во время испытаний фильмом и, главное, свидетельствами авторитетных ученых и военных, которые видели работу антигравитационного устройства своими глазами. Ставится задача воссоздать это достижение. Приглашенные физики сперва заходят в тупик, но убеждают себя: кто-то же это сделал, значит, и мы можем! — и в конце концов действительно создают антигравитационную машину, хотя совершенно не такую, как можно было бы ожидать, исходя из полученной в начале работы информации. После чего физикам объясняют, что вся эта информация была вымышленной: никакой антигравитационной машины на самом деле не было. Они создали ее первыми. Беда в том, что изначально все грамотные физики были убеждены в невозможности антигравитации и не стали бы по своей воле даже пытаться ее открыть. Трюк с правдоподобным сообщением о постройке вымышленной машины был специально придуман, чтобы снять этот мысленный фильтр. “Внутреннее решение относительно того, можно ли найти ответ на проблему, принимается обычно еще до начала поисков ответа”, — говорит руководивший этим проектом психолог.
В рассказе Джоунса есть и другие интересные мысли, не вошедшие в этот краткий пересказ. Но нам сейчас главное — отметить, что положение реальных современных биохимиков, исследующих происхождение жизни, на самом деле довольно похоже на положение описанных в рассказе физиков, пытающихся открыть антигравитацию. Правда, одно важное отличие все-таки есть. Биохимики-то уж совершенно точно знают, что возникновение живой материи из неживой по крайней мере один раз действительно произошло. Значит, это потенциально можно повторить. И не обязательно тем же способом, какой сработал на Земле четыре с лишним миллиарда лет назад. Здесь у науки появляются не только исследовательские, но и творческие возможности.
Гипотеза происхождения жизни в щелочных источниках порождает много неизбежных вопросов. Прежде всего: какая у общего предка всех живых организмов была мембрана? Очевидно, что обойтись без полноценной внешней мембраны (или ее аналога) этот предок не мог — иначе ему было бы не на чем поддерживать устойчивую разность концентраций протонов, от которой, согласно обсуждаемой теории, должен был зависеть весь его метаболизм. Между тем в разных эволюционных стволах, а именно у бактерий и у архей, состав клеточных мембран различается настолько серьезно, что между ними трудно представить переходное состояние (см. главу 5). Эволюционное превращение бактериальной мембраны в архейную (или наоборот) чисто биохимически выглядит маловероятным, гораздо проще допустить, что бактерии и археи “оделись” мембранами независимо друг от друга. Но как тогда их общий предок мог поддерживать протонный потенциал? Значит, какой-то аналог мембраны у него все-таки был? Но какой же?
В ранних работах Ника Лейна никаких убедительных ответов на эти вопросы нет, хотя автор там и подчеркивает, что прекрасно понимает саму проблему. Однако, поломав голову несколько лет, он с помощью своих коллег из Лондонского университетского колледжа нашел возможное объяснение[112]. Шанс расставить все по своим местам появляется, если предположить, что “изобретением”, которое независимо совершили бактерии и археи, была не мембрана как таковая, а мембрана, непроницаемая для протонов. Ведь протон — это очень маленькая частица. Сделать мембрану непроницаемой для протонов трудно, и нет ничего удивительного, что в ходе эволюции этого удалось достичь не сразу. Между тем расчеты Лейна и его коллег показывают, что самые древние формы жизни могли обойтись и более простой мембраной, сквозь которую протоны “протекали”. Правда, при одном добавочном условии. В эту мембрану должен был быть встроен натрий-протонный антипортер — белок, обменивающий протоны на ионы натрия, то есть, иными словами, превращающий градиент протонов в градиент натрия или наоборот (∆μH ⇌ ∆μNa). Показано, что при прочих равных условиях проницаемость липидной мембраны для натрия на шесть порядков величины, то есть примерно в миллион раз, ниже, чем проницаемость той же самой мембраны для протонов. Поэтому, если достаточно быстро (чтобы протоны не успевали утечь) постоянно заменять градиент протонов градиентом натрия, этот последний можно будет уже спокойно использовать для мембранного фосфорилирования, то есть для перевода энергии запасенных ионов в энергию химических связей. Остроумное решение.
Если это решение еще и соответствует тому, что реально случилось в истории жизни на Земле, то получается, что мембрана общего предка всех современных живых клеток была какой-то очень простой (вполне вероятно, что даже неорганической). И только уже после того, как древо жизни разделилось на две крупные ветви, представители этих ветвей — бактерии и археи — независимо друг от друга “изобрели” чисто протонную мембранную энергетику. Для этого было необходимо создать мембрану, не пропускающую протоны. Бактерии и археи решили эту задачу примерно в одно и то же время, но несколько разными способами, в результате чего их мембраны стали отличаться.
Надо сказать, что эта новая гипотеза имеет как минимум одно вполне проверяемое следствие. Согласно ей, натрий-протонный антипортер должен быть не “новоделом”, а чрезвычайно древним белком, имевшимся уже у общего предка всех современных живых клеток. Это можно проверить методами биоинформатики, сравнивая последовательности соответствующих белков (и генов, которые их кодируют) у разных живых организмов. Данные на эту тему, имеющиеся сейчас, вроде бы не противоречат гипотезе Лейна, но это еще надо выверить и уточнить.
В целом у Лейна и его коллег получается, что система переработки энергии развивалась ступенчато. Первым важнейшим ключевым новшеством было случившееся в очень глубокой древности “изобретение” натрий-протонного антипортера, которое сразу позволило эффективно генерировать энергию на примитивной мембране. А вторым новшеством, причем “изобретенным” в двух эволюционных ветвях параллельно, стала мембрана, не пропускающая протоны. Это дополнительно увеличило эффективность систем переработки энергии, заодно сделав их более универсальными: например, в пресной воде удобнее пользоваться протонными АТФ-синтазами, чем натриевыми, а в морской —наоборот.
Возвращаясь к обсуждению гипотезы возникновения жизни в щелочных источниках, надо сказать, что в ней, при всем ее изяществе, есть несколько слабых мест.
Во-первых, предполагаемая этой гипотезой химическая среда с точки зрения современных взглядов на возникновение жизни не является идеальной. По Мартину, щелочная полость гидротермального источника соответствует цитоплазме готовой клетки, а слабокислая морская вода — внешней среде. Проблема в том, что РНК — судя по всему, ключевой для ранней жизни полимер — в щелочной среде неустойчива, а устойчива как раз в слабокислой[113]. Это явное противоречие, и можно ли его снять, пока неизвестно.
Во-вторых, расчеты некоторых биофизиков приводят к выводу, что для работы ионной АТФ-синтазы любого типа нужен достаточно мощный мембранный потенциал, который можно поддерживать только на мембране, уже близкой по структуре к мембранам современных организмов. Это может означать, что мембранное фосфорилирование появилось в эволюции все-таки позже, чем субстратное[114] [115]. Как Лейн и его коллеги справятся с этим возражением, покажет время.
В-третьих, биохимики уже достаточно давно показали (в том числе и экспериментально), что конденсация органических молекул в сложные полимеры, потенциально способные стать основой живых клеток, гораздо легче происходит на фоне колебаний влажности, чем в стабильно-водных условиях. Это сильный довод против происхождения жизни в глубоководных горячих источниках, как по умолчанию предполагает гипотеза Мартина. Иное дело, что горячие источники могут быть и мелководными — или вообще находиться на суше. В последнее время появляются палеонтологические данные, достоверно показывающие, что во времена, когда жизнь (судя по всему) недавно возникла, древние бактерии жили в горячих источниках, располагавшихся именно на суше, в окрестностях наземных вулканов[116]. Само по себе это не опровергает и не подтверждает ни одну из гипотез возникновения жизни, но заставляет серьезно задуматься.
В-четвертых, мы до сих пор исходили — невольно и неявно — из того, что древнейшая форма жизни была или счастливым обладателем мембранного фосфорилирования, или же бродильщиком. Третьего варианта на современной Земле нет. Но ведь интересующие нас события происходили в эпоху, очень далекую от современности. Многие процессы тогда могли идти по-другому. На современной Земле действует скулачевский первый закон биоэнергетики, согласно которому энергия из внешних источников не используется живыми организмами напрямую: они сначала обязательно должны “конвертировать” ее или в энергию связей АТФ, или в один из двух ионных потенциалов (протонный или натриевый). Но на древней Земле первый закон биоэнергетики мог и нарушаться[117]. Первые живые организмы как раз вполне могли напрямую использовать в биохимических процессах небольшие порции энергии из внешней среды — например, в виде молекул пирофосфата или квантов света, запускающих самопроизвольное фосфорилирование органики (уже упоминавшийся эффект, который называется фотофосфорилированием). Есть и другие варианты. Древняя жизнь отнюдь не стояла перед выбором “или мембранное фосфорилирование — или брожение”, на самом деле у нее было гораздо больше возможностей.
В любом случае мы теперь понимаем, что история жизни на Земле — это история взаимодействия живых систем не только с информацией, но и с энергией. Проведя рискованную аналогию, можно сказать, что сводить все биологические явления к информационным процессам — все равно что сводить всю историю Европы к биографиям королевских особ. К тому же надо иметь в виду, что биоэнергетика — существенно более молодая наука, чем сосредоточенная на наследственной информации генетика. Например, свое нынешнее название биоэнергетика получила только в 1969 году (генетика — в 1905 году). И сейчас у биоэнергетики еще многое впереди.
12. вирусы
На Земле развитие животного мира всегда шло от малого к большому, от простого к сложному. А вне Земли? В какой-то иной точке Вселенной развитие могло идти в обратном направлении, ко все более мелким формам. Подобно тому как прогресс человеческой техники ведет к миниатюризации многих вещей, так и эволюция на какой-то более совершенной стадии, вполне возможно, приводит ко все более и более мелким формам жизни.
Майкл Крайтон. Штамм “Андромеда”Двести лет назад великий французский биолог Жан Батист Ламарк писал, что всем живым организмам свойственно в ходе истории постепенно и неуклонно усложняться. Конечно, он был не прав. На самом деле биологическая эволюция может с примерно одинаковой вероятностью идти как в сторону усложнения организмов, так и в сторону их упрощения (и это останется верным, как бы мы ни определяли простоту и сложность). Фактор, который чаще всего направляет эволюцию в сторону большей простоты, — это паразитизм. Глубоко специализированные паразиты могут терять даже жизненно важные механизмы и свойства, иногда доходя в этом до крайностей. В главе 11 уже упоминались так называемые энергетические паразиты, которые лишены собственной системы выработки энергии и “воруют” АТФ у клеток, внутри которых живут. Энергетический паразитизм — не столь уж и редкое явление. Внутриклеточные энергетические паразиты есть даже среди эукариот: это микроспоридии, до неузнаваемости изменившиеся родственники грибов[118]. У более простых организмов, например у бактерий, такой образ жизни встречается еще чаще. Ну а следующей ступенью упрощения после энергетического паразитизма, по логике вещей, мог бы стать паразитизм генетический.
Можно ли представить себе паразитическое существо, у которого нет собственной полноценной системы оборота генетической информации и которое, чтобы выжить, должно подключиться к генетическому аппарату хозяина, перенастроив его в своих интересах? Конечно, можно. Более того, таких существ на Земле великое множество. Они называются вирусами.
Внимание: ни в коем случае не надо думать, что вирусы (подобно множеству других паразитов) непременно произошли от организмов, которые были устроены сложнее их. Скорее всего, именно в случае с вирусами это неверно. Их происхождение — особое. Но тем не менее их тоже можно считать паразитическими живыми существами. Пусть и очень простыми (к вопросу о том, следует ли считать их живыми существами вообще, мы еще вернемся).
Вирус — это внутриклеточный паразит, состоящий из нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК) и белка, который служит для защиты этой нуклеиновой кислоты и кодируется ею же. Только вот синтезировать этот белок самостоятельно вирус не может. Вирусы тем и отличаются от любых других живых организмов, что у них нет собственной системы трансляции, то есть синтеза белка. Свои системы репликации (копирования генома) и транскрипции (синтеза РНК) у вируса вполне могут быть, а вот к трансляции это не относится. В деле синтеза белка вирус целиком полагается на ту клетку, которую он заражает. Правда, у самых крупных и сложных вирусов иногда встречаются собственные белки, участвующие в процессе трансляции — но только в отдельных его этапах. Полной системы трансляции (и особенно рибосом, без которых трансляция невозможна) у них не бывает никогда. Это, пожалуй, самое главное отличие вирусов от клеток. Вирусы — единственная принципиально неклеточная форма жизни на современной Земле, да и вообще в известной нам части Вселенной, если уж на то пошло.
Другое важное отличие вирусов от клеток состоит в том, что вирусы никогда не размножаются делением. Каждая вирусная частица собирается заново из нуклеиновых кислот и белков, которые синтезируются совершенно отдельно друг от друга (очень часто — в разных местах зараженной вирусом клетки). Эта особенность размножения еще лучше подчеркивает, насколько сильно вирусы и клетки различаются между собой.
Все вирусы без исключения — облигатные внутриклеточные паразиты. Слово “облигатный” буквально значит “обязательный”. Облигатный внутриклеточный паразит — тот, кто не способен жить ни в каких других условиях, кроме как внутри чужой клетки. Вне клетки вирус всегда представлен только неактивной стадией — компактной частицей, которую для краткости называют вирионом. “Вирусная частица” и “вирион” — синонимы. Сам по себе вирион пассивен, “вести себя” он начинает только при встрече с живой клеткой; парадокс в том, что именно в этот момент он и теряет форму вириона — или даже любую форму вообще. Вирус, активно действующий в клетке, часто (хотя и не всегда!) бывает неотличим от ее собственного внутреннего содержимого.
Как бы ни были просты вирусы, у любого из них есть собственный геном. Там обычно закодированы белки, необходимые для репликации самого генома и для постройки новых вирусных частиц. Это — минимальный “функционал”. Но у некоторых вирусов, главным образом у крупных, геном обогащен множеством дополнительных генов. Большинство из них — это гены, продукты которых (то есть белки) так или иначе участвуют в многоэтапном взаимодействии вируса с клеткой хозяина.
На стадии вириона генетический материал вируса заключен в белковую оболочку, которая называется капсидом (см. рис. 12.1). Это чисто вирусное “изобретение”, у живых клеток никаких капсидов нет. У многих вирусов (но далеко не у всех) капсид имеет форму икосаэдра, то есть правильного двадцатигранника, одного из знаменитых Платоновых тел. Бывают и другие капсиды, например спиралевидные, нитевидные, палочковидные. Некоторые вирусные капсиды устроены очень сложно. Например, у миовирусов, которые паразитируют в клетках бактерий и архей, капсид (по словам одного известного вирусолога) похож на лунный посадочный модуль: он состоит из икосаэдрической головки, трубчатого хвоста с винтовой симметрией и нитевидных ножек, обеспечивающих “посадку” вирусной частицы на клетку. А есть вирусы, у которых капсид, в свою очередь, заключен в мембрану, похожую на клеточную: например, таковы вирусы СПИДа и оспы. Эту внешнюю мембрану, в отличие от капсида, у вирусов принято называть просто оболочкой.
Разнообразие вирусных частиц связано, прежде всего, с разнообразием способов воздействия вирусов на живые клетки. Вирусы — великолепные манипуляторы. Например, вирусы животных часто попадают внутрь клеток, в самом буквальном смысле провоцируя эндоцитоз, то есть активный захват клеткой посторонних частиц (см. рис. 12.2А). (Частным случаем эндоцитоза является фагоцитоз, о котором мы говорили в главе 10.) Оболочка такого вируса содержит сигнальные белки, которые входят в контакт с рецепторами, сидящими в клеточной мембране, и заставляют их запустить в клетке механизм захвата. В результате поглощенный клеткой вирус оказывается у нее внутри, что, собственно, и требовалось. Это немного напоминает описанную Станиславом Лемом в “Звездных дневниках Ийона Тихого” охоту на курдля: охотник, намазавшийся специальной пастой и обсыпавшийся мелко накрошенным зеленым луком, проглатывается этим зверем, после чего устанавливает у него в брюхе бомбу с часовым механизмом.
Вирусы, поражающие бактерий (так называемые бактериофаги), действуют не столь изощренно, но тоже по-своему изящно (см. рис. 12.2Б). Типичный бактериофаг закрепляется на клетке бактерии, проделывает отверстие в ее клеточной стенке и впрыскивает внутрь свою нуклеиновую кислоту, используя для этого механизм вроде шприца. Пустой белковый капсид вируса при этом остается снаружи. В простейшем, очень распространенном случае в бактериальную клетку вводится только чистая ДНК. Такой вирус и правда можно назвать “завернутой в белок скверной новостью”, как однажды выразился известный английский биолог Питер Медавар. Но мы еще увидим, что не со всеми вирусами дело обстоит так просто.
Вирусы есть абсолютно у всех клеточных организмов, включая животных, растения, грибы, водоросли, одноклеточных эукариот, бактерий и архей. Во всех без исключения случаях, когда биологи задавались вопросом: (есть ли у такого-то живого существа вирусы? — им удавалось найти если не сами вирусы, то уж по крайней мере генетические следы того, что в этом организме они когда-то присутствовали. А как правило, и сами вирусы тоже с успехом находятся[119]. Живая природа Земли насыщена вирусами до предела. Более того, очень часто на одном и том же биологическом виде паразитирует сразу несколько разных вирусов. Мы отлично знаем это на своем собственном опыте — человека поражают десятки вирусных болезней, от желтой лихорадки до бешенства и от гриппа до СПИДа. А ведь есть и такие вирусы, которые вообще не вызывают никаких заболеваний, и их тоже весьма немало. Ведь в некотором смысле вершина эволюционного успеха вируса достигается тогда, когда он перестает убивать хозяина и вообще доставлять ему неприятности, а заражает всю популяцию как безвредный сожитель. У человека таких вирусов хватает, и их настоящую биологическую роль еще предстоит оценить.
Неудивительно, что вирусов во всех смыслах очень много. Например, литр океанской воды содержит в среднем миллиард вирусных частиц[120]. Клеточных организмов, даже самых мелких, там раз в десять меньше. Общее число вирионов на планете Земля составляет 1031 (по грубым подсчетам)[121]. Это на несколько порядков больше полного числа звезд в наблюдаемой части Вселенной, которое, по мнению астрономов, равно примерно 1024.
И наконец, у вирусов невероятно разнообразны способы хранения и передачи генетической информации. Клеткам такое разнообразие, что называется, и не снилось. Да и ученые не сразу поверили, что оно возможно. Что ж, взглянем на это разнообразие поближе.
Генетические стратегии
Начнем с того, что любой вирус обязательно так или иначе взаимодействует с какой-нибудь клеткой. Он встраивается в ее генетический аппарат, переключая некоторые (а иногда и все) функции на себя. Поток генетической информации, идущий в самой клетке, в целом описывается уже известным нам заклинанием “ДНК-РНК-белок”, со смыслом которого мы познакомились в главе 9. Вспомним вкратце, в чем там было дело. Генетическая информация постоянно хранится на ДНК, которая перед каждым клеточным делением удваивается — этот процесс, как мы знаем, называется репликацией. Когда информацию настает время пустить в дело, происходит транскрипция, то есть ее перенос с ДНК на РНК. В результате транскрипции могут синтезироваться разные виды РНК, из которых нам сейчас важнее всего информационная РНК (иРНК), — она несет информацию, необходимую для синтеза белка. Сам синтез белка иначе называется трансляцией, это сложный процесс, идущий на рибосоме с помощью довольно большого набора специальных молекул. А все эти процессы вместе описываются центральной догмой молекулярной биологии: формула “ДНК-РНК-белок” именно ее и выражает.
Как видим, аппарат передачи генетической информации в клетке достаточно сложен. И подключаться к нему разные вирусы могут совершенно по-разному.
Есть вирусы, генетический материал которых представляет собой готовую информационную РНК. Их называют вирусами с позитивным РНК-геномом, сокращенно (+)РНК. Такой вирус действует, пожалуй, наипростейшим способом из всех возможных: ему достаточно ввести в клетку свою РНК, пусть даже совершенно “голую”. Попав в клетку, эта РНК распознается хозяйскими рибосомами и приводит к синтезу вирусных белков. Только после этого начинается репликация вирусной РНК. Для нее нужен фермент РНК-зависимая РНК-полимераза, способный синтезировать РНК на основе другой РНК и имеющийся только у вируса (хотя синтезируют его “под диктовку” вируса рибосомы хозяина). И наконец, накопившиеся молекулы вирусных белков и РНК монтируются в новые вирусные частицы. К вирусам с позитивным РНК-геномом относятся, например, вирусы полиомиелита и желтой лихорадки. А также знаменитый вирус табачной мозаики, с которого в свое время началось открытие вирусов как таковых.
Есть вирусы, генетический материал которых представляет собой не саму информационную РНК, а ее “зеркальную” комплементарную копию. Они называются вирусами с негативным РНК-геномом, сокращенно (–)РНК. Такая РНК не распознается рибосомами — для них она бессмысленна. Поэтому обойтись введением в хозяйскую клетку чистой РНК такой вирус не может. Вместе с РНК он вводит туда РНК-зависимую РНК-полимеразу, уже запасенную в готовом виде внутри вирусной частицы. Этот фермент копирует вирусный геном, образуя в результате “нормальные”, то есть позитивные, молекулы РНК. А уж они связываются с рибосомами, диктуя им “инструкции” для синтеза вирусных белков (в том числе и той же РНК-зависимой РНК-полимеразы, которая здесь не только обеспечивает дальнейшую репликацию вируса в данной клетке, но и упаковывается в вирусные частицы, чтобы принять участие в следующем цикле размножения). К вирусам с негативным РНК-геномом относятся, например, вирусы гриппа, бешенства и лихорадки Эбола.
Есть вирусы, у которых РНК двуцепочечная (дцРНК). Она свернута в двойную спираль примерно так же, как обычно сворачивается ДНК, и состоит из “позитивной” и “негативной” цепей, комплементарных друг другу. Жизненный цикл этих вирусов в целом похож на жизненный цикл вирусов с негативным РНК-геномом: в хозяйскую клетку сразу вводится РНК-зависимая РНК-полимераза, которая синтезирует как (+), так и (–)РНК. В конце клеточного этапа жизни такого вируса РНК собирается в двуцепочечные комплексы, которые — как и у всех вирусов — одеваются белковыми капсидами. К вирусам с двуцепочечной РНК относится, например, ротавирус, часто вызывающий у человека кишечную инфекцию.
Общая черта перечисленных типов РНК-содержащих вирусов следующая: они паразитируют только на аппарате трансляции, не затрагивая клеточную ДНК. Таким образом, внутриклеточную цепочку передачи генетической информации они захватывают только частично. В этом смысле их паразитизм не очень глубок.
Кроме РНК-содержащих вирусов в природе есть и много ДНК-содержащих, у которых (как понятно из термина) генетическим материалом служит не РНК, а ДНК. Довольно часто вирусная ДНК бывает двуцепочечной (дцДНК). Такая ДНК ничем принципиально не отличается от обычной клеточной — а это означает, что, попав в клетку, она может точно так же подвергаться транскрипции. Что и происходит. В результате синтезируется вирусная информационная РНК, которая, связываясь с рибосомами, делает свою обычную работу: диктует последовательности белков, которые надо синтезировать. Только в данном случае эти белки — вирусные, со всеми вытекающими отсюда последствиями для клетки.
Разумеется, вирусная ДНК в зараженной клетке заодно и реплицируется. Ее репликацией занимается ДНК-зависимая ДНК-полимераза, а транскрипцией — ДНК-зависимая РНК-полимераза. Эти ферменты есть абсолютно в любой клетке, поэтому ДНК-содержащий вирус в принципе может обойтись без них, и некоторые действительно обходятся. Но бывают и более сложные вирусы, которые “предпочитают” кодировать эти ферменты в собственном геноме и синтезировать их самостоятельно (самостоятельно — в том смысле, что по собственной инструкции, но все равно, конечно, с помощью клеточных рибосом). Затем из ДНК и вирусных белков, как обычно, собираются новые вирусные частицы.
К вирусам с двуцепочечной ДНК относится, например, вирус оспы. Сюда же входят герпес-вирусы, папиллома-вирусы (вызывающие рак шейки матки и обычные бородавки) и аденовирусы (вызывающие простудные заболевания, то есть всем нам хорошо знакомую острую респираторную вирусную инфекцию — ОРВИ).
Вирусы с одноцепочечной ДНК (оцДНК) тоже существуют. При попадании ДНК такого вируса в клетку она первым делом достраивается до двуцепочечной формы — это делает ДНК-зависимая ДНК-полимераза, которая, как мы уже знаем, и без того есть в любой клетке. А дальше все происходит примерно так же, как и у тех вирусов, ДНК которых двуцепочечная. К вирусам с одноцепочечной ДНК относятся, например, парвовирусы, способные вызывать у человека инфекционную анемию и некоторые другие болезни.
Совершенно особую группу вирусов представляют собой ретровирусы. Геном этих вирусов состоит из одноцепочечной “позитивной” РНК, которая в данном случае служит основой для обратной транскрипции, то есть для синтеза своей ДНК-копии. Служащий для этого фермент — РНК-зависимая ДНК-полимераза, она же обратная транскриптаза, она же просто ревертаза (как знает каждый, читавший повесть Стругацких “За миллиард лет до конца света”). Это вирусный фермент, который должен попасть в клетку в готовом виде в составе вирусной частицы. Полученная с его помощью вирусная ДНК встраивается в геном хозяйской клетки (для этого есть еще один специальный фермент — интеграза) и начинает вести себя там примерно так же, как “родные” хозяйские гены: успешно реплицироваться, транскрибироваться, а после синтеза РНК и транслироваться. Только в данном случае все это делается в интересах вируса и приводит к сборке новых вирусных частиц. Самый знаменитый из ретровирусов, безусловно, вирус СПИДа, он же вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Кроме того, известно, что некоторые ретровирусы могут вызывать опухоли.
И наконец, бывают вирусы с двуцепочечной ДНК, которая сперва транскрибируется, а потом... транскрибируется обратно. В этом случае на основе вирусной ДНК сначала синтезируется обычная информационная РНК, а потом в дело включается вирусная ревертаза, которая создает на основе этой РНК обратный транскрипт (то есть вновь молекулу ДНК) и встраивает его в хозяйский геном. Дальше все происходит примерно так же, как и у ретровирусов. Но ретровирусы — по определению РНК-содержащие. Поэтому их ДНК-содержащие аналоги называются ретроидными вирусами или параретровирусами. Самый известный параретровирус — это вирус гепатита B. Отметим, что у него нет ничего общего с вирусами гепатита A и гепатита C: последние относятся к РНК-содержащим вирусам с позитивным геномом, а значит, имеют совсем иную природу. Разница между этими вирусами гепатита гораздо более существенная, чем, к примеру, разница между животными и растениями.
Итак, вирусы делятся на семь классов по генетическим стратегиям. Это очень логичная классификация, которую предложил еще в 1971 году — по меркам биологии, целую эру назад! — крупнейший американский вирусолог Дэвид Балтимор[122]. Правда, в системе Балтимора классов было шесть (параретровирусы тогда еще не успели изучить), но в остальном она прекрасно выдержала проверку временем.
В то же время надо иметь в виду, что эта классификация все-таки неполна. Во-первых, бывают полноценные вирусы, которые в нее не вписываются: например аренавирусы, у которых на одной и той же цепи РНК могут сосуществовать участки с полярностью (+) и (–). Во-вторых, классификация Балтимора не охватывает все разновидности генетических паразитов — хотя бы потому, что она не относится к паразитам, которым не нужна трансляция. А такие существуют. Например, вироиды — небольшие одноцепочечные РНК, лишенные белковых капсидов и (что самое интересное) не кодирующие никаких белков, но тем не менее способные размножаться в условиях чужих клеток и вызывать некоторые болезни. Именно вироиды вызывают, скажем, веретеновидность картофеля. Есть и другие подобные явления, о которых лучше почитать в книгах, написанных профессиональными генетиками (например, в “Логике случая” Евгения Кунина). Мы здесь ограничимся разговором о классических вирусах — в основном из тех соображений, что “нельзя объять необъятное”.
Каждая из перечисленных генетических стратегий по-своему способствует выживанию вирусов (что и логично — иначе носители этих стратегий просто давно исчезли бы). Каждая из них имеет свои уникальные преимущества. Чтобы понять это, давайте представим себе вирус с позитивным РНК-геномом. Он устроен предельно просто; чтобы запустить инфекционный процесс, ему нужно ввести в клетку свою РНК и больше ничего. Очень изящный механизм, к которому, казалось бы, незачем что-то добавлять. Проблема, однако, в том, что РНК такого вируса будет вынуждена конкурировать за доступ к рибосомам с “нормальными” клеточными информационными РНК, которые весьма многочисленны и перед которыми у вирусной иРНК нет никаких особых преимуществ. И количеством тут не возьмешь: в природе часто бывает, что клетка инфицируется всего-навсего одной вирусной частицей. А вот вирус с негативным РНК-геномом вводит в клетку “зеркальную” РНК, на которой, как на типографской матрице, можно создать сколько угодно комплементарных ей полноценных информационных РНК (и фермент, способный это сделать, при ней тоже есть). После чего эти вирусные иРНК во множестве загружают клеточные рибосомы, значительно повышая шансы вируса на выживание. Таким образом, тут возникает дополнительный каскад усиления, которого у вирусов с позитивным РНК-геномом нет[123]. На первый взгляд жизненный цикл вируса с негативным РНК-геномом может показаться ненужным усложнением, а на самом деле это полезная адаптация (причем ее описанная функция, скорее всего, еще и не единственная).
В любом случае, разнообразие генетических стратегий вирусов само по себе изумительно. В этом плане вирусы резко контрастируют с клетками, генетическая стратегия которых — на всех одна-единственная: генетическая информация хранится на двуцепочечной ДНК, которая и служит основой для транскрипции. А вот вирусы, похоже, реализовали все генетические стратегии, какие только вообще можно придумать, — за единственным исключением. Это исключение касается процесса трансляции. Можно утверждать, что в живой природе трансляция никогда не идет прямо с ДНК. Для нее всегда, при любой самой необычной генетической стратегии, используется посредник — информационная РНК. Возможно, тут мы видим единственный во всей этой системе фундаментальный запрет[124]. Причем этот запрет — не химический, а чисто биологический. С химической точки зрения трансляцию напрямую с ДНК вполне можно вообразить, и более того — ее можно даже попытаться осуществить в искусственных условиях[125]. Но в биологической эволюции эта возможность, насколько мы знаем, не реализовалась ни разу.
Живые или нет?
Обсуждение вопроса, живые вирусы или нет, мы начнем с часто цитируемого высказывания англичанина Питера Медавара, когда-то назвавшего вирус “завернутой в белок скверной новостью” (или, как иногда переводят, “дурной вестью в белковом конверте”). Что он, собственно, хотел сказать? Это легко выяснить. Приведенные слова есть в популярной книге, которая называется “Наука о живом” (с подзаголовком “Современные концепции в биологии”); эта интересная и полезная книга была написана Питером Медаваром в соавторстве с его женой Джейн, впервые вышла в 1977 году, а в 1983-м появился ее хороший русский перевод. О природе вирусов там сказано следующее:
“Совершенно неважно, будет ли вирус определен как живой организм или нет. Одни свойства вирусов, например их экстрактивность, заразность и изменчивость, склоняют нас к тому, чтобы видеть в них мельчайшие живые организмы, еще более мелкие, чем бактерии; другие же их свойства — особенно способность нарушать механизм синтеза в живой клетке таким образом, что он начинает производить бесчисленное множество их копий, — заставляет видеть в них пакеты генетической информации. И вместо того, чтобы быть живым, вирус оказывается всего лишь завернутой в белок скверной новостью”.
Ключевые слова тут, как видим, в начале: “Совершенно неважно, будет ли вирус определен как живой организм или нет”. Медавар не решает вопрос о том, куда следует отнести вирусы, — он отказывается его решать. Это типичный ход мысли ученого-позитивиста. Есть такие-то доводы за то, чтобы считать вирусы живыми, и такие-то доводы против, но поскольку этот вопрос все равно не имеет никакого практического значения, то тратить на него время (по мнению Медавара) не стоит. Как говорится, пусть в этом разбираются наши схоласты. И не более.
Сейчас, в XXI веке, некоторые биологи продолжают считать, что вирусы нельзя относить к живым существам[126]. Правда, такие заявления сразу же вызывают бурные дискуссии[127]. Никакого единодушия среди ученых по этому вопросу на данный момент нет. Количественно сторонники того, чтобы все-таки считать вирусы живыми, среди современных интеллектуалов, пожалуй, преобладают (проведенный при написании этой главы опрос в ЖЖ показал, что 70% читателей считают вирусы живыми и только 30% неживыми; судя по всему, это довольно типичное соотношение). Впрочем, часто от этого вопроса вообще отмахиваются, объявляя его бесполезным для дела — как Питер Медавар. Но думается, что это пренебрежение все же напрасно. Понятия живого и неживого слишком глубоко укоренены в системе нашего мышления, в том, что англосаксы называют емким словом mind. И это не случайность, а отражение структуры Вселенной, в которой жизнь занимает достаточно важное место. Пожалуй, даже хорошо, что на Земле есть объекты, про которые не сразу понятно, живые они или нет: это прекрасная “пограничная ситуация”, столкнувшись с которой люди волей-неволей возвращаются к исходным понятиям, чтобы прояснить их. Поступим так и мы. А заодно немного обсудим, что такое вообще жизнь: именно сейчас для этого наступил самый подходящий момент.
Итак, есть три главные причины, по которым вирусы в разное время отказывались относить к живому. Вирусы не могут самостоятельно размножаться, у них нет обмена веществ, и они (как многие раньше думали), скорее всего, представляют собой что-то вторичное по отношению к клеткам. Разберем эти доводы.
1. Неспособность самостоятельно размножаться
Действительно, ни один вирус не может воспроизвести себя в среде, где нет живых клеток. Эта несамодостаточность всегда была важнейшим основанием для того, чтобы исключить вирусы из живой природы. Ведь способность воспроизводить себя безусловно, одно из важнейших свойств живых объектов. Но что это, собственно, значит?
Мы знаем, что существуют молекулы, способные побуждать некоторые среды к созданию копий этих молекул. Такие молекулы называются репликаторами. Все системы, которые мы называем живыми, обязательно содержат те или иные репликаторы (обычно это молекулы ДНК, но в случае вирусов иногда и РНК). Любому репликатору просто по определению нужна для самовоспроизводства определенная среда, причем требования, предъявляемые к этой среде, часто бывают очень строгими. Набор всех возможных сред, которые данный репликатор может заставить создавать его копии, философ Дэвид Дойч назвал нишей данного репликатора (по аналогии с известным термином “экологическая ниша”). Любой репликатор может функционировать только внутри своей ниши. За ее пределами он будет представлять собой мертвую молекулу, не проявляющую никаких свойств, кроме обычных химических. Вирусный геном — это типичный репликатор, ниша которого (в данном случае) находится внутри чужой клетки. Ну и что тут особенного? Ведь и любой другой репликатор всегда нуждается в определенной среде, часто причудливой и специфичной. В этом смысле ни один репликатор не самодостаточен.
Уточним, что репликатором мы сейчас называем не вирус целиком (это было бы совершенно некорректно), а вирусный геном, сравнивая его с геномом клетки. Сам же по себе вирус — это отнюдь не голый репликатор, а целый организм, пусть и более простой, чем клетка. По определению, которое дает “Биологический энциклопедический словарь”, организм — это “любая биологическая или биокосная целостная система, состоящая из взаимозависимых и соподчиненных элементов, взаимоотношения которых и особенности строения детерминированы их функционированием как целого”. Вирус соответствует этому определению: как и клетка, он состоит из набора разнородных компонентов, сведенных вместе общей функцией. Уж во всяком случае у любого вируса помимо молекул, несущих генетическую информацию, есть белковый “футляр” для них, то есть капсид. С этой точки зрения между самовоспроизводством вирусного и клеточного генома нет принципиальной разницы: и тому и другому нужна внешняя среда, которую он частично сам формирует. (Можно ли считать организмами и относить к вирусам репликаторы, лишенные капсидов, мы сейчас обсуждать не будем, чтобы не уйти “в область безбрежного”. Во всяком случае, такое отнесение пока не общепринято.)
Что же касается представления о самодостаточности, то оно в биологии, честно говоря, иллюзорно. Очевидно, что ни один внутриклеточный паразит не самодостаточен — ведь он при всем желании не может самовоспроизвестись без участия другого организма. Но это можно сказать и про “обычных” паразитов (не внутриклеточных), а заодно и про хищников, и про растительноядных, и про поедателей мертвой органики. С этой точки зрения самодостаточным нельзя признать ни одно животное на свете. То же самое относится и к грибам, и к цветковым растениям (которые сплошь и рядом нуждаются в симбиозе с микоризными грибами и насекомыми-опылителями), и вообще к большинству живых организмов на Земле. В этом отношении вирусы не представляют собой ничего особенного.
2. Отсутствие метаболизма, то есть обмена веществ
Утверждение, что у вирусов нет метаболизма, будет верно только до тех пор, пока мы отождествляем вирус с его компактной расселительной формой — вирионом. Если же взглянуть на жизненный цикл вируса целиком, включая и ту форму, в которую он переходит внутри зараженной клетки, этот аргумент сразу исчезнет. У вириона действительно нет ни метаболизма, ни экспрессии генов. Но внутри зараженной клетки у вируса все это есть: там экспрессируются вирусные гены, реплицируется вирусная ДНК (или РНК) и идут запущенные вирусом химические реакции. Между тем ясно, что мы в любом случае увидим проблему объемнее, рассматривая не изолированную вирусную частицу, а полный жизненный цикл — от вириона до вириона следующего поколения[128].
Обсуждение этого вопроса имеет долгую историю. Проницательный австралиец Фрэнк Макфарлейн Бёрнет, едва ли не первым во всеуслышание заявивший о генетической роли ДНК (мы упоминали об этом в главе 8), выпустил еще в 1945 году целую книгу, красноречиво озаглавленную “Вирус как организм”. А в 1983 году американский исследователь Клаудиу Бандеа, уже опираясь на молекулярно-биологические данные, предложил осознанно взглянуть на жизненный цикл вируса так, как если бы это был жизненный цикл самого обычного живого паразита[129]. Под этим углом зрения “взрослой” стадией вируса, несомненно, будет выглядеть его внутриклеточная форма: именно она питается, размножается и преобразует энергию. На этой стадии вирус проявляет все физиологические свойства живого организма. А вирион — это покоящаяся стадия, аналогичная неактивным зачаткам, с помощью которых обычно расселяются растения и грибы. С этой точки зрения вирусные частицы подобны, например, спорам гриба-дождевика или летучим пушистым семенам ивы, которые Ричард Докинз назвал “одноразовыми парашютами для ДНК”.
Особую наглядность эти соображения обрели после открытия в начале XXI века гигантских ДНК-содержащих вирусов[130]. Такой вирус может заразить, например, пресноводную амебу — одноклеточного эукариота, который двигается, выпуская и втягивая ложноножки. В результате заражения в клетке амебы возникает так называемая “вирусная фабрика” — сложное образование, в котором вирусные белки подчиняют себе клеточный цитоскелет, митохондрии и элементы системы внутренних мембран[131]. Получается совершенно оригинальная структура, не имеющая никаких аналогов в незараженной клетке и работающая только на воспроизводство вируса. В ней реплицируется вирусный геном и собираются новые вирусные частицы. “Вирусные фабрики” — очень широко распространенное явление, по крайней мере у вирусов эукариот[132]. Выглядеть они могут по-разному, иногда скромно, а иногда и грандиозно (по клеточным меркам, конечно). “Вирусная фабрика” гигантского ДНК-содержащего вируса, возникающая внутри амебы, — это уж точно весьма впечатляющая конструкция, расположенная прямо посреди клетки и не уступающая размером ее собственному ядру[133]. Бывали случаи, когда микробиологи даже принимали “вирусные фабрики” за ядра. Очевидно, “вирусная фабрика” — это и есть активная форма вируса, аналогичная зрелому живому организму[134].
У бактерий и архей нет ни цитоскелета, ни митохондрий, ни системы замкнутых внутренних мембран. Поэтому инфицирующие их вирусы не образуют различимых под микроскопом “вирусных фабрик”. Вместо этого они превращают в “вирусную фабрику” всю пораженную клетку целиком. Хозяйский геном при этом обычно полностью разрушается (или, по крайней мере, инактивируется), так что в клетке — правильнее сказать, в бывшей клетке — экспрессируется только геном вируса. Особое искусство использования хозяйской клетки выработали, например, некоторые вирусы цианобактерий — организмов, более знакомых нам как синезеленые водоросли. Поражающие их вирусы для краткости называют цианофагами. Существует вирус-цианофаг, который, разрушив зараженную клетку изнутри, начинает синтезировать в ней свои собственные фотосинтетические белки (от аналогичных белков цианобактерии они отличаются особо высокой устойчивостью к ультрафиолету). В итоге в разрушенной клетке создается новый аппарат фотосинтеза, обеспечивающий энергией процессы репликации вирусной ДНК и сборки вирусных частиц[135]. И, таким образом, бывшая клетка цианобактерии превращается не более и не менее как в фотосинтезирующий вирус[136]. Более яркую иллюстрацию существования вирусного метаболизма просто трудно представить.
Исторически сложились два разных подхода к вирусам. Одни авторы считают, что вирус как таковой (the virus “self”) — это не что иное, как компактная вирусная частица, то есть вирион[137]. А другие авторы убеждены, что вирион и внутриклеточная “вирусная фабрика” суть равноправные стадии единого жизненного цикла, который надо рассматривать не иначе как целиком[138]. Переходя от первого подхода ко второму, мы получаем заведомо более полную систему. Очевидно, что это уже большое преимущество. В конце концов, любой грамотный зоолог или ботаник согласится, что всегда лучше исследовать полный жизненный цикл интересующего нас организма, чем какую-то одну стадию (неважно, взрослую или нет). Этот подход вполне можно распространить и на вирусы. Более того, он распространяется на них сам собой. В конце концов, не случайно никто никогда не сомневался в том, что вирусами должны заниматься биологи, а не химики.
Представим себе внутриклеточного паразита, в жизненном цикле которого есть две стадии — вегетативная (питающаяся и растущая) и расселительная. Вегетативная стадия обладает метаболизмом, ростом и экспрессией генов, но существовать она может только внутри чужой клетки, потому что нигде больше для нее нет подходящей среды. Расселительная стадия метаболически неактивна, гены в ней не экспрессируются, и вообще никакие жизненные процессы не идут, но зато она благодаря плотной оболочке может перемещаться по планете на большие расстояния, заражая новых хозяев. У клеточного организма такая расселительная стадия называлась бы спорой. Во всей этой картине нет ровно ничего фантастического. Облигатные внутриклеточные паразиты, неспособные жить ни в какой другой среде и размножающиеся неактивными спорами, есть не только среди бактерий, но даже среди эукариот. Ну и что, собственно, мешает считать, что вирион — это спора вируса, а после проникновения в клетку он просто переходит в вегетативную стадию? Да ничего.
3. Вторичность вирусов по отношению к клеткам
В ХХ веке было широко распространено мнение, что вирусы являются не более чем побочными продуктами клеточной жизни — то ли “взбесившимися” фрагментами клеток, освоившими самостоятельное существование, то ли целыми клетками, которые перешли к паразитизму внутри других клеток и в результате до предела упростились. Однако современные исследования вирусных геномов показывают, что это почти наверняка неверно. Дело в том, что обнаружено довольно много специфически вирусных генов, не встречающихся ни в каких клетках, — например, гены, кодирующие белки вирусного капсида (для любой клетки они бесполезны). То же самое можно сказать о некоторых генах и белках, обеспечивающих вирусную репликацию. Биоинформатика довольно быстро выделила набор чисто вирусных белков — в основном обеспечивающих копирование вирусных генов и сборку вирусной частицы, — которые широко распространены в мире вирусов, но не найдены ни у одной клеточной формы жизни[139]. Скорее всего, это означает, что ни у каких клеточных организмов этих белков и соответствующих им генов просто-напросто никогда и не было. А это, в свою очередь, приводит к выводу, что вирусы вовсе не произошли от клеток. Их генетическое разнообразие имеет самостоятельный источник — вероятно, не менее (если не более) древний, чем первая живая клетка.
Правда, гены и белки клеточного происхождения у вирусов тоже встречаются. Но тут есть очень важная тонкость. Вирусный геном довольно четко делится на генетическое “ядро” (общее для многих вирусов и обеспечивающее жизненно важные функции — репликацию, построение капсида) и генетическую “периферию” (разную у разных вирусов и обеспечивающую в первую очередь взаимодействие с клеткой хозяина). Так вот, клеточное происхождение имеют только (или, во всяком случае, почти исключительно) гены “периферии”. У крупных вирусов их может быть очень много, и тогда они составляют большую часть генома. Но это все равно гены “периферии”, только раздутой. А вот для генов “ядра” генома клеточное происхождение как раз не обнаруживается. Отсюда и сделан вывод, что изначально было очень древнее “ядро”, на которое потом уже наслоились разнообразные заимствования из клеток.
Добавим, что аргумент насчет эволюционной вторичности вирусов мог бы лишить их своего места в живой природе, только если бы оказалось, что вирусы — это “сбежавшие” фрагменты клеток, но не целые клетки, упрощенные до неузнаваемости. Если бы верным было последнее, это, наоборот, означало бы, что вирусы с эволюционной точки зрения должны быть отнесены к той же категории, что и клетки. Но в любом случае все эти гипотезы плохо подтверждаются современными данными и сейчас непопулярны. Скорее всего, современные вирусы никогда не были ни клетками, ни их частями. Это просто совсем иная форма жизни.
Подавляющее преобладание клеточных форм в той части живой природы Земли, которая доступна людским органам чувств (это важная оговорка), успело было приучить людей полагать по умолчанию, что клетка и есть жизнь. Например, крупный вирусолог Андре Львов отказывался считать вирусы живыми существами. Он даже свою Нобелевскую лекцию начал с утверждения, что все живые организмы состоят только из клеток[140]. Но Львов говорил об этом полвека назад. С позиции наших современных знаний представляется, что строгое приравнивание “жизнь = клетка” сейчас может быть только произвольно установленной догмой. С тем же успехом можно было бы ограничить понятие живого, например, подвижными организмами (потому что только их “живость” заметна с первого взгляда), или автотрофными (потому что только их питание напрямую не зависит от других живых существ), или способными самостоятельно синтезировать АТФ (тогда пришлось бы объявить неживыми довольно многих внутриклеточных паразитов). Очевидно, что любое из этих ограничений было бы искусственным, то есть случайным с точки зрения природы.
Впрочем, произвольность и искусственность определения — сама по себе не такая уж беда. Гораздо важнее, чтобы определение было полезным инструментом, помогающим расширять кругозор, а не ограничивающим его заранее. Например, можно ли считать живым Океан, описанный в лемовском “Солярисе”? И что мы сказали бы на месте исследователей, которые его открыли?
Одно из самых популярных определений жизни было выработано североамериканским Национальным аэрокосмическим агентством (НАСА) специально на случай встречи с инопланетной жизнью, которую первым делом надо будет опознать в качестве таковой. Согласно определению НАСА, “жизнь — это самоподдерживающаяся химическая система, способная к дарвиновской эволюции”[141]. Процесс, называемый дарвиновской эволюцией, требует четырех условий: самовоспроизводство, наследственность, изменчивость и конкуренция за субстрат. Самовоспроизводство — это, как мы знаем, по определению главное свойство любого репликатора. Изменчивость возникает из-за случайного характера движения молекул, в силу которого при копировании любых репликаторов неизбежна некоторая доля ошибок. Эти ошибки передаются репликаторам следующих поколений, то есть наследуются. В результате возникает разнообразие репликаторов, которые начинают конкурировать между собой за субстрат (например, за мономеры, из которых можно собрать новые полимеры). А при совпадении этих условий автоматически запускается естественный отбор и начинает работать механизм биологической эволюции, вскрытый когда-то Чарльзом Дарвином (лучшее современное описание этого механизма можно найти в книге Ричарда Докинза “Слепой часовщик”). Попросту говоря, одни репликаторы копируются быстрее — их становится больше, другие медленнее — их становится меньше. Вирусы эволюционируют именно так, поэтому, по определению НАСА, их следует считать живыми. Например, компьютерная программа в принципе тоже может эволюционировать по-дарвиновски, но она не является химической системой и поэтому не подходит под это определение. А вот вирусы подходят под него однозначно.
Другое определение жизни, менее распространенное, но тоже очень интересное, гласит, что жизнь — это система с двойным развитием. Тут имеется в виду следующее: живой организм всегда обладает индивидуальным развитием (жизненным циклом), любая стадия которого потенциально способна измениться. Сумма этих изменений складывается в историческое развитие (эволюцию). Таким образом, биологическая эволюция — это развитие второго порядка, то есть развитие развития. “Все и только живые системы обладают взаимообусловливающими друг друга процессами индивидуального и исторического развития”[142]. По этому определению вирусы тоже следует считать живыми: у них есть жизненный цикл, являющийся субъектом эволюции.
Итак, мы видим, что вирусы соответствуют даже довольно строгим формальным определениям жизни — если уж вообще браться такие определения искать.
А надо ли их искать? Знаменитый французский вирусолог Патрик Фортерр имеет по этому вопросу особое мнение. Он совершенно справедливо замечает, что само стремление создать общее определение, характеризующее сущность жизни, есть идеалистический предрассудок, восходящий в конечном счете к философии Платона. Поиск такого определения как бы предполагает, что где-то в бестелесном мире существует идеальная форма жизни, платоновскими “тенями” которой являются все реальные живые объекты. Однако мир, с которым имеет дело современная наука, оказался гораздо ближе не к платоновскому царству абсолютных идей, а к гераклитовскому космосу, в котором все течет и изменяется[143]. Сколько бы определений жизни мы ни придумали, это не отменит того факта, что исторически мы знаем только земную жизнь (включая вирусы). Вот на ней-то и надо сосредоточиться — по крайней мере, пока на других планетах не найдут нечто живое. Тогда и можно будет подумать, как расширить наше понимание жизни и стоит ли его расширять. А пока условимся, что мы называем живыми природные объекты планеты Земля, существование которых основано на активном копировании информационных макромолекул (это не определение, а просто-напросто кратчайшее описание). И будем стремиться не к платоновским абстракциям, а к исследованию того, что реально происходило и происходит на этой планете. С этой точки зрения жизнь есть не более чем эпизод земной истории.
Две великие империи
Латинское слово virus вообще-то значит “яд”. Например, змеиный яд и яд, которым смазывают наконечник отравленной стрелы, обозначаются в классической латыни именно этим словом. Ну а в конце XIX века биологи назвали вирусами болезнетворные агенты, обладающие тремя очень характерными особенностями:
* они невидимы под световым микроскопом;
* они свободно проходят сквозь фильтры, предназначенные для задержки бактерий (отсюда устойчивое, хотя и совсем уж сейчас устаревшее выражение “фильтрующийся вирус”);
* они не поддаются выращиванию ни на каких искусственных питательных средах.
Не приходится удивляться, что при таких вводных природа вирусов первое время была совершенно загадочна. Вирус мог оказаться мельчайшим живым организмом, а мог и просто ядовитой молекулой. Лет 100 назад биологи вполне допускали и то и другое.
В 1935 году американский биохимик Уэнделл Стэнли ухитрился не только выделить из табачного сока вирус табачной мозаики, но и кристаллизовать его — так, как если бы это была обычная молекула. В то время это произвело сенсацию, тем более что под микроскопом вирусы на тот момент еще никто не видел. Неудивительно, что, получив этот результат, Стэнли посчитал вирус просто белковой молекулой, пусть и имеющей кое-какие особые свойства. “Вирус табачной мозаики может рассматриваться как автокаталитический белок, способный использовать живые клетки для собственного умножения”[144].
Тем не менее постепенно биологам становилось ясно, что вирус — не простая молекула. Одну из попыток дать вирусам четкое определение сделал уже нами упоминавшийся Андре Львов[145]. По Львову, вирус — это мелкий (не больше 200 нанометров) инфекционный агент, не обладающий автономностью и не способный размножаться делением, в отличие от живых клеток. (Для справки: нанометр — это миллионная часть миллиметра или, соответственно, 1/1000 часть микрона.) К этому Львов добавил, что любой вирус обязательно содержит помимо белка нуклеиновую кислоту, но только одного типа — или ДНК, или РНК. Последнее резко отличает вирусы от живых клеток, в состав которых (как тогда уже было хорошо известно) всегда входят оба типа нуклеиновых кислот. Это и понятно, иначе никакая клетка просто не смогла бы функционировать. А вот вирусу содержать в себе сразу оба типа нуклеиновых кислот не нужно.
В любом случае такие взгляды подразумевали, что вирусы — это по сути своей нечто более простое, чем клетки. Гораздо, качественно более простое. Иная ступень устройства природы, если угодно.
Вот это мнение и оказалось неверным. Скажем аккуратнее: не вполне верным. Потому что в 2003 году был открыт мимивирус.
Выше мы уже упоминали это существо, хотя и не назвали тогда его по имени. Мимивирус — тот самый гигантский вирус, который паразитирует в пресноводных амебах и создает в них “вирусные фабрики”[146]. Его вирион приближается к невероятному для вирусов размеру в 500 нанометров, то есть 0,5 микрона. Этот размер больше, чем у некоторых бактерий (среди последних есть внутриклеточные паразиты со средним размером 200–300 нанометров). Такой вирус вполне можно увидеть в световой микроскоп, а не только в электронный. И бактериальные фильтры его задерживают. Собственно говоря, поначалу мимивирусы за бактерий и приняли. Неудивительно, учитывая, что средний размер обычных вирусов — всего-то около 100 нанометров.
Все гигантские вирусы оказались ДНК-содержащими, причем ДНК у них двуцепочечная. Прочтение генома мимивируса показало, что этот геном состоит из 1,18 миллиона пар нуклеотидов и включает 979 генов, кодирующих белки[147]. Это очень серьезные цифры. Для сравнения: вирус натуральной оспы — тоже крупный вирус с двуцепочечной ДНК (группа, к которой он относится, называется поксвирусами), однако его геном состоит только из 186 000 пар нуклеотидов и включает всего-навсего 197 генов. По вирусным меркам и это немало. Но у мимивируса геном в несколько раз больше. Он приближается по величине к геномам клеточных организмов — и не просто приближается, а вполне достигает их размеров.
Действительно, самый маленький полноценный архейный геном (он принадлежит одной морской архее) состоит из 490 000 пар нуклеотидов и включает 540 генов. А самый маленький полноценный бактериальный геном (принадлежащий паразиту микоплазме) состоит из 580 000 пар нуклеотидов и включает 475 генов. Как видим, эти геномы почти вдвое меньше, чем у мимивируса. Причем их обладатели не уникальны, одноклеточных организмов с подобными размерами геномов еще десятки. Многие из них — внутриклеточные паразиты, но не все.
Конечно, у большинства бактерий и архей (не говоря уж об эукариотах) геномы все же крупнее. Например, геном кишечной палочки состоит из 4,6 миллиона пар нуклеотидов и включает 4288 генов. (Тут учитываются только гены, кодирующие белки, но это сейчас неважно.) Вот это как раз “средняя” бактерия, ее геном не слишком велик и не слишком мал. И он, уж конечно, больше, чем у любого вируса, во всяком случае — насколько мы пока знаем.
Но ведь и мимивирус не уникален. Исследования быстро показали, что гигантских ДНК-содержащих вирусов в природе не так уж мало (см. рис. 12.3).
За прошедшие годы было открыто еще несколько близких друг к другу родов гигантских ДНК-содержащих вирусов. Они получили разнообразные названия: марсельвирусы, мамавирусы, мегавирусы, пандоравирусы, молливирусы, питовирусы и даже моумоувирусы[148]. Недавно к этому списку добавились клоснойвирусы, индивирусы, катовирусы и хоковирусы[149]. И каждый из них внес что-то свое в постоянно растущую сумму знаний о подобных созданиях.
У мамавируса, который тоже паразитирует в пресноводных амебах, в геноме 1023 гена. Одна из статей о нем так и озаглавлена: “Вирус, у которого больше 1000 генов”[150]. Да, это действительно впечатляет.
У мегавируса число генов, подсчитанных тем же способом, достигает 1120 штук[151]. Для сравнения: у возбудителя сифилиса — бледной трепонемы, которую никогда не считали ни карликовой, ни деградировавшей бактерией, — геном состоит из 1,14 миллиона пар нуклеотидов и включает 1039 генов. Чуть больше, чем у мамавируса, но чуть меньше, чем у мегавируса.
Еще позже были открыты пандоравирусы — огромные вирусы, тоже паразитирующие в амебах и отлично видимые под обычным световым микроскопом. Вирион пандоравируса, одетый мембраной и слегка напоминающий по форме античную амфору, вполне может быть длиной больше микрона. Геном одного из видов пандоравирусов состоит из 2,47 миллиона пар нуклеотидов и включает 2556 генов, кодирующих белки[152]. Такой геном уже превосходит размером геномы не только многих бактерий, но и некоторых эукариот! Например, у микроспоридий — упоминавшихся выше эукариот, которые освоили внутриклеточный паразитизм, — геномы совершенно точно бывают меньше, чем геном пандоравируса[153].
В 2017 году был описан еще один гигантский вирус — клоснойвирус, названный по имени города Клостернойбург в Нижней Австрии[154]. Его геном состоит из 1,47 миллиона пар нуклеотидов и включает 1545 генов. По нынешним меркам, это не рекорд — у пандоравируса, как мы знаем, геном еще крупнее. Но у клоснойвируса есть другая удивительная особенность. Его геном содержит необычайно большой (для вируса) набор генов, служащих для трансляции: 25 генов транспортных РНК и 19 генов ферментов-кодаз, которые “пришивают” к транспортным РНК транспортируемые ими аминокислоты (см. главу 9). Судя по всему, вирус получил эти гены из геномов своих хозяев — одноклеточных эукариот; в мире вирусов подобные захваты чужих генов вообще не редкость. Но вот уж чего-чего, а трансляции у вирусов быть не должно.
Впрочем, полного аппарата трансляции, способного к самостоятельной работе, нет и у клоснойвируса. У него полностью отсутствуют гены, кодирующие рибосомную РНК и рибосомные белки. Этих генов нет ни у одного известного вируса, что в общем-то и неудивительно: ведь именно отсутствие рибосом — это, как мы уже говорили, одно из самых главных различий между вирусами и клетками. По этому признаку никаких переходных форм между ними пока не видно.
Между прочим, в том же исследовании было заодно показано, что у разных эволюционных ветвей гигантских вирусов (например, у мимивирусов и у клоснойвирусов) наборы заимствованных генов совершенно разные. Общим у них оказалось только жизненно необходимое “ядро” генома. Тут напрашивается аналогия с компьютерной операционной системой: есть устойчивое “ядро”, а есть состоящая из множества программ-приложений “периферия”, которую можно легко менять и дополнять. Разнообразие этой “периферии” у гигантских вирусов показывает, что их эволюция шла очень быстро. Возможно, что и гигантами они стали независимо друг от друга, а их общий предок был куда скромнее.
Так или иначе открытие гигантских вирусов смело можно назвать одним из важнейших в современной биологии. Оно целиком датируется XXI веком (некоторые гигантские вирусы были известны и раньше, но тогда их принимали за каких-то странных бактерий). И тут замечателен не просто сам факт открытия новых, необычных организмов. Дело еще и в том, что открытие гигантских вирусов заметно изменило наши представления о структуре живой природы в целом. Конечно, никто не утверждает, что пандоравирус устроен сложнее кита-полосатика. Верхний предел сложности (даже чисто генетической) у клеточных организмов явно гораздо выше; это видно хотя бы по размерам их геномов. Но вот сказать, что любая клетка устроена сложнее любого вируса, теперь нельзя никак.
Итак, главный вывод: вирусы и клеточные организмы существенно перекрываются друг с другом как по размеру, так и по сложности. Это не две эволюционные ступени, а две ветви.
А теперь обратимся к роли личности в истории. Открытие гигантских вирусов, как и многие из дальнейших исследований на эту тему, связано с именем крупнейшего французского вирусолога и микробиолога Дидье Рауля (он тут уже упоминался). Рауль, конечно, работает далеко не в одиночку; самый известный его коллега — вирусолог Патрик Фортерр. Так вот, в некоторый момент Рауль и Фортерр написали совместную статью, в которой предложили новый взгляд на само понятие живого организма[155].
Будем исходить из того, что структура любого организма в достаточно неплохом приближении определяется его геномом. В некоторых ситуациях это утверждение может быть спорным, но в том масштабе, какой нам сейчас нужен, оно отлично работает. Можно сказать, что организм — это производное генома, фрагмент среды, которую геном организует вокруг себя. Итак, сравним геномы клеточных организмов (бактерий, архей и эукариот) с геномами вирусов. Чем они принципиально отличаются друг от друга? Во всяком случае, не величиной. Мы уже видели, что некоторые вирусные геномы превосходят числом генов некоторые клеточные, причем принадлежащие и бактериям, и археям, и эукариотам (число генов и размер генома на самом деле далеко не одно и то же, но сейчас это неважно: сравнение числа генов и сравнение размеров геномов, измеренных в парах нуклеотидов, в нашем случае дадут примерно один и тот же результат). Значит, разница между вирусными и клеточными геномами не количественная. А какая же?
Ответить на этот вопрос нетрудно, благо многие геномы сейчас уже полностью прочитаны. Любой вирусный геном отличается от любого клеточного (даже имеющего такой же размер) долями, которые отведены в нем некоторым строго определенным категориям генов. Бросается в глаза, что есть как минимум две важные группы генов, свойственных клеткам, но не свойственных вирусам. Это гены энергетического обмена и гены, ответственные за создание рибосом. У подавляющего большинства вирусов никаких генов энергетического обмена нет вообще, а если даже они есть, то кодируют только отдельные ферменты, но не полную систему синтеза АТФ (выше мы обсуждали такой пример — вирус-цианофаг, модифицирующий систему фотосинтеза в разрушенной клетке синезеленой водоросли). А по поводу рибосом Рауль и Фортерр замечают, что, судя по биоинформатическим данным, последний общий предок всех клеточных организмов имел как минимум 34 рибосомных белка, и эти белки (вместе с кодирующими их генами) сохранились у всех бактерий, архей и эукариот. У вирусов же нет ни одного из них.
Таким образом, бактерий, архей и эукариот можно с полным основанием назвать рибосомокодирующими организмами (ribosome-encoding organisms, REO). Этот признак четко отделяет всех их, вместе взятых, от вирусов.
Пока что мы выявили, так сказать, “негативные” отличия — констатировали, чего вирусы лишены. А есть ли отличия “позитивные”? Обладают ли вирусы чем-то таким, что ни у каких клеток не встречается? Да. В геноме любого вируса, заслуживающего этого названия, есть гены, кодирующие белки капсида — белкового “футляра”, заключающего в себе ДНК или РНК. Слово “футляр” тут, пожалуй, вводит в заблуждение, на самом деле вирусные капсиды частенько бывают довольно сложными структурами, построенными из разнородных частей и способными изменять свою геометрию (как, например, капсид бактериофага, который будто бы шприцем впрыскивает вирусный генетический материал в клетку бактерии). Вирус без капсида — это не вирус, а cубвирусная частица. Итак, особенность, которая есть у всех вирусов, и только у них, — это экспрессия генов капсида.
Таким образом, вирусы можно с полным основанием назвать капсид-кодирующими организмами (capsid-encoding organisms, CEO). Этот признак четко отделяет их от всех, кто состоит из клеток.
Человеческий разум любит дихотомии — отмечают Рауль и Фортерр. Деление организмов на рибосомокодирующие и капсид-кодирующие — это первичная дихотомия, на которой может основываться вся система живой природы. Она соответствует двум огромным эволюционным ветвям, разошедшимся на заре жизни, — двум ветвям, каждая из которых породила свой собственный биологический мир. Одни организмы “изобрели” рибосому и получили автономный аппарат трансляции — эффективный, но требующий постоянного снабжения энергией. А другие организмы сделали ставку на манипулятивное использование в своих интересах чужих аппаратов трансляции и на очень быстрое размножение. Сложностью при этом пришлось по большей части пожертвовать, но зато выживание генетического материала, рассеянного в чуждой и часто агрессивной среде, потребовало “изобретения” капсида.
Более того, не исключено, что заодно некоторые древние вирусы “изобрели” и ДНК[156]. Ведь приспособительный смысл особенностей ДНК, отличающих ее от РНК, в том, что она чисто химически более устойчива (см. главу 8). А в условиях, когда вирионы переносились на большие расстояния водой или ветром, это могло быть особенно важно для сохранности их генетического материала. Между тем есть независимо обоснованная гипотеза, что первые клетки были РНК-содержащими — аналогично тому, как бывают РНК-содержащие вирусы[157]. Это хорошо согласуется с тем фактом, что рибосомы со всем прилагающимся к ним набором РНК и белков появились раньше, чем клеточные механизмы репликации ДНК (во всяком случае, к таким выводам приводят данные сравнительной геномики). А если первые ДНК-содержащие вирусы уже существовали в эпоху первых клеток, то... Почему бы этим клеткам не получить “ноу-хау” хранения генетической информации на ДНК прямо от вирусов? Такой обмен генами вполне возможен. Тогда получается, что взаимодействие (или даже слияние) ДНК-содержащего вируса и РНК-содержащей клетки произвело на свет ДНК-содержащую клетку — ту самую форму жизни, которая сейчас доминирует на Земле.
Еще более вероятно, что некоторые клеточные организмы, а именно эукариоты, получили от вирусов механизм кэпирования информационной РНК (см. главу 10). Интрига тут вот в чем. Вирус, стремящийся подчинить себе крупную клетку, крайне заинтересован в том, чтобы его информационная РНК отличалась от обычной клеточной — например, несла на каком-нибудь своем конце специальную химическую метку. Тогда все молекулы иРНК, лишенные этой метки, можно будет разрушить, разобрав на отдельные нуклеотиды, а молекулы иРНК с меткой (принадлежащие вирусу) сохранить и направить на рибосомы, чтобы они дали вирусные белки. И в ходе эволюции вирусов такие метки действительно были “изобретены”. Например, у поксвирусов — крупных ДНК-содержащих вирусов, к которым относится вирус оспы, — к 5'-концу каждой иРНК “пришивается” мостиком из трех фосфатов особый модифицированный нуклеозид (гуанозин с добавочной метильной группой), причем “пришивается” он уникальным способом, как бы задом наперед. Поксвирусы — паразиты эукариот. А у самих эукариот, во всяком случае у современных, информационная РНК всегда помечается абсолютно так же! Собственно, эта-то метка и называется кэпом. Причем ни у бактерий, ни у архей кэпирования нет. Очень похоже, что эукариоты заимствовали этот механизм, вместе с обеспечивающими его генами, от своих вирусов[158].
Но зачем эукариотам это понадобилось? Ведь если бы кэпирование не приносило им никакой пользы, оно не удержалось бы в их геноме — во всяком случае, в работоспособном виде. Подсказку здесь дает наличие у эукариот, и только у них, особых ферментов, которые расщепляют свободную РНК на отдельные нуклеотиды, начиная с 5'-конца[159]. Эти ферменты называются 5'-экзорибонуклеазами, и они стремятся разрушить любую информационную РНК, у которой на 5'-конце нет кэпа. Скорее всего, сочетание механизма кэпирования с присутствием 5'-экзорибонуклеаз является механизмом защиты клеток от РНК-содержащих вирусов, которые особенно склонны поражать именно эукариот (бактерий — гораздо реже)[160]. Вирусная РНК исходно не имела никакого кэпа, поэтому 5'-экзорибонуклеазы были обязаны ее атаковать, в то время как клеточные иРНК были защищены своим кэпом от такой атаки. Если все эти соображения верны, то получается, что один вирус (ДНК-содержащий) передал эукариотам гены ферментов кэпирования и тем самым подарил им способ защиты от других вирусов (РНК-содержащих). Ну а почему бы и нет?
Иное дело, что все современные РНК-содержащие вирусы эукариот, в свою очередь, успели приспособиться к этому защитному механизму и научиться его так или иначе обходить (например, вирус гриппа “ворует” кэп у клеточных иРНК, перенося его оттуда специальными ферментами). Так что эукариотам приходится создавать новые способы защиты от вирусов, основанные, например, на распознавании двуцепочечной РНК: самим эукариотам она не нужна, а вот в жизненном цикле большинства РНК-содержащих вирусов хотя бы короткая стадия дцРНК есть обязательно, и это хороший признак объекта, который нужно атаковать. Как сказал герцог Карл в финале пьесы Августа Стриндберга “Король Эрик XIV”, “борьба не кончается — никогда!”.
Однако вернемся к основной теме. По мнению Патрика Фортерра, современные РНК-содержащие вирусы, скорее всего, являются не чем иным, как остатками древнейшего РНК-мира, в котором РНК служила не только передатчиком, но и единственным носителем генетической информации (см. главу 9). Что касается ДНК-содержащих вирусов, то они почти наверняка произошли от РНК-содержащих[161]. Переходной стадией между РНК- и ДНК-содержащими вирусами могли быть ретровирусы: у них как раз есть фермент, “переписывающий” генетическую информацию с РНК на ДНК.
По всей вероятности, первый вирус появился очень быстро — почти сразу же после появления первой рибосомы (независимо от того, возникла ли она в клетке или в какой-то доклеточной системе). Утверждать это можно с уверенностью, потому что возникновение паразитов неизбежно в любом эволюционном процессе. И эта неизбежность, как принято в таких случаях выражаться у ученых, имеет фундаментальный характер. Это означает, что она не является каким-то случайным “привходящим обстоятельством”, а логически вытекает из самой сути рассматриваемых объектов. В любом множестве репликаторов после нескольких циклов размножения (когда накопится случайная изменчивость) обязательно найдутся такие, которые тем или иным способом повысят скорость своей репликации за счет чужих ресурсов. Для систем, состоящих из самореплицирующихся РНК, этот вывод подтвержден математическими моделями[162]. Но понять его легко и “на пальцах”. С точки зрения дарвиновской эволюции повышение скорости собственной репликации за чужой счет попросту слишком выгодно, чтобы упустить такую возможность. Именно поэтому во всех без исключения природных экосистемах есть огромное количество паразитов. Причем эти паразиты могут принадлежать к каким угодно эволюционным ветвям, от вирусов до высших растений и многоклеточных животных. Даже у гигантских вирусов, как мы теперь знаем, есть свои собственные паразиты — вирофаги, оказавшиеся ДНК-содержащими вирусами обычного среднего размера[163]. Это наглядно показывает, насколько глубоко укоренен паразитизм в любой биологической эволюции, или, правильнее сказать, в биологической эволюции как таковой.
В древнейшем РНК-мире между предшественниками вирусов и предшественниками клеток не было никакой разницы. И те и другие реплицировались за счет рибозимов — особых РНК, обладающих каталитическими свойствами (см. главу 9). Рубежом, который резко отделил вирусные формы жизни от клеточных, стало появление трансляции. Приобретя систему трансляции, всякий организм получал возможность синтезировать по собственным инструкциям какой угодно набор белков — сложных молекул, которые, как мы знаем, являются великолепными инструментами для всевозможных взаимодействий с окружающим миром (см. главу 3). Но и цена этого приобретения была достаточно высокой. Система трансляции требует бесперебойного снабжения энергией и к тому же замедляет размножение — просто потому, что она слишком громоздка. Неудивительно, что в тогдашнем живом сообществе тут же нашлись любители пользоваться преимуществами, которые дает система трансляции, но не платить за нее положенную цену. Единственным способом сделать это, конечно же, оказалась манипуляция теми соседями, у которых система трансляции была честно установлена. С этой задачей первые вирусы (которых с этого момента уже можно так называть) вполне справились. А их главным преимуществом стала скорость размножения, доведенная до максимума за счет отказа от всего, от чего только можно отказаться. Этой стратегии вирусы успешно следуют и по сей день[164].
Эволюционным новшеством, маркирующим вирусы “в хорошем смысле этого слова”, стало, как мы уже знаем, создание капсида — футляра, защищающего генетический материал от разрушения внешней средой. Именно поэтому вирусы и называют капсид-кодирующими организмами. Впрочем, иногда против такого названия возражают — надо признать, что не без некоторых оснований. Дело в том, что в природе есть множество еще более простых паразитических репликаторов, которые представляют собой “голые” РНК или ДНК без всяких капсидов, но при этом имеют примерно такой же жизненный цикл, как и у вирусов[165]. И мир этих репликаторов эволюционно связан с миром вирусов. В этом смысле выделение обладателей капсидов в особую категорию выглядит и вправду искусственным. Впрочем, с той или иной точки зрения искусственной выглядит любая система, стремящаяся разбить на четкие категории непрерывно меняющиеся природные объекты. От этого никуда не деться.
В оправдание классификации Рауля — Фортерра можно добавить, что главный объект биологии — все-таки организм, а “голый” репликатор считать таковым, пожалуй, нельзя. Биология вообще изучает историю организмов, а не генетических текстов; последнее — всегда лишь средство. И та система, в создании которой поучаствовали Рауль с Фортерром и о которой пойдет речь дальше в этой книге, — это именно система организмов. Репликаторы, не имеющие ни рибосом, ни капсидов, Рауль и Фортерр называют “сиротами” (orphan replicons)[166]. А граница между этими “сиротами” и настоящими вирусами, по их мнению, проходит по наличию структурных белков вириона. Вполне резонно.
В любом случае мы можем быть уверены, что миру клеточных организмов всегда, на всех этапах его развития и во всех эволюционных разветвлениях, сопутствовала виросфера — колоссальный невидимый мир вирусов и субвирусных частиц, скрытый от обычных органов чувств, но невероятно разнообразный и никогда не прекращавший свою стремительную, запутанную, бурную эволюцию. Иногда виросфера убивала, иногда внезапно делала ценные подарки, а иногда и манипулировала клеточными существами, подталкивая их собственную эволюцию в ту или иную сторону.
Полиднавирусы
У замечательного английского писателя Лоренса Даррелла есть роман “Месье, или Князь Тьмы”, входящий в пенталогию “Авиньонский квинтет”. Герои этого романа, живя в XX веке, сталкиваются с сектой египетских гностиков — продолжателей древних религиозных учений, согласно которым повелитель мира — не Бог, а Князь Тьмы. Гностики убеждены, что весь материальный мир, полный смерти, боли и распада, есть царство зла. Их предводитель, таинственный человек по имени Аккад, читает что-то вроде лекции, в которой поясняет эту мысль, пользуясь примерами из биологии:
“...Самка богомола, которая пожирает своего самца в то самое время, когда он ее оплодотворяет. Паук, который ловит муху в западню. Помпил, закалывающий паука ударом жала. Церцерис, который поражает тремя уколами три главных центра нервной системы златки, а потом его личинка поедает эту златку, еще живую, с чудовищной научной точностью обходя жизненно важные части, пока жертва не доедена до конца. А есть еще и наездники. И траурница, которая присасывается к личинке пчелы-каменщицы, постепенно выпивая ее досуха, и в конце концов съедает искусно сохраненный все еще живой остаток. И филант, убийца пчел, который, прежде чем утащить жертву в норку, давлением вынуждает ее извергнуть свой мед и сосет язык несчастного умирающего насекомого... Что за зрелище это Творение! Всеобщая бойня!”[167]
Надо сказать, что все эти биологические примеры реальны. Скорее всего, Даррелл (как и его персонаж) взял их из книг великого французского энтомолога Жана Анри Фабра. Там можно найти рассказ и про помпила, и про церцериса, и про наездников, и про траурницу, и про филанта. И даже основное место действия “Авиньонского квинтета” по прихотливой случайности близко к местам, где Фабр вел свои исследования (он жил поблизости от Авиньона, на юге Франции).
Сам Фабр был типичным ученым-позитивистом, интересовавшимся только фактами (и одновременно — популяризатором науки, умевшим, надо отдать ему должное, блистательно эти факты описывать). Персонаж Даррелла — человек совершенно иного склада; открытия Фабра служат ему иллюстрацией гностического представления о материальной природе как о цепи существ, бесконечно пожирающих друг друга. “Природы вековечная давильня”, как выразился русский поэт по сходному поводу[168]. Именно из-за такого взгляда на мир символом гностицизма считается уроборос — змей, заглатывающий свой хвост (см. рис. 1.5).
Однако посмотрим на приведенные примеры с чисто биологический точки зрения.
Филанта иногда называют пчелиным волком. Это оса, которая убивает пчел и кормит своих личинок их трупами. А вот помпилы, церцерисы, наездники и траурницы поедают своих жертв живьем. Вернее, это делают их личинки. Ради питания личинок некоторые насекомые парализуют свою добычу точными уколами жала, превращая ее буквально в живые консервы; помпил поступает так с пауком, а церцерис — с жуком-златкой. У других, например у наездников, жала нет, но их жертвам от этого ничуть не легче.
Хищники это или паразиты? В мире насекомых между этими понятиями нет четкого рубежа. Паразиты отличаются от хищников только тем, что их добыча крупнее их самих и нападение не является смертоносным. Паразитов на грани хищничества, которые постепенно потребляют все тело своего хозяина и в конце концов его убивают, принято называть паразитоидами. Некоторые паразитоиды относятся к мухам (например, траурница), некоторые — к другим группам насекомых. Но большинство из них — это осы. И помпилы, и церцерисы, и наездники входят в отряд перепончатокрылых, то есть являются осами, — конечно, в широком смысле этого слова.
Из всех этих существ вершины специализации к паразитизму достигли, пожалуй, наездники. Жала у них нет, вместо него — яйцеклад, иногда очень длинный, с помощью которого оса аккуратно помещает свои яйца внутрь другого насекомого. Из яйца вылупляется личинка, которая осваивает тело жертвы, поедая его постепенно, начиная с менее важных органов; жизненно важные она оставляет напоследок. Иногда жертва заражается одной личинкой наездника, а иногда и сразу несколькими — это зависит от вида.
В 1960-х годах канадский энтомолог Джордж Солт, детально исследовавший взаимоотношения наездника с организмом хозяина (в данном случае это была гусеница), выяснил, что действия самки наездника при заражении новой жертвы вовсе не сводятся к тому, чтобы просто отложить в нее яйца[169]. Наездник — воистину совершенный паразит. Чтобы сделать организм жертвы комфортной для себя средой, он вводит туда некий яд, вызывающий (как мы сейчас знаем) удивительно многогранные физиологические эффекты. Во-первых, — это самое главное — подавляется иммунная система гусеницы, в норме активно стремящаяся уничтожить яйца паразита или, по крайней мере, не дать им развиваться. Без подавления иммунной системы жертвы наезднику придется плохо. Во-вторых, блокируется метаморфоз. Гусеница, пораженная наездником, никогда не превратится в бабочку, даже если чудом выживет. В-третьих, обмен веществ гусеницы слегка модифицируется, чтобы личинке наездника было выгоднее питаться ее внутренностями (особенно жировым телом, в котором у насекомых накапливается важнейший запасной углевод — гликоген).
А еще через несколько лет биологи обнаружили, что некоторые наездники зачем-то вводят внутрь гусеницы огромное количество плавающих в растворе вирусных частиц[170]. Этот раствор впрыскивается в тело жертвы вместе с яйцами, через яйцеклад. Очень скоро было экспериментально показано, что именно загадочные вирусы и вызывают в организме гусеницы физиологические изменения[171]. Получается, что в качестве яда наездник использует вирус. Не химическое оружие, а биологическое! (Иногда вместе с вирусами в тело жертвы вводятся и чисто химические яды, но в таких случаях они только дополняют действие вирусов, а не наоборот.)
Вирусы, которые наездник вводит в организм гусеницы, были вскоре выделены и описаны. Называются они полиднавирусами. Это название возникло как сокращение от довольно неуклюжего словосочетания “полидисперсный ДНК-содержащий вирус”[172]. Использование полиднавирусов в качестве “биологического оружия” характерно для двух семейств наездников — браконид и ихневмонид; связанные с этими семействами вирусы называются, соответственно, браковирусами и ихновирусами. Между ними есть мелкие отличия, но в главных чертах они очень похожи.
Полиднавирусы оказались вирусами с двуцепочечной ДНК, в общем-то довольно обычными на вид. Ни по размерам, ни по структуре они не представляют собой ничего уникального — вирусы как вирусы. Но вот геном полиднавирусов поначалу сбил исследователей с толку. Обычно весь вирусный геном заключается в одной крупной молекуле ДНК (если вирус ДНК-содержащий, конечно). Так вот, у полиднавируса такой молекулы не нашлось. Вместо нее внутри вирусной частицы оказалось множество (10–30 штук, в зависимости от вида) маленьких кольцевых ДНК, несущих какой-то странный набор генов. Мы уже знаем, что любому вирусу в первую очередь нужны гены, обеспечивающие репликацию и построение капсида. А их-то в кольцевых ДНК полиднавирусов как раз и не оказалось. И прошло еще некоторое время, прежде чем поразительный жизненный цикл этих вирусов был полностью выяснен (см. рис. 12.4).
Полиднавирус имеет двух хозяев. Один из них — это оса-наездник, второй — поедаемая личинкой наездника гусеница. Неудивительно, что их роли в жизни вируса (как и роли, которые играет вирус в их жизни) абсолютно различны.
Оказалось, что геном полиднавируса целиком “вмонтирован” в геном осы[173]. Он копируется и передается из поколения в поколение вместе с обычными осиными генами, с точки зрения молекулярных механизмов не отличаясь от них ровно ничем. Получается, что у каждой особи наездника в ядре каждой клетки тела содержится полный вирусный геном, включенный в какую-то из хромосом (или рассеянный по разным хромосомам — может быть и так и так, для нас это сейчас непринципиально).
У самцов наездников вирусные гены, по-видимому, постоянно “спят”. У самок же эти гены приобретают активность только по достижении половой зрелости и только в одной строго определенной части организма, а именно в клетках выстилки яйцевода. В этих клетках собираются вирусные частицы и синтезируются многочисленные маленькие кольцевые ДНК, содержащие — внимание! — далеко не все вирусные гены, а только те, которые нужны вирусу для действия на организм второго хозяина, гусеницы. Судя по всему, эти гены происходят из генома самой осы, хотя за время эволюции, связанной с вирусом, они успели заметно измениться, подстроившись под него[174]. В результате можно считать, что это гены вируса, заимствованные им у осы, а можно считать, что это гены осы, которые она в определенный момент своего жизненного цикла “одалживает” вирусу, используя последний в качестве действующего на жертву внешнего эффектора. Самое интересное, что и то и другое будет совершенно верно. Ген вовсе не обязан непременно принадлежать какому-то одному организму! (Желающим понять, откуда берется это утверждение, можно посоветовать почитать книги Ричарда Докинза “Эгоистичный ген” и “Расширенный фенотип”, в которых все великолепно объяснено; здесь мы в теорию вдаваться не будем, потому что ничего нового по сравнению с этими книгами все равно не сообщим.)
Итак, вместе с яйцами осы, в составе жидкости, наполняющей ее яйцевод, вирионы полиднавируса попадают в тело гусеницы. Вот тут-то вирус и начинает свою работу. В первую очередь он поражает клетки иммунной системы гусеницы, делая их неактивными и не способными уничтожать яйца паразита. Есть и другие эффекты, причем довольно разнообразные: например, вирус заставляет клетки гусеницы синтезировать специальный белок, блокирующий гормональный запуск метаморфоза[175]. Ведь если гусеница превратится в куколку, а потом и в бабочку, это грозит спутать все планы живущей в ней личинке наездника. В общем, вирус и в самом деле работает послушным эффектором, делая все, чтобы превратить тело гусеницы в максимально комфортную для наездника среду.
А вот никакого размножения полиднавируса в теле гусеницы не происходит. Его полностью обеспечивает оса. Именно поэтому гены репликации и капсида, которые необходимы для создания новых вирусных частиц, не включаются в состав вирионов: они там не нужны. Того, что эти гены хранятся в геноме осы, более чем достаточно, чтобы вирус (если можно так выразиться) был уверен в собственном выживании.
Интересно, что известен по крайней мере один вид полиднавирусов, у которого внутри вирионов вообще нет никакой ДНК — только готовые белки[176]. В этом случае абсолютно все генетические процессы идут в теле осы, а вирионы используются только для переноса непосредственно действующих молекул. Еще одна прекрасная иллюстрация того, что эффекты генов могут и не зависеть от границ организмов.
Вирусные частицы, внедренные в гусеницу, — это тупиковая ветвь жизненного цикла, они в любом случае вместе с гусеницей и погибнут. Воспроизводство полиднавируса происходит исключительно путем передачи из поколения в поколение его генома, включенного в состав генома осы. Иными словами, он передается точно так же, как обычные осиные гены. При этом на организм самой осы скрытый в ней вирус не действует вообще никак. Даже вирусные частицы там создаются только тогда, когда настает пора вывести их наружу вместе с яйцами, и только в тех клетках, которые находятся прямо на пути этих яиц.
Теперь посмотрим на всю эту ситуацию с точки зрения интересов участников. Поселившись в наезднике, вирус получает эффективнейший механизм для выживания своих генов: целый биологический вид, все 100% особей которого даже не просто заражены этим вирусом, а несут в своих хромосомах его полный геном. С точки зрения дарвиновской эволюции это огромный успех — для вируса. А для наездника? Если бы присутствие вирусных генов не приносило наезднику никакой пользы, тот, вероятно, давно избавился бы от них и уж наверняка отключил бы. Последнее в таких случаях происходит само собой: нарушающие работу гена случайные ошибки накапливаются в нуклеотидном тексте очень быстро, если естественный отбор их специально не вычищает. А раз вирусные гены долгое время остаются в осином геноме целыми и работающими, значит, они чем-то помогают выживанию осы. И мы уже знаем, чем. Поступившие из осиного яйцевода вирусные частицы активно осваивают организм обреченной гусеницы — по словам исследователей, “генетически колонизируют” его, готовя к заселению наездником[177]. Собственно, без вирусного сопровождения личинка наездника и не разовьется: сами по себе защитные системы гусеницы обычно справляются с паразитом. Это означает, что полиднавирус просто-напросто необходим осе для выживания[178]. А это, в свою очередь, вполне позволяет считать, что он стал частью ее организма[179].
Однако не только оса пользуется вирусом в своих интересах, но и вирус использует осу как машину для собственного воспроизводства. И правильно делает: ведь за десятки миллионов лет совместной жизни он довел ее до состояния, когда она просто не может существовать без его поддержки. Теперь ни у вируса, ни у осы выбора нет.
Надо заметить, что сложные серии взаимных манипуляций с разнообразными исходами вообще самое обычное дело во взаимоотношениях паразитов и хозяев. Известный японский вирусолог Сусуму Маэда в свое время выразил эту мысль чеканной фразой: “Вирус — это хозяин”[180]. Почти как у Стругацких: “А милях в двадцати отсюда, если идти вдоль рва, находится область, где людей поработили пришельцы с Альтаира, разумные вирусы, которые поселяются в теле человека и заставляют его делать, что им угодно”.
Одна хорошая статья о паразитах насекомых, написанная в том же ключе, получила заглавие “Игры, в которые играют паразиты”[181]. Это — явный парафраз названия знаменитой книги психоаналитика Эрика Берна “Игры, в которые играют люди”. Хотя по сути тут скорее отсылка к современной математической теории игр. Действительно, в случае с полиднавирусом перед нами типичная игра с ненулевой суммой. Три участника, двое из которых в результате сложных взаимных манипуляций выигрывают, и только третий — гусеница — в итоге не получает ничего. Горе побежденным.
Интересно, что жизненный цикл полиднавируса поразительно похож на жизненный цикл не кого-нибудь, а многоклеточного животного. Это сравнение, кажущееся парадоксальным, на самом деле бросается в глаза. В теле многоклеточного животного всегда выделяется относительно небольшая группа клеток, которые потенциально бессмертны: они становятся половыми и могут передать генетическую информацию следующим поколениям. Эти клетки называют клетками зародышевого пути. Все остальные клетки половыми стать не могут и умирают вместе с телом данной особи (если нет бесполого размножения, но оно у животных не слишком распространено). Эти клетки называют соматическими, от греческого слова σωμα — “тело”. Соматические клетки — это тупиковая ветвь жизненного цикла. Они заведомо смертны, несмотря на то что именно из них создаются все сложные органы — или, может быть, как раз по этой причине. Так или иначе функции передачи наследственной информации из поколения в поколение и создания системы эффекторов, взаимодействующих с внешней средой, у многоклеточных животных четко разделены.
Но в точности такое же разделение этих функций выработали и полиднавирусы! У них есть “зародышевый путь” — скрытая форма вируса, заключенная в геноме осы, и есть система внешних эффекторов — вирусные частицы, набитые копиями специализированных генов или даже готовыми белками, которые атакуют гусеницу и затем погибают вместе с ней. Эти вирусные частицы — не что иное, как “соматическая” часть вируса, его смертное “тело”. Бессмертен у него только “зародышевый путь”. Перед нами разновидность жизненного цикла, вполне аналогичная жизненному циклу многоклеточных животных, но выработанная существами, которые и из клеток-то не состоят. Поистине инопланетная форма жизни; до такого и сам Станислав Лем не сразу бы додумался. В данном случае открытие ученых опередило фантастику.
Остается разобраться в том, как эта удивительная форма жизни вообще появилась. Впрочем, большой тайны тут нет. Можно не сомневаться, что в ходе эволюции у насекомых произошло постепенное “одомашнивание” изначально самого обычного ДНК-содержащего вируса, геном которого интегрировался в геном осы[182]. Вирусов с двуцепочечной ДНК, паразитирующих на насекомых, известно достаточно много. В том, что кто-то из них стал полиднавирусом, нет ничего невероятного, известные генетические механизмы это вполне допускают.
Интересно другое: таких событий было как минимум два. Мы уже упоминали, что есть две большие группы полиднавирусов — браковирусы и ихновирусы, связанные с разными семействами ос. Так вот, эти группы вирусов не имеют общего происхождения. Во всяком случае, их общий предок полиднавирусом еще не был.
Все браковирусы, скорее всего, произошли от одного-единственного “обыкновенного” ДНК-содержащего вируса, геном которого некогда встроился в геном древней осы-бракониды[183]. Генетики подсчитали, что интеграция этого вируса в осиный геном произошла примерно 103 миллиона лет назад[184]. Причем общим у всех браковирусов — как и можно было ожидать — оказалось только “ядро” генома, состоящее из генов репликации и капсида. Геномную “периферию” они заимствовали у ос лишь недавно и во многом независимо друг от друга.
Об эволюционных корнях ихновирусов пока известно меньше, но есть все основания думать, что история их происхождения была примерно такой же[185]. И это не случайное сходство. Тут мы видим прекрасный пример параллельного хода эволюционного процесса в двух близких, но уже успевших разойтись эволюционных ветвях.
Два интересующих нас семейства ос — бракониды и ихневмониды — разошлись примерно 150 миллионов лет назад, а вирусных сожителей и те и другие, надо думать, приобрели еще спустя десятки миллионов лет[186]. Причем ни бракониды, ни ихневмониды не “охвачены” этими вирусами полностью. В обоих семействах есть много представителей, у которых никаких полиднавирусов нет — и, вероятно, никогда не было. Этот факт как нельзя нагляднее показывает, что обретение полиднавирусов внутри семейства браконид и внутри семейства ихневмонид произошло совершенно независимо.
Так или иначе сейчас полиднавирусами заражено — если тут применимо это слово — примерно 50 000 видов ос-браконид и примерно 14 000 видов ос-ихневмонид (в скобках отметим, что у всех этих видов до единого их, конечно, не искали — тут перед нами прикидки, сделанные на основании конфигурации эволюционного древа)[187]. Это означает, что все особи всех этих видов несут во всех своих клетках вирусные геномы. Впечатляющий эволюционный успех — особенно учитывая, что начаться он мог всего-навсего с двух индивидуальных вирусных частиц, которым повезло некогда встроить свои геномы в половые клетки двух древних ос. Вот так эволюция может усиливать случайные события.
Вирусы и эволюция
“Отнесение вирусов к неживой природе, долго преобладавшее в современной биологии, имело одно непредусмотренное последствие: большинство исследователей стало игнорировать вирусы при изучении эволюции”[188]. И в самом деле: ну что такое вирусы для обычного зоолога или ботаника? Полумифические объекты, невидимые даже под микроскопом, и вообще непонятно, живые они или нет. А если неживые, то так ли уж важно биологу их знать? Казалось, что биологическая картина мира вполне могла бы обойтись без всяких вирусов. И действительно, в большинстве написанных в XX веке трудов на эволюционные темы упоминание вирусов (если оно там вообще есть) по духу своему похоже на подстрочное примечание, которое ставят для порядка, но к которому никогда больше не возвращаются.
После открытия реальной генетической роли вирусов маятник качнулся в другую сторону. Появилась тенденция считать (или, по крайней мере, молчаливо предполагать), что вирусы — величайшие творческие агенты и что мир вирусов таит в себе скрытые причины чуть ли не всех крупных эволюционных событий, какие только происходили в истории жизни на Земле. Неудивительно, что первыми так начали думать некоторые профессиональные вирусологи. В это русло попала, например, вирусная гипотеза происхождения клеточного ядра — впрочем, так и не ставшая общепринятой (см. главу 10).
Значение вирусов в живой природе, безусловно, огромно. Даже в роли простых возбудителей болезней они заметно влияют и на структуру экосистем, и на эволюцию своих жертв. Тут как раз нет ничего особенного: как говорится, “убивать и рукоед может”. Но ведь на самом деле отношения вирусов с клеточными организмами невероятно многогранны. К паразитизму и убийству они никак не сводятся. Вирусы и клеточные организмы могут, например, вступать в симбиоз, то есть взаимовыгодное сожительство. Мы обсудили всего лишь один случай такого симбиоза (полиднавирусов с осами), а на самом-то деле подобных примеров море. Чтобы описать хотя бы только те из них, что уже детально изучены, понадобилась бы отдельная книга. Симбиотические вирусы в большом количестве есть у бактерий, грибов, растений, животных — да в общем, у кого угодно[189]. Хуже всех в этом плане изучены археи; но и вирусы архей, судя по всему, иногда участвуют в симбиотических отношениях[190]. При этом “бонусы”, которые дают симбиотические вирусы своим клеточным партнерам, поразительно разнообразны. Синтезируя те или иные белки, вирус может защищать своего хозяина от других вирусов, или от бактерий, или от хищников, или от конкурентов за пищу, или помогать ему на ком-нибудь паразитировать, или регулировать его жизненный цикл, или понижать вероятность каких-нибудь совершенно незаразных болезней. Есть, например, вирус, который — внезапно — предотвращает заболевание мышей инсулинозависимым сахарным диабетом, потому что подавляет приводящую к нему аутоиммунную реакцию[191]. Бывают и симбиотические союзы, состоящие более чем из двух участников: например, гриб, растение и вирус; или животное, бактерия и вирус; или животное и два вируса... Одним словом, творческие возможности природы тут колоссальны.
Совершенно исключительную роль в биологической эволюции играют ретровирусы. (И параретровирусы тоже, особенно в эволюции растений — но здесь мы не будем в это вникать.) Как мы знаем, главная особенность ретровируса состоит в том, что он может полностью интегрировать свой геном в геном хозяина, поместив его туда на правах обычных генов, принадлежащих клетке: что называется, как будто так и было. Иногда такое удается и другим вирусам, но у ретровируса это попросту является обязательной стадией жизненного цикла. Если ретровирус поражает соматические клетки, это не имеет никаких особых эволюционных последствий (например, такое происходит при СПИДе). Совсем иное дело, если клетка, в которую интегрировался геном ретровируса, оказывается клеткой зародышевого пути. Тогда вирус — а точнее, его геном — попадает в половые клетки и начинает передаваться по наследству, получая тем самым шанс на бессмертие. Это событие называется эндогенизацией ретровируса.
Довольно часто бывает, что образовавшийся эндогенный ретровирус становится нормальной частью генома целого вида животных. Его гены при этом могут “молчать”, а могут и экспрессироваться — с самыми разнообразными последствиями, от вредных до полезных. Эндогенные ретровирусы, накапливающиеся в геноме, образуют своего рода генетическую летопись древних вирусных инфекций[192]. Ретровирусы, гены которых не экспрессируются вообще, в одной статье назвали “молчаливыми пассажирами” — действительно, у них встречается и такой способ выживания. Но не все они таковы. Эндогенные ретровирусы могут провоцировать болезни, а могут приносить хозяину и пользу — как повезет.
В силу своих особых свойств ретровирусы служат отличными агентами горизонтального переноса генов (про этот процесс мы упоминали в главе 10). Благодаря ретровирусам может происходить мгновенный обмен генами между организмами, относящимися к совершенно разным эволюционным ветвям. Впрочем, считать вирусы не более чем пассивными переносчиками чужих генов будет большой ошибкой. Дело в том, что у вирусов обычно очень быстро идет собственная эволюция, поэтому за время пребывания в геноме вируса захваченные им гены вполне могут успеть измениться до неузнаваемости, обретя совершенно новые функции. Бурная эволюция вирусов создает новые гены так активно, что иногда их называют “генными фабриками”[193]. И во всех этих процессах ретровирусы играют не последнюю роль.
Особенно интересен в этом плане класс животных, к которому относимся мы сами — млекопитающие.
Дело в том, что разные классы вирусов предпочитают разных хозяев. Причины этого зачастую неизвестны, но факты остаются фактами. Например, большинство вирусов бактерий относится к вирусам с двуцепочечной ДНК. Грибам наиболее свойственны вирусы с двуцепочечной РНК, цветковым растениям — вирусы с позитивной одноцепочечной РНК. А вот млекопитающие почему-то пользуются особой “любовью” ретровирусов (хотя и другие группы вирусов не обходят их своим вниманием).
Уже довольно давно известно, что встроенные эндогенные ретровирусы составляют примерно 8% генома человека[194]. Это более-менее рядовая величина; у большинства позвоночных доля эндогенных ретровирусов в геноме — от 4 до 14%[195]. Надо заметить, что тут речь идет только об эндогенных ретровирусах как таковых, без учета других включенных в геном мобильных элементов, часть которых тоже наверняка имеет ретровирусное происхождение; если их добавить, цифры будут гораздо больше. Но так или иначе 8% генома человека — это тоже совсем не мало. Многие из входящих в эти проценты ретровирусных генов давно утратили активность. Но не все. Некоторые из них экспрессируются — с разнообразными последствиями, в том числе и неприятными.
Например, установлено, что эндогенные ретровирусы каким-то образом участвуют в развитии такой страшной болезни, как боковой амиотрофический склероз, которым страдал Стивен Хокинг[196]. Как знать, может быть, мы когда-нибудь научимся и лечить подобные болезни, манипулируя вирусами? В конце концов, лечили же в свое время бактериофагами дизентерию и раневые инфекции. А современная биотехнология наверняка сможет создавать искусственные полезные вирусы с заданными свойствами. Но для этого надо будет сначала разобраться в тончайших скрытых механизмах, о самом существовании которых ученые узнали лишь недавно.
Есть у млекопитающих и полезные приобретения, связанные с ретровирусами. Например, это касается плаценты — органа, обеспечивающего питание зародыша за счет организма матери. К плацентарным относятся все современные млекопитающие, кроме сумчатых, утконоса, ехидны и проехидны, — иначе говоря, подавляющее большинство. Со стороны раннего зародыша в образовании плаценты принимает участие наружный слой его клеток, который называется трофобластом. А во внешнем слое самого трофобласта, непосредственно контактирующем с тканями матери, клетки обычно сливаются в единое многоядерное целое; видимо, так удобнее регулировать обмен веществ между двумя организмами[197]. Многоядерный слой, образующийся из бывших клеток трофобласта, называется синцитиотрофобластом. Это одна из самых необычных структур в организме млекопитающих.
Не у всех обладателей плаценты есть синцитиотрофобласт. Например, у слонов и у большинства копытных его нет, и это — исходное для плацентарных млекопитающих состояние[198]. А тем, у кого он есть, в определенный момент эмбрионального развития приходится обеспечивать слияние клеток трофобласта — изначально одноядерных, как и все другие клетки, — в единый протяженный слой с общей цитоплазмой.
Вот тут-то на помощь и пришли ретровирусы. Дело в том, что ретровирусы млекопитающих обычно проникают внутрь клеток, провоцируя слияние мембран. Каждая ретровирусная частица одета собственной мембраной (примерно такой же, как клеточная) и несет встроенные в эту мембрану сигнальные белки. Когда вирусная мембрана контактирует с клеточной, эти белки связываются с определенными клеточными рецепторами и передают сигнал, заставляющий мембраны просто-напросто слиться. И в результате генетический материал вируса оказывается внутри клетки, что ему и требовалось.
Точно такое же слияние мембран — только клеточных — происходит при возникновении синцитиотрофобласта млекопитающих. И происходит оно за счет тех же самых “провоцирующих” сигнальных белков (у млекопитающих они называются синцитинами). Эти белки — вирусные, они кодируются находящимися в геноме млекопитающих ретровирусными генами. Причем заимствование этих генов, с приданием им функции участия в образовании плаценты, произошло в эволюции млекопитающих независимо как минимум четыре раза: у обезьян Старого Света, у грызунов, у зайцеобразных и у хищных[199]. А скорее всего, таких событий было еще больше. Человек в этом отношении не отличается от других обезьян Старого Света: у него есть синцитиотрофобласт, формирование которого обеспечивается ретровирусными белками-синцитинами. Вот так ретровирусы подарили млекопитающим полезный молекулярный инструмент.
Большинство эндогенных ретровирусов человека — общие с обезьянами Старого Света. Но не все. Есть по меньшей мере одна группа эндогенных ретровирусов, которая у человекообразных обезьян представлена слабо, а у человека — отлично. Эта группа называется HERV-K (human endogenous retrovirus K). Например, из десяти обнаруженных в человеческом геноме “встроенных” ретровирусов этого семейства всего два встречаются у африканских человекообразных обезьян — остальные восемь уникальны для человека[200]. Значит, интеграция этих ретровирусов произошла только в человеческой эволюционной линии. С чем это связано — сказать пока не может никто. Известно, что гены HERV-K активируются при некоторых болезнях, в их числе рассеянный склероз, шизофрения и биполярное расстройство[201]. Так что дело может быть и в нервной системе: все-таки она у человека отличается от обезьяньей. Так или иначе эта тайна еще не разгадана.
Итак, мы можем убедиться, что любая эволюционная ветвь клеточных организмов на всем протяжении своего существования отбрасывает густую вирусную “тень”. Роль вирусов в эволюционной драме поистине всеобъемлющая. Тем не менее эту роль не стоит (пока) преувеличивать, изображая вирусы какими-то невидимыми повелителями всего живого на Земле. На данный момент для такого мнения нет достаточных оснований. Вирусы не создали ни эукариот, ни плацентарных млекопитающих, ни ос-наездников, ни человека. Во всех этих четырех случаях (как, надо думать, и во многих других) они всего лишь ускорили эволюцию клеточных организмов в направлении, которое было к тому моменту уже выбрано.
Что вирус действительно может сделать — это помочь точно “притереть” какой угодно организм к своей экологической нише, снабдив его дополнительными молекулярными инструментами для полезных адаптаций. И конечно, организм всегда за это чем-то платит, так что процесс получается с обратной связью.
Великий эволюционный генетик Рональд Фишер в свое время сравнил биологическую эволюцию с тонкой настройкой оптического прибора — например, микроскопа[202]. Представим, что мы смотрим в обычный микроскоп и хотим повысить качество изображения. Очевидно, для этого придется покрутить винты, чтобы поманипулировать расположением линз, углом наклона зеркала и другими доступными переменными. Причем этот процесс должен идти постепенно (от резкого перемещения линзы на большое расстояние вряд ли будет толк) и обязательно включать в себя обратную связь: подняв или опустив линзу, мы оцениваем: стало изображение лучше или хуже — и в зависимости от этого решаем, в какую сторону двигать ее дальше. Действуя подобным образом, мы почти наверняка довольно быстро получим требуемый результат.
Вот именно такую “тонкую настройку” клеточных организмов могут невольно осуществлять вирусы. И получается это у них прекрасно. Можно сказать, что вирусы вложили добавочный и очень острый резец в руку того самого слепого скульптора, с которым Станислав Лем (в который раз поминаемый в этой книге) сравнил однажды биологическую эволюцию.
ЧАСТЬ III ДРЕВО ЖИЗНИ
13. земля и жизнь
В период Чоу твердеющая масса опускается; образуются вода, огонь, горы, камни, земля — пять элементов, которые получили название пяти стихий. Поэтому и говорят, что земля появилась в период Чоу. Через следующие 5400 лет период Чоу кончается, и с наступлением периода Инь на земле зарождается жизнь.
У Чэн-энь. Путешествие на западПять миллиардов лет назад ни Солнца, ни Земли еще не существовало. По современным оценкам, самая точная дата начала образования Солнечной системы — 4,5682 миллиарда лет назад (это определено по возрасту древнейших твердых включений в метеоритах)[203]. К тому времени Вселенная уже имела длинную и сложную историю. Мы знаем, что Большой взрыв произошел примерно 13,8 миллиарда лет назад. А это означает, что в момент начала формирования Солнечной системы возраст Вселенной уже насчитывал около 9,2 миллиарда лет. Почти бездонная пропасть исторического прошлого, настоящая “бездна времен”.
К моменту рождения Солнечной системы несколько совершенно разных космических эпох успели сменить друг друга. Началу образования звезд предшествовали так называемые “темные века” (Dark Ages), когда во Вселенной не было никаких светящихся объектов. Первые звезды зажглись не раньше чем через 100 миллионов лет после Большого взрыва[204]. И эти звезды очень сильно отличались от Солнца. Наше Солнце — желтый карлик с ожидаемой продолжительностью жизни порядка 10 миллиардов лет. А первые звезды во Вселенной, судя по расчетам астрономов, были голубыми гигантами с массой, которая могла в 500–1000 раз превосходить массу Солнца, и со светимостью в миллионы раз выше солнечной, но со средней продолжительностью жизни всего лишь три миллиона лет[205]. Планетных систем эти звезды не имели: в древнейшей Вселенной, состоявшей целиком из водорода и гелия, им было бы просто не из чего образоваться.
Когда короткий жизненный цикл звезд первого поколения заканчивался, эти звезды или взрывались в качестве сверхновых, или (если их масса более чем в 250 раз превышала массу Солнца) коллапсировали в черные дыры без взрывов. Некоторые из этих массивных черных дыр потом сливались друг с другом и становились центрами ядер формирующихся галактик. А те звезды, которые становились сверхновыми, при взрывах разбрасывали на огромные расстояния газ и пыль — теперь уже насыщенные новыми химическими элементами, гораздо более тяжелыми, чем водород и гелий. Эти тяжелые элементы могли синтезироваться только в недрах звезды (или даже непосредственно во время ее взрыва). И в туманностях, которые оставались от таких звезд, постепенно началось образование звезд следующих поколений — уже с планетными системами.
Около пяти миллиардов лет назад одна из таких туманностей находилась на окраине галактики Млечный Путь. Вероятно, она могла бы до сих пор оставаться в покое, если бы не близкий взрыв сверхновой звезды[206] [207]. По крайней мере, такова популярная у современных астрономов гипотеза, основанная на особенностях изотопного состава некоторых метеоритов[208]. Ударная волна сверхновой, распространившаяся в безвоздушном пространстве благодаря огромному количеству выброшенного при взрыве звездного материала, заставила наше газопылевое облако потерять устойчивость и коллапсировать. Оно расслоилось, в нем появились сгущения, которые притянули к себе окружающее вещество, и в конце концов вся масса облака стала стягиваться к одному центральному ядру. Это и была растущая звезда. Но одновременно потерявшее устойчивость облако начало вращаться, поэтому возникшая центробежная сила растянула его в диск. В конце концов центральное ядро крутящегося газопылевого диска стало Солнцем, а периферия — планетами.
Планетная система делится на две части так называемой “линией льда”, которая в нашем случае проходит между орбитами Марса и Юпитера. Внутри от “линии льда” летучие вещества (вода, аммиак, метан, углекислый газ, угарный газ) в основном испаряются, а снаружи от нее — конденсируются в ледяные пылинки, огромные массы которых могут входить в состав планет. В результате внутри от “линии льда” образовались твердые планеты земного типа (Меркурий, Венера, Земля, Марс), а снаружи — планеты-гиганты, превосходящие планеты земного типа массой в десятки и сотни раз, но гораздо менее плотные (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун).
При этом большая часть воды, находящейся в Солнечной системе, оказалась как раз по внешнюю сторону “линии льда”. Например, ядра комет состоят из водяного льда на 80%, а в составе Урана и Нептуна воды столько, что эти планеты относят к классу ледяных гигантов[209]. Мантия Нептуна, скорее всего, представляет собой океан жидкой воды с примесью аммиака и метана, имеющий непредставимую для нас глубину — около 10 000 километров. Очень вероятно, что и Уран устроен примерно так же[210]. А с другой стороны, гипербазиты, из которых в основном состоит мантия Земли, содержат всего лишь 0,05–0,06% воды[211]. Очевидно, что по сравнению со многими другими объектами Солнечной системы это ничтожно мало.
По счастью, Земля еще и очень активная планета. Ее кора (вместе с верхней мантией) расколота на гигантские литосферные плиты, которые непрерывно движутся. В глубине Земли идут конвективные потоки мантийного вещества, а на ее поверхности есть множество действующих вулканов (причем в некоторые эпохи их было гораздо больше, чем сейчас). А вулканические газы обычно не меньше чем на 75% состоят из водяного пара. Та вода, которая все-таки есть в земной мантии, выходит с этим паром, конденсируется и образует океан. Впрочем, есть вероятность, что значительную часть воды на Землю принесли врезавшиеся в нее льдистые метеориты или кометы[212]. Но, как бы там ни было, без участия вулканов облик нашей планеты был бы совсем другим.
Одной из главных причин высокой тектонической активности Земли, скорее всего, является ее уникальный естественный спутник. Луна всего-навсего в 3,7 раза меньше Земли. Ни у одной другой планеты Солнечной системы нет спутника, настолько огромного относительно нее. У Венеры спутников нет вообще, а спутники Марса имеют ничтожные размеры (27 и 24 километра) и представляют собой небольшие астероиды, захваченные полем тяготения планеты. Правда, в Солнечной системе есть и более крупные спутники, чем Луна, но это спутники планет-гигантов: Ганимед, Титан, Каллисто и Ио. По относительному размеру Луна совершенно необычна (если не учитывать систему Плутон — Харон, которая к планетам не относится). И это очень важно. Поле тяготения Луны, направление которого постоянно меняется из-за ее движения по орбите, создает приливные силы, “накачивающие” дополнительной энергией всевозможные перемещения вещества внутри Земли. Конечно, Луна — не единственная причина тектонической активности Земли, но она значительно усиливает ее, ускоряя в итоге всю эволюцию планеты[213]. В общем, со спутником Земле повезло.
Откуда взялась Луна? Предполагается, что через 50–60 миллионов лет после начала своего формирования молодая Земля столкнулась с другим небесным телом — несуществующей ныне планетой размером примерно с Марс, то есть вдвое меньше Земли[214] [215]. Столкновение выбросило в космос некоторое количество материала земной мантии, который и стал основой формирующейся Луны. Планета, нанесшая удар, развалилась, ее остатки или вошли в состав Луны, или стали метеоритами. Эта гипотеза — ее называют гипотезой великого столкновения, или мегаимпакта (Giant Impact), — порождает много вопросов, но и подтверждений у нее хватает. Например, исследование лунных образцов показывает, что Луна на несколько десятков миллионов лет моложе как Земли, так и других тел Солнечной системы; Земля и Луна почему-то уникально близки друг к другу по изотопному составу (их называют “геохимическими близнецами”); и наконец, Луна близка по типу пород к земной мантии, но, в отличие от Земли, почти лишена железного ядра. Гипотеза мегаимпакта изящно объясняет все эти факты.
Так или иначе Земля — единственная землеподобная планета, которая богата одновременно тектонической энергией и жидкой водой. Причем ей посчастливилось сохранить эти свойства на протяжении нескольких миллиардов лет — в отличие от Марса, где тоже когда-то был водный океан[216]. А ведь именно эти две особенности и есть главные предпосылки возникновения жизни (во всяком случае, жизни земного типа): жидкая вода — потому что она служит растворителем для биохимических реакций, а тектоническая энергия — потому что она может эти реакции запустить. Тектоническая активность Земли не только дает тепло, но и обеспечивает перепады концентраций молекул или ионов (начиная с простейшего иона H+), которые сами по себе становятся источниками энергии.
Возникновение жизни
Есть несколько гипотез, более-менее детально расписывающих вероятные первые химические шаги на пути к жизни[217] [218] [219] [220] [221]. Они отличаются в деталях, но едины в главном. Все эти гипотезы предполагают, что местами зарождения жизни были не открытые водоемы, а микрополости в грунте или минеральных осадках, куда подводилась энергия от горячих источников или от вулканов. Надо сказать, что это не такая уж новость. Например, известный швейцарский биолог Карл фон Нэгели еще в XIX веке писал по поводу зарождения жизни: “Вероятно, это случилось не в открытой воде, а во влажном слое тонкого пористого материала (песка, глины), где совместно действовали молекулярные силы твердых, жидких и газообразных тел”. Вот это мнение сейчас и стало научным мейнстримом. Где возникновение жизни наименее вероятно — так это в водной толще спокойного океана, освещенного солнцем. Там просто нет таких потоков энергии и вещества, которые зарождающаяся жизнь могла бы “оседлать” и перенаправить себе на пользу.
Итак, где-то в воде, пропитывавшей окрестности древних вулканов или горячих источников, начались автокаталитические (то есть самоускоряющиеся) химические реакции, цепочки которых вскоре стали пересекаться за счет общих промежуточных продуктов и замыкаться в циклы. Главные участники этих реакций, скорее всего, были небольшими органическими молекулами, поначалу даже одноуглеродными[222]. Но реакции-то были не простыми. Особенность любой автокаталитической реакции по определению состоит в том, что ее продукт одновременно является катализатором, то есть веществом, ускоряющим ход самой реакции. При условии достаточной сложности реакционной системы (а оно в данном случае наверняка соблюдалось: и реагентов, и продуктов было множество) автокаталитические реакции приобретают свойство саморазвития, потому что в них появляется обратная связь: небольшое изменение механизма реакции влияет на состав ее продуктов, изменение которого, в свою очередь, влияет на механизм — и так шаг за шагом[223]. Спустя какое-то время в системе автокаталитических реакций начали синтезироваться аминокислоты, простейшие углеводы, а там дело дошло и до полимеров — сперва простых, потом посложнее. Наконец, некоторые из этих полимеров “научились” катализировать сначала синтез друг друга (это совсем легко), а потом и воспроизводство самих себя. Иными словами, они стали репликаторами. А с появлением репликаторов автоматически включается дарвиновский механизм естественного отбора, необходимые и достаточные условия для которого — самовоспроизводство, наследственность, изменчивость и конкуренция за субстрат. Все, с этого момента биологическая эволюция запущена.
Можно не сомневаться, что на этих первых этапах жизнь была еще практически незаметной для постороннего наблюдателя (если бы, конечно, он мог тогда существовать). Это легко понять, если вообразить себя инопланетным путешественником, прибывшим пусть даже к самой колыбели земной жизни. Что он увидит? Теплый вулканический грунт, башни пористых осадков на морском дне... И все. Ничего примечательного. Без химического анализа такой путешественник и не понял бы, с чем столкнулся.
Первыми в истории Земли полноценными репликаторами, скорее всего, были молекулы РНК (см. рис. 13.1). Дело в том, что из всех биологически активных молекул только РНК может выполнять сразу все жизненно важные функции: и хранение наследственной информации, и ее копирование, и катализ реакций обмена веществ. Белки и их предшественники, более простые пептиды, никогда таких возможностей не имели. Тем не менее первые пептиды наверняка появились примерно в те же времена, что и первые РНК. Это следует из чисто химических соображений. Дело в том, что синтез РНК довольно сложен, а вот аминокислоты — причем именно альфа-аминокислоты, из которых пептиды обычно состоят, — достаточно легко синтезируются из самых простых молекул, например из угарного газа (CO) и циановодорода (HC≡N), в условиях, примерно соответствующих вероятным условиям в окрестностях древних вулканов[224]. Поэтому существование эволюционного этапа, когда автокаталитические системы состояли бы исключительно из РНК, маловероятно[225]. Скорее всего, эволюция пептидов и РНК была сопряженной всегда, еще со времен их гораздо более простых общих предшественников. Возможно, что дополнительной (в придачу к самокопированию) задачей первых репликаторов как раз и был катализ синтеза пептидов, влиявших на химическую среду таким образом, чтобы эти репликаторы с большей вероятностью могли выжить.
С другой стороны, из современного опыта мы знаем, что белки — более мощные катализаторы, чем РНК, и их возможности в этом плане несравненно разнообразнее. Поэтому неудивительно, что те РНК, которые “научились” катализировать синтез каких-нибудь особых пептидов, получили преимущество в выживании. В результате пептиды (или уже белки?) стали использоваться репликаторами в качестве своего рода молекулярных инструментов, которыми можно было действовать на среду, повышая свои шансы уцелеть и размножиться. Конкурируя друг с другом, РНКовые репликаторы постепенно совершенствовали способность программировать синтез белков, делая это все более и более точно. И в конце концов они “изобрели” механизм трансляции на рибосоме[226]. Этот механизм позволяет запрограммировать всю структуру белка с абсолютной точностью — до каждой аминокислоты. И вот с этого момента возможности живой природы по созданию белков стали буквально безграничными. Заодно появились и первые вирусы — “оппортунистические” репликаторы, которые не стали заводить собственную систему синтеза белка, зато научились паразитировать на чужой.
Следующим важным эволюционным событием был перенос генетической информации с РНК на ДНК. Дело в том, что молекула РНК всем хороша, но вот химическая устойчивость у нее низкая и разрушается она довольно легко. Поэтому длительно хранить на ней генетическую информацию — дело ненадежное. Для этого предпочтителен какой-нибудь другой полимер. Им-то и стала ДНК. Если первые РНК вполне могли синтезироваться спонтанно в неживой природе, то синтез ДНК уже со всей определенностью является “изобретением” живых организмов, и эта молекула с самого начала получила единственную функцию: хранить информацию. Ничего другого она делать не умеет. Одно-единственное преимущество, которое имеет ДНК перед РНК, — ее высокая химическая устойчивость, позволяющая долго и надежно храниться. Для того, кто владеет уникальным “ноу-хау” синтеза каких-нибудь полезных белков, это по-настоящему ценно.
Таким образом, началась эпоха великой перезаписи геномов с РНК на ДНК. В начале этой эпохи на Земле жили РНК-содержащие организмы, которые наверняка уже освоили к тому моменту технологию точного синтеза белка. Иными словами, ДНК появилась эволюционно позже, чем трансляция. Вполне возможно, что генетическая стратегия первых ДНК-содержащих организмов была похожа на генетическую стратегию ретровирусов (см. главу 12). В жизненном цикле вирусов этого типа есть обязательная стадия ретротранскрипции, то есть обратной транскрипции — переноса генетической информации с РНК на ДНК[227]. А вот собственного механизма репликации ДНК у ретровирусов нет. И у клеточных организмов его тоже, скорее всего, вначале не было. Надежные ферменты репликации (они называются ДНК-зависимые ДНК-полимеразы) появились позже. Но уж когда они появились, это дало возможность хранить на ДНК генетическую информацию непрерывно, при необходимости сразу перезаписывая ее с одной молекулы ДНК на другую. И тогда ретротранскрипция стала не нужна.
В результате образовалась самая привычная нам форма жизни: ДНК-содержащая клетка с генетической стратегией “ДНК-РНК-белок”.
Признаемся честно: мы не знаем, когда именно живое вещество разбилось на клетки, отделенные от внешней среды и друг от друга замкнутыми липидными мембранами. Вполне возможно, что это произошло раньше, чем появилась репликация ДНК и исчезла обязательная ретротранскрипция. В таком случае вполне может оказаться, что первые клетки по жизненному циклу напоминали ретровирусы (или даже классические РНК-содержащие вирусы, хотя это менее вероятно). Клеточная мембрана делит весь мир на внутреннюю среду, где химические реакции жестко контролируются геномом, и окружающую среду, где контроль гораздо менее жесткий, требует специальных инструментов (например, выделения из клетки каких-нибудь белков) и где его приходится делить с обладателями других геномов, конкурируя с ними за влияние. Кроме того, клеточная мембрана придает геному целостность, резко ограничивая обмен генетическими элементами с окружающей средой и защищая генетическую систему от генетических паразитов[228]. Только с этого момента приобретает реальный смысл понятие особи, индивидуума, — слово, которое по-латыни значит “неделимый”.
Парадоксальным образом размножаются все живые клетки именно делением. Материнская клетка делится на две дочерние, которые получают достаточно точные копии ее генома. Цепь последовательно делящихся клеток — это цепь прямых, без всяких метафор, предков и потомков. Иногда потомки одной и той же клетки оказываются в разных условиях (или получают разные мутации) и начинают под действием естественного отбора накапливать различия. Тогда мы можем заметить, что линия предков и потомков ветвится.
Первым таким ветвлением было разделение всех клеточных организмов на архей и бактерий. Оно произошло точно раньше, чем появился полноценный механизм репликации ДНК, и наверняка раньше, чем появились клеточные мембраны современного типа. А это означает, что типичные (с нашей точки зрения) клетки, окруженные липидной мембраной и имеющие генетическую стратегию “ДНК-РНК-белок”, с самого начала существовали в виде двух расходящихся эволюционных ветвей.
Так возникло древо жизни.
Arbor vitae
Из всех естественных наук только биология может представить свои объекты в виде эволюционного древа. Связано это с тем, что у живых организмов (и только у них) есть передаваемый по наследству геном, который обеспечивает уникальную преемственность информации и структуры. Белок, возникший миллиард лет назад, вполне может до сих пор сохранить не только свою функцию, но и большую часть аминокислотной последовательности — конечно, если этот белок достаточно важен, чтобы его устойчивость поддерживалась естественным отбором. Предок человека, живший миллиард лет назад, скорее всего, был одноклеточным существом. И тем не менее сохранившаяся преемственность (причем не только чисто генетическая, но и запечатленная в наблюдаемой под микроскопом структуре клеток) не дает забыть о нашем прямом родстве.
Древо жизни — это не воображаемая конструкция или модель, а совершенно реальный объект. Любая его веточка так же реальна, как любая веточка любого дерева, разветвляющегося в пространстве. (Эту фразу написал в одной статье замечательный зоолог и биогеограф Иван Иванович Пузанов, но она выражает настолько очевидную мысль, что ее и в кавычки заключать не хочется: все равно как если бы Пузанов сказал, что Волга впадает в Каспийское море.) Эволюционное древо ничем качественно не отличается от родословной какой-нибудь королевской семьи или линии охотничьих собак. Точнее, различия-то между ними есть (например, очень разным может быть вклад процесса гибридизации), но все они одинаково реальны. Кстати, это одна из причин, почему англичане в середине XIX века довольно легко поняли теорию Дарвина. Англия традиционно была животноводческой страной, ее жители превосходно знали, как составляются родословные породистых коров, собак, голубей и тому подобных одомашненных тварей. Перейти от родословных к эволюционным древесам было нетрудно.
Вот всего одна наглядная иллюстрация. В 1938 году южноафриканский ихтиолог Джеймс Смит сделал поразительное открытие. Он обнаружил, что “кистеперые рыбы вымерли не совсем”. Действительно, кистеперые рыбы — сборная группа, в которую входит открытая Смитом латимерия, — близки к эволюционным корням наземных позвоночных, но до 1938 года они были известны только из палеонтологической летописи. Считалось, что они вымерли даже раньше, чем динозавры. Поэтому современная кистеперая рыба была потрясающей находкой. Но проблема состояла в том, что латимерия была одна-единственная, и поймать второй экземпляр никак не удавалось. Поиски мест, где живет латимерия, заняли много лет и шли очень трудно (эта захватывающая история прекрасно изложена самим Смитом в книжке “Старина-четвероног”). В какой-то момент Смит обратился за помощью к премьер-министру Южной Африки — известному политику Даниэлю Франсуа Малану, объяснив ему по телефону, почему это так важно. И Малан помог. Он выделил самолет и решил все проблемы с зарубежными визами, которые были нужны для срочного полета за пойманной рыбой. Когда рыбу доставили в Кейптаун, Малан спросил Смита: “Вы хотите сказать, что и мы некогда выглядели таким образом?” Смит несколько растерялся и отделался шуткой. Спустя некоторое время известный английский биолог Джулиан Хаксли сказал по этому поводу, что правильным ответом было бы: “Вообще говоря, да!” И он был абсолютно прав. Самым верным ответом тут было бы простое “ДА”. Правда, латимерия в действительности не предок наземных позвоночных, она, скорее, их эволюционная “кузина”. Но и самые что ни на есть прямые предки, судя по всему, выглядели достаточно похоже на нее — неспециалист не отличил бы.
Древо жизни — это совокупность целых организмов (а не только их геномов). Графически оно в самом деле похоже на дерево, ветви которого, правда, могут иногда и сливаться. Пример такого слияния — объединение организмов древней археи и древней альфа-протеобактерии, которое дало начало эволюционной ветви эукариот (см. главу 10). В этом месте древо жизни замкнулось в кольцо. Но полное слияние эволюционных ветвей происходит все-таки редко (гораздо реже, чем обмен отдельными генами). Основной способ биологической эволюции — дивергенция, то есть расхождение ветвей. Этот вывод в целом сохраняет силу со времен Чарльза Дарвина, который описал вероятную общую структуру эволюционных древес, и Эрнста Геккеля, который первым всерьез попытался построить истинное эволюционное древо всего живого.
Конечно, эволюционные деревья, помещаемые в научных работах, бывают несовершенными — точно так же, как несовершенны старые карты мира. На доколумбовых картах нет Америки, а на картах XVIII века еще начисто отсутствует Антарктида. Но уж тут-то ясно, что отсутствие этих континентов на картах не имеет никакой фундаментальной причины: их просто еще не успели открыть. Вот так же обстоит дело и с неточностями эволюционных древес, которые рисуют ученые (и заодно со спорами о том, какая версия древа более правильна, — а они часто бывают очень бурными).
Оглянувшись на эволюцию Вселенной от Большого взрыва до возникновения на Земле животных и растений, мы сразу увидим, что генетическое родство — это совершенно особый тип отношений, по самой своей сути возможный только между живыми объектами. Здесь есть одно исключение — языки, для которых лингвисты тоже устанавливают самое настоящее родство. Родословные деревья языков очень похожи на родословные деревья живых организмов (они и строятся близкими способами, с применением сходных математических аппаратов). Но это не столь уж удивительно, поскольку любой человеческий язык — в конечном счете явление живой природы, часть “расширенного фенотипа” вида Homo sapiens. Так что исключение на самом деле подтверждает правило. Нигде в неживой природе нет ничего подобного. Бесполезно сравнивать по признаку родства две молекулы, два кристалла, две звезды или два вулкана (если только не понимать “родство” совсем уж метафорически). Зато для любой пары живых существ, сколь угодно далеких друг от друга, определить родственные отношения хотя бы в первом приближении нетрудно. Неудивительно, что именно на родстве в первую очередь и основана биологическая система.
14. рождение системы
Моя цель — просто набросать здесь проект систематики китообразных. Я архитектор, а не строитель. Но это — грандиозная задача; простому сортировщику писем в почтовой конторе она не по плечу. Вслепую пробираться вслед за ними на дно морское, шарить руками в неизреченных основах, в плечевом и тазовом поясе самого мира — разве это не жутко?
Герман Мелвилл. Моби Дик, или белый китОбласть биологии, занимающаяся разнообразием живых организмов, называется систематикой. Строго говоря, систематика — это абсолютно неустранимый аспект биологического знания как такового. Любое живое существо, изучаемое любым биологом с любыми целями, обязательно имеет какую-нибудь систематическую принадлежность. Другое дело, что есть (и никогда не переведутся) биологи, у которых систематика сама по себе является главной областью интересов. Часто говорят, например, что такой-то человек — величайший знаток систематики жуков-долгоносиков, или хищных динозавров, или сумчатых грибов, или еще кого-нибудь.
Основным понятием систематики является таксон — группа организмов, обладающая заданной степенью однородности[229]. Таксон — это единица системы. Любая система живой природы представляет собой некоторое сочетание таксонов. А любой таксон, в свою очередь, имеет четкие границы. Можно сказать, что природа делится на таксоны примерно так же, как территории континентов делятся на страны и провинции. И об их границах примерно так же спорят — хотя, как правило, и без применения аргументов, опасных для жизни. Все названия таксонов суть имена собственные. Недаром в старых книгах их было принято писать с большой буквы, а латинские названия пишутся так и сейчас. По правилам, заведенным еще в XVIII веке и соблюдаемым по сей день, любой таксон обязательно получает в первую очередь именно латинское название, а уж оно переводится (или не переводится) на современные языки.
Таксоны различаются рангом по возрастанию: вид, род, семейство, отряд, класс, тип, царство, домен. Ранг таксона обозначает его мощность как подмножества: чем выше ранг, тем эта мощность больше[230]. Виды группируются в роды, роды — в семейства, семейства — в отряды, отряды — в классы, классы — в типы, типы — в царства, а царства — в домены. В общем, система живой природы от начала до конца иерархическая. Группы последовательных рангов вложены друг в друга. Например, класс млекопитающих включает в себя отряды грызунов, приматов, рукокрылых, парнокопытных, непарнокопытных, хищных и разные прочие. А отряд хищных, в свою очередь, включает семейства псовых, медвежьих, куньих, енотовых, кошачьих, гиеновых, виверровых и (опять же) некоторые другие. В общем случае таксон может состоять из скольких угодно таксонов подчиненного ранга, в том числе и из одного-единственного. Например, в отряде трубкозубов всего одно семейство, один род и один вид (если не считать ископаемых). Такие “вырожденные” таксоны называются монотипическими. В случае с трубкозубом удивляться этому не приходится: он настолько не похож ни на одно другое современное млекопитающее, что для него пришлось создать собственный отряд, состоящий из одного вида.
Часто бывает, что систематикам не хватает основных рангов и они создают промежуточные: подтип, надкласс, подкласс, надотряд и т.п. Но тут действует простое правило: любой полностью систематизированный организм должен быть обязательно отнесен к какому-нибудь таксону каждого из основных рангов (от вида до домена включительно), а вот промежуточные ранги не обязательны.
Кроме того, в некоторых областях биологии есть особые исторические традиции: например, в ботанике отряд принято называть порядком, а тип — отделом. Сути дела это не меняет.
И наконец, в современной биологии встречается совершенно иной подход к построению системы — безранговый (хотя иерархический принцип и в этом случае строго соблюдается). О таких системах мы поговорим позже, в главе 15.
Биологи всегда стремились создать систему, максимально устойчивую к введению в нее новых объектов или признаков. Такая система называется естественной. Чем меньше меняется система при добавлении новых фактов, тем она естественнее. Идеальная естественная система отличается от любой другой системы тем, что ее невозможно оптимизировать: она уже наилучшим образом отображает отношения между объектами, и любые поправки ее только испортят. Стремление к такой системе, конечно, подобно бесконечному “асимптотическому приближению к абсолютной истине”, математические свойства которого изучали некоторые второстепенные персонажи Стругацких. Тем не менее эта цель по-своему привлекательна. История биологии — по крайней мере, ее систематических областей — это, по сути, и есть сильно растянувшаяся во времени история попыток построить полную естественную систему живых организмов.
Первая такая попытка связана с именем Аристотеля. Это неудивительно: от Аристотеля начинается история большинства естественных наук и уж во всяком случае — биологии и физики. Аристотель вообще уделял очень много внимания исследованиям природы. Этим он отличался от своего учителя Платона, для которого идеалом науки была геометрия и который, насколько можно судить, считал полноценным знанием только то, что хотя бы в принципе можно вывести в уме из набора аксиом. “Естествознание — родная стихия аристотелевской мысли, особенно когда речь идет о живой природе”, — писал историк биологии Валериан Викторович Лункевич[231]. И это не пустая фраза, а совершенно точное наблюдение. Способ мышления Аристотеля был мало приспособлен к математическим абстракциям, зато идеально — к изучению живых организмов, сложных, многообразных и развивающихся. Характерно, что Аристотель не внес никакого научного вклада в математику, хотя, безусловно, хорошо знал ее просто как образованный человек. А вот в зоологии он открыл настолько много, что его с полным правом считают основателем этой науки. Принимался он и за ботанику, но жизни не хватило на все (Аристотель умер в 62 года). И в результате крупнейшим ботаником античности стал его ученик Теофраст.
Система Аристотеля была проста и наглядна. Он разделил живую природу на три ступени: растения (живут, но не движутся), животные (живут и движутся), человек (живет, движется и мыслит). Естественно, при этом он сразу же столкнулся с так называемой проблемой переходных форм, которая всегда возникает при попытке классифицировать непрерывную совокупность по качественным признакам. Дело в том, что античные исследователи знали о существовании организмов, которые (по тогдашним представлениям) неподвижны или малоподвижны, как растения, но могут питаться, как животные. В основном это некоторые морские существа: губки, коралловые и гидроидные полипы, актинии, голотурии. Аристотель предполагал, что в этих “промежуточных” организмах растительная природа смешана с животной. Более поздние античные авторы стали называть их зоофитами, то есть “животными-растениями”. Так что de facto в аристотелевской системе живой природы не три, а четыре категории: человек, животные, зоофиты и растения.
Созданная в середине XVIII века система Карла Линнея принципиально отличается от системы Аристотеля в двух отношениях. Во-первых, она состоит из вложенных друг в друга групп, которым присвоены ранги: царство — класс — отряд — семейство — род — вид (ранги типа и домена были добавлены позже). Система Аристотеля тоже иерархична, но четкого понятия о рангах там нет. Это изобретение Линнея. Животные и растения у Линнея имеют ранг царств.
Во-вторых, человек у Линнея не образует особую категорию, равноправную животным и растениям, а входит в царство животных — отныне и навсегда.
Cистема Линнея претендовала на то, чтобы охватить не одну лишь живую природу, а вообще все объекты во Вселенной. Кроме животных и растений там есть третье царство — минералов. Эта особенность линнеевской системы сейчас интересна только как факт истории культуры. Или, может быть, альтернативной истории науки, которая не осуществилась в нашей реальности.
Справедливости ради надо сказать, что распространение систематики на всю природу (и живую, и неживую) не было личной причудой Карла Линнея, а отражало совершенно нормальное для натуралистов XVIII века отношение к вещам. Мир объектов естественной истории виделся им единым целым. Были, например, авторы, которые добавляли к трем линнеевским царствам четвертое и пятое — царство воды и царство огня[232]. А уж царство минералов признавали все. Причем натуралисты тех времен умудрялись находить переходные формы между всеми тремя общепринятыми царствами — растений, животных и минералов. Они писали не только о зоофитах (“животных-растениях”), но и о литофитах (“растениях-камнях”), и о литозоях (“животных-камнях”); к последним относили, например, коралловых полипов, образующих известковые постройки. Эти взгляды продержались до второй половины XIX века, когда победа эволюционной идеи в биологии и — с другой стороны — стремительное развитие наук о Земле сделали единую классификацию живых и неживых объектов практически бессмысленной.
Главным отличием животных от растений Линней считал активную подвижность. Он писал: “Естественные тела, наделенные всегда одной и той же формой и способностью к перемещению, называются животными; имеющие всегда одну и ту же форму, но не способные перемещаться — растениями; а те, которые имеют разнообразную форму, называются минералами”. Аристотелевских “зоофитов” Линней отнес к царству животных (правда, после долгих колебаний): он понимал, что некоторая подвижность, основанная на чувствительности животного типа, у них все же есть.
Однако проблема переходных форм никуда не делась. Во-первых, есть подвижные растения, в том числе и хищные — вроде росянки, которая ловит насекомых своими листьями. Во-вторых, есть совершенно неподвижные животные — например, губки. Найти у них хоть какие-то сокращающиеся элементы смог только современник Линнея англичанин Джон Эллис: путем тщательных наблюдений он выяснил, что губка может сокращать и расслаблять маленькие отверстия, сквозь которые в ее тело затекает вода[233]. И в-третьих, есть еще и грибы, которые один ботаник, бывший на поколение старше Линнея, в сердцах обозвал произведениями дьявола, призванными нарушать гармонию природы и приводить исследователей в отчаяние (современные специалисты по грибам — микологи — обожают это цитировать). Положение грибов в линнеевской системе было крайне туманным. На первый наивный взгляд это растения. Но у грибов есть особенности, резко отличающие их от типичных растений, — например, независимость от света и отсутствие ветвления (на самом деле микроскопические нити, из которых состоит тело гриба, ветвятся, но Линней этого не знал). Неудивительно, что отнести грибы к растениям Линней решился лишь после больших сомнений, приписав комментарий: “Порядок грибов, к позору ботаники, и поныне представляет собою хаос”.
Проблему переходных форм не раз пытались решить, выделив третье царство живого. Но вот что это должно быть за царство? Тут разные ученые рассуждали по-разному. Ботаник барон Отто фон Мюнхгаузен, современник и хороший знакомый Линнея, в 1766 году предложил создать промежуточное царство — по-немецки Das Mittelreich, куда вошли грибы, а вместе с ними коралловые полипы и другие прикрепленные животные. Это была первая трехцарственная система живой природы, долго не продержавшаяся.
Другую идею опубликовал в 1783 году ботаник Ноэль Мартен Жозеф де Неккер. Он предложил выделить в третье царство только грибы[234]. Это было куда более разумное решение. К 1780-м годам исследователи, в общем, успели убедиться, что кораллы, гидры и губки — не переходные формы между царствами, а просто животные. А вот с грибами ситуация была в точности противоположной. Натуралисты, решившие ими всерьез заняться, обычно довольно быстро приходили к твердому убеждению, что грибы — никак не растения. Неккер был первым из таких натуралистов, но далеко не последним.
Тем удивительнее, что признание этих фактов широкими массами ученых задержалось аж на 200 лет. Почти до конца XX века во многих учебниках ботаники грибы по традиции продолжали числиться растениями, хотя к тому времени уже все понимали, что с зелеными растениями у них нет ничего общего. Кроме банальной инерции мышления, никакой серьезной причины тут не найти.
Следующий шаг в развитии системы живой природы был связан с появлением клеточной теории. Согласно этой теории, клетка есть элементарная единица живого. В 1838–1839 годах ботаник Матиас Шлейден и зоолог Теодор Шванн убедительно показали, что это относится и к растениям, и к животным: организмы и тех и других состоят из клеток. Надо сказать, что у Шлейдена и Шванна, безусловно, были предшественники, но авторами клеточной теории по традиции считают именно их, потому что они первыми рискнули провозгласить эту теорию громко и четко — и выиграли[235]. Для нас это важно вот почему. К XIX веку было известно уже довольно много микроскопических живых существ — инфузорий, амеб, жгутиконосцев, радиолярий и других. Их начал исследовать еще великий Антони ван Левенгук, современник Исаака Ньютона. Но долгое время натуралисты считали, что инфузории и амебы — это просто очень маленькие животные, и все тут.
Надо сказать, что животные такого размера действительно существуют (коловратки, например). Но подавляющее большинство микроскопических живых существ отличается от крупных животных гораздо серьезнее. Животные — многоклеточные организмы, а инфузории, амебы, жгутиконосцы и радиолярии — одноклеточные. На то, чтобы понять это, у исследователей ушло полтора века. Первым, кто четко отделил одноклеточные организмы от многоклеточных, был немецкий зоолог Карл фон Зибольд. В 1845 году он выпустил свою “Сравнительную анатомию беспозвоночных”, в которой “одноклеточные животные” (как их с этого момента стали называть) были отнесены к особому таксону Protozoa. В русских учебниках зоологии название Protozoa обычно переводилось как “простейшие”. По рангу это был (у разных авторов) или тип, или подцарство.
Карл фон Зибольд выделил четыре группы простейших: жгутиконосцы, корненожки, инфузории и споровики. Жгутиконосцы — это одноклеточные существа, плавающие с помощью жгутиков. Корненожки передвигаются с помощью ложноножек, временных выростов клетки, которые можно выпускать и втягивать; их типичный представитель — обыкновенная амеба. Инфузории покрыты ресничками (которые устроены точно так же, как жгутики, но их не одна-две, а тысячи) и имеют два клеточных ядра. А споровики — это чисто паразитические простейшие со сложными жизненными циклами; к ним относится, например, возбудитель малярии. Эту классификацию, по тем временам новаторскую, а по нынешним немыслимо архаичную, многие читатели наверняка еще застали: в школьных учебниках зоологии она фигурировала как минимум до 1980-х годов.
Заодно тот же Зибольд предположил, что главный признак, отличающий животных от растений, — не подвижность или чувствительность, а тип питания. Растения питаются автотрофно, животные — гетеротрофно (Зибольд еще не знал этих терминов, но суть различия понимал правильно). Иначе говоря, растения самостоятельно синтезируют сложные молекулы из углекислого газа и воды, а животные получают готовые питательные вещества из тел других организмов (живых или мертвых). Механизмом автотрофного питания у растений служит фотосинтез. Для него нужен зеленый пигмент — хлорофилл, который содержится в специальных частях растительной клетки — хлоропластах. Некоторые растения, в том числе и цветковые (петров крест, подъельник, повилика), лишены хлорофилла и могут питаться только гетеротрофно, но это эволюционно вторично: все они произошли от зеленых предков.
Куда более серьезной проблемой для систематиков стали грибы, которые строго гетеротрофны и не имеют хлорофилла никогда. Чтобы все-таки отнести их к растениям, ботаникам пришлось придумывать для царства растений дополнительные общие признаки: характер роста, способность всасывать питательные вещества всей поверхностью тела и размножение неактивными зачатками (семенами или спорами). Выделить грибы в самостоятельное царство подавляющее большинство биологов еще долго не решалось.
Но сложнее всего было разобраться в одноклеточных организмах. Чем подробнее их изучали, тем больше “переходных форм” среди них обнаруживалось. Например, есть автотрофные одноклеточные, у которых прекрасно выражена активная подвижность, — растения они или животные? Есть одноклеточные, у которых автотрофное питание сочетается с гетеротрофным (таких называют миксотрофами). И наконец, есть одноклеточные, которые могут довольно легко менять тип питания с автотрофного на гетеротрофный или наоборот. Так стало ясно, что в мире одноклеточных организмов провести границу между растениями и животными очень трудно.
В результате в 1860-х годах сразу несколько исследователей предложили объединить всех одноклеточных в собственное царство, отдельное и от растений, и от животных. Знаменитый немецкий биолог-эволюционист Эрнст Геккель в 1866 году назвал это царство Protista (протисты). Трехцарственная система Геккеля выглядела вполне разумно: есть растения, есть животные, а есть протисты, к которым относятся одноклеточные предки как растений, так и животных.
Справедливости ради надо сказать, что первым одноклеточных в самостоятельное царство выделил не Геккель, а английский натуралист Джон Хогг. Еще в 1860 году он предложил создать царство под названием Protoctista (буквально “первично созданные”). В него вошла примитивная (по определению Хогга) жизнь, слабо дифференцированная на растительную и животную[236]. Интересно, что в системе Хогга это царство было не третьим, а четвертым — в придачу к животным, растениям и минералам. Дальше мы будем учитывать только царства живой природы и — соответственно — называть систему из животных, растений и протоктистов (или протистов) трехцарственной, но надо учитывать, что для Хогга и многих натуралистов его времени это было не так.
Протоктисты Хогга и протисты Геккеля — очень близкие понятия, но все же не синонимы. В XX веке название “протисты” обычно использовали исследователи, стремившиеся сузить объем этого царства, а “протоктисты” — исследователи, стремившиеся, наоборот, расширить его, включив туда некоторых примитивных многоклеточных. Например, многоклеточные зеленые водоросли не входили в царство Protista, но входили в царство Protoctista.
Были и другие попытки выделить третье царство, до которых докопались историки науки, но которыми мы не станем утруждать здесь читателя[237]. В общем, по всему видно, что к началу 1860-х годов эта мысль уже носилась в воздухе. Эрнст Геккель просто высказал ее громче и убедительнее всех.
Однако биология продолжала развиваться, и cпустя несколько десятилетий стало ясно, что объединить всех одноклеточных в одно царство невозможно. Трехцарственная система Геккеля создавалась, когда о строении клетки еще было известно очень мало, поэтому она игнорирует такой важнейший признак, как клеточное ядро. У бактерий и синезеленых водорослей (которые в широком смысле тоже бактерии) ядер в клетках нет. У остальных, в том числе и у многих одноклеточных, — есть. В XX веке это было твердо установлено. В результате появились четырехцарственные системы, состоявшие из царств растений, животных, протистов и бактерий[238]. Протистами теперь стали называться одноклеточные или колониальные (но не многоклеточные) существа с клеточными ядрами. На бактерий это название больше никогда не распространяли.
В 1925 году французский протистолог Эдуард Шаттон впервые предложил разделить живые организмы на две крупнейшие группы: эукариоты (с клеточными ядрами) и прокариоты (безъядерные). Шаттон не был теоретиком: он увлеченно изучал одноклеточных паразитов, инфузорий и водоросли, а общими вопросами интересовался мало. Свою классификацию он ввел мимоходом, просто для удобства, и опубликовал ее в виде краткого попутного замечания в работе, которую мало кто читал, кроме других протистологов[239]. Неудивительно, что ее не сразу заметили. К тому же названия, предложенные Шаттоном, пишутся по-разному у разных авторов: или Prokaryota и Eukaryota, или Procaryota и Eucaryota. Первый вариант ближе к правильному написанию греческого слова карион (ядро), а второй — к версии самого Шаттона, который, как часто делают французские биологи, пренебрегал латынью и писал названия “с французским акцентом” — в данном случае Procaryotes и Eucaryotes. Сейчас правильным считается все-таки первый вариант — через k. Для любителей филологической точности можно добавить, что в исконно латинских словах буква k употребляется редко, зато она часто служит маркером проникающих в латынь греческих заимствований, что мы тут и видим.
В конце концов прокариоты и эукариоты получили ранг надцарств. В такой системе было одно царство прокариот (бактерии) и три царства эукариот — протисты, растения и животные. Стало считаться, что система живых организмов начинается именно с деления всего живого на прокариот и эукариот, а все остальные таксоны — всего лишь более мелкие подразделения внутри этих двух гигантских групп.
Тут нужна поправка: речь идет о системе всего живого, кроме вирусов. И прокариоты, и эукариоты состоят из клеток, а вот вирусы — нет. Поэтому в 1965 году зоолог Николай Николаевич Воронцов предложил ввести таксономический ранг империи, более высокий, чем ранг надцарства. В империю доклеточных (Non-Сellulata) входят только вирусы, а империя клеточных (Cellulata) делится на надцарства прокариот и эукариот. Это предложение, хотя и не прошло незамеченным, всеобщей поддержки не получило: большинство биологов в те времена еще сомневались, стоит ли вообще относить вирусы к живым организмам. В 2008 году, когда о вирусах стало известно неизмеримо больше, чем в 1960-е годы, близкую идею высказали французские вирусологи Дидье Рауль и Патрик Фортерр (см. главу 12). Они предложили разделить все живые организмы на рибосомокодирующие и капсид-кодирующие. Здесь и далее мы будем обсуждать исключительно систему рибосомокодирующих организмов, состоящих из клеток. Увы, для вирусов построить единое эволюционное древо просто невозможно — в первую очередь потому, что нет ни одного гена, который был бы общим абсолютно для всех вирусов и который можно было бы считать унаследованным от их общего предка (мы обсуждали это в главе 12). У клеточных организмов такие универсальные гены есть, и их немало.
Широкую известность в тех же 1960-х годах получили идеи американского эколога Роберта Уиттэкера, который заново пересмотрел всеобщую систематику, учитывая последние на тот момент научные достижения[240]. Уиттэкер наконец-то выделил в самостоятельное царство грибы, поэтому царств стало пять: животные, растения, грибы, протисты и бактерии (см. рис. 14.1).
Главной проблемой такой пятицарственной системы оказались границы царства протистов (или протоктистов). Оно было чрезмерно разнородным, и ничего поделать с этим не удавалось никакими силами: решив одну проблему, систематики тем самым тут же создавали другую. Если остальные три царства эукариот хоть как-то соответствовали эволюционным ветвям, то царство протистов охватывало целый эволюционный уровень, в котором ветвей было множество. Фактически это царство было образовано методом исключения: в него заносили всех эукариот, которые не приобрели полноценной многоклеточности, а часто и некоторых многоклеточных с ними за компанию. В итоге реальный статус царства протистов резко отличался от статуса царств растений, животных и грибов. Это бросалось в глаза и не могло не создавать впечатления, что такая система внутренне нелогична.
В 1970-х многие биологи, в том числе и авторы университетских учебников, предпочли вообще ликвидировать царство протистов, сочтя его слишком сборным. Таким образом, царств опять стало четыре — бактерии, растения, животные и грибы. Последние три царства, по идее, должны были включить в себя всех одноклеточных родственников соответствующих организмов. В реальности такой подход привел к чудовищной путанице, которая продлилась до начала XXI века, а кое-где (например, в школьных программах) продолжается и по сей день. Сплошь и рядом на биологических факультетах одни и те же группы одноклеточных существ фигурировали и в курсах ботаники, и в курсах зоологии, причем в совершенно разном статусе. В результате студентам приходилось одновременно учить две противоречащие друг другу системы — зоологическую и ботаническую. Неудивительно, что в глазах большинства биологов это начисто обесценивало систематику как научную дисциплину. Ее стали рассматривать или как второстепенную и прикладную область знания (этакое составление инвентарной описи), или как чистейшую “игру в бисер”, слабо связанную с реальным миром. Бесконечные перестановки одних и тех же групп никого не вдохновляли. В общем, в систематике явно наступил кризис.
Ветви и домены
Кризис систематики был преодолен ценой ее почти полного поглощения другой биологической наукой — филогенетикой. Если систематика может (по крайней мере, в принципе) пользоваться любыми, сколь угодно разнообразными и необычными способами классификации живых организмов, то филогенетика изучает их родство, и только родство. Попросту говоря, филогенетика — это наука о том, кто от кого произошел.
До того как биологи признали эволюцию, фактор родства между организмами при построении систем не учитывался. Вернее, учитывался, но лишь в скрытой форме; то, что сходство организмов может отражать их самые настоящие родственные отношения, в додарвиновскую эпоху признавали очень немногие. Эта идея, для нас совершенно очевидная, тогда казалась слишком смелой и (как это ни странно) слишком упрощенной. Что касается естественных и искусственных систем, то о них стали рассуждать еще во времена Карла Линнея, но вот содержание этих понятий за прошедшие без малого 300 лет сильно поменялось. В XVIII веке естественной начали было считать систему, построенную по как можно большему числу признаков. Иногда оговаривалось, что признаки должны быть “существенными”, но определить, что это такое, толком никто не мог. А в XIX веке возникла идея, что естественная группа организмов — это родственная группа. Именно этому подходу следовал знаменитый немец Эрнст Геккель, когда создавал свою систему из трех царств. Слово “филогенетика” придумал тоже он, и не случайно. Геккель был твердо убежден, что естественная система живых организмов — это система, описывающая ход эволюции.
В XIX веке этой геккелевской идеи было достаточно для продуктивной работы, но в XX веке она стала нуждаться в уточнениях. Поэтому в середине XX века немецкий биолог Вилли Хенниг создал новое научное направление, которое назвал филогенетической систематикой[241]. Современную версию хенниговской филогенетической систематики чаще всего называют кладистикой — от слова “клада”, придуманного на основе греческого корня и обозначающего эволюционную ветвь.
Главное требование филогенетической систематики состоит в том, что соответствие между эволюционным древом и иерархической системой организмов должно быть взаимно-однозначным. Иначе говоря, при правильно выбранном методе для данного эволюционного древа должно быть возможно построить только одну систему. Любой произвол в этом деле исключается.
Чтобы это требование выполнялось, Хеннигу пришлось ввести строгое правило: любая систематическая группа должна включать в себя только одну эволюционную ветвь, причем обязательно целиком. Последняя оговорка, на неискушенный взгляд малозаметная, на самом деле тут важнее всего. Из нее следует, что граница любого таксона может пересекать эволюционное древо только один раз — на “входе” в этот таксон[242]. Вот в этом и состоит главный принцип хенниговской системы (см. рис. 14.2).
Нетрудно видеть, что царство протистов совершенно не соответствует этому условию. Растения, животные и грибы, без сомнения, произошли от разных одноклеточных эукариот. А все одноклеточные эукариоты по определению относятся к протистам. Получается, что граница царства протистов пересекает эволюционное древо как минимум четырежды: первый раз при происхождении протистов от прокариот и еще три раза — при происхождении животных, растений и грибов от протистов. Это типичный, прямо-таки образцовый пример таксона, запрещенного филогенетической систематикой.
А если попытаться классифицировать эукариот так, чтобы граница каждого царства пересекала эволюционное древо только один раз? Тогда система совершенно неминуемо окажется многоцарственной. Это показал в 1974 году английский ботаник Гордон Лидейл. Он честно попытался построить систему эукариот таким образом, чтобы каждое царство действительно заключало в себе ровно одну эволюционную ветвь (согласно тогдашним представлениям о родстве, конечно). В результате получилась система из 18 эукариотных царств, причем 11 из них состояли только из “протистов”[243].
Современники в целом не приняли систему Лидейла всерьез, сочтя ее своего рода интеллектуальным чудачеством. А зря. Она была хотя бы внутренне последовательной. И главное, в 1970-х годах ничего более надежного все равно никто не предложил.
Как раз тогда, когда эти проблемы начали осознаваться, классическая система живой природы получила мощный удар с совершенно неожиданной стороны. Его нанесла молекулярная филогенетика — недавно (на тот момент) возникшая наука, изучающая родственные связи организмов путем прямого чтения аминокислотных последовательностей белков и нуклеотидных последовательностей генов.
Все началось с того, что американский микробиолог Карл Вёзе решил исследовать родственные отношения между разными группами прокариот. Для этого он нашел у разных бактерий (и заодно, для контроля, у нескольких представителей эукариот) один и тот же ген, кодирующий определенную молекулу, входящую в состав рибосом. Это была одна из молекул рибосомной РНК, сокращенно рРНК. Ее точное название — 16S рРНК у прокариот и 18S рРНК у эукариот (буква S тут обозначает некую константу, о которой нам сейчас достаточно знать, что она связана с размером молекулы). Рибосомы есть абсолютно во всех клетках. Их функции у разных организмов ничем не отличаются. И у холерного вибриона, и у крапивы, и у дрожжей, и у человека рибосомы делают только одно — синтезируют белки в точном соответствии с “инструкциями”, записанными на информационных РНК. Тогда логично предположить, что различия между разными организмами в “текстах” генов, обеспечивающих создание самих рибосом, могут быть только случайными. И чем больше этих случайных различий успело накопиться, тем дальше организмы друг от друга (иначе говоря, тем более давно жил их общий предок).
Результат исследования поразил Вёзе. Оказалось, что некоторая часть прокариот настолько сильно отличается от типичных бактерий, что никак не может входить в одно с ними царство. Так была открыта совершенно особая ветвь прокариотной жизни — архебактерии, которых вскоре стали называть просто археями (см. главы 5, 10).
У архей много абсолютно уникальных признаков. Например, мы уже знаем, что у бактерий (и у эукариот тоже) клеточные мембраны состоят из сложных эфиров, образованных L-изомером глицерофосфата, а у архей — из простых эфиров, образованных D-изомером глицерофосфата; есть там и другие химические отличия (см. главу 5). Эти типы мембран едва ли могли произойти один от другого. Значит, они возникли независимо. Какой была мембрана у общего предка бактерий и архей — загадка; маловероятно, что ее не было вообще, но она вполне могла быть, например, неорганической. Таким образом, открытие архей сразу же, просто в силу того, что эти существа стали известны, дает нам ценную информацию, проливающую свет на происхождение клеточной жизни. Это хороший пример того, как важен в биологии сравнительный метод.
Не менее поразителен был тот факт, что по ряду признаков археи оказались ближе к эукариотам, чем к бактериям. Например, архейные рибосомы больше похожи на эукариотные, чем на бактериальные. В архейных генах встречаются интроны — некодирующие вставки, характерные в основном для эукариот[244]. В то же время устройство клетки у архей типично прокариотное: ни ядра, ни митохондрий, ни других видимых под микроскопом структур, характерных для эукариот, там нет.
Обдумав все эти данные, Вёзе решил, что деление на прокариот и эукариот попросту устарело. На самом деле множество всех клеточных организмов распадается не на две, а на три главные группы: бактерии, археи и эукариоты[245]. Для этих групп Вёзе предложил новый таксономический ранг — домен (ниже империи, но выше царства). Таким образом, трехцарственную систему Геккеля через 100 лет сменила трехдоменная система Вёзе.
А как же теперь обстоит дело со старой классификацией, делившей клеточные организмы на прокариот и эукариот? А никак. Эти две группы не могут считаться равноправными: их статус совершенно различен. Эукариоты — действительно эволюционная ветвь, происходящая от одного-единственного предка (которым, скорее всего, была архея, вступившая в симбиоз с альфа-протеобактерией). И таксон “эукариоты” включает в себя эту ветвь целиком. Что же касается прокариот... но тут лучше начать с начала, чтобы было яснее.
Начнем с того, что все клеточные формы жизни имеют одного общего предка. Это следует в первую очередь из единства генетического кода, удивительное постоянство которого не спишешь ни на случайность, ни на параллельную эволюцию (она не могла повториться в разных ветвях настолько точно). А если у общего предка всех живых клеток был генетический код, значит, у него был и аппарат трансляции. И вообще он был достаточно сложным созданием. Этого общего предка сейчас принято называть LUCA — сокращение, которое чаще всего расшифровывается как last universal common ancestor (последний универсальный общий предок). Хотя, честно говоря, правильнее был бы вариант last universal cellular ancestor (последний универсальный клеточный предок), который предпочитает Патрик Фортерр. Так или иначе всех потомков “Луки” можно рассматривать как одну гигантскую эволюционную ветвь. В таком случае старая группа прокариот включает в себя лишь часть этой ветви: в нее входят все потомки “Луки”, в какую бы сторону ни пошла их эволюция, но почему-то за исключением одной специализированной веточки, которая называется эукариотами. Филогенетическая систематика категорически запрещает такие таксоны. Вывод: прокариоты — вообще не таксон, а название уровня организации, объединяющего всех тех потомков “Луки”, которые не приобрели уникального плана строения клетки, предусматривающего ядро и другие эукариотные признаки.
Ясно, что при этих условиях прокариоты никак не могут быть равноправны эукариотам. Недаром в системе Вёзе эукариотный домен называется не Eukaryota, а Eukarya. Такое название подчеркивает, что это не одна из двух равноценных групп, а нечто полностью уникальное.
Заодно эта история хорошо показывает, что научные истины никогда не стоит воспринимать как “высеченные в граните”. О том, что живые организмы делятся на прокариот и эукариот, в наше время слышали многие. Но какое место эта классификация реально занимает в истории науки? Давайте посмотрим. Термины “прокариоты” и “эукариоты” были придуманы Эдуардом Шаттоном, который употребил их в нескольких своих работах мимоходом — и все. Этих терминов тогда никто и не узнал, кроме людей, непосредственно общавшихся с Шаттоном; до самого начала 1960-х годов они встречаются в научных статьях очень редко. Кто же, наконец, провозгласил их на весь мир? Это сделали два известных микробиолога — Роджер Станье и Корнелиус ван Ниль. В 1962 году они выпустили обзорную статью под названием “Понятие бактерии”[246]. Вот эта статья получила широкую известность, и система, делящая организмы на прокариот и эукариот, стала общепринятой именно после нее. Но уже в 1977 году Карл Вёзе и его коллеги ясно показали, что реальная структура древа жизни этой системе не соответствует[247]. Таким образом “прокариотно-эукариотная” классификация на самом-то деле продержалась всего лишь 15 лет. До 1962 года о ней мало кто знал, а после 1977-го ее уже можно было с полным основанием объявить устаревшей. Иное дело, что инерция устаревших представлений сама по себе большая сила.
Надо добавить, что в домен архей входит не меньше пяти сильно различающихся групп, вполне заслуживающих ранга царств (эвриархеоты, кренархеоты, таумархеоты, корархеоты и другие, этот список сейчас продолжает пополняться). В домене бактерий подобных групп еще больше. Но выделение такого количества царств прокариот вызвало бы столько ненужной путаницы, что микробиологи предпочитают обходиться без него, переходя к безранговой номенклатуре. Дальше мы увидим, что и к царствам эукариот относится то же самое. В хенниговской филогенетической систематике ранги вообще не обязательны. Если они там сохраняются, то лишь по традиции и для удобства.
Асгард
Итак, есть три эволюционные ветви клеточных организмов — Archaea, Eukarya и Bacteria. Казалось бы, теперь картина ясна. Но, как это постоянно бывает в науке, полученные ответы сразу вызвали к жизни новые вопросы.
Эукариоты произошли от архей. Это твердо установленный факт (симбиотический компонент эукариотной клетки, происхождение которого однозначно бактериальное, мы сейчас временно не учитываем). Но что, собственно, значит “произошли от архей”? Насколько буквально это стоит понимать?
Одно дело, если эукариоты и археи — это две ветви, разошедшиеся от уникального для них общего предка. В этом случае их надо считать сестринскими группами, а вот предками или потомками друг друга называть, строго говоря, нельзя. И совсем другое дело, если эукариоты отпочковались от какой-то из групп архей уже после того, как древо самих архей разветвилось. Тогда эукариоты и вправду окажутся потомками архей в самом точном смысле этого слова. Но одновременно это будет означать, что эукариот надо считать не отдельным доменом, а группой внутри архей — так сказать, их подмножеством. По крайней мере этого в обязательном порядке потребует филогенетическая систематика. Иначе получится, что граница домена архей пересечет эволюционное древо дважды — при происхождении самих архей от “Луки” и при происхождении эукариот от архей; а такое, по современным понятиям, недопустимо (см. рис. 14.3).
Тем не менее именно эта вторая возможность сейчас и подтверждается. По мере развития генетических исследований становится все яснее, что эукариоты эволюционно ближе к одним археям, чем к другим. И в свою очередь, некоторые археи ближе к эукариотам, чем друг к другу: например, кренархеоты, судя по современным филогенетическим древесам, доводятся куда более близкими родственниками эукариотам, чем каким-нибудь эвриархеотам[248],[249]. Все это означает, что ветвь эукариот возникла довольно глубоко внутри архейного древа. Попросту говоря, эукариоты — это специализированная веточка архей. А в таком случае на смену трехдоменному древу жизни неизбежно должно прийти двудоменное[250].
Интересно, что система из трех доменов (бактерии, археи, эукариоты) в любом случае уже продержалась к настоящему моменту дольше, чем система из двух надцарств (прокариоты и эукариоты). Но похоже, что и она оказалась в развитии науки промежуточным этапом. Следующие шаги по обновлению системы уже предпринимаются.
В 2015 году в ходе глубоководных исследований Северного Ледовитого океана были открыты локиархеоты — археи, являющиеся ближайшими родственниками эукариот[251]. Локиархеоты оказались генетически ближе к эукариотам, чем к любым другим археям, известным на тот момент. Название они получили в честь Локи, скандинавского бога огня. У локиархеот есть белки, очень близкие к актину — белку, из которого у эукариот образуются микрофиламенты, важнейшие составные части цитоскелета (см. главу 10). Причем генов актиноподобных белков у них несколько штук. Значит, эволюция этих белков началась достаточно задолго до появления эукариот. Кроме того, у них есть белки, работа которых связана с изменением формы клеточной мембраны и с рециклизацией мембран — процессом, совершенно необходимым клеткам, которые транспортируют вещества в подвижных вакуолях (см. опять же главу 10). Все это означает, что клетка локиархеот имеет много общего с эукариотной.
В придачу к локиархеотам были вскоре открыты еще три группы родственных им архей. Они тоже получили названия в честь скандинавских богов: одинархеоты, торархеоты и хеймдалльархеоты. И наконец, все эти четыре группы вместе были закономерно названы асгардархеотами.
Как это ни удивительно, на момент написания этих строк асгардархеот еще никто никогда не видел своими глазами (вернее, под микроскопом). Но генетического материала от них найдено и прочитано уже столько, что характеристика этих существ выходит достаточно детальной. Например, у одинархеот есть тубулин — белок, из которого у эукариот состоят микротрубочки. И других белков, которые раньше считались уникальными для эукариот, в клетках асгардархеот хватает. При этом асгардархеоты однозначно более близкородственны эукариотам, чем любым другим археям. Иными словами, существует эволюционная ветвь, которая включает асгардархеот, эукариот и больше никого. Более того, похоже, что сами эукариоты — это всего лишь веточка глубоко внутри эволюционного “куста” асгардархеот; например, хеймдалльархеоты генетически гораздо ближе к эукариотам, чем к торархеотам или одинархеотам[252]. Как бы там ни было, эти данные очень здорово подкрепляют новую двудоменную систему жизни.
Ядерная интерлюдия
Сделаем отступление.
Открытие асгардархеот, бесспорно, величайшее достижение. Теперь мы знаем точный “адрес”, по которому на эволюционном древе можно найти нашего архейного предка. Значит ли это, что проблема происхождения эукариот решена?
Конечно, нет.
Проблема происхождения эукариот — одна из самых сложных и запутанных во всей эволюционной биологии. Мы уже обсуждали ее в главе 10, но довольно кратко (о некоторых гипотезах там вообще пришлось умолчать). Так что к этой теме не грех вернуться — хотя бы ненадолго.
Итак, чем, собственно, эукариотная клетка отличается от прокариотной? Во-первых, в ней есть сложная система внутренних мембран, образующая эндоплазматическую сеть и тесно связанное с ней ядро — ту самую структуру, которой эукариоты обязаны своим названием. Во-вторых, в ней есть митохондрии — или хотя бы их различимые на молекулярном уровне остатки[253]. В-третьих, в эукариотной клетке перемешаны компоненты, имеющие совершенно разное происхождение — как бактериальное, так и архейное. Любой состоятельный сценарий происхождения эукариот должен объяснить эти три особенности их клеток. Причем желательно все разом — так, чтобы не приходилось вводить дополнительные предположения ad hoc (“для данного случая”).
Собственно говоря, объяснить перечисленные признаки по отдельности было бы гораздо проще. Приобретение митохондрий легко объясняется симбиозом: предок эукариот когда-то “проглотил” бактерию, ставшую предком митохондрий, и оставил ее внутри себя жить. Обилие в эукариотной клетке бактериальных генов и белков столь же легко объясняется горизонтальным переносом генов: предок эукариот жил в каком-то сложном бактериальном сообществе, вот и нахватался генов от соседей. Ну а ядро вполне могло возникнуть из впячивания плазматической мембраны, которое удачно отшнуровалось и замкнулось. Судя по всему, нечто похожее произошло в одной интересной группе грамотрицательных бактерий, которая называется планктомицетами[254]. У них есть довольно сложная система внутренних мембран, окружающая ту область цитоплазмы, где находится ДНК, и у некоторых родов это выглядит почти как клеточное ядро[255]. Вероятно, все внутренние мембраны планктомицетов развились из впячиваний их плазматической мембраны (точнее внутренней из двух мембран, свойственных грамотрицательным бактериям)[256]. Самое же любопытное, что планктомицеты — вовсе не родственники эукариот и возникновение аналога ядра наверняка произошло у них совершенно независимо. Но это как раз и убеждает, что такие события в принципе возможны.
Сейчас, однако, нам нужно несколько другое. Нам нужен эволюционный сценарий, который удовлетворительно объяснял бы все главные особенности эукариот — и ядро, и митохондрии, и генетическую “химерность”. Есть ли такой сценарий в нашем распоряжении?
Серьезные попытки его создать, безусловно, налицо. Ближе всего к идеалу сейчас, видимо, подошли знакомые нам из главы 10 гипотезы Евгения Кунина и двоюродных братьев Баумов[257],[258]. Эти гипотезы отличаются друг от друга, но так или иначе обе они утверждают примерно следующее. Предком эукариот была некая архея, которая обзавелась наружным симбионтом в виде альфа-протеобактерии. Со временем альфа-протеобактерия оказалась окружена выростами архейной клетки, и наружный симбиоз превратился во внутренний. Одновременно с этим (и, вероятно, вследствие этого) возникло ядро. В этом месте гипотезы расходятся. Кунин полагает, что ядро образовалось из слившихся внутри клетки мембранных пузырьков, а Баумы высказали и вовсе парадоксальную идею: ядро эукариот соответствует “телу” архейной клетки, а цитоплазма — ее разросшимся выростам, которые охватили альфа-протеобактерий и слились друг с другом (см. ранее рис. 10.9). В любом случае изоляция архейного генома в ядре оказалась в итоге полезна, чтобы защитить его от чрезмерно активного проникновения генетического материала бактерий-симбионтов. Но такое проникновение все равно на первых порах происходило, и генетическая “химерность” эукариотной клетки объясняется именно этим.
Что ж, авторы этих гипотез сложили пазл почти до конца. Но все-таки лишь “почти” — потому что есть, например, еще такой бросающийся в глаза факт, как различие архейных и бактериальных клеточных мембран. Липиды, из которых состоят эти мембраны, могут создаваться на основе право- или левовращающего изомера глицерофосфата. Архейные мембраны состоят из “правозакрученных” липидов. Бактериальные — из “левозакрученных”. Разница между ними вполне фундаментальна. А теперь спросим себя: почему же в эукариотной клетке все мембраны (и плазматическая, и ядерная, и вакуолярные) относятся к бактериальному типу? Это парадоксальный факт, на первый взгляд вовсе не следующий ни из гипотезы Кунина, ни из гипотезы Баумов. Исходя из этих гипотез, можно было бы скорее ожидать обратного: ведь это архея охватила и поглотила бактерию, а не наоборот. Конечно, объяснить наблюдаемые факты при желании все равно легче легкого: мы же знаем, что большинство генов “домашнего хозяйства” (обеспечивающих всевозможные процессы обмена веществ) в эукариотных геномах имеет бактериальное, а не архейное происхождение; вот продукты этих генов и взяли на себя синтез компонентов мембран, а поскольку “правозакрученные” и “левозакрученные” молекулы в одной мембране лишь ограниченно совместимы, то архейные мембранные липиды в конце концов были полностью вытеснены бактериальными. И все бы хорошо — если не считать, что тут перед нами типичное объяснение ad hoc, не вытекающее само по себе из основной гипотезы, а добавленное специально, чтобы охватить не уложившиеся в нее факты. Хотя само по себе это и не значит, что оно неверно.
Тут нам будет полезно вспомнить историю науки. В старинной астрономии почетное место занимало понятие “спасения явлений” (во многом определявшее всю ее методологию). “Спасти” тот или иной факт значило привести его в согласие с единой теорией, которая, в свою очередь, должна была согласоваться со всеми остальными наблюдаемыми фактами. Иногда эта операция оказывалась очень непростой. Например, докоперниковская астрономия вынуждена была создать ради нее представление о движении планеты по эпициклу — маленькой окружности, центром которой является точка, движущаяся по большой орбите. Астрономический эпицикл стал настоящим символом вспомогательной гипотезы, ниоткуда не вытекающей и нужной лишь затем, чтобы свести концы с концами (то, что мы выше назвали “ad hoc”). В конце концов борьба за наилучшее “спасение явлений” привела к тому, что геоцентрическая система сменилась на гелиоцентрическую, позволившую от эпициклов отказаться. Что ж, европейская наука всегда, еще со времен Пифагора и Платона, руководствовалась идеей, что рациональное объяснение мира должно быть по возможности единым. На то она и европейская.
А не можем ли мы и в вопросе происхождения эукариот, образно говоря, поменять местами Землю и Солнце? Хотя бы из чисто хулиганских побуждений, чтобы посмотреть, что из этого получится. До сих пор мы исходили из идеи, что на заре эволюции эукариот бактерия (вероятно, альфа-протеобактерия) была захвачена и поглощена какой-то археей. А что, если наоборот: архея была захвачена и поглощена какой-то бактерией?
Обратившись к литературе, мы сразу увидим, что это отнюдь не фантазия на пустом месте. В последнее десятилетие XX века подобные гипотезы были удивительно популярны, да и сейчас у них есть осторожные сторонники[259] [260] [261] [262] [263] [264] [265]. Существует целое семейство гипотез, согласно которым клеточное ядро имеет симбиотическое происхождение — от археи, встроившейся в клетку более крупной бактерии и окруженной ее сомкнутыми выростами.
Образцом такой гипотезы можно считать эволюционный сценарий, который опубликовали в 1996 году Радхей Гупта и помогавший ему Брайан Голдинг; у этих авторов есть полная аргументация и нет ничего лишнего[266]. Гупта и Голдинг изучали эволюцию белков, сравнивая их аминокислотные последовательности. И они пришли к выводу, который в основном подтверждается и сегодня: примерно половина эукариотных белков восходит к археям, а другая половина — к грамотрицательным бактериям. Причем это соотношение настолько близко к равному, что классическая теория (согласно которой архейный предок эукариот всего лишь захватил бактериального симбионта как некий “предмет роскоши”) становится неубедительной.
Кроме того, это соотношение трудно объяснить простым горизонтальным переносом генов (даже при том, что интенсивность этого процесса могла быть в древние времена намного выше, чем сейчас). Такой перенос шел бы более-менее равномерно между всеми участниками сообщества. И если бы дело было только в нем, то предок эукариот “нахватался” бы генов от самых разных соседей-бактерий — и грамположительных, и грамотрицательных. Между тем Гупта и Голдинг обнаружили, что у эукариот очень много белков и генов, каким-то образом унаследованных от грамотрицательных бактерий, а вот от грамположительных не нашлось на тот момент ни одного. Конечно, эта избирательность не случайна, вопрос только в ее источнике.
В общем, состав эукариотного генома дает все основания полагать, что при возникновении эукариот клетки археи и грамотрицательной бактерии просто слились (см. рис. 14.4). Получилась единая клетка, сначала унаследовавшая геномы обоих “родителей” — Гупта и Голдинг прямо так их и называют. Но, поскольку два полнофункциональных генома клетке были не нужны, часть каждого из них исчезла, а между оставшимися частями произошло разделение функций. От архейного генома в эукариотной клетке остались в основном “информационные” гены, обеспечивающие работу самого генетического аппарата. А от бактериального генома — в основном “операционные” гены, обеспечивающие обмен веществ. Тогда будет вполне разумно предположить, что в химерной структуре (каковой эукариотная клетка в любом случае несомненно является) от археи произошло ядро, а от бактерии — цитоплазма вместе с наружной мембраной. И получается, что это именно архея проникла внутрь бактерии. Вероятно, сначала она жила во впячивании наружной мембраны бактерии — этаком “заливе”. Потом глубокие складки мембраны бактерии, со всех сторон охватившие архею, сомкнулись друг с другом, образовав внутреннюю мембранную систему — ядро и эндоплазматическую сеть. После этого плазматическая мембрана самой археи стала лишней и исчезла. Фактически от археи остался голый генетический аппарат, заключенный внутри системы бактериальных мембран. Ну а гены самой бактерии, сначала находившиеся снаружи от ядра, постепенно мигрировали в него (молекулярные механизмы, делающие возможной такую миграцию, известны). И получилась нормальная эукариотная клетка.
Интересно, что в гипотезе Гупты (назовем ее так для краткости, хотя ее поддерживали и другие ученые) есть кое-что общее с уже знакомой нам гипотезой Баумов. И там и там получается, что остаток исходной архейной клетки находится в основном в эукариотном ядре. Хотя приводящие к этому выводу сценарии прямо-таки полярно противоположны. Гипотеза Баумов, при всем ее бесспорном изяществе, по части состава мембран (архейные vs. бактериальные) дает предсказания, строго обратные тому, что наблюдается в действительности, и выйти из этого положения она может только путем добавления “эпициклов”.
Пурификасьон Лопес-Гарсия и Давид Морейра справедливо замечают, что загадочное превращение архейных мембран в бактериальные остается настоящей ахиллесовой пятой традиционных симбиотических гипотез, согласно которым цитоплазма эукариотной клетки имеет архейное происхождение[267]. А вот если допустить, что происхождение цитоплазмы — бактериальное, то проблема мембран тут же снимается и существующая картина получает простое объяснение.
Слабые места у этой гипотезы тоже есть — куда ж без них. Прежде всего, она никак не объясняет происхождения митохондрий (которые как-никак тоже потомки грамотрицательных бактерий и заведомо являются источником значительной части генов, полученных эукариотами из этой эволюционной ветви). С учетом гипотезы Гупты выходит, что симбионтов, без которых немыслим эукариотный организм, было не два, а три. Сначала клетка археи слилась с клеткой какой-то неведомой грамотрицательной бактерии, а потом образовавшийся гибридный монстр вобрал в себя еще и предка митохондрии.
Может показаться, что такой сложный сценарий, включающий дополнительных участников, нарушает принцип экономии мышления (согласно которому критерий истины состоит в достижении максимума знаний с помощью минимума познавательных средств). Само по себе это не страшно: механизм такого уникального эволюционного события, как возникновение эукариот, не мог быть простым. Хуже другое. Древнейший бактериальный хозяин симбиотической археи (если он существовал) до сих пор неизвестен. На эту тему были кое-какие предположения, но проверить их оказалось очень трудно. Чтобы защитить гипотезу Гупты, приходится допустить, что древнейший бактериальный предок в процессе интеграции в эукариотную клетку изменился до неузнаваемости — в отличие от митохондрий, которые вступили в симбиоз позже и сохранили свой исходный тип обмена веществ[268]. Это, конечно, возможно, но вот тут позиция сторонников гипотезы Гупты становится довольно слабой. Судя по данным современной геномики, ни одна другая группа бактерий не дала такого серьезного вклада в геном эукариот, как альфа-протеобактерии (хотя мелких заимствований от самых разных групп там полным-полно). Между тем альфа-протеобактерии — это и есть та самая группа, в которую входят предки митохондрий. А вот поиск какого-нибудь еще бактериального предка эукариот зашел в тупик. Например, гены дельта-протеобактерий (которых Лопес-Гарсия и Морейра одно время считали теми самыми “древнейшими бактериальными предками”) в эукариотных геномах встречаются, но в количестве, ничем не выделяющемся на фоне многих других источников генетического материала. Если дельта-протеобактерии когда-то и сыграли некую особую роль, то последующая эволюция стерла генетические свидетельства этого.
Конечно, можно предположить, что альфа-протеобактериальных симбионтов было два: древний (предок цитоплазмы) и поздний (предок митохондрии). Но такая гипотеза явно не соответствует критерию “экономичности”, и, чтобы она была принята, потребуются очень сильные свидетельства, которых пока нет. (Тем не менее кое-что на эту тему обсуждается в главе 10.)
На другие козырные аргументы теории Гупты сторонникам теории Баумов тоже есть что ответить. Во-первых, сейчас выяснилось, что не все бактерии, передавшие эукариотам свои гены, были грамотрицательными. Например, гены, кодирующие ферменты гликолиза, эукариоты получили не от грамотрицательных бактерий, а от грамположительных[269] [270]. Правда, от грамотрицательных бактерий взято больше, но это может объясняться просто преобладанием грамотрицательных бактерий в тех природных сообществах, где эукариоты возникли. Кроме того, в последнее время появились свидетельства, что и обычные археи, до всякого происхождения эукариот, уже довольно активно заимствовали гены от бактерий[271]. Выводы отсюда пока неясны, но в любом случае эти факты дополнительно усложняют картину.
Во-вторых, “правозакрученные” и “левозакрученные” молекулы липидов не столь уж несовместимы в одной мембране: оказывается, можно подобрать условия, при которых смешанная мембрана будет вполне стабильна, и это в принципе позволяет допустить, что именно такая мембрана и была у первых эукариот[272]. Тогда замена компонентов мембран по ходу эволюции могла быть и постепенной.
Наконец, еще одно замечание касается стройной схемы, согласно которой архейные гены (информационные) управляют генетическим аппаратом, а бактериальные (операционные) — обменом веществ в цитоплазме. Из этой схемы есть одно важное исключение: цитоскелет. Белки цитоскелета — типично “операционные”, характерные не для ядра, а для цитоплазмы, но уж они-то абсолютно точно унаследованы эукариотами от архей. Тут налицо, если воспользоваться термином из наук о Земле, несогласие, уже давно озадачивавшее исследователей[273]. Конечно, объяснить его так или иначе при желании нетрудно: гены белков цитоскелета могли сохраниться при любом слиянии клеток просто потому, что к тому моменту они были “ноу-хау” архей, полезным на все случаи жизни и не имевшим никаких бактериальных аналогов. Но во всяком случае это еще раз показывает, с какой сложной проблемой мы имеем дело. Остается дождаться, пока исследователи извлекут из морских бездн или еще откуда-нибудь живых асгардархеот: тогда, скорее всего, что-нибудь да прояснится.
“Обозначились смутные контуры”
А теперь вернемся к системе самих эукариот. В последней трети XX века в этой области науки тоже начались интересные события.
Прежде всего, 1970-е стали эпохой переоценки признаков, по которым эукариоты обычно классифицируются. С одной стороны, окончательно выяснилось, что выделять крупные группы эукариот по способу питания, равно как и по составу клеточных стенок или по типу запасных веществ, — дело безнадежное: эти признаки слишком легко меняются в ходе эволюции. С другой же стороны, новым источником данных о строении клеток стала электронная микроскопия. Она позволяет изучать такие структурные детали, которые ни в один световой микроскоп просто не видно. Например, оказалось, что хлоропласты — части клеток, где происходит фотосинтез, — у одних эукариот окружены двумя мембранами, а у других почему-то тремя или даже четырьмя. Не менее интересной оказалась структура митохондрий. Как известно, любая митохондрия имеет две мембраны — наружную и внутреннюю, причем ключевые биохимические процессы, ради которых митохондрия, собственно, и нужна, связаны с ее внутренней мембраной (см. главу 11). Неудивительно, что поверхность этой мембраны увеличивается за счет складок, которые принято называть кристами. Так вот, электронная микроскопия показала, что кристы митохондрий могут иметь разную форму. Они могут быть пластинчатыми, а могут быть трубчатыми. Есть и другие варианты формы крист (например, дисковидные и мешковидные), но они встречаются реже. У большинства эукариот кристы или пластинчатые, или трубчатые. Самое же интересное, что форма крист, судя по всему, обычно очень медленно меняется в эволюции и остается устойчивой внутри крупных групп эукариот. А значит, она может быть хорошим признаком для различения этих групп. Почему бы не попробовать?
Забегая вперед, надо сказать, что сейчас форму крист митохондрий уже не помещают в основу системы хотя бы потому, что некоторая изменчивость внутри групп по этому признаку все же есть. И тем не менее ряд важных вещей по кристам митохондрий понять можно. Чем больше накапливалось данных на эту тему, тем яснее становилось, что все эукариоты распадаются как минимум на две большие группы, связанные только через общий корень[274]. Причем линия раздела между этими группами пролегла довольно неожиданным образом: из классической зоологии и ботаники подобное никак не следовало.
В 1986 году петербургский зоолог Ярослав Игоревич Старобогатов придал этим представлениям максимально четкую форму. Он отважился разделить всех эукариот на таксоны Lamellicristata (с пластинчатыми кристами) и Tubulicristata (с трубчатыми кристами), которые получили ранг надцарств (см. рис. 14.5). Предполагалось, что это два главных эукариотных эволюционных ствола. В группу Lamellicristata вошли зеленые водоросли, высшие растения, эвгленовые жгутиконосцы, воротничковые жгутиконосцы, многоклеточные животные. В группу Tubulicristata — бурые, золотистые и желтозеленые водоросли, инфузории, фораминиферы, радиолярии. В обеих группах были и одноклеточные, и многоклеточные, и автотрофные, и гетеротрофные представители. Теперь они делились не по этим признакам, а исключительно по предполагаемому родству. Так стали прорисовываться контуры совершенно новой системы организмов, резко отличающейся от геккелевской.
На самом деле в системе Старобогатова было еще и третье надцарство — Akonta (безжгутиковые). В него вошли эукариоты с пластинчатыми кристами митохондрий, на всех стадиях жизненного цикла полностью лишенные жгутиков: красные водоросли и типичные грибы. Это объединение не поддерживается никакими новыми данными, так что обсуждать его нет смысла. Старобогатов был бы гораздо более прав, если бы включил красные водоросли и грибы в группу Lamellicristata. Увы, даже гениальные ученые (а Старобогатов явно был отмечен проблеском гениальности) почти никогда не угадывают правильно все сразу.
В любом случае система Старобогатова (причем именно та ее часть, которая успешно выдержала проверку временем) ведет к одному серьезному выводу, который легко будет понять всякому, кто хоть немного помнит обычный школьный учебник зоологии. Первая часть этого учебника знакомит читателя с такими чудесными созданиями, как обыкновенная амеба, инфузория-туфелька и малярийный плазмодий, иногда дополняя рассказ о них упоминаниями всевозможных сувоек, раковинных амеб, фораминифер и радиолярий. Так вот, все только что названные существа имеют митохондрии с трубчатыми кристами. А это уже само по себе означает, что они относятся к совсем иным эволюционным ветвям, чем многоклеточные животные. Инфузория-туфелька, активно плавающий поедатель бактерий, действительно похожа на животных образом жизни, но эволюционно она к ним ничуть не ближе, чем, например, какое-нибудь зеленое растение. Называть таких существ “одноклеточными животными” попросту неправильно.
Вновь забегая вперед, добавим, что понятие “одноклеточные животные” вообще вышло из употребления, причем уже довольно давно. Поэтому с этого момента мы будем считать, что “многоклеточные животные” и просто “животные” — строгие синонимы. Никаких животных, кроме многоклеточных, просто нет на свете.
Ради справедливости укажем, что есть и такие одноклеточные представители “фауны школьного учебника”, у которых кристы дисковидные (или дисковидные в сочетании с трубчатыми). Это некоторые жгутиконосцы: фотосинтезирующая эвглена, хищный бодо и вызывающая сонную болезнь трипаносома. От многоклеточных животных (у которых кристы, напомним, пластинчатые) эти существа так же далеки, как и инфузории.
В то же время есть как минимум две относительно большие эволюционные ветви эукариот, которые действительно родственны многоклеточным животным. Это всем известные грибы и не столь знаменитые, но зато еще более близкие к животным воротничковые жгутиконосцы. И те и другие имеют пластинчатые кристы митохондрий и гетеротрофный обмен веществ. Надо заметить, что это достаточно “сильное” сочетание признаков, которое встречается лишь у немногих эукариот (по крайней мере, если учитывать крупные ветви, а не количество видов). Однако во всем остальном грибы и воротничковые жгутиконосцы мало похожи друг на друга.
Грибы — это преимущественно наземные организмы, специализирующиеся на осмотрофном питании (см. главу 10). Попросту говоря, “осмотрофы” значит “всасывальщики”. Тело типичного гриба представляет собой систему очень тонких — толщиной в одну клетку — нитей с огромной суммарной поверхностью, сквозь которую всасываются питательные вещества. В просторечии эта система нитей называется грибницей. Нити грибницы одеты хитиносодержащей клеточной стенкой, которая придает им прочность, но затрудняет любое активное изменение формы клеток (см. главу 5). Фагоцитоза у грибов нет. У большинства из них нет и жгутиков, причем ни на каких стадиях жизненного цикла (в отличие от многоклеточных животных, у которых очень часто бывают жгутиковые сперматозоиды).
Воротничковые жгутиконосцы — это водные существа, одноклеточные или образующие колонии (см. рис. 14.6). Клетка воротничкового жгутиконосца имеет один жгутик, окруженный характерным “воротничком” — кольцевым выростом, облегчающим ловлю пищевых объектов. Под электронным микроскопом видно, что этот “воротничок” на самом деле состоит из множества длинных тонких выростов клетки, укрепленных проходящими внутри микрофиламентами и как бы склеенных вместе при помощи специальных белков. Эти тонкие выросты называются микроворсинками. Воротничковые жгутиконосцы подвижны. Они могут плавать, а могут и вести прикрепленный образ жизни, но в этом случае они постоянно работают жгутиком, подгоняя к себе воду вместе со взвешенными в ней пищевыми частицами. Питаются они путем фагоцитоза, поглощая эти частицы. По-научному такое питание называют фаготрофным, противопоставляя его осмотрофному.
Воротничковых жгутиконосцев открыли в XIX веке. И тут же было замечено, что клетки, очень похожие на них, входят в состав тел некоторых многоклеточных животных, а именно губок[275]. Это, конечно, не случайность. Современные генетические данные надежно подтверждают сделанный еще полтора века назад вывод: воротничковые жгутиконосцы — самые близкие современные родственники многоклеточных животных. Получается, что это едва ли не единственные “одноклеточные животные”, для которых такое название могло бы иметь хоть какой-то реальный смысл. Но при этом они-то как раз в школьный учебник зоологии и не попали.
Вклад Кавалье-Смита
В 1981 году английский протистолог Томас Кавалье-Смит предложил версию системы эукариот, в которой фигурировали шесть царств[276].
Царство Fungi. Грибы. Организмы с осмотрофным питанием, пластинчатыми кристами, хитиновой клеточной стенкой, лишенные каких бы то ни было жгутиковых стадий (за исключением самых примитивных форм, выделяемых в особое подцарство).
В остальных пяти царствах жгутиковые клетки сохраняются — если и не у всех представителей, то у многих.
Царство Animalia. Животные. Организмы с фаготрофным питанием, пластинчатыми кристами и активной подвижностью. В это царство входят многоклеточные животные и воротничковые жгутиконосцы.
Царство Plantae. Растения. Фотосинтезирующие организмы с пластинчатыми кристами. Хлоропласты окружены двумя мембранами. Фагоцитоз отсутствует. Одноклеточные, колониальные или многоклеточные формы. В это царство входят красные водоросли, зеленые водоросли, высшие растения.
Царство Chromista. Оно было впервые выделено самим Кавалье-Смитом в этой самой работе. Фотосинтезирующие организмы с трубчатыми кристами (за исключением одной группы одноклеточных). Хлоропласты окружены тремя или четырьмя мембранами. У многих представителей есть фагоцитоз. Одноклеточные, колониальные или многоклеточные формы. В это царство входят бурые, золотистые и желтозеленые водоросли, а также несколько довольно разнообразных групп одноклеточных жгутиконосцев.
Царство Protozoa. Одноклеточные гетеротрофные или (реже) миксотрофные организмы с трубчатыми кристами. Питаются путем фагоцитоза. Передвигаются с помощью жгутиков, ресничек или ложноножек. К этому царству относятся инфузории, амебы, радиолярии, фораминиферы, солнечники, споровики и несколько групп жгутиконосцев. Это и есть “одноклеточные животные” в том (устаревшем) значении, которое раньше встречалось в учебниках.
Царство Euglenozoa. Эвгленовые жгутиконосцы. Одноклеточные формы, плавающие с помощью жгутиков. Некоторые строго гетеротрофны (например, трипаносома и бодо), некоторые способны к фотосинтезу и являются типичными миксотрофами (например, эвглена), а некоторые даже строго автотрофны (например, колациум и трахеломонас). Хлоропласты, если они есть, окружены тремя мембранами. Кристы митохондрий не пластинчатые и не трубчатые, а дисковидные. Относительно немногочисленное царство, состоящее из одних жгутиконосцев, но достаточно сильно обособленное, чтобы его не следовало ни с кем объединять.
Что здесь можно увидеть? Во-первых, как мы сейчас понимаем, эта система не свободна от ошибок (например, некоторых паразитических жгутиконосцев, вошедших в царство “протозоев”, на самом деле правильнее было бы сблизить с “эвгленозоями”). Еще бы — в 1981-м! Скорее стоит удивиться, что серьезных ошибок там не так уж и много. Кроме того, к чести Томаса Кавалье-Смита, надо сказать, что он никогда не отстаивал свои гипотезы любой ценой. Он вполне сознательно рассматривает их как ряд последовательных приближений, описывающих эволюцию все более и более точно, но ни в коем случае не окончательных. Поэтому он всегда легко пересматривал свои предположения, включая в них новые факты, а иногда и сразу формулировал их так, чтобы облегчить последующий пересмотр. Характерно, что в статье 1981 года (а это одна из десятков его работ на подобные темы) Кавалье-Смит на самом-то деле предложил сразу несколько возможных вариантов системы эукариот, с числом царств от пяти до девяти. Например, в отношении красных и зеленых водорослей он тогда колебался — относятся ли они к одному царству или к разным. Поскольку эта книга — все же не труд по истории науки, то во всех подобных случаях тут выбраны версии, наиболее соответствующие тем гипотезам, которые потом подтвердились.
Второе, что бросается в глаза: Кавалье-Смит сохраняет невероятно архаичный таксон Protozoa (предложенный, как мы помним, еще в середине XIX века. Карлом Зибольдом), но при этом радикальным образом меняет его состав и значение. Он исключает из этого таксона всех родственников животных, зато оставляет в нем существ с трубчатыми кристами митохондрий, которые не имеют к животным ни малейшего отношения. В таких случаях для таксонов обычно придумывают новые названия, но Кавалье-Смит, всегда склонный к парадоксам, делать этого не стал.
Кроме того, в той же статье 1981 года Кавалье-Смит высказал два важных предположения:
1 Возможно, царства Fungi и Animalia образуют единую эволюционную ветвь. Во-первых, между ними есть некоторое биохимическое сходство: например, и у грибов, и у животных широко распространен хитин. Во-вторых, самостоятельно плавающие жгутиковые клетки грибов (“низших”, у которых жгутики сохраняются), воротничковых жгутиконосцев и многоклеточных животных имеют один жгутик, направленный назад. У других эукариот такое состояние не встречается.
2 Возможно, единую эволюционную ветвь образуют также царства Chromista и Protozoa. Во всяком случае, только в этих двух группах распространено сочетание трубчатых крист митохондрий со способностью питаться путем фагоцитоза.
3 Рассмотренная система Кавалье-Смита — не слишком обобщенная (как система Уиттэкера, где почти все царства на поверку оказались сборными), но и не слишком дробная (как система Лидейла, где статус царства придается каждой крупной ветви). Самое же главное, что эта система абсолютно последовательно строится по родству, или, во всяком случае, по достаточно хорошо обоснованным гипотезам о родстве. Теперь контуры истинного эволюционного древа эукариот стали наконец видны, пусть пока еще и смутно.
В 1987 году произошло историческое событие: Кавалье-Смит формально выделил эволюционную ветвь, в которую входят воротничковые жгутиконосцы, многоклеточные животные и грибы[277]. Эта группа получила название Opisthokonta (заднежгутиковые). Чтобы понять смысл этого названия, еще раз вспомним, что очень многие эукариотные клетки имеют жгутик — нитевидный вырост, в котором проходит пучок микротрубочек, обычно организованных по схеме 9+2 (девять сдвоенных микротрубочек по краю и две одиночные в центре). Работа жгутика обеспечивает движение клетки в воде. Если жгутиков очень много и они бьются согласованными волнами, то их называют ресничками. Эти структуры уникальны для эукариот. Жгутики бактерий не имеют с эукариотными жгутиками ничего общего, кроме названия. А тех эукариот, у которых жгутик служит основным средством движения, принято называть жгутиконосцами — это слово мы уже не раз встречали (см. рис. 14.7).
Жгутик, вызывающий поступательное движение клетки, можно уподобить винту корабля или самолета, хотя, в отличие от винта (и от бактериального жгутика), он не вращается, а изгибается из стороны в сторону — примерно как рыбий плавник. Тем не менее эукариотный жгутик, как и винт, может быть тянущим (тогда он направлен вперед), а может быть толкающим (тогда он направлен назад). Например, у самолетов бывают винты обоих типов, хотя толкающие встречаются заметно реже. Пример самолета с толкающим кормовым винтом — немецкий истребитель “Хеншель” Hs.P75, разработанный во время Второй мировой войны, но так и не пущенный в производство. (Между прочим, очень похожий на него самолет увековечил японский режиссер Мамору Осии в своем знаменитом полнометражном аниме “Небесные скитальцы”.) Возвращаясь к жгутиковым клеткам, можно сказать, что у них ситуация примерно такая же, как в винтовой авиации: для большинства эукариот характерны тянущие жгутики, а вот толкающие — это скорее нечто необычное. Обладатели “кормовых” толкающих жгутиков — воротничковые жгутиконосцы, жгутиковые стадии примитивных хитридиевых грибов и сперматозоиды многоклеточных животных. Вот эти группы и называются заднежгутиковыми (опистоконтами). Другие общие признаки опистоконтов — пластинчатые кристы митохондрий и строгая гетеротрофность. Кавалье-Смит выделил эту группу абсолютно правильно: ее реальность надежно подтвердили дальнейшие исследования, в первую очередь молекулярно-генетические. Хотя у самого Кавалье-Смита молекулярных данных такого рода в ту пору не было (а если и были, то настолько противоречивые, что это лишь сбивало с толку[278] [279]). Кроме воротничковых жгутиконосцев, грибов и животных к опистоконтам относится еще несколько небольших групп одноклеточных и колониальных существ, родственных или грибам, или животным.
В 1991 году Кавалье-Смит выделил еще одну группу эукариот, получившую название Alveolata. Это одноклеточные организмы с трубчатыми кристами митохондрий, имеющие дополнительные общие признаки на уровне тонкой структуры клеток. Под наружной мембраной у них находятся многочисленные плоские пузырьки, которые называются альвеолами. Слой альвеол, укрепленный микротрубочками, образует внутреннюю оболочку клетки — пелликулу. К альвеолятам относятся инфузории, некоторые гетеротрофные жгутиконосцы с их паразитическими родственниками (включая малярийного плазмодия) и одна группа одноклеточных водорослей — динофлагелляты. Самое интересное, что эти существа в общем-то совсем не похожи друг на друга ни по внешнему облику, ни по образу жизни. Предполагая, что они образуют одну ветвь, Кавалье-Смит основывался в первую очередь на сходстве внутриклеточных структур, невидимых без электронного микроскопа, и оказался опять прав. (В более старой системе 1981 года эти организмы входили в царство Protozoa, но оно, по мнению подавляющего большинства современных авторов, оказалось все же сборным.)
Между тем в биологии наступила эпоха молекулярной филогенетики. Сама эта наука родилась значительно раньше. Но именно в последнее десятилетие XX века исследования нуклеотидных последовательностей генов начали ставить на поток. Излюбленным объектом молекулярных филогенетиков в тот период были гены, кодирующие рибосомную РНК: она невелика, информативна, и ее изучение уже привело Карла Вёзе к колоссальному успеху. Работы генетиков, сравнивавших последовательности рРНК разных эукариот, сразу подтвердили реальность групп Opisthokonta и Alveolata. А дальше последовал еще более серьезный вывод. Появились указания на то, что группы Chromista и Alveolata образуют единую эволюционную ветвь, многочисленную и разнообразную, но состоящую в основном из организмов с трубчатыми кристами митохондрий. Эта ветвь получила название Chromalveolata.
Хромальвеоляты просто поражают своим разнообразием. Среди них есть одноклеточные, колониальные и многоклеточные фотосинтезирующие существа (всевозможные водоросли), есть плавающие одноклеточные хищники (инфузории, хищные жгутиконосцы), есть крайне специализированные паразиты (споровики, к которым относится малярийный плазмодий), а есть и многоклеточные осмотрофы, точные аналоги грибов по внешнему облику и образу жизни. В общем, одних только хромальвеолят наверняка хватило бы, чтобы обильно заселить эукариотами целую планету, создав на ней сложные и разнообразные экосистемы со своими собственными растениями, фаготрофами, паразитами и поедателями мертвой органики.
Вот кого среди хромальвеолят нет, так это многоклеточных хищников, аналогов животных. При всем их огромном разнообразии такую жизненную форму им “изобрести” не удалось. Судя по всему, живой природе Земли было намного сложнее создать многоклеточных животных, чем многоклеточные растения (мы еще поговорим про это в последней части книги).
Заодно молекулярные исследования подтвердили единство эволюционной ветви Plantae — в том объеме, в каком ее выделил Кавалье-Смит. В эту группу входят все зеленые растения, от одноклеточных водорослей до цветковых, и красные водоросли в придачу.
Тут возникает один интересный чисто эволюционный момент. Общий предок эволюционных стволов Plantae и Chromalveolata мог быть только одноклеточным: это следует из конфигурации древа совершенно однозначно. Значит, входящие в эти два ствола многоклеточные водоросли стали таковыми независимо друг от друга. Если многоклеточные животные возникли в эволюции (насколько мы сейчас знаем) всего однажды, то многоклеточные растения совершенно точно возникали несколько раз. Это стало окончательно ясно еще в первой половине XX века, после работ выдающегося ботаника Адольфа Пашера: он показал, что есть несколько совершенно самостоятельных эволюционных линий водорослей, каждая из которых начинается с одноклеточных организмов и постепенно достигает многоклеточности[280]. Например, многоклеточные зеленые и красные водоросли принадлежат к разным эволюционным линиям, начинающимся от разных одноклеточных предков — и это несмотря на то, что в системе, из которой мы сейчас исходим, обе линии входят в группу Plantae. Можно точно сказать, что многоклеточность растительного типа, пусть и примитивная, возникала не менее трех раз в эволюционной ветви Plantae (у красных, зеленых и харовых водорослей) и по меньшей мере столько же раз в эволюционной ветви Chromalveolata (у бурых, золотистых и желто-зеленых водорослей). А скорее всего, таких событий было еще больше.
15. мир эукариот
Дерево Сфера царствует здесь над другими.
Дерево Сфера — это значок беспредельного дерева,
Это итог числовых операций.
Ум, не ищи ты его посредине деревьев:
Он посредине, и сбоку, и здесь, и повсюду.
Николай Заболоцкий. ДеревьяОбласть биологической систематики, оперирующая категориями выше типа, называется мегасистематикой. Нечего и говорить, что область эта — исключительно важная. Именно благодаря мегасистематике мы можем представить себе, как в целом, в самом первом приближении устроена живая природа. Крупнейшим мегасистематиком конца XX — начала XXI века можно с полным основанием назвать Томаса Кавалье-Смита. Он сделал в этой области много важных открытий, хотя и ошибок совершил не меньше (но никогда не стеснялся их исправлять, сразу используя для этого появляющиеся новые данные). В любом случае надо учитывать, что современные эволюционные исследования — это всегда коллективный процесс. Над такими проблемами, как построение эволюционного древа эукариот, в наше время работают большие международные группы ученых. Вот общую картину родственных отношений, которую им удалось раскрыть, мы сейчас и рассмотрим. Благо картина эта уже достаточно целостная.
Современная мегасистема эукариот сложилась в первые годы XXI века в основном в результате молекулярно-филогенетических исследований[281] [282] [283] [284] [285] [286] [287]. У этой современной мегасистемы есть три важные особенности.
Во-первых, она выстроена строго по принципам филогенетической систематики — без всяких компромиссов. Это означает, что любой таксон там охватывает свою эволюционную ветвь целиком, вместе со всеми потомками, как бы специализированы они ни были. Сборные группы, выделяемые по образу жизни или по уровню организации, теперь полностью исключены. Это радикально отличает новую систему от большинства систем “классического” толка (в том числе и от тех, что создал и продолжает создавать Кавалье-Смит: он-то никогда не был последовательным кладистом).
Во-вторых, эту систему уже невозможно связать с именем какого-либо одного ученого. “У нее нет единого автора: родство между организмами — это факт, не допускающий авторских трактовок. Ученые, создавшие эту систему, — это не философы, а практики, изучающие структуру отдельных генов и анализирующие полученные данные математизированными методами молекулярной кладистики”[288].
В-третьих, современная систематика мало интересуется рангами таксонов. Иногда их по старинке еще используют, но в целом сейчас никого всерьез не волнует, считать ли такую-то эволюционную ветвь царством, подцарством, надцарством или субдоменом. Очень часто авторы статей по систематике обходятся вовсе без этих рангов. Мы уже знаем, что в филогенетической систематике это нормально: ранги в ней не обязательны, они сохраняются только там, где это удобно. А в данном случае это скорее неудобно (например, употребление хорошо всем знакомого слова “царство” сразу приведет к тому, что его новое значение начнут сравнивать со старым и это вызовет совершенно ненужную путаницу). Поэтому здесь и далее мы будем для удобства считать, что у таксонов ниже домена, но выше типа рангов нет.
Новая система — действительно совершенно новая. Она не имеет никаких корней в старых двух-, трех-, четырех- или пятицарственных системах и не является преемственной по отношению к ним. Для простоты можно считать, что ее построили вообще с нуля (на самом деле это, разумеется, не так, но понять ее так будет легче).
Новая система, конечно, развивается. Более того, она непрестанно модифицируется по принципу последовательных приближений. “Если раньше ученый долгие годы размышлял над деревом, создаваемым им из опыта, интуиции, вдохновения, то сейчас весомый отчет по гранту ставится выше научной щепетильности, и научное сообщество не осуждает практики выдвижения одним и тем же автором раз за разом противоположных филогенетических гипотез при условии, что для них привлекаются новые данные”[289]. Неудивительно, что филогенетическое древо постоянно обновляется и в разных научных работах можно увидеть его слегка отличающиеся версии. Обновления происходят за счет включения в анализ новых генов, или изучения ранее мало изученных живых существ, или применения более совершенных методов обработки данных. Никаких переворотов, подобных тем, что происходили в конце XX века, это не вызывает (и, скорее всего, уже никогда не вызовет), но поток уточнений, которые часто сопровождаются еще и придумыванием новых названий, вполне может сбить новичка с толку. Лучший выход в этой ситуации — выбрать одну хорошую систему, которая в главных своих чертах будет верна, и уж в ней-то разобраться основательно, а потом, где нужно, модифицировать ее с учетом новых открытий.
В качестве такой “хорошей системы” мы рассмотрим эволюционное древо, которое опубликовали в 2004 году биологи Аластер Симпсон и Эндрю Роджер[290]. Название их статьи — “Реальные “царства” эукариот” (именно так, со словом “царства” в кавычках). Чаще всего эти “царства” называют просто супергруппами. Примем во внимание, что в этой системе кое-что успело заведомо устареть: например, одна из супергрупп Симпсона и Роджера на самом деле, скорее всего, является сборной, и подавляющее большинство современных систематиков ее уже не признает. Так что наш обзор этой системы будет относиться скорее к истории науки (пусть и совсем недавней), чем к ее нынешнему состоянию. Это сделано сознательно, потому что такой порядок изложения представляется здесь более удобным. До современного состояния мегасистематики мы еще доберемся.
Итак, Симпсон и Роджер в своем обзоре 2004 года выделили шесть супергрупп эукариот: Excavata, Rhizaria, Chromalveolata, Plantae, Amoebozoa и Opisthokonta (см. рис. 15.1). Поговорим о них по порядку.
Excavata
Эта супергруппа состоит в основном из жгутиконосцев — одноклеточных эукариот, у которых главным средством движения служат жгутики (см. рис. 15.2).
Название экскават связано с одной их структурной особенностью: на брюшной стороне клетки (то есть на той, которая обычно обращена к поверхности грунта) находится продольное углубление, со стороны цитоплазмы армированное микротрубочками. Это брюшная ротовая бороздка, через которую жгутиконосец заглатывает пищу (она продолжается в так называемый клеточный рот). Брюшная бороздка есть у многих экскават, но не у всех.
Широко известный представитель экскават — эвглена, попавшая во многие школьные учебники зоологии в роли типичного жгутиконосца. Жгутиков у нее два, но один из них очень короткий и в движении не участвует. Плазматическая мембрана у эвглены подостлана изнутри спиральным каркасом из лент специальных опорных белков, придающим клетке довольно устойчивую форму (в образовании этого каркаса участвуют микротрубочки и даже элементы эндоплазматической сети). Получается упругая оболочка, благодаря которой тело эвглены очень обтекаемо и она хорошо плавает. Но одновременно оболочка затрудняет выпускание ложноножек — и, соответственно, захват пищевых объектов. Поэтому фагоцитоз у эвглены не развит.
Эвглена — миксотрофный организм. Она прекрасно умеет питаться гетеротрофно, всасывая полезные вещества из раствора (когда эвглен разводят на корм малькам аквариумных рыб, их самих кормят, добавляя в воду мясной бульон). Но она может и фотосинтезировать, потому что у нее есть зеленые хлоропласты. Причем эти хлоропласты произошли от захваченных предком эвглены зеленых водорослей — одноклеточных эукариот из супергруппы Plantae[291]. В свое время эвглену иногда ошибочно сближали с зелеными водорослями, на которые она похожа аппаратом фотосинтеза (и больше ничем). На самом же деле зеленые водоросли родственны не эвглене, а ее хлоропластам.
Близкий родственник эвглены — астазия, жгутиконосец, внешне очень похожий на нее, но бесцветный и питающийся только гетеротрофно. Самое интересное, что у астазии это состояние, скорее всего, вторично: в ее геноме обнаружены гены хлоропластного происхождения[292]. Судя по всему, захват одноклеточной зеленой водоросли, которая стала предком хлоропластов, произошел один раз — у общего предка эвглены и ее родственников. Но с тех пор многие из этих родственников успели потерять хлоропласты и вновь стать гетеротрофными. Потеря хлоропластов произошла не меньше чем в пяти разных ветвях эвгленовых жгутиконосцев, в том числе и у астазии[293]. Благо это несложно: даже у самой эвглены бывают бесхлоропластные популяции, нормально живущие на гетеротрофном питании[294]. Такой вот здесь получился эволюционный зигзаг.
Кроме эвгленовых жгутиконосцев (к которым относится и астазия) в супергруппу экскават входит много других интересных существ. Фотосинтезирующих форм среди них мало, эвглена тут скорее исключение, чем правило. Большинство экскават никогда не имело хлоропластов. Зато среди них есть много гетеротрофных жгутиконосцев, как хищных, так и паразитов. К последним относятся некоторые возбудители инфекционных болезней человека: трипаносомы, лямблии, трихомонады, лейшмании. Все это — паразитические жгутиконосцы из супергруппы Excavata.
Паразитические экскаваты часто имеют причудливую форму клеток. Скорее всего, это связано с тем, что им не нужна особенно высокая маневренность, зато нужен мощный жгутиковый аппарат, чтобы пробиваться сквозь вязкую среду (кровь или содержимое кишечника). Поэтому у них часто увеличивается число жгутиков. Например, лямблия имеет два ядра и восемь жгутиков, ее клетка как бы частично раздвоена. Это далеко не предел, у других жгутиконосцев бывают клетки и посложнее. В то же время непаразитические родственники лямблии живут в толще донных осадков и чаще всего имеют только два жгутика[295]. Такое состояние свойственно большинству хищных жгутиконосцев, которым высокая маневренность как раз нужна. Один жгутик они используют как винт для поступательного движения, другой — как руль.
Некоторые жгутиконосцы-экскаваты, живущие внутри других организмов, приносят им пользу. Например, жгутиконосцы, которые живут в пищеварительном тракте термитов. В отличие от подавляющего большинства животных, термиты могут питаться одной только древесиной. А древесина — это масса растительных клеточных стенок, которые состоят в основном из целлюлозы (см. главу 6). Такой корм очень малопитателен, тем более что у термитов — во всяком случае, у примитивных — нет никакого собственного фермента, способного расщеплять связи между остатками глюкозы в огромной молекуле целлюлозы. Переваривать целлюлозу этим термитам помогают симбиотические жгутиконосцы, живущие у них в кишечнике. Вот эти жгутиконосцы и относятся к супергруппе экскават. Причем жгутиконосцам, в свою очередь, помогают в расщеплении целлюлозы симбиотические бактерии, которыми клетка такого жгутиконосца прямо-таки набита[296]. Так что симбиоз тут “многоэтажный”, по типу русской матрешки.
Типичные обитатели кишечника термитов — крупные жгутиконосцы, называемые гипермастигинами (буквально это значит что-то вроде “сверхжгутиковые”). Такой жгутиконосец может иметь несколько сотен, а то и несколько тысяч жгутиков, расположенных рядами, кругами или спиралями. Ядро у него при этом вполне может быть одно, хотя у некоторых родов много ядер. Неудивительно, что архитектура цитоскелета в таких клетках очень сложная и красивая. Кроме того, у некоторых гипермастигин на поверхности клетки живут еще и спирохеты — подвижные грамположительные бактерии, длинные, тонкие и закрученные в спираль[297]. Они заякориваются на клетке жгутиконосца и несут функцию дополнительных жгутиков. Раньше была популярна гипотеза, что жгутики, собственно, и произошли от таких симбиотических спирохет, но молекулярная биология ее не подтверждает.
Стоит отметить, что жгутиконосцы-гипермастигины иногда живут в кишечнике не только у термитов, но и у тараканов, среди которых тоже есть виды, питающиеся древесиной. Это неудивительно: термиты и тараканы — ближайшие родственники[298].
Еще один великолепный представитель экскават — Mixotricha paradoxa, живущая в кишечнике одного австралийского термита[299]. Это крупный — до полумиллиметра — одноядерный жгутиконосец, несущий на своем переднем конце не десятки и сотни жгутиков (как у гипермастигин), а всего лишь четыре жгутика, и те малоподвижные. Зато все остальное тело миксотрихи усеяно тысячами симбиотических спирохет, которые бьются вместо ресничек. Причем похоже, что этих спирохет там несколько видов[300]. По подсчетам, на одной миксотрихе может жить примерно 250 000 спирохет[301]. Если убить их антибиотиками, миксотриха тут же теряет подвижность[302]. При этом кроме спирохет на ее поверхности живут еще и другие бактерии, имеющие форму коротких палочек. Эти бактерии сидят на теле миксотрихи там, где прикрепляются спирохеты, как бы заякоривая их. Но и это не все. Помимо “якорных” бактерий и обычных спирохет, работающих как реснички, на теле миксотрихи сидят еще особые крупные спирохеты, относящиеся к другому роду, но тоже участвующие в движении, и какие-то длинные палочковидные бактерии, прикрепляющиеся к ней одним концом[303]. В общем, поверхность миксотрихи подобна густому саду, где процветает никак не меньше четырех совершенно различных разновидностей бактерий-симбионтов. А ведь у нее есть еще и внутренние симбионты, помогающие переваривать целлюлозу. Так что клетка миксотрихи — это целое многовидовое сообщество.
Термиты, как и другие насекомые, могут очень хорошо сохраняться в ископаемом янтаре (если повезет, конечно).
В янтаре возрастом 20 миллионов лет палеонтологи нашли термита того самого рода, в котором живет миксотриха. И в кишечнике этого термита обнаружены остатки симбиотических одноклеточных, уже тогда связанных со спирохетами[304]. Самое крупное из этих одноклеточных, по всей вероятности, и есть миксотриха.
Для экскават характерны дисковидные кристы митохондрий. Впрочем, многие паразитические экскаваты (и некоторые свободноживущие тоже) митохондрий вообще лишены. Например, ни у лямблии, ни у гипермастигин, ни у миксотрихи митохондрий нет. Но это не признак примитивности, а результат вторичной утраты. Потеря митохондрий — обычное дело у паразитов, живущих в чьем-нибудь кишечнике, или, скажем, у обитателей бескислородного ила. Там, где нет кислорода, митохондрии бесполезны, и они исчезают. Но в таких клетках обычно есть их остатки, сохранившие некоторые метаболические функции, или хотя бы митохондриальные гены, успевшие мигрировать в ядро.
В прошлом митохондрии были абсолютно у всех изученных эукариот. И это, конечно, очень важно для понимания их происхождения. “Эмпирический факт заключается в том, что не существует эукариота, возникшего без предшествующего эндосимбиоза”, — писал в 2002 году крупнейший микробиолог Георгий Александрович Заварзин[305]. И добавлял: “Вероятно, проэукариот, так до сих пор и не найденный, уже был химерой”. Эти выводы совершенно верны, и у них есть эволюционные следствия, о которых мы еще поговорим.
Rhizaria
Типичные представители этой супергруппы — одноклеточные существа с трубчатыми кристами митохондрий и длинными тонкими ложноножками, которые часто бывают нитевидными или шиловидными (см. рис. 15.3).
Самые знаменитые группы ризарий — фораминиферы и радиолярии. Это морские амебоподобные существа со сложными минеральными скелетами. Большинство фораминифер живет на морском дне, и только немногие из них парят в водной толще. Их раковины чаще всего многокамерные, иногда трубчатые, а иногда спиральные (хотя есть и другие формы). “Фораминиферы” буквально значит “дырконесущие”. Называются они так потому, что в раковине фораминиферы есть множество маленьких отверстий, сквозь которые высовываются тонкие ложноножки. Эти ложноножки ветвятся, переплетаются, сливаются и в результате образуют вокруг фораминиферы сложную сеть, которая благодаря разным способам сокращения ложноножек может служить и для питания, и для передвижения.
Особенно сложными формами отличались, например, глоботрунканиды — вымершие фораминиферы, которые жили в конце мезозойской эры. Их раковина не только была многокамерной, но еще имела разнообразные выросты и кили, помогавшие парить в толще воды. Конец мезозоя был эпохой теплого безледникового климата, когда огромные площади занимали мелководные окраинные моря (примерно как нынешние Балтийское и Желтое). Резкая зональность отсутствовала, работающих всепланетными “холодильниками” полярных шапок не было и в помине, поэтому глобальное перемешивание воды было гораздо слабее, чем в современности: массы холодных вод, погружающиеся в глубину и приводящие в движение всю океанскую толщу, тогда просто нигде не возникали. В мезозойском спокойном море взвешенные в воде фораминиферы могли спокойно делить между собой экологические ниши, специализируясь по узким интервалам глубин[306]. К сожалению, глоботрунканиды вымерли вместе с динозаврами.
У радиолярий богатство форм вообще поразительно. В первую очередь это касается их твердых скелетов. Тут можно увидеть вставленные друг в друга дырчатые шары, эллипсоиды, диски, конусы, треножники, короны, многолопастные и шлемовидные фигуры, и все это бывает оснащено длинными иглами, палочками, мечевидными выростами, решетками, перемычками или кольцами. Великолепными формами радиолярий восхищался еще Эрнст Геккель, чьей узкой научной специальностью они как раз и были (а поскольку он к тому же профессионально рисовал, то многими изображениями радиолярий в его исполнении можно и сейчас полюбоваться). Все радиолярии живут в толще морской воды, и сложные формы с выростами нужны им для того, чтобы лучше там парить. Как и у фораминифер, у радиолярий есть сеть переплетающихся ложноножек, которыми они ловят пищевые частицы. Но, кроме того, у них есть особые длинные неветвящиеся ложноножки, которые называются аксоподиями. Внутри каждой аксоподии проходит укрепляющий ее пучок микротрубочек, еще и связанных между собой (в обычных ложноножках ничего подобного не бывает). Аксоподии нужны радиоляриям в основном, опять же, для лучшего парения.
Многообразие ризарий не ограничивается фораминиферами и радиоляриями. Среди них есть типичные жгутиконосцы (в том числе хищные), есть амебы, а есть и паразиты. Например, именно к ризариям относится плазмодиофора, возбудитель так называемой килы капусты. Ее питающаяся стадия — это живущие в клетках капусты многоядерные амебы. Такую жизненную форму принято называть плазмодием.
Интересная группа ризарий — хлорарахниофитовые водоросли. В эту группу входят самые настоящие фотосинтезирующие амебы (с характерными для ризарий длинными тонкими ложноножками), хотя у некоторых из них есть и жгутики. Разумеется, хлорарахниофиты имеют хлоропласты, которые в данном случае окружены четырьмя мембранами и представляют собой захваченные одноклеточные зеленые водоросли — эукариоты из супергруппы Plantae. Скоро мы увидим, что ситуация, когда хлоропласты образуются из захваченных эукариот (а не прокариот), встречается в эволюции на самом-то деле очень часто.
“Chromalveolata”
Название этой супергруппы, единственной из шести, в заголовке поставлено в кавычки. Вызвано это тем, что современная систематика признает ее выделенной некорректно — вскоре мы узнаем почему. Тем не менее члены этой группы действительно близки друг к другу, и мы можем для удобства рассмотреть их вместе, а поправки (которых требуют новые данные) внести на следующем этапе: так будет понятнее.
Мы уже не раз говорили о том, что все эукариоты, умеющие фотосинтезировать, получили эту способность благодаря симбиозу. Точнее — эндосимбиозу, один из участников которого живет внутри другого. Эукариотная клетка поглотила прокариотную и “поработила” ее, оставив жить внутри себя в качестве хлоропласта. Именно поэтому хлоропласты до сих пор размножаются делением.
Но возможна и другая ситуация. Эукариотная клетка может проглотить, “поработить” и превратить в хлоропласт другого эукариота, внутри которого уже есть собственный прокариотный симбионт. Это называется вторичным эндосимбиозом. Два таких примера мы уже видели: эвглена и амебы-хлорарахниофиты, хлоропласты которых — это бывшие зеленые водоросли. Но у хромальвеолят это не редкость, а общее явление, определившее эволюцию всей супергруппы. Их хлоропласты — вторичные (см. рис. 15.4). Среди хромальвеолят очень много фотосинтезирующих форм, и все их хлоропласты произошли от захваченных эукариот, а именно от красных водорослей. Окрашены они обычно не в зеленые тона, а в желтовато-бурые. Иногда проглоченный эукариотный симбионт даже сохраняет маленькое ядро, которое в этом случае называется нуклеоморфом. Чаще ядро симбионта исчезает, но сохраняются другие следы вторичного эндосимбиоза в виде дополнительных мембран.
Более того, у одноклеточных хромальвеолят иногда встречается третичный эндосимбиоз: захват эукариотного симбионта, внутри которого на правах хлоропласта живет еще один эукариотный симбионт, и только уже внутри того — прокариотный симбионт, который, собственно, и фотосинтезирует. Если один представитель хромальвеолят захватит другого в качестве хлоропласта, именно так и получится. В случае третичного эндосимбиоза одна клетка объединяет в себе четыре организма: двух разных хромальвеолят, красную водоросль и цианобактерию, ставшую первичным хлоропластом[307]. И это не считая митохондрий.
В группу хромальвеолят (в ее традиционном объеме) входит не меньше семи больших групп преимущественно водных фотосинтезирующих эукариот, то есть водорослей. Это криптомонады, гаптофиты, динофлагелляты, золотистые, желто-зеленые, бурые и диатомовые водоросли. Из этих семи групп четыре (криптомонады, гаптофиты, динофлагелляты и диатомовые) состоят в основном из одноклеточных форм. Колонии они образуют нечасто, а если образуют, то относительно простые. Зато некоторые из этих одноклеточных водорослей живут огромными массами в освещенной зоне океана и играют там примерно ту же роль, что зеленые растения в наземных экосистемах: изо всех сил фотосинтезируют, создавая так называемую первичную продукцию. В первую очередь это относится к динофлагеллятам, диатомовым водорослям и гаптофитам. Последние знамениты тем, что микроскопические известковые пластинки, которыми покрыты снаружи их клетки, образуют основу писчего мела. Воспетые многими поэтами Дуврские белые скалы, что в графстве Кент, сложены в основном из остатков панцирей мельчайших планктонных водорослей-гаптофит, которые когда-то жили в теплых мелководных морях мезозойской эры.
С золотистыми и желто-зелеными водорослями дело обстоит иначе. В этих группах есть обычные жгутиконосцы, есть амебоидные существа, есть гигантские многоядерные клетки, есть колонии, а есть и многоклеточные организмы, нитчатые или пластинчатые. Золотистые и желто-зеленые водоросли — это две совершенно отдельные эволюционные линии. Их предками были одноклеточные жгутиконосцы, хоть и родственные, но все-таки разные. Все этапы усложнения (во многом одни и те же!) эти две линии водорослей прошли независимо друг от друга, хотя и на основе набора общих генов, связанного с близким родством. Это прекрасный пример того, что в эволюционной биологии называется параллелизмом.
Наконец, группа бурых водорослей целиком состоит из многоклеточных организмов. Почти все они живут в морях. И некоторые из них более-менее сравнимы по сложности с хорошо нам знакомыми наземными зелеными растениями — например, ламинария, она же морская капуста. В фантастическом романе Фрэнка Герберта и Билла Рэнсома “Ящик Пандоры” подводные леса из бурых водорослей (их там называют “электрокелпом”) даже обзавелись чем-то вроде собственного коллективного разума.
Кроме всевозможных водорослей среди хромальвеолят есть и много нефотосинтезирующих существ. Есть бесцветные гетеротрофные жгутиконосцы, поедающие бактерий. Есть оомицеты — потомки каких-то морских водорослей, потерявшие хлоропласты и вернувшиеся к гетеротрофности[308]. Они стали осмотрофами (“всасывальщиками”) и приобрели в связи с этим жизненную форму, в точности повторяющую жизненную форму типичных грибов: тело, состоящее из ветвящихся тончайших нитей толщиной в одну клетку. Долгое время их и принимали за грибы. Но к концу XX века выяснилось, что у оомицетов есть признаки, которых у настоящих грибов быть просто не может: клеточная стенка из целлюлозы (а не из хитина), трубчатые кристы митохондрий и подвижная одноклеточная расселительная стадия с двумя жгутиками. Таким образом, сходство оомицетов с грибами — это чистой воды конвергенция, независимое приобретение общих черт, не связанное с родством. В отличие от большинства грибов, оомицеты сохраняют жгутиковые стадии и (как правило) связь с водой. Типичный представитель оомицетов — сапролегния, белесая водная плесень.
Случалось и такое, что оомицеты вмешивались в человеческую историю. Великий голод в Ирландии в 1845–1849 годах произошел из-за фитофторы — оомицета, вызывающего картофельную гниль. Ирландские крестьяне тогда были в массе своей бедны, и картошка составляла значительную долю их рациона. Поэтому, когда практически все посевы картофеля в стране оказались поражены эпидемией фитофторы, это стало настоящей катастрофой. Достаточно сказать, что население Ирландии после нее сократилось примерно на треть в результате как гибели от голода, так и эмиграции в Америку людей, пытавшихся от него спастись.
Очень интересная группа хромальвеолят — опалины. Это одноклеточные, но многоядерные существа, живущие в конечном отделе кишечника амфибий (реже рыб и рептилий). Особого вреда своим хозяевам они, судя по всему, не наносят, так что их можно считать не паразитами, а просто сожителями. Опалины — обычнейшие обитатели клоаки лягушек (клоакой у животных называют расширенную часть задней кишки, в которую впадают выделительные и половые протоки). Клетка опалины может нести несколько тысяч жгутиков, которые в этом случае уже можно называть ресничками. Они расположены рядами и бьются согласованными волнами, давая возможность опалине довольно быстро плавать. Опалины, без сомнения, произошли от обычных одноядерных жгутиконосцев, но по ходу эволюции их клетка постепенно увеличивалась и усложнялась. Мелкие (и, по-видимому, примитивные) опалины имеют всего два клеточных ядра, а у крупных в клетках бывает до 200 ядер и больше. Причем все эти ядра одинаковы — по крайней мере, с виду.
Именно к хромальвеолятам, как выяснилось, относятся и инфузории — одноклеточные существа, известные натуралистам еще с XVII века. Первыми исследователями инфузорий были создатели самых ранних микроскопов — великий натуралист-любитель Антони ван Левенгук и не менее великий физик Христиан Гюйгенс[309]. Инфузорий иначе называют ресничными, потому что их тело, как правило, покрыто несколькими тысячами типичных ресничек. Кроме того, для инфузорий характерна очень сложная клетка с постоянным клеточным ртом и системой внутренних опорных структур. Внешняя форма клетки у них тоже постоянная, часто выразительная и красивая, о чем свидетельствуют названия: инфузория-туфелька, инфузория-трубач. Неудивительно, что биологи довольно долго принимали инфузорий за животных. Тем не менее на самом деле инфузории — самые настоящие одноклеточные, причем даже не многоядерные. Чаще всего в клетке инфузории два ядра: маленький микронуклеус (генеративное ядро, содержащее полный геном и служащее для продолжения рода) и большой макронуклеус (соматическое ядро, содержащее только ту часть генома, что нужна для повседневной жизни, но зато в огромном числе копий). Ядерный дуализм, то есть разделение функций между микронуклеусом и макронуклеусом, — это, пожалуй, самая главная особенность инфузорий как группы.
Сложность устройства инфузорий настолько впечатляет, что некоторые биологи всерьез считали их предками многоклеточных животных[310]. Но это, разумеется, не так. Инфузории тем и интересны, что они нашли свой собственный путь эволюции, альтернативный по отношению к любой многоклеточности.
Многие хромальвеоляты стали паразитами. В первую очередь это группа Apicomplexa (название, буквально означающее что-то вроде “существа со сложным передним концом”). Апикомплексы произошли от жгутиконосцев, и сейчас известно, от каких именно[311]. Но в процессе глубокого приспособления к паразитизму они изменились очень сильно — во многих случаях до неузнаваемости. Именно апикомплексы составляли большую часть сборной группы паразитических эукариот, которых со времен Карла фон Зибольда называли споровиками. К апикомплексам относятся, например, возбудители малярии и токсоплазмоза.
Интересно, что апикомплексы совершенно точно произошли от фотосинтезирующих предков. У этих специализированных паразитов есть апикопласт — остаток вторичного хлоропласта, ставший бесцветным, но сохранивший четыре мембраны и собственную ДНК. Сохранился он потому, что помимо фотосинтеза хлоропласты у предков апикомплексов занимались синтезом жирных кислот и некоторых других полезных веществ. После отказа от фотосинтеза эти метаболические функции никуда не делись, а вместе с ними уцелели и остатки хлоропластов, дающие прямое свидетельство сложного эволюционного пути своих хозяев. В глубокой древности предок апикомплексов был обычным хищным жгутиконосцем. Однажды он проглотил водоросль (скорее всего, красную) и сделал ее своим хлоропластом, а тем самым стал водорослью и сам. Затем произошел отказ от фотосинтеза. Обесцветившийся жгутиконосец вернулся к гетеротрофному питанию и стал в конце концов специализированным паразитом[312]. Однако в соответствии с законом необратимости эволюции в его организме сохранились следы пройденного эволюционного пути — в данном случае не только генетические, но и структурные (апикопласт виден в микроскоп). Когда в 1898 году англичанин Рональд Росс и итальянец Джованни Батиста Грасси раскрыли жизненный цикл возбудителя малярии, никто из них, конечно, не мог и представить, что этот опаснейший микроб окажется потомком безобидной одноклеточной водоросли.
В целом среди хромальвеолят можно выделить две очень крупные эволюционные ветви. Одна из них нам уже знакома — она называется альвеолятами (Alveolata). К этой ветви относятся инфузории, апикомплексы, динофлагелляты. Главная особенность альвеолят — их уже упоминавшаяся оболочка, которая называется пелликулой. Под внешней мембраной у них находится слой плотно сомкнутых маленьких мембранных пузырьков (так называемых альвеол), которые, в свою очередь, подостланы микротрубочками. Это и есть пелликула. Она придает клетке устойчивую форму, а заодно позволяет устанавливать на базе имеющейся оболочки всевозможные дополнения — вроде системы белковых корешков, синхронизирующих у инфузорий биение ресничек, или сложного аппарата проникновения в клетку хозяина, который расположен на конце клетки апикомплексов.
Другая крупнейшая ветвь хромальвеолят называется Stramenopiles[313]. Группу эту выделил в 1989 году протистолог Дэвид Паттерсон. Подвижные клетки страменопилов обычно имеют два жгутика: двигательный, направленный вперед и опушенный, и рулевой, отогнутый назад и гладкий (либо опушенный заметно слабее). Причем волоски, которыми опушен двигательный жгутик, у них имеют особую трубчатую структуру. Такое состояние называется гетероконтным (разножгутиковым). Название страменопилов отражает именно этот признак. Если буквально истолковать вошедшие в это название латинские корни, получится что-то вроде “имеющие солому в волосах”: с соломинками тут сравниваются сидящие на двигательном жгутике волоски. К страменопилам относятся золотистые, желто-зеленые, бурые и диатомовые водоросли, а также оомицеты и опалины. У опалин разножгутиковость исчезает, но они произошли от жгутиконосцев, у которых она точно была.
Есть и такие хромальвеоляты, которые не относятся ни к альвеолятам, ни к страменопилам. Из тех, о ком мы тут говорили, это две группы одноклеточных: криптомонады и гаптофиты. Возможно, это очень древние эволюционные линии.
К большому сожалению, современные генетические данные (причем не такие уж и новые) показывают, что хромальвеоляты, скорее всего, не являются группой, соответствующей требованиям филогенетической систематики. Таксон Chromalveolata, конечно, состоит из родственных друг другу форм, но они объединены в него, по нынешним меркам, слишком произвольно. В одной своей части эта группа получилась сборной, а в другой, наоборот, неполной, с “фигурным вырезом”. Поэтому таксон Chromalveolata на данный момент надо считать устаревшим. О том, как обстоят дела в реальности, мы поговорим чуть ниже.
Plantae
Эта супергруппа состоит в основном из фотосинтезирующих организмов. Она единственная, где нет ни одной крупной эволюционной ветви, освоившей гетеротрофность. Поэтому название Plantae — растения — ей вполне подходит (см. рис. 15.5.).
У супергруппы растений есть несколько общих особенностей. Во-первых, это пластинчатые кристы митохондрий (у ризарий и у большинства хромальвеолят они трубчатые). Во-вторых, подвижные клетки у растений чаще всего имеют два одинаковых гладких жгутика, направленных вперед. Такое состояние называется изоконтным (равножгутиковым). Отличный пример равножгутиковости — хламидомонада, одноклеточная зеленая водоросль, описанная в школьных учебниках ботаники.
Есть и третья очень важная особенность. Хлоропласты растений — первичные, то есть возникшие путем первичного эндосимбиоза. Они произошли непосредственно от захваченных прокариот, а именно от цианобактерий. Этим растения резко отличаются, например, от бурых или золотистых водорослей, хлоропласты которых — вторичные, происходящие от эукариотных симбионтов, то есть как раз от захваченных представителей Plantae.
В состав супергруппы растений входит всего три эволюционные ветви. Во-первых, это одна сильно обособленная (и крайне примитивная по некоторым признакам) группа водорослей, которая называется глаукофитами. Они в основном одноклеточные, а если образуют колонии, то очень простые. Во-вторых, это красные водоросли. И в-третьих, это огромная и разнообразная эволюционная ветвь, для которой Томас Кавалье-Смит предложил латинское название Viridiplantae (зеленые растения)[314]. В нее входят как наземные зеленые растения, так и их многочисленные родственники-водоросли, крайне разнообразные по уровню организации.
Именно к ветви Viridiplantae принадлежат и самые мелкие, и самые крупные современные эукариоты — по крайней мере, если не учитывать внутриклеточных паразитов (которые бывают очень маленькими) и разрастающиеся грибницы (которые, наоборот, бывают огромными, но все же не являются компактными, истинно многоклеточными телами). Самым мелким свободноживущим эукариотом считается океанская планктонная зеленая водоросль остреококкус: размер ее клетки меньше микрона. А крупнейшие истинно многоклеточные организмы на Земле — это стометровые секвойи и секвойядендроны, самые громадные экземпляры которых получают собственные имена: “Генерал Шерман”, “Гиперион” и т.п.
Первые зеленые растения, несомненно, были одноклеточными жгутиконосцами. Но в ходе своей долгой и бурной эволюции они успели дать огромный спектр жизненных форм. Среди них есть одноклеточные без всяких жгутиков (например, хлорелла), есть шарообразные колонии из нескольких сотен или тысяч жгутиковых клеток (например, вольвокс), есть гигантские многоядерные клетки, есть нитчатые и пластинчатые примитивные многоклеточные, а есть и обладатели довольно сложных ветвящихся тел, как у харовых водорослей. Зеленые водоросли (в широком смысле этого слова) живут в любых водоемах от луж до Мирового океана, а иногда даже и на суше. От кого же из них произошли наземные растения?
Прообразом наземных растений могут считаться или пластинчатые колеохетовые водоросли, или нитчатые водоросли-сцеплянки. Именно к этим двум группам наземные растения ближе всего, судя по генетическим данным[315] [316]. Водоросль, которая была предком наземных растений, жила на мелководье и представляла собой либо однослойную пластинку, либо переплетение нитей. Большой разницы тут нет, потому что эти жизненные формы могут легко переходить друг в друга[317]. Водоросли жили в переходной зоне между водоемом и берегом, которая была в те древние времена чрезвычайно протяженной: тут надо учитывать, что до появления сплошного растительного покрова, удерживающего почву, реки на Земле не имели постоянных берегов, и мелководьем была, по сути, почти вся суша[318]. Есть вполне правдоподобная гипотеза, что “изобретением”, запустившим эволюцию наземных растений, был стволик с коробочкой наверху, поначалу предназначенный исключительно для разбрасывания воздушных спор, чтобы их разносил ветер[319] [320]. Нет сомнений, что этот способ расселения очень эффективен (на современной Земле он позволяет растениям осваивать расположенные за тысячи километров от ближайшей суши вулканические острова). Именно для того, чтобы его обеспечить, могли бы появиться первые механические и проводящие ткани, совершенно ненужные пластинчатой или нитчатой водоросли в воде, но необходимые воздушному стволику. А уж потом наличие этих тканей позволило растениям полностью выйти на сушу и создать наземные жизненные формы. И в результате мы теперь живем в мире, где целые природные зоны определяются наземными растениями: от степных злаков до самых многочисленных деревьев на современной Земле — лиственниц, образующих сибирскую и североамериканскую светлохвойную тайгу.
Главным признаком, отличающим высшие растения от водорослей, традиционно считается архегоний — колбообразный мешочек, в котором созревает яйцеклетка. Это настоящий многоклеточный орган размножения. Причем зародыш организма следующего поколения, уже в свою очередь многоклеточный, какое-то время развивается прямо внутри архегония. Именно с этим связано латинское название высших растений — Embryophyta. К этой группе относятся мхи, плауны, хвощи, псилоты, папоротники, голосеменные (хвойные, саговники, гинкго) и главные звезды современного растительного мира Земли — цветковые. Правда, у голосеменных от архегониев остаются буквально считаные клетки, а у цветковых и вовсе ничего, но тут важно то, что они были у их предков.
Amoebozoa
Супергруппа Amoebozoa — это царство амеб (см. рис. 15.6). Она состоит из существ, которые передвигаются амебоидным способом, выпуская и втягивая ложноножки и постоянно меняя форму клетки. Очень характерна форма самих ложноножек: они не длинные и тонкие, как у ризарий, а широкие, лопастевидные. У некоторых амебозоев одновременно с ложноножками есть и жгутики. Кристы митохондрий у них обычно трубчатые, хлоропластов не бывает. Все амебозои — гетеротрофы. Некоторые из них потеряли митохондрии, потому что живут или в бескислородном иле, или в чьем-нибудь кишечнике (как дизентерийная амеба, например).
Обыкновенная амеба, она же амеба-протей, с которой по традиции начинается школьный учебник зоологии, — довольно типичный представитель амебозоев. Она относится к голым амебам, у которых нет никакого покрова сверх плазматической мембраны. Но бывают и раковинные амебы, причем с очень разнообразной формой и структурой раковинок. И голые, и раковинные амебы могут жить не только в водоемах, но и в почве: находящейся там капиллярной воды им вполне хватает, чтобы оставаться водными существами.
В то же время не будем забывать, что “амеба” (точно так же, как и “жгутиконосец”), — это название не эволюционной ветви, а жизненной формы. Увидев под микроскопом незнакомую амебу, мы, строго говоря, еще ничего не знаем о ее положении в системе. Вполне нормальные амебы, пришедшие к этой жизненную форме совершенно самостоятельно, есть и среди ризарий, и среди экскават. Но амебозои — единственная супергруппа, где этот способ жизни безусловно преобладает.
Существуют амебы, которые в определенный момент своего жизненного цикла приобретают многоклеточность (во всяком случае, примитивную). Большую часть времени они могут ползать поодиночке где-нибудь в почве. Но когда приходит время, эти амебы сползаются вместе и образуют многоклеточное плодовое тело, очень похожее на плодовое тело гриба. В другом случае странствующие амебы сначала образуют плазмодий — гигантскую многоядерную амебу, которая ползает и питается, пока не настанет пора создавать плодовое тело. Потом плодовое тело выбрасывает споры, и все повторяется. Организмы с такими жизненными циклами называются слизевиками.
Жизненная форма слизевика распространена на удивление широко. Например, сейчас мы знаем, что свои собственные слизевики с настоящими плодовыми телами, совершенно независимо освоившие этот образ жизни, есть в супергруппе экскават. Они называются акразиевыми слизевиками, или акразиомицетами. Это еще один яркий пример эволюционной конвергенции. Более того, организмы, близкие по типу жизненного цикла к слизевикам, есть и в группе ризарий (плазмодиофоромицеты), и в группе страменопилов (лабиринтуломицеты). Что же касается “настоящих” слизевиков, которые входят в супергруппу амебозоев, то они называются миксомицетами.
Многие биологи рассматривают слизевиков как прекрасную модель начальных стадий эволюции многоклеточности. Есть даже осторожно высказываемая гипотеза, что примерно такой же жизненный цикл, как у типичных слизевиков, имели предки многоклеточных животных[321]. Главная трудность этой гипотезы в том, что многоклеточные животные относятся к другой супергруппе эукариот — к последней, о которой нам осталось поговорить.
Opisthokonta
В эту супергруппу входят гетеротрофные существа с пластинчатыми кристами митохондрий и жгутиковыми клетками, имеющими единственный жгутик, направленный назад. Мы можем легко догадаться, что такое состояние называется заднежгутиковым, или опистоконтным.
Самое удивительное, что, кроме перечисленных признаков, у разных опистоконтов нет между собой почти ничего общего. По крайней мере, так кажется на первый взгляд. Сильно ли похожи друг на друга воротничковый жгутиконосец, белый гриб и синий кит? А ведь по меркам мегасистемы эукариот они близкие родственники.
На самом деле кое-что общее найти все же можно. Например, во внутреннем ухе позвоночных животных (в том числе и в человеческом) есть чувствительные элементы, которые называются волосковыми клетками (см. рис. 15.7). Вершина такой клетки несет один жгутик (его функция тут опорная) и группу собранных вместе микроворсинок. Если внешняя сила — например, течение жидкости в полости внутреннего уха — сгибает или наклоняет эти микроворсинки, то клетка генерирует электрический сигнал. Это основной принцип работы внутреннего уха. Так вот, давно замечено, что волосковая клетка внутреннего уха напоминает по структуре клетку воротничкового жгутиконосца. Компоненты там те же самые: жгутик и группа микроворсинок на вершине клетки, они только смещены относительно друг друга[322]. И это отнюдь не поверхностное сходство. Недавно исследователи показали, что в волосковых клетках внутреннего уха позвоночных и во внутренних клетках губок, которые называются хоаноцитами, экспрессируется целая группа общих генов[323]. В основном эти гены кодируют белки, связанные с цитоскелетом и участвующие в образовании микроворсинок. А хоаноциты губок — это клетки, в точности похожие на воротничковых жгутиконосцев, уж тут преемственность очевидна. Порядок ветвлений эволюционного древа животных вполне позволяет допустить, что эта преемственность “дотянулась” и до позвоночных.
Про сперматозоиды животных мы уже упоминали. Сперматозоид — обладатель типичного жгутика (правда, в некоторых группах животных встречаются безжгутиковые сперматозоиды, но это явно производное состояние). И плывет он жгутиком назад. Это и есть признак, характерный для опистоконтов, но не встречающийся у других эукариот. В этом отношении животные более архаичны, чем грибы, у большинства из которых все жгутиковые стадии исчезли.
Итак, опистоконты — это грибы, животные и воротничковые (см. рис. 15.8). Но не только они. Можно назвать по меньшей мере четыре группы “странных опистоконтов”, не относящихся ни к многоклеточным животным, ни к воротничковым жгутиконосцам, ни к типичным безжгутиковым грибам. Это хитридиевые грибы, нуклеарииды, криптомицеты и мезомицетозои. Все эти группы относительно малоизвестны (во всяком случае, у широкой публики они не на слуху). Но это вовсе не значит, что они неважны для понимания структуры древа жизни.
Хитридиевые грибы, или хитридиомицеты, — это преимущественно водные организмы. Тело примитивного хитридиевого гриба представляет собой фактически амебу: одноядерную или многоядерную, но в любом случае с длинными, тонкими и сильно ветвящимися ложноножками, которые глубоко проникают в питательный субстрат. От таких ложноножек один шаг до грибницы, и неудивительно, что этот шаг был в ходе эволюции легко сделан: у высших хитридиевых налицо уже типичная грибница (амебоидное тело в этом случае покрывается клеточной стенкой и теряет подвижность). Тем не менее у хитридиомицетов, в отличие от других грибов, сохраняются плавающие жгутиковые споры — разумеется, со жгутиком, обращенным назад.
Нуклеарииды — это пресноводные или почвенные амебы с длинными тонкими ложноножками, эволюционно близкие к грибам. Легко представить, что от кого-то вроде них грибы как раз и произошли. Хотя скоро мы увидим, что мнения на эту тему есть разные.
Криптомицеты — одноклеточные организмы, безжгутиковые или с одним жгутиком, лишенные клеточной стенки, близкие, опять же, к грибам и паразитирующие внутри клеток других грибов или водорослей[324]. Их считают примитивными родственниками грибов, которым к тому же удалось необычайно глубоко специализироваться в сторону паразитизма.
Но вот тут есть большая проблема. Кроме криптомицетов существует еще целых две группы специализированных внутриклеточных паразитов, близких к примитивным грибам: афелиды и микроспоридии. Афелиды паразитируют в клетках водорослей, а микроспоридии — в клетках животных, включая и человека. Мы между делом упоминали в главе 12, что микроспоридии умудрились стать не простыми паразитами, а энергетическими: они выкачивают из хозяйской клетки АТФ. Современные молекулярно-биологические исследования приводят к выводу, что криптомицеты, афелиды и микроспоридии составляют единую эволюционную ветвь, сестринскую по отношению ко всем грибам[325] [326]. Для этой единой ветви предложено название Opisthosporidia (опистоспоридии). И что характерно, все ее члены — внутриклеточные паразиты. Не значит ли это, что внутриклеточным паразитом был и общий предок опистоспоридий с грибами? Не обязательно — но не исключено.
Мезомицетозои — группа амебообразных организмов, которые чаще всего паразитируют в каких-нибудь морских или пресноводных многоклеточных животных. Жгутиков у них обычно нет, но есть ложноножки. Питаются они примерно как грибы: осмотрофно, всасывая вещества сквозь клеточную мембрану. Известно, что на некоторых стадиях жизненного цикла у мезомицетозоев бывает клеточная стенка — по-видимому, хитиновая, как и у грибов[327]. Но еще интереснее, что некоторые мезомицетозои образуют в ходе своего размножения колонии покоящихся амеб, удивительно похожие на ранние зародыши многоклеточных животных. Причем показано, что деления клеточных ядер в такой колонии синхронизируются — тоже как у зародышей многоклеточных животных[328]. Это означает, что клетки “зародыша” (или не клетки, а только их ядра, если клетки на этом этапе слиты) делятся не вразнобой, но строго одновременно, так что их число остается степенью двойки: 4, 8, 16, 32.
Мезомицетозои — эволюционные “кузены” многоклеточных животных (в одной статье их прямо так и назвали)[329]. “Братья” многоклеточных животных, по генетическим данным, воротничковые жгутиконосцы: это самая близкая к ним группа. Но при этом жизненный цикл воротничковых жгутиконосцев, даже колониальных, слишком прост, чтобы быть для многоклеточных животных предковым. Например, никакого механизма синхронизации клеточных делений при образовании колонии у воротничковых, судя по всему, нет. В этом отношении мезомицетозои более продвинуты. Кстати, у некоторых мезомицетозоев встречаются ультратонкие ложноножки, из которых вполне могли бы получиться микроворсинки “воротничка”.
В 2010 году у мезомицетозоев обнаружили свойственный многоклеточным животным ген, который называется Brachyury[330]. У животных этот ген кодирует один регуляторный белок, активно участвующий в эмбриональном развитии. Например, у позвоночных экспрессия гена Brachyury важна для нормального развития основы осевого скелета — хорды — и прилегающих к ней зачатков (вдаваться в эмбриологические детали мы тут не будем). Возникает естественный вопрос: зачем этот ген существу, у которого нет не то что хорды, а вообще никаких органов? Данных на эту тему пока маловато, но кое-что понять уже можно. Известно, например, что у одного из мезомицетозоев ген Brachyury активен в момент, когда его многоядерный плазмодий распадается на множество одноядерных амеб[331]. Очевидно, он как-то регулирует происходящие во время развития сложные взаимные перемещения клеток — собственно, как и у животных. В любом случае мы знаем, что этот ген очень эволюционно консервативен: его продукт, взятый у одноклеточной амебы, может запустить развитие осевых структур в зародыше лягушки — правда, не с таким успехом, как продукт гена самой лягушки[332]. Но сам факт, что белковые продукты столь специализированных генов амебы и лягушки оказались взаимозаменяемыми, уже поразителен.
Естественно, исследователи заинтересовались вопросом, у кого еще есть ген Brachyury. Выяснилось, что за пределами супергруппы опистоконтов он (равно как и родственные ему гены) не встречается нигде. Зато внутри опистоконтов распространен очень широко. Ген Brachyury есть у всех многоклеточных животных, у самых разных мезомицетозоев, у криптомицетов, у хитридиевых грибов и еще у одной относительно примитивной группы грибов, которая называется зигомицетами. Унаследовать его они могли только от общего предка всех опистоконтов: конфигурация эволюционного древа просто не оставляет других возможностей. А вот у воротничковых жгутиконосцев и у высших грибов гена Brachyury нет. Причем из положения этих групп на древе однозначно следует, что у их предков он когда-то был, но оказался утрачен за ненадобностью.
Итак, ген Brachyury имеется у мезомицетозоев и у многоклеточных животных, но потерян у воротничковых жгутиконосцев (которые, напомним, на эволюционном древе находятся к животным ближе всего). По-видимому, из этого неумолимо следует, что жизненный цикл современных воротничковых жгутиконосцев вторично упрощен. У реального предка многоклеточных животных он наверняка был гораздо сложнее[333]. Увы, мы не знаем точно, каким был этот предок. Эволюционное древо опистоконтов вообще полно провалов: по нему видно, что многие переходные формы давно вымерли и, скорее всего, не уцелели даже в палеонтологической летописи. Что-то (но не все) сохранили от общих предков мезомицетозои, а что-то (но не все) — воротничковые. То, что предок животных сочетал в себе некоторые признаки обеих этих групп, можно утверждать наверняка. Кроме того, в последнее время накапливаются молекулярные данные, позволяющие считать, что мезомицетозои — это не эволюционная ветвь, а эволюционный уровень, объединяющий всех примитивных родственников животных[334] [335]. Тогда прямые предки животных просто неизбежно должны были через этот уровень так или иначе пройти.
Скорее всего, когда-то мезомицетозои (или их близкие родственники) были свободноживущими и населяли море. Но затем их постигла обычная судьба архаистов, переживших свое время: они были вытеснены из большинства местообитаний и сумели уцелеть только ценой глубокой специализации, в данном случае — ухода в паразитизм. Причем вполне вероятно, что вытеснили мезомицетозоев их же собственные потомки. “Эволюция уничтожает свои причины”. Подобные примеры история жизни на Земле знает. Правда, в данном случае мезомицетозои “в отместку” научились на своих потомках паразитировать.
Теперь мы можем подвести некоторые итоги, и прежде всего — понять, как в целом выглядит эволюционное древо супергруппы опистоконтов (см. рис. 15.9). Эта супергруппа состоит из двух больших ветвей: Holomycota (“все грибы”) и Holozoa (“все животные”). К ветви Holomycota относятся нуклеарииды, опистоспоридии, хитридиомицеты и высшие грибы. К ветви Holozoa — мезомицетозои (в широком смысле этого слова), воротничковые жгутиконосцы и многоклеточные животные.
Высшие грибы — группа, эволюция которой связана с сушей. По глубине приспособленности к наземному образу жизни с ними могут сравниться разве что цветковые растения (животные остаются далеко позади). У всех грибов, кроме хитридиевых, жизненный цикл полностью лишен жгутиковых стадий. У них не бывает никаких подвижных половых клеток, а расселяются они с помощью спор, рассчитанных на перенос по воздуху. Поэтому размножение грибов не зависит от наличия жидкой воды. Правда, грибнице все равно нужна для роста высокая влажность, но независимость размножения от воды тем не менее заметно расширяет их экологические возможности. Примерно 98% современных видов грибов относится к группе Dikarya, у которой половой процесс, как правило, сводится к обмену клеточными ядрами между вступившими в контакт нитями разных грибниц[336]. В частности, к этой группе относятся все шляпочные грибы, плодовые тела которых мы называем “грибами” в обыденной жизни.
Раньше грибами считались еще и оомицеты, которые на самом деле, как мы теперь знаем, представляют собой бесхлоропластные разножгутиковые водоросли, относящиеся к группе страменопилов. Среди прочих признаков грибы отличаются от оомицетов способом синтеза лизина — аминокислоты, которая входит в состав белков (см. главу 3). Формула лизина следующая: CH2(NH2)–CH2–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH. У большинства эукариот, в том числе и у оомицетов, лизин синтезируется через диаминопимелиновую кислоту (HOOC–CH(NH2)–CH2–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH). Это так называемый ДАП-путь. Но у грибов лизин синтезируется другим путем, через альфа-аминоадипиновую кислоту (HOOC–CH2–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH). Это так называемый ААА-путь[337]. Из этих двух путей ДАП-путь — намного более распространенный и, судя по всему, более древний. Почему же грибы перешли на ААА-путь? Очевидно, их предки на каком-то эволюционном этапе вообще потеряли способность синтезировать лизин, а потом восстановили ее с нуля[338]. И в соответствии с законом необратимости эволюции восстановление получилось неточным. Но почему же предки грибов разучились синтезировать лизин? Не потому ли, что они были внутриклеточными паразитами и могли получать аминокислоты прямо из клеток хозяев? Это вполне логичное объяснение, но верно ли оно, мы пока не знаем.
Многоклеточные животные — группа, которая по-латыни называется Metazoa. Это единственная во всей живой природе Земли эволюционная ветвь, в которой есть многоклеточные хищники. Обратим внимание, что практически все жизненные формы, о которых мы раньше говорили — колониальные и многоклеточные водоросли, амебы, слизевики, грибоподобные осмотрофы, — возникали в разных группах эукариот по несколько раз. В эволюции это обычное дело. И только многоклеточные хищники составляют тут исключение: у них аналогов нет.
Хищниками, однако, можно назвать далеко не всех многоклеточных животных. Группа Metazoa включает пять эволюционных ветвей: губки, пластинчатые, гребневики, стрекающие и билатерии, они же двусторонне-симметричные (см. рис. 15.10). Губки — это сидячие неподвижные существа, которые проводят жизнь, будучи прикрепленными ко дну или подводным предметам, и питаются за счет фильтрации воды. А единственный представитель пластинчатых — трихоплакс, существо хоть и подвижное, но размером с крупную амебу (порядка миллиметра) и устроенное по меркам многоклеточных животных исключительно просто. Все, на что способны губки и трихоплакс, — это поглощать микроскопические пищевые частицы, которые им попадаются. При таком способе питания многоклеточность хоть и полезна, но не обязательна.
Совершенно иначе обстоит дело у животных, имеющих нервную систему, мышцы и рот. Иногда их называют “настоящими многоклеточными животными”. Они могут активно искать и захватывать крупную добычу, нередко сравнимую по размеру с самим хищником. Скорее всего, выход на эволюционный уровень “настоящих многоклеточных животных” произошел дважды: у гребневиков и у общего предка стрекающих с билатериями. Есть серьезные указания на то, что нервная система была независимо “изобретена” в этих двух эволюционных линиях[339] [340] [341]. То же самое относится и к мускулатуре. У гребневиков она относительно слабая, эти животные плавают в основном за счет биения ресничек. У стрекающих и билатерий тоже может сохраняться ресничное движение (коловратки, плоские черви, многие морские личинки), но обычно оно сочетается с гораздо более эффективным мышечным движением.
В группу стрекающих входят медузы и полипы (гидры, актинии, кораллы). Стадии плавающей медузы и сидячего полипа часто чередуются у них в одном жизненном цикле. Почти все стрекающие — хищники. Признак, давший им название, — стрекательные клетки, которые поражают добычу выбрасывающимися нитями. Симметрия тела у стрекающих лучевая, с центральной осью и несколькими равноценными сторонами. Но есть гипотеза, что лучевая симметрия стрекающих — вторичная, возникшая на основе двусторонней симметрии, которая была у их ползающих предков[342]. Если это верно, то первичная лучевая симметрия есть только у гребневиков.
И наконец, двусторонне-симметричные животные, или билатерии, — это необыкновенно разнообразная эволюционная ветвь, богатая оригинальными планами строения (см. рис. 15.11). В теле билатерий выделяются срединная плоскость, спинная и брюшная сторона, передний и задний концы. Часто оно делится еще и на сегменты. На переднем конце обычно концентрируются органы чувств и разрастаются нервные узлы. Чтобы обеспечивать развитие такого тела в каждом жизненном цикле, у билатерий возникло много новых регуляторных генов[343]. А это, в свою очередь, способствовало бурной эволюции новых форм. Некоторые билатерии стали сидячими и (или) сменили двустороннюю симметрию на лучевую. Некоторые, как садовая улитка, приобрели диссимметрию, охватившую значительную часть их тела. Некоторые до предела уменьшились в размере, став невидимыми невооруженным глазом, но сохранив почти все системы органов. Некоторые перевернулись, так что спинная и брюшная стороны у них поменялись местами. Некоторые удлинились до нескольких сотен сегментов, а другие, наоборот, вовсе отказались от сегментации. Некоторые выработали сложный наружный скелет, а некоторые — еще более сложный внутренний. Изучением этого невероятного богатства форм животных занимается сравнительная анатомия — интереснейшая наука, но погружение в нее, к сожалению, увело бы нас слишком далеко за пределы тем, охваченных этой книгой.
Новые горизонты
Знаменитый американский физик-теоретик Джон Арчибальд Уилер однажды сказал: “Мы живем на острове, окруженном морем нашей неосведомленности. По мере того как растет остров знания, растет и береговая линия соприкосновения с неведомым”.
Конечно, Уилер был прав. Любой научный прорыв решает и закрывает те или иные вопросы, которые раньше были актуальными (и могли мучить исследователей столетиями). Но одновременно он тут же порождает новые вопросы и ставит новые задачи, недоступные прежним поколениям ученых. Причем этих новых вопросов и задач обычно больше, чем прежних. Так в принципе устроена технология познания. Хорошо это или плохо, но мы никогда не дождемся конца науки. Даже если человечество просуществует несколько миллиардов лет и доживет до превращения Солнца в красный гигант, то и тогда любой ученый, скорее всего, найдет для себя не меньше интересных нерешенных вопросов, чем он может найти сейчас. Хотя, разумеется, вопросы эти к тому времени будут другими — невообразимыми для нас.
Достигнутое в начале XXI века установление истинного (в хорошем приближении) эволюционного древа эукариот вписывается в эту тенденцию. Те, кто его установил, после этого и не думали почивать на лаврах. Они оценили достигнутое, увидели, какие новые вопросы оно порождает, и стали искать ответы на эти вопросы, привлекая новые данные (в первую очередь генетические) и организуя работу по принципу последовательных приближений. И эти исследования сейчас вовсю продолжаются. Увы, любая попытка дать их полную сводку превратила бы эту главу в реестр латинских названий, который никто не стал бы читать. В этой области, условно говоря, еще не улеглась пыль. Поэтому сейчас мы ограничимся в основном теми новыми фактами, которые установлены уже более-менее бесспорно и у которых к тому же есть ясный биологический смысл. Ну, и добавим пару поправок, без которых в наше время уж совсем не обойтись.
Первой такой поправкой стало переименование супергруппы растений. Во всемирно известной сводке, которую выпустил в 2005 году большой международный коллектив протистологов, это название было сочтено неудачным по причине его исторически сложившейся двусмысленности[344]. Вместо него предложили название Archaeplastida (“имеющие древние хлоропласты”). Название Plantae в этой версии системы было сохранено только за высшими наземными растениями, то есть за теми, кого иначе называют Embryophyta.
Исчезла ли в результате этих переименований двусмысленность, вопрос спорный. Но так или иначе название “архепластиды” сейчас очень распространено. Смысл его прост: это единственная супергруппа эукариот, где хлоропласты произошли прямо от цианобактерий, а не от каких-нибудь других эукариот со своими собственными хлоропластами внутри.
Есть, впрочем, и такие авторы, которые как ни в чем не бывало продолжают называть архепластид растениями[345]. Право на это у них есть, потому что выбор названий для групп такого ранга не регламентирован никакими строгими правилами. В данном случае это больше вопрос моды, чем правил.
Добавим, что первичные хлоропласты архепластид — особенность чрезвычайно характерная, но все же не уникальная. Раковинная амеба паулинелла, относящаяся к супергруппе ризарий, тоже приобрела первичный хлоропласт, возникший из захваченной цианобактерии, причем сделала это эволюционно очень недавно (скорее всего, порядка 100 миллионов лет назад). Предок архепластид, безусловно, приобрел свои хлоропласты гораздо раньше.
В 2007 году обнаружилась куда более серьезная проблема. Генетические исследования показали, что группа Rhizaria примерно так же близка к группам Alveolata и Stramenopiles, как и эти две группы друг к другу[346] [347]. Это не раз перепроверяли, и результат получался тот же самый. Попросту говоря, ризарии встраиваются внутрь хромальвеолят. Более подробные молекулярные исследования вроде бы показывают, что ризарии генетически ближе к альвеолятам, чем к страменопилам[348]. Есть, однако, и результаты, противоречащие этому. В любом случае тут мы имеем компактный “куст” из трех ветвей. Этот “куст” стали называть SAR (Stramenopiles + Alveolata + Rhizaria).
SAR — единая эволюционная ветвь, к основанию которой примыкают рано обособившиеся, очень древние группы криптомонад и гаптофит. Положение этих групп на эволюционном древе до сих пор неясно, но, во всяком случае, в саму супергруппу SAR их предпочитают не включать[349]. Следует добавить, что одно время криптомонад и гаптофит считали единой эволюционной ветвью, которой дали название Hacrobia, но эта гипотеза так и не стала общепринятой[350] [351].
Что касается самой группы SAR, то у нее есть и альтернативное название — Harosa[352].
Главная проблема супергруппы SAR (= Harosa) состоит в том, что ей пока невозможно дать никакую осмысленную общую характеристику. Она выделена исключительно по молекулярно-генетическим данным, и в нее входят организмы, предельно различные по образу жизни и внешнему облику. Разве что кристы митохондрий у них трубчатые, но этот признак никак не является определяющим (он есть, например, у амебозоев, которые не имеют с SAR ничего общего). Как возникла группа SAR? Каким был ее предок? В чем уникальность ее эволюционного пути? Эти вопросы — настоящий вызов для биологов-эволюционистов.
Unikonta и Bikonta
В 2003 году уже знакомый нам Томас Кавалье-Смит, взявшись в очередной раз корректировать свои представления о филогенетическом древе с учетом новых данных, пришел к выводу, что супергруппы опистоконтов и амебозоев связаны тесным родством[353] [354]. По Кавалье-Смиту, амебозои и опистоконты образуют единую самостоятельную эволюционную ветвь. Это подтверждается и сходством жизненных форм (которое здесь налицо), и генетическими исследованиями. Например, только у опистоконтов и амебозоев слиты вместе три гена, кодирующие ферменты синтеза пиримидинов — очень важного для всех живых организмов класса молекул, в который входят цитозин, урацил и тимин (см. главу 7). Этого слияния нет ни у других эукариот, ни у бактерий, ни у архей. По всей вероятности, оно произошло только один раз. Именно по таким уникальным признакам и следует выделять родственные группы.
Эволюционная ветвь, состоящая из опистоконтов и амебозоев, называется Unikonta (одножгутиковые). Связано это с тем, что у них, натурально, один жгутик. По крайней мере, такое состояние в этой группе распространено довольно широко. У других эукариот жгутиков чаще всего два, если не считать случаев, когда один из них редуцирован — как у эвглены, к примеру.
Кавалье-Смит пошел и дальше. Он предположил, что все эукариоты делятся на две эволюционные ветви: Unikonta (одножгутиковые) и Bikonta (двужгутиковые). К униконтам относятся опистоконты и амебозои, а к биконтам — все остальные, включая экскават, хромальвеолят, ризарий и архепластид.
В чем биологический смысл деления эукариот на Unikonta и Bikonta? Кавалье-Смит не был бы Кавалье-Смитом, если бы не попытался ответить и на этот вопрос[355]. Он обратил внимание на то, что все основные группы Unikonta — это исходно обитатели твердых поверхностей (дна или почвы). Они легко переходят в прикрепленное состояние и, даже будучи подвижными, часто питаются, “заякориваясь” ложноножками на субстрате. В общем, их адаптивная зона — преимущественно придонная.
А вот Bikonta перешли от придонного образа жизни к плаванию в толще воды, среди планктона. Они приобрели второй жгутик, повышающий маневренность, и оболочки, основанные на каркасе из микротрубочек (как пелликула альвеолят), которые придают клетке постоянную форму, делая ее обтекаемой. Это позволило биконтам сначала научиться отлично плавать, а потом и захватить фотосинтезирующих симбионтов, ставших хлоропластами (у униконтов их нет). Неудивительно, что жизненные формы биконтов теперь гораздо разнообразнее.
К сожалению, этот изящный сценарий не выдержал проверки фактами. В 2009 году канадские исследователи Эндрю Роджер и Аластер Симпсон (с которыми мы встречались в начале этой главы) провели тщательное сравнение жгутиковых аппаратов разных одноклеточных эукариот и убедительно показали: общий предок всех современных униконтов наверняка имел два жгутика, а не один[356]. В таком случае называть остальных эукариот “биконтами” бессмысленно. К тому же единство эволюционной ветви биконтов не поддерживается большинством генетических исследований. Видимо, от этого таксона надо просто отказаться.
А вот гипотеза о существовании таксона Unikonta проверку выдержала. Молекулярно-генетические данные надежно подтверждают: супергруппы Opisthokonta и Amoebozoa в самом деле образуют единую эволюционную ветвь[357] [358] [359] [360]. Правда, большинство современных исследователей согласны с тем, что старое название этой ветви — одножгутиковые — не отражает исходное для нее состояние признаков[361]. Но во-первых, это всего лишь название, а во-вторых, одножгутиковых существ среди униконтов и вправду очень много. Иногда униконтов даже считают одной супергруппой, а опистоконтов и амебозоев — подразделениями внутри нее (например, Евгений Кунин в книге “Логика случая” именно так описывает систему эукариот). Что ж, с точки зрения филогенетической систематики это по-своему резонно.
Томас Кавалье-Смит, всегда внимательно относящийся к новым фактам, вскоре согласился, что предки как униконтов, так и всех эукариот когда-то имели два жгутика[362] [363] [364] [365] [366] Отсюда следует, что исчезновение второго жгутика у опистоконтов и у многих амебозоев — состояние производное. Тем не менее верным остается то, что адаптивная зона, которую выбрали униконты, — в самом деле придонная, не предполагающая (как правило) освоения водной толщи, зато связанная с поверхностью грунта. Именно поэтому униконты специализировались в основном к жизни в пресных водоемах или в почве[367]. Вот из этой-то группы и вышли миксомицеты, грибы, животные.
В серии относительно недавних работ Кавалье-Смит отказался от деления на Unikonta и Bikonta, зато разделил эукариот на два эволюционных уровня — Eozoa и Neozoa (см. рис. 15.12). Это решение имеет простой биологический смысл. Eozoa — это низшие эукариоты, которых раньше объединяли (а многие авторы объединяют и сейчас) в ветвь экскават. Однако, по мнению Кавалье-Смита, это на самом деле не ветвь, а эволюционный уровень, являющийся исходным для эукариот в целом. К нему принадлежат жгутиконосцы, имеющие два жгутика, — правда, один из них может редуцироваться (как у эвглены), или же, наоборот, их может становиться больше (как у гипермастигин). Кроме того, для примитивных жгутиконосцев-“эозоев” характерна внутренняя оболочка из микротрубочек — тоже как у эвглены. А вот передвижение с помощью ложноножек у них не развито.
Neozoa, по Кавалье-Смиту, — это высшие эукариоты, у которых возникли два расходящихся магистральных направления эволюции. Одни “неозои” освоили амебоидное движение, которое удобно при донном образе жизни и заодно способствует питанию путем фагоцитоза. Второй жгутик при этом стал не нужен, и во многих эволюционных линиях он исчез. По этому пути пошли униконты. Другие “неозои” сохранили два жгутика, а в придачу приобрели пелликулу и (или) клеточную стенку — структуры, придающие клетке жесткую обтекаемую постоянную форму. Это дало им возможность специализироваться к плаванию в толще воды и к фотосинтезу — последнее, конечно, с помощью захваченных симбионтов. По этому пути пошли SAR и растения, причем последние вообще потеряли способность к фагоцитозу из-за слишком прочной клеточной стенки.
Классификация “Eozoa/Neozoa” не получила большой популярности, потому что она противоречит принципам филогенетической систематики — та категорически запрещает выделение эволюционных уровней в качестве таксонов. Сейчас эта классификация интересна скорее как факт научной мысли, показывающий, что филогенетическая систематика — еще не окончательная истина.
Заодно тут возникает одна частная, но интересная задачка. Мы давно уже знаем, что митохондрии (у всех эукариот) и хлоропласты (у фотосинтезирующих) произошли от симбиотических бактерий. Предками митохондрий были альфа-протеобактерии, а предками первичных хлоропластов — цианобактерии (вторичные хлоропласты, происходящие от поглощенных эукариот с первичными хлоропластами внутри, нас в данном случае не интересуют). И митохондрии, и первичные хлоропласты имеют две мембраны. Логично предположить, что внутренняя мембрана митохондрии или первичного хлоропласта — это плазматическая мембрана захваченной бактерии, а внешняя — мембрана пищеварительной вакуоли ее эукариотного хозяина. Именно это и утверждала классическая теория эндосимбиоза.
Но давайте обратим внимание на то, что предки и митохондрий, и хлоропластов относятся к грамотрицательным бактериям. Это означает, что у них две мембраны — внутренняя и внешняя. После захвата такой бактерии эукариотной клеткой неизбежно образуется конструкция из трех мембран: мембрана пищеварительной вакуоли и две мембраны бактерии. Какая же из них была утрачена? Кавалье-Смит считает, что и в хлоропластах, и в митохондриях наиболее вероятна потеря самой внешней из трех мембран — той, что принадлежала пищеварительной вакуоли хозяина[368] [369]. Ибо потерять ее легче всего: в конце концов, захваченная бактерия просто разорвет эту мембрану, если вздумает внутри нее расти. Ко всему прочему, внешние мембраны митохондрий/хлоропластов и грамотрицательных бактерий совпадают по свойствам: и те и другие устроены как свободное “сито”, проницаемое для максимального числа всевозможных веществ (в отличие как от внутренней мембраны бактерии, так и от внутриклеточных мембран хозяина-эукариота). Так что первая приходящая на ум схема, скорее всего, неверна. И в митохондриях, и в хлоропластах сохранились обе мембраны грамотрицательных бактерий. У одной группы эукариотных водорослей, а именно у глаукофит из супергруппы Plantae, между мембранами хлоропласта сохраняются даже остатки клеточной стенки — пептидогликановой, как бактериям и положено[370]. Кстати, это самое что ни на есть прямое свидетельство происхождения хлоропластов от цианобактерий.
У Томаса Кавалье-Смита есть одна особенность, роднящая его со многими другими хорошими биологами-эволюционистами (начиная, пожалуй, с нашего соотечественника — палеонтолога Владимира Ковалевского). Он прекрасно понимает, что на установлении родственных отношений организмов серьезное изучение эволюции не заканчивается, а начинается. Эволюционная биология не просто наука о том, кто чей предок. В такой же, если не большей мере ее интересует, как и почему произошли те или иные эволюционные события. Например, положение человека на молекулярно-филогенетическом древе сейчас известно абсолютно точно: ближайшая к нему эволюционная ветвь состоит из шимпанзе и бонобо; эти виды разошлись уже после того, как их общий предок отделился от предка человека, и поэтому являются нашими родственниками в строго одинаковой степени. Ну и что? В конце концов, гораздо интереснее узнать, когда и почему человек стал прямоходящим, как при этом менялась его система размножения и социальная структура, для чего увеличился мозг, откуда взялась речь. В общем, выстроить полный эволюционный сценарий, дополняющий тот, который предложил в свое время гениальный Оуэн Лавджой (очень хорошее изложение этого сценария на русском языке можно найти в книге Дональда Джохансона и Мейтленда Иди “Люси”). Разумеется, такие сценарии должны быть проверяемыми, и надо быть готовыми к тому, что иногда они будут опровергаться. Но без них изучать эволюцию было бы просто скучно.
Теперь вернемся к эволюционному древу эукариот и подведем сухие итоги. Исследования последнего десятилетия помимо множества спорных гипотез (которые мы тут не обсуждаем) привели к твердому установлению двух важных фактов. Во-первых, вместо двух равноценных супергрупп — хромальвеолят и ризарий, занимающих на древе соседние места, мы теперь имеем дело с тремя близкими, но самостоятельными ветвями — страменопилов, ризарий и альвеолят, — которые приходится сводить в одну супергруппу: иначе этот пазл не складывается. Во-вторых (и что гораздо более важно), существует эволюционная ветвь Unikonta, состоящая из двух супергрупп — опистоконтов и амебозоев. Подчеркнем, что и опистоконты, и амебозои сами по себе реальны. Просто они вместе образуют ветвь более высокого порядка.
Таким образом, шесть супергрупп эукариот теперь можно свести к четырем: экскаваты, униконты, растения (архепластиды) и SAR[371].
В капитальной коллективной сводке 2012 года группу Unikonta предложили переименовать в Amorphea[372]. Буквально это значит “бесформенные”: намек на то, что у многих представителей этой группы клетка не имеет постоянной формы. Лучше ли это, чем “одножгутиковые”, — вопрос такой же спорный, как и в случае с архепластидами, но, во всяком случае, в современных публикациях название Amorphea встречается нередко.
А можно ли еще сократить число главных естественных групп эукариот — хотя бы до трех, а лучше до двух? Вероятно, да, но с серьезной оговоркой: чем более древних ветвлений мы коснемся, тем менее надежными будут выводы. В случае с общим эволюционным древом эукариот эта зависимость — очень сильная.
В конце 2000-х появились генетические данные, указывающие, что, скорее всего, эукариоты распадаются на три мегаствола: униконты, экскаваты и растения + SAR[373] [374]. Тогда получается, что растения и SAR образуют единую мегагруппу, в которую входят почти все фотосинтезирующие организмы. Правда, у этой мегагруппы нет уже совсем никаких общих признаков, кроме генетических. Она установлена только благодаря сравнению последовательностей генов, кодирующих несколько сотен разных белков, и математической обработке этих данных. Мегагруппу, состоящую из растений и SAR, предложено называть Diaphoretickes (“разнообразные”), как раз в честь полного отсутствия общих структурных особенностей[375]. Такое вот парадоксальное название. В общем, по этой системе получается, что эукариоты состоят из трех эволюционных мегастволов, названия двух из которых — “бесформенные” и “разнообразные”. Сами эти слова показывают, сколько здесь неясного и насколько это направление исследований открыто для будущего. Не стоит к тому же забывать, что есть и третий мегаствол — экскаваты, уже знакомая нам группа, занимающая на древе особое положение.
Древо и взрыв
Сумма данных, которыми мы сейчас располагаем, не оставляет сомнений, что общий предок современных эукариот уже был полноценной эукариотной клеткой. У него было ядро, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, микротрубочки, микрофиламенты, митохондрии и жгутики. Был сложный метаболизм, обеспеченный хорошо знакомым биохимикам набором ферментов. Создается впечатление, что эукариотная клетка во всем ее великолепии появилась в эволюции жизни на Земле сразу в готовом виде. Сразу заметим, что это впечатление может быть и ложным, связанным просто с тем, что переходные формы вымерли, а палеонтологических данных не хватает (по первым шагам эволюции эукариот они вообще отсутствуют). Но так или иначе у общего предка всех современных эукариот полный набор перечисленных атрибутов уже точно был.
Что же произошло дальше с его потомками? Вот здесь структура эволюционного древа вполне может кое-что нам подсказать.
Начнем с того, что есть несколько четко установленных эволюционных стволов эукариот, существование которых бесспорно. Если исходить из общепринятых гипотез и пренебречь некоторыми мелочами, таких стволов можно насчитать девять: опистоконты, амебозои, архепластиды, страменопилы, ризарии, альвеоляты, гаптофиты, криптомонады и экскаваты. Современные генетические данные наводят на мысль, что все эти эволюционные стволы разошлись от некой очень компактной группы предков почти одновременно[376]. И с тех пор они остаются устойчивыми, хотя, конечно, продолжают давать новые формы каждый внутри себя. Иными словами, получается, что в истории эукариот был период чрезвычайно быстрой начальной дивергенции, после которого новые крупные эволюционные ветви уже не возникали. Все расхождения ветвей первого-второго порядка произошли в самом начале эволюции эукариот за такой короткий промежуток времени, что практически наложились друг на друга. Возможно, как раз поэтому выделить главные эволюционные стволы эукариот относительно легко, а вот определить степени их родства между собой очень трудно.
Эту идею нельзя назвать новой. На самом рубеже XX–XXI веков французский биолог Эрве Филипп, поддержанный группой коллег, высказал предположение, что трудность установления родственных связей между крупными ветвями эукариот не является следствием недостатка данных, а отражает реальное событие — “эукариотный Большой взрыв”[377] [378] [379]. Филипп считал, что триггером бурной эволюции эукариот стало увеличение содержания кислорода в атмосфере, вызвавшее симбиоз с предками митохондрий. Появление первого эукариота, обладавшего митохондриями, создало принципиально новую адаптивную зону, которую его потомки начали стремительно осваивать, эволюционируя во все возможные стороны. Вот тогда-то все главные ветви эукариот и возникли. На эволюционном древе соответствующий момент выглядит как мультифуркация — распад одной линии сразу на несколько (см. рис. 15.13). И это не артефакт, связанный с недостатком данных, а отражение реальных особенностей эволюционного процесса в то время и в том месте. Численные прикидки здесь таковы: эукариоты существуют на Земле никак не меньше двух миллиардов лет, но все их основные эволюционные ветви, вероятно, возникли за первые десятки миллионов лет, и уж во всяком случае — не более чем за первые 100 миллионов лет[380].
В общем, “сейчас представляется, что все известные линии эукариот, дожившие до современности, возникли за промежуток времени, гораздо более короткий, чем время, прошедшее с тех пор. А отсюда следует важный вывод: ни одна современная группа эукариот не может быть значительно примитивнее других”[381].
Когда стало понятно, что построить филогенетическое древо эукариот все же удается, иные исследователи сочли было это мнение Эрве Филиппа старомодным заблуждением[382]. Но не исключено, что тут они поспешили с выводами.
Во-первых, эволюционный процесс не может идти совершенно одинаково во все времена и во всех таксонах. Существует такое понятие, как “эволюция эволюции”[383]. А возникновение эукариотной клетки — это одно из самых уникальных событий во всей истории жизни на Земле, и нет ничего удивительного, если в его временной окрестности эволюция шла в необычном (с нашей точки зрения) режиме.
Во-вторых, необычность этого режима все-таки не стоит преувеличивать. Ситуация, когда за короткий промежуток времени один предок дает множество эволюционных ветвей, давно известна биологам и особенно палеонтологам: она называется взрывной эволюцией (explosive evolution)[384] [385]. Хорошо изученные примеры таких событий есть, например, в эволюции млекопитающих[386]. Ничто не мешало подобному “взрыву” произойти и в начале эволюции эукариот. Напротив, к этому были все предпосылки. И тут не надо допускать никаких неизвестных факторов, все вполне укладывается в классическую эволюционную теорию.
Если “эукариотный Большой взрыв” действительно имел место, то нам, как ни странно, не столь уж и важно знать, в каком именно порядке там расходились главные эволюционные стволы[387]. В любом случае первые члены этих стволов почти ничем не отличались друг от друга: при эволюции путем дивергенции иначе и быть не может. А вот что по-настоящему интересно — это кто из них к чему приспосабливался и как они потом делили между собой адаптивные зоны. Обо всем этом мы пока знаем очень мало. Но, видимо, узнаем и больше: установленное эволюционное древо дает для этого неплохую основу.
“Микроцарства”
Настало время сделать очередной шаг вперед. Мы уже успели привыкнуть к тому, что эукариоты делятся на пять-шесть супергрупп. И даже если границы этих супергрупп несколько перекраиваются, общая картина остается более-менее той же.
Проблема в том, что существует несколько небольших групп эукариот, которые ни в какие супергруппы включить не удается (по крайней мере, без серьезных трудностей, натяжек и споров). Мы уже упоминали две такие группы — это гаптофиты и криптомонады. Но есть и другие, менее известные, зато еще более загадочные.
Известный протистолог Ян Павловский метко назвал эти загадочные группы “микроцарствами”[388]. Обсудить их все тут нет никакой возможности, иначе эта глава превратится в справочник. Краткое перечисление тем более не выход: те, кто всерьез заинтересуется темой, легко найдут его в научных статьях, а всех остальных множество мудреных латинских названий скорее отпугнет. Поэтому, чтобы получить какое-то представление о сути дела, но в то же время не запутаться, мы сейчас кратко поговорим всего о трех живых организмах, явно относящихся к “микроцарствам”. В двух случаях это будут отдельные роды, а в третьем — группа из нескольких родов: бревиата, коллодиктион и апузомонады (см. рис. 15.14).
Бревиата — это одноклеточное амебообразное существо со жгутиком, живущее в солоноватых водоемах. Жгутик у бревиаты один и направлен вперед, в отличие от опистоконтов, у которых он тоже один, но направлен назад. При этом второй жгутик у нее, безусловно, когда-то был: электронная микроскопия обнаружила в клетке его остатки[389] [390]. Наряду со жгутиком у бревиаты есть и ложноножки — вполне типичные, как у самой настоящей амебы. Положение бревиаты на эволюционном древе остается спорным. Достаточно правдоподобно выглядит версия, что это самый примитивный современный представитель супергруппы амебозоев[391]. Тогда получается, что эволюционная ветвь, которую образует бревиата, — сестринская по отношению ко всем остальным амебозоям, вместе взятым. Но иногда бревиату вообще не включают в супергруппу амебозоев, оставляя за ее пределами[392]. И возможно, это разумнее, учитывая, что есть и такие результаты, которые больше сближают бревиату с опистоконтами[393]. В любом случае получается, что бревиата примыкает к самому основанию какой-то из этих двух смежных ветвей. А что, если в лице бревиаты перед нами и вовсе третья ветвь, имеющая тот же ранг, что опистоконты с амебозоями, и возникшая одновременно с ними? Такая гипотеза труднопроверяема (и потому непопулярна), но с точки зрения эволюционной теории в ней нет ничего невероятного.
Интересно, что бревиата предпочитает жить в воде с очень низким содержанием кислорода. Поэтому у нее нет митохондрий, хотя есть митохондриальные гены, успевшие мигрировать в ядро. Учитывая, насколько бревиата примитивна (то есть насколько древней эволюционной ветвью она является), вполне можно было бы предположить, что митохондрий у нее никогда и не было. К сожалению, это опровергается твердо установленными генетическими фактами, против которых не пойдешь. Природа далеко не всегда так экономична, как от нее этого ждут люди. Бревиата — в самом деле очень древнее существо, но митохондрии она тем не менее успела когда-то приобрести, а потом утратить.
Апузомонады — жгутиконосцы, которые живут в морских донных отложениях, на дне пресных водоемов, а часто и в почве: капельно-жидкой воды для них там вполне достаточно. Это отличный пример жизненной стратегии, типичной для “одножгутиковых” в классическом понимании Кавалье-Смита[394]. Жгутиков у апузомонад тем не менее два. Они не несут никаких волосков, но направлены в разные стороны: один — вперед, а другой загнут и тянется вдоль тела клетки (поэтому под микроскопом его бывает плохо видно). Жгутиконосец-апузомонада скользит по грунту, работая жгутиками, а на “брюшной” — то есть обращенной к субстрату — стороне он образует ложноножки, которыми захватывает бактерий[395]. Группа эта относительно немногочисленная, но в то же время широко распространенная. Благодаря особенностям своего образа жизни апузомонады легко преодолевают экологические барьеры как между пресными водами и морем, так и между любыми водоемами и почвой[396]. Поэтому весьма вероятно, что именно апузомонады (или какие-то похожие на них существа) первыми среди эукариот вышли на сушу.
Положение этой группы на древе долго было неопределенным. Скорее всего, апузомонады все же примыкают к опистоконтам[397] [398] [399]. Однако ни в группу Holomycota, ни в группу Holozoa ветвь апузомонад не входит — она отошла от ствола опистоконтов раньше, чем эти группы разделились.
Кроме того, в последние несколько лет появились молекулярные данные, позволяющие объединить бревиат, апузомонад и опистоконтов в единую группу, которая получила название Obazoa[400]. Это название образовано от сокращений: O — Opisthokonta, B — Breviatea, A — Apusomonadida. Если это подтвердится, значит, Unikonta (они же Amorphea) распадаются на ветви Amoebozoa и Obazoa. Такая версия мегасистемы уже вошла в некоторые современные руководства[401].
Интересен вопрос о кристах митохондрий. У апузомонад кристы трубчатые, как у амебозоев. Но у другой сходной с ними группы жгутиконосцев — анкиромонад — кристы пластинчатые, как у опистоконтов[402]. Палеонтологи прекрасно знают, что признаки, обычно характеризующие крупные эволюционные стволы, могут быть очень изменчивыми на ранних этапах эволюции, когда эти стволы еще не разошлись или разошлись едва-едва. Вот такой случай наблюдается и тут.
И наконец, коллодиктион. Мы уже вскользь упоминали это существо в главе 10, но сейчас есть несомненный повод вспомнить о нем еще раз. Коллодиктион был открыт еще во времена Чарльза Дарвина. Однако понимать, насколько особое место он занимает в живой природе, биологи стали только к началу XXI века[403] [404]. Итак, коллодиктион — это довольно крупный пресноводный жгутиконосец. У него четыре одинаковых жгутика, направленных вперед. Кроме того, у него есть ложноножки, причем широкие, лопастевидные, как у амебозоев. На “брюшной” стороне, обычно обращенной к грунту, у коллодиктиона находится ротовая бороздка, армированная со стороны цитоплазмы корешками из микротрубочек. Этот признак мы уже встречали у экскават, которые именно ему и обязаны своим названием. Кристы митохондрий у коллодиктиона трубчатые. По образу жизни он — хищник, причем склонный питаться довольно крупными объектами. Чаще всего это эукариотные зеленые водоросли, иногда одноклеточные, а иногда и колониальные — вплоть до восьмиклеточных колоний (см. рис. 10.5, на котором это зафиксировано). Причем проглоченные водоросли коллодиктион переваривает настолько медленно, что они, по-видимому, успевают у него поработать в качестве хлоропластов — прекрасная модель ранних этапов симбиотической эволюции.
Что же это за существо такое? Здесь нас ожидает сюрприз — впрочем, не такой уж и большой, если учесть все то, что мы к данному моменту уже знаем. Молекулярные исследования показывают, что коллодиктиона нельзя без натяжек включить ни в одну супергруппу эукариот[405] [406] [407] [408]. Это особая эволюционная ветвь — ранний выброс “эукариотного Большого взрыва”. Бревиату, апузомонад и некоторые другие группы тоже можно назвать такими “ранними выбросами”, но коллодиктион, возможно, самый древний из них.
Задумаемся. Очень похоже, что ветвей эукариот, соответствующих по рангу традиционным супергруппам, на самом деле куда больше, чем пять или шесть (см. рис. 15.15). Просто далеко не все из них достигли большого разнообразия. И те, кто его не достиг, статуса супергрупп не удостоились. Хотя объективно, по положению на древе, они вполне могут быть равноправны таковым (как, например, бревиаты равноправны амебозоям).
Коллодиктион — организм, настолько близкий к общему предку всех современных эукариот, насколько это вообще возможно. Его единственный явно производный признак — четыре жгутика. По всей видимости, у общего предка всех современных эукариот жгутиков было два. Но мы знаем, что увеличение числа жгутиков много раз происходило в эволюции экскават (к которым коллодиктион относительно близок), и он просто оказался еще одной группой, независимо от других пошедшей по этому пути. Скорее всего, в его случае это связано с тем, что коллодиктион за свою долгую историю успел специализироваться на питании сверхкрупной добычей — другими эукариотами. Это вызвало увеличение размера, а оно потребовало дополнительных органов движения. И неудивительно, что это относительно недавняя специализация: ведь во времена самых первых эукариот никаких других эукариот, которыми можно было бы питаться, еще просто не существовало в природе.
Состояние всех остальных признаков у коллодиктиона примерно такое, какого и можно было бы ожидать от древнейшего эукариота. Но история со жгутиками здесь очень показательна. Каким бы древним коллодиктион ни был, он, прежде всего, является реальным живым существом, а вовсе не ожившей схемой. А жить — значит специализироваться.
Ну а теперь — торжественный момент. Зная все, что нам сейчас известно, мы можем легко представить себе реального общего предка всех современных эукариот и достаточно подробно описать его. Безусловно, это был жгутиконосец. Одновременно со жгутиками он, скорее всего, имел ложноножки — примерно того же типа, что у обыкновенной амебы, но менее развитые и используемые только для захвата пищи, а не для передвижения. Жгутиков у него было два (без всяких волосков на них). Кристы митохондрий, скорее всего, были трубчатыми, с меньшей вероятностью — пластинчатыми, но в любом случае их форма легко менялась от вида к виду: на том эволюционном этапе этот признак еще не устоялся. Образ жизни был придонным: жгутиконосец передвигался в основном у поверхности грунта, лишь изредка поднимаясь в толщу воды, поэтому в его клетке дифференцировались “спинная” и “брюшная” стороны. На “брюшной” стороне, скорее всего, была продольная ротовая бороздка — та самая, которая сохранилась в супергруппе экскават и благодаря которой эта супергруппа получила свое название. И конечно, наш предок был хищником — в той мере, в какой в тогдашнем мире вообще было возможно хоть какое-то хищничество. Он питался всеми, кого мог поймать, и занимал самую вершину пищевой пирамиды.
Обычному человеку может быть нелегко совместить с наглядными представлениями о мире тот факт, что его личный прямой предок — ничуть не менее прямой, чем дед или прадед, — когда-то, пару миллиардов лет назад, был одноклеточным жгутиконосцем, похожим на коллодиктиона. Но, судя по всему, это чистая правда. Как сказал герой известной пьесы Григория Горина: “Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле”.
Многоклеточность
Вся биология когда-то началась с изучения многоклеточных организмов. Это совершенно естественно. “Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом”, — легко заметить, что в этом классическом списке, порожденном трепетным подсознанием героини Чехова, девять наименований из десяти относятся к многоклеточным существам, которые были объектами науки еще во времена Аристотеля. Изучение природы всегда начинается с очевидного, а к менее очевидному переходит лишь постепенно.
Давайте еще раз взглянем на знакомое нам теперь эволюционное древо эукариот. Перед нами великое множество эволюционных ветвей, большинство из которых — это бросается в глаза — состоит из одних только одноклеточных организмов, как правило, и в самом деле невидимых простым глазом: их удалось открыть только после изобретения микроскопа. Несколько меньше — ветвей, в которых есть колониальные формы, и совсем уж немного тех, где возникает многоклеточность в самом полном смысле этого слова. Например, многоклеточные животные — это всего лишь одна из нескольких сотен (без преувеличения) эволюционных ветвей аналогичного ранга[409].
Что же интересного в таком редком явлении, как многоклеточность? Какой, собственно, вклад в картину мира она дает? И в конце концов, достойна ли она вообще глубокого фундаментального интереса? Может быть, значение исследований многоклеточных организмов в основном прикладное — для медицины, ветеринарии, сельского хозяйства и тому подобных отраслей?
Обойти эти вопросы было бы интеллектуальной нечестностью. К счастью, ответ на них достаточно очевиден. Любой многоклеточный организм предоставляет нам для изучения множество интереснейших явлений, которых ни у каких одноклеточных просто-напросто не существует. Это программирование зародышевого развития, в ходе которого тысячи клеток должны располагаться в пространстве заданным образом, обновляя это расположение с каждым очередным клеточным делением; работа генных сетей, тончайшим образом регулирующих экспрессию разных генов в разных клетках; клеточная дифференцировка; гормональная сигнализация; регуляция обмена веществ на уровне целого организма; и наконец, работа сложнейшего из всех известных нам природных объектов — человеческого мозга. Неудивительно, что огромная доля биологов занималась (и, вероятно, всегда будет заниматься) именно этими вопросами. Можно смело утверждать, что даже если бы во Вселенной существовал всего лишь один вид многоклеточных организмов, притом не имеющий никакого практического значения, то и тогда он заслужил бы огромное внимание биологов, к какой бы форме жизни сами эти биологи ни относились. Им было бы ясно, что они столкнулись с принципиально новым способом организации живой материи, который грех не попытаться изучить как следует. В похожей ситуации оказались, например, герои лемовского “Соляриса”. Организм, который они обнаружили, был единственным в своем роде и не имел для Земли никакого практического значения, но тем не менее он сразу вызвал к жизни целую область науки — соляристику. Лем прекрасно понимал психологию ученых, в реальности все так и было бы.
Кроме того, появление многоклеточных организмов самым серьезным образом изменило облик Земли как планеты. Они повлияли и на состав атмосферы, и на ландшафты, и на глобальные круговороты разных химических элементов (в первую очередь углерода), и на климат. Без многоклеточной жизни Земля выглядела бы совершенно иначе.
Итак, многоклеточность — это важно. Увы, компактно обсудить ее у нас сейчас не получится. Дело в том, что способы реализации многоклеточности в разных группах организмов слишком различны, чтобы о них можно было хотя бы в самом общем приближении рассказать как о едином целом. Этим занимаются специальные науки — зоология, ботаника, альгология (наука о водорослях) и микология (наука о грибах), — погрузиться в которые в этой книге нет никакой возможности: как сказал классик, никто не обнимет необъятного. К счастью, и о многоклеточных животных, и о многоклеточных растениях, и даже о грибах источников информации для желающих хватает (о грибах, например, есть книга “Занимательная микология”, которую написал один из самых блестящих профессоров биофака МГУ — Юрий Таричанович Дьяков). А мы тут поневоле ограничимся общими моментами.
Для начала представим себе простенькую зеленую водоросль с двумя жгутиками — вроде хламидомонады, той самой, которая описана в школьном учебнике ботаники. Она, безусловно, одноклеточная. Но если она поделится, а потом еще раз поделится и образовавшиеся клетки почему-либо не разойдутся, то мы получим колонию из четырех клеток — а значит, уже многоклеточное существо, по крайней мере сугубо номинально. И такие четырехклеточные колонии реально существуют (зеленая водоросль гониум, например). Если делений будет больше, то образуются колонии из 8, 16, 32, 64 клеток: все эти примеры тоже реальны. При этом экспериментально установлено, что грань между колонией, где все клетки одинаковы и обладают равными возможностями, и организмом, где они начинают необратимо специализироваться, в данном случае проходит на уровне 32-клеточной водоросли эудорины. “Любая из 32 клеток Eudorina elegans также способна дать новую колонию. Однако у 32-клеточных Eudorina illinoisensis четыре передние клетки более мелкие, они уже не могут участвовать в размножении, представляя дифференцированную и не способную к инициальной роли часть колониальной особи”[410]. Именно здесь мы видим рубеж между колонией, члены которой потенциально могут разойтись и жить независимо, и организмом, откуда обратного хода нет. Но означает ли это, что эудорина находится на одной ступени организации с метасеквойей, пшеницей, слоном или человеком? А если нет, то в чем между ними разница?
Известный американский протистолог Джон Корлисс решил, что разбираться в этом нужно, основываясь на понятии ткани[411] [412]. По общепринятому определению, ткань — это система клеток и межклеточного вещества, объединенных происхождением, строением и выполняемыми функциями. Так вот, Корлисс предложил считать, что протистом называется любой эукариотный организм, имеющий не более одной ткани. Тогда получается, что к протистам относятся все одноклеточные... и некоторые многоклеточные тоже. Например, любая нитчатая водоросль, хоть она и многоклеточная, должна считаться протистом, потому что никакого разнообразия тканей у нее нет.
В то же время определение Корлисса четко указывает границу, за которой отнести живое существо к протистам уже при всем желании нельзя. Например, у многоклеточного протиста не может быть никакой сосудистой системы, потому что она по самой своей природе требует наличия хотя бы двух тканей: той, из которой состоят сосуды, и той, которая их окружает и через них снабжается.
Организмы, имеющие не менее двух полноценных тканей, Корлисс вполне логично назвал многотканевыми. Например, все многоклеточные животные бесспорно попадают в эту категорию. У любого уважающего себя животного, даже если у него нет нервной системы и мышц, есть хотя бы две ткани: эпителиальная (покровная) и соединительная, занимающая внутренний объем и богатая межклеточным веществом. И той и другой необходимы межклеточные контакты, о которых мы упоминали в конце главы 10. Для эпителиев особенно важны плотные контакты и десмосомы, а для соединительной ткани — фокальные контакты, которые позволяют клеткам закрепляться на волокнах межклеточного вещества.
По мнению Корлисса, на уровень многотканевых организмов вышли всего две эволюционные ветви: многоклеточные животные (Metazoa) и высшие растения (Embryophyta). Все остальные до полноценной многотканевости, грубо говоря, недотянули. Ближе всех к ней подошли некоторые водоросли — бурые, красные, а также харовые, которые близки к наземным растениям и раньше считались их прямыми предками. Но Корлисс все равно считает их всех протистами, несмотря на то что длина некоторых бурых водорослей достигает 60 метров. У грибов многотканевость сомнительна, и по классификации Корлисса грибы — тоже протисты. Они потенциально способны выйти на многотканевый уровень, но им это просто не нужно. Есть одна группа грибов — лабульбениомицеты, паразиты насекомых, — в теле которых все-таки возникла практически настоящая тканевая организация. Клетки делятся там в разных направлениях и образуют целую трехмерную структуру, хоть и мелкую (доли миллиметра). Но в мире грибов это исключение, а не правило.
На грани перехода к многотканевости находятся некоторые слизевики, входящие в супергруппу амебозоев. Тут есть примеры, когда в плодовом теле возникает настоящая покровная ткань, причем устроенная поразительно похоже на эпителий животных[413] [414]. Более того, некоторые мембранные белки, обеспечивающие межклеточные контакты, у слизевиков те же самые, что и у животных[415]. Взглянув на эволюционное древо, мы видим, что слизевики и животные могли унаследовать эти белки только от общего предка всей мегагруппы Unikonta. Значит, молекулярная “машинерия”, позволяющая в принципе создать многоклеточность, у этого предка — очень древнего! — уже была на месте.
В высшей степени замечательно, что собственные слизевики нашлись не только в супергруппе амебозоев (куда входит большая их часть), но и в группе опистоконтов. Это фонтикула — с виду вполне типичный слизевик, у которого питающаяся стадия состоит из множества одиночных амеб, а для образования спор служит плодовое тело[416] [417]. Но типичные слизевики принадлежат к амебозоям. А вот фонтикула, как показала молекулярная генетика, вовсе к ним не относится. Она относится к супергруппе опистоконтов и занимает там место в основании “грибного” эволюционного ствола Holomycota — рядом с амебами-нуклеариидами, на которых ее амебоидная стадия, собственно, и похожа[418] [419]. Это означает, что в супергруппе опистоконтов (в которую, напомним, входят не только грибы, но и животные) была самостоятельно, хотя и на общей с амебозоями молекулярной основе, выработана жизненная форма слизевика. И как ни странно, это вполне ожидаемо. Слизевики независимо возникали в разных группах эукариот не меньше семи раз[420]. Единственная из традиционных супергрупп эукариот, в которой нет собственных слизевиков, — это растения (архепластиды). Во всех остальных супергруппах они есть. Как видим, жизненная форма слизевиков почему-то оказалась среди эукариот очень “популярной”. И мы не можем исключить, что через такую жизненную форму когда-то прошли предки многоклеточных животных.
История со слизевиками показывает нам еще одну важную вещь. Многоклеточный и даже многотканевый организм вовсе не обязан быть таким на протяжении всей своей жизни. У слизевиков и, если уж на то пошло, у грибов многоклеточные плодовые тела образуются только на коротком отрезке жизненного цикла. К тому же они никак не участвуют в питании, а служат только для размножения. В общем-то эти организмы вполне могли бы обойтись и без плодовых тел, если бы им не требовалось разбрасывать споры (и многие грибы действительно обходятся).
Теперь посмотрим под тем же углом зрения на эволюцию растений. Мы уже говорили о гипотезе, согласно которой предками наземных растений были пластинчатые зеленые водоросли, напоминающие современные колеохетовые (см. рис. 15.16А). Если эта гипотеза верна, то тело первого наземного растения должно было состоять из двух частей: фотосинтезирующая зеленая пластинка, погруженная в воду либо растущая на влажном грунте, и образующийся в период размножения воздушный стволик с коробочкой для разбрасывания спор (см. рис. 15.16Б–Д). Вот только этот стволик на первых порах и обладал многотканевой организацией. Основной части растения — зеленой пластинке, погруженной во влажную среду, — она была не нужна.
Не просматривается ли тут закономерность? Насколько мы можем судить, и у слизевиков, и у грибов, и у растений многотканевая организация начинает формироваться на временных непитающихся стадиях. И только потом (у растений) многотканевость распространяется почти на весь жизненный цикл, порождая хорошо нам знакомые жизненные формы трав, деревьев, кустарников. Заметим, что, например, у слизевиков ничего подобного не произошло. Правда, у некоторых из них бывают стадии ползающих многоядерных амеб, но там ни на какую многотканевость нет и намека. Плодовые же тела служат для размножения, и ни для чего больше.
Еще один фрагмент мозаики мы получим, обратившись к достижениям современной молекулярной биологии. Есть целая группа генов и белков, которые сначала считались уникальными для многоклеточных животных, но затем были обнаружены у воротничковых жгутиконосцев и мезомицетозоев — иначе говоря, у одноклеточных и колониальных представителей эволюционной ветви “животных в широком смысле”, которая называется Holozoa. Про один из таких генов мы уже говорили — это ген Brachyury, участвующий у позвоночных в развитии осевых структур. Но есть и другие: например, гены, кодирующие мембранные белки, обычно связанные у животных с межклеточными плотными контактами (теми самыми, что важны для эпителиальной ткани). Или тирозинкиназы — ферменты, переносящие фосфат от АТФ на остаток аминокислоты тирозина в белке-мишени (о том, что это за процесс, см. главу 7). Эти ферменты служат важными внутриклеточными посредниками в ходе сигнальных взаимодействий, которые — опять же — особенно важны для многоклеточных животных. Причем все перечисленные гены распространены как минимум по всей группе Holozoa, а некоторые и шире.
Какой же отсюда следует вывод? По всей вероятности, жизненный цикл общего предка всех Holozoa уже был достаточно сложным и включал в себя многоклеточную стадию — не обязательно питающуюся, вполне вероятно, что покоящуюся или расселительную[421]. Именно на этой сугубо временной стадии, скорее всего, и была первоначально “обкатана” многотканевость, которая затем, в одной специализированной эволюционной ветви, распространилась почти на весь жизненный цикл (см. рис. 15.17). И в результате возник один из сложнейших и красивейших объектов в известной нам Вселенной: животный организм, внутреннюю структуру которого изучает сравнительная анатомия.
Подвижные в подвижном
Животные — это многоклеточные организмы, образ жизни которых определяется неразрывной связью питания с движением. Любое животное или активно движется в среде, или столь же активно движет среду относительно себя — например, гонит воду бьющимися ресничками, попутно извлекая из нее питательные частицы. Иногда то и другое совмещается. Тогда мы видим фильтраторов, способных к активному движению, среди которых есть наши очень близкие (по меркам эволюционного древа) родственники: например, ланцетник и головастики некоторых лягушек. А вот обратный случай — неподвижное животное в неподвижной среде — почти невозможен. “Почти” — потому что тут, как и обычно в биологии, можно найти исключения: есть крайне специализированные паразиты, которые живут внутри других животных, а сами по образу жизни приближаются к грибам (хотя и у них есть подвижные личинки). Но это — отличный пример исключения, подтверждающего правило. Как сказал один хороший московский профессор зоологии, “во всех тех случаях, когда подвижность теряется, животные теряют свой образ и подобие”[142]. Типичному многоклеточному животному больше, чем любому другому живому существу, подходит девиз корабля капитана Немо: Mobilis in mobile — “Подвижное в подвижном”. Кстати, и свое название этот корабль получил в честь животного — головоногого моллюска наутилуса, свободно плавающего в океанской толще.
Именно с совершенством двигательной системы, скорее всего, связан эволюционный успех одной из самых разнообразных групп животных — типа хордовых (см. рис. 15.18). Этот тип не является самым многочисленным в животном царстве. Есть как минимум два типа, превосходящие его по числу видов: членистоногие и моллюски. Тем не менее разнообразие формы тела и образа жизни у хордовых огромно, а в экологических нишах, требующих крупного размера, они просто вне конкуренции. Почему? Тут стоит обратить внимание на тот самый признак, который дал типу хордовых название. Их “визитная карточка” — хорда, или спинная струна, тянущаяся вдоль большей части тела. Она связана с массивной сегментированной мускулатурой, которая позволяет животному двигаться, волнообразно изгибаясь (хорда при этих изгибах благодаря своей упругости не дает телу потерять форму). Получается очень эффективный двигательный аппарат, который иногда называют миохордальным комплексом. Никаких других уникальных преимуществ, кроме миохордального комплекса, у ранних хордовых, насколько можно судить, не было. Их эволюционный успех вызван необыкновенно удачной конструкцией опорно-двигательной системы, которая, с одной стороны, дала им возможность стать со временем лучшими в мире хищниками, увеличив размер и заняв самую вершину пищевой пирамиды, а с другой — создала потенциал для бурной эволюции на структурном уровне. Выражаясь современным языком, план строения хордовых имеет очень высокую эволюционируемость (evolvability)[143]. Но при этом даже на самых неожиданных эволюционных поворотах он не разрушается, а остается самим собой, сохраняя глубокое единство общей структуры — то, что великий сравнительный анатом XIX века Ричард Оуэн назвал архетипом позвоночных[144]. Сочетание высокой эволюционируемости с фундаментальной устойчивостью плана строения проходит красной нитью сквозь всю эволюцию хордовых животных, начавшуюся свыше 500 миллионов лет назад со скромного, длиной в несколько сантиметров, плавающего фильтратора — “подвижного в подвижном”. Как мы знаем, именно на этом эволюционном пути в конце концов возникли общество и разум.
ЧАСТЬ IV ИСТОРИЯ ЖИЗНИ
16. криптозой
И вновь, прорезав плотные туманы,
На теплые архейские моря,
Где отбивают тяжкий пульс вулканы,
Льет бледный свет пустынная заря.
И, размножая легких инфузорий,
Выращивая изумрудный сад,
Все радостней и золотистей зори
Из облачного пурпура сквозят.
Михаил Зенкевич. Темное родствоЗададимся следующим вопросом: можно ли рассматривать историю Вселенной как единый процесс, начавшийся Большим взрывом, охватывающий наше время и продолжающийся в неведомом космическом будущем? Средневекового книжника такой подход, вероятно, совсем не удивил бы. Написанная в XII веке хроника Оттона Фрейзингенского — “самая всеобщая из всех всеобщих историй”, по выражению великого историка-медиевиста Марка Блока, — начинается с сотворения мира и заканчивается Страшным судом. В конце XX века такое отношение к вещам возродилось в учебной дисциплине, которая получила название “большой истории” (Big History). Курсы “большой истории” выстраивают в единую последовательность события любого рода — от зарождения первых звезд до промышленной революции. Все развитие мира там представлено единой шкалой, охватывающей 13,8 миллиарда лет: примерно столько времени, по расчетам, прошло от Большого взрыва до современности.
Ясно, что “большая история” ставит себе грандиозную задачу. Требуемый для нее объем сведений (еще и стремительно растущий) очень трудно уложить в сколько-нибудь компактный рассказ. В этом отношении Оттону Фрейзингенскому приходилось куда легче, чем авторам, работающим с современными научными данными. Поэтому важнейшим понятием в “большой истории” является порог (threshold) — момент качественного изменения системы, дающий историку точку отсчета. В любом историческом процессе число по-настоящему значительных порогов относительно невелико. А привязав к ним обзор, можно “с птичьего полета” увидеть важные вещи, которые иначе могли бы и ускользнуть от внимания.
Попробуем, не вдаваясь ни в какие вселенские обобщения, применить этот подход к биологическому и палеонтологическому материалу. Мы сразу увидим, что за несколько миллиардов лет земная жизнь не раз миновала качественные пороги, любой из которых можно было бы и не пройти. Причем иногда это выглядело весьма драматично, напоминая пропасть, через которую перекинут узкий мост. И после каждого такого порога не только жизнь на Земле, но и вся Земля как планета серьезно менялась. Пущенное в оборот австрийским геологом Эдуардом Зюссом выражение “лик Земли” как нельзя лучше характеризует объект этих изменений.
Для удобства разговора введем два термина: биосфера — целостная живая оболочка Земли и биота — совокупность видов живых организмов. Биота отличается от биосферы тем, что связи между организмами в нее не включены: грубо говоря, это просто список видов. Термин “биосфера” предложил сам Эдуард Зюсс, а термин “биота” — румынский зоолог Эмиль Раковицэ. Каждый пройденный глобальный порог навсегда менял состояние и биосферы, и биоты.
Ясно, что любая “пороговая” схема эволюции биосферы будет в чем-то несовершенна просто из-за того, что частью событий совершенно неизбежно придется пренебречь. Тем не менее попытки создания подобных схем иногда удаются. Замечательным образцом этого подхода можно назвать книгу Кирилла Еськова “История Земли и жизни на ней”, основанную на учебном курсе и выдержавшую несколько переизданий. К сожалению, со времени создания этой книги прошло уже около 20 лет, а для такой бурно развивающейся науки, как палеонтология, это огромный срок. Нисколько не намереваясь критиковать великолепную работу Кирилла Юрьевича, попробуем предложить что-то вроде краткого комментария к ней.
Здесь мы рассмотрим семь порогов, соответствующих важным событиям в истории Земли: (1) появление жизни как таковой, (2) кислородная революция, (3) эпоха “Земли-снежка”, (4) кембрийский взрыв, (5) появление лесов и насекомых, (6) пермский кризис и (7) приобретение некоторыми животными эусоциальности[422]. Поговорим о них по порядку (см. рис. 16.1).
Логика случая
Насколько закономерным или случайным событием по меркам Вселенной было появление земной жизни? Тут будет интересно сравнить мнения двух крупных биологов, работавших примерно в одно и то же время. Это француз Жак Моно и бельгиец Кристиан де Дюв. Оба они получили Нобелевскую премию за открытия в области клеточной биологии: Моно открыл важные механизмы регуляции работы генов, а де Дюв обнаружил несколько новых клеточных органелл. В том, как работает живая клетка, и Моно, и де Дюв разбирались превосходно. К тому же они поддерживали дружеские отношения, благо оба принадлежали к франкоязычному миру. Но вот их взгляды на происхождение жизни оказались совершенно разными.
Жак Моно считал, что раз жизнь (насколько мы пока знаем) уникальна, то нет никакой необходимости объяснять ее появление чем-то иным, кроме игры слепого случая. В конце концов, Вселенная настолько огромна, что где-нибудь на ее просторах вполне может один раз произойти любое сколь угодно маловероятное событие. Достаточно, чтобы вероятность такого события не была строго нулевой. Это не дает повода принимать случайность за закономерность.
“Вселенная не была чревата жизнью, как и биосфера не была чревата человеком, — писал Моно. — Нам просто выпал счастливый шанс в рулетке, как тому, кто только что выиграл миллион в казино”.
Де Дюв, наоборот, считал, что появление жизни — это закономерный процесс, готовый реализоваться на любой планете с подходящими физико-химическими условиями. Возражая Моно, он говорил, что Вселенная как раз “чревата жизнью”, и приводил два довода, которые с тех пор стали только сильнее[423].
Во-первых, химические “строительные блоки”, пригодные для создания живых систем, легко синтезируются в космосе. Хорошо известно, что они входят в состав метеоритов и комет. Де Дюв пользуется здесь труднопереводимым выражением “vital dust” — “жизнетворная пыль”. По его словам, “жизнетворная пыль” пронизывает всю Вселенную и образует своего рода семена жизни, готовые взойти на любом подходящем небесном теле. И в самом деле, сейчас мы точно знаем, что в метеоритах есть аминокислоты, сахара, азотистые основания, спирты, жирные кислоты и другие углеродные соединения, причем все они там довольно разнообразны. Похоже, что их синтез не требует никаких особенно редких условий.
Во-вторых, возникновение жизни — процесс по своей сути химический. Все информационные аспекты здесь вторичны. Истинные действующие лица — это нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды и другие молекулы. А уж химию-то мы знаем хорошо — и можем уверенно сказать, что все химические процессы в большой степени детерминистичны, то есть дают при одних и тех же условиях один и тот же результат. Конечно, здесь участвует статистика (поскольку молекул очень много), но в итоге на волю случая почти ничего не остается. Применительно к нашей задаче это должно означать, что если на какой-нибудь планете сложатся такие же условия, какие были на Земле примерно четыре миллиарда лет назад, то вероятность возникновения жизни там будет близка к единице.
Сейчас мы понимаем, что многие свойства живых объектов на самом деле предопределены чистейшей химией. Например, каталитическая активность РНК, то есть ее способность ускорять химические реакции, появляется автоматически, как только начинают синтезироваться (каким угодно способом) цепочки РНК длиной хотя бы в десятки нуклеотидов. Сборка жирных кислот и других липидов в мембраны, подобные клеточным, тоже происходит сама собой, стоит только им попасть в водный раствор. Для всего этого достаточно подходящих внешних условий. Другое дело, что такие условия далеко не повсеместны, и — что еще важнее — даже там, где они готовы сложиться, системе ничего не стоит выйти за их пределы по каким-нибудь случайным причинам; пользуясь английской идиомой, это проще, чем упасть с бревна (as easy as falling off a log). Например, на современной Венере зарождение жизни земного типа совершенно невозможно, хотя почти по всем физическим параметрам эта планета очень близка к Земле и изначально они, скорее всего, были гораздо более похожи друг на друга, чем сейчас. Судьба Венеры наглядно показывает, насколько Земле повезло.
Первая жизнь
Когда на Земле появилась жизнь? Самый распространенный до недавнего времени ответ на этот вопрос таков: древнейшие предполагаемые остатки живых организмов найдены в Гренландии, в горных породах зеленокаменной формации Исуа, имеющих возраст 3,8 миллиарда лет. Значит, к этому времени жизнь уже точно существовала. Правда, неизвестно, какая именно. И вот тут таится первая проблема. Дело в том, что найденные в Исуа остатки не сохранили никаких следов структуры живых клеток. Это зерна чистого углерода, и вывод о том, что они когда-то были живыми существами, сделан исключительно по составу этого углерода.
Чтобы понять, в чем тут дело, вспомним, как устроены атомы (см. главу 1). Главный параметр любого атома — число протонов, или атомный номер (Z). Только от него зависит, к какому химическому элементу атом относится. Однако в атомном ядре есть не только протоны, но и нейтроны. Суммарное количество протонов и нейтронов в ядре данного атома называется его массовым числом (A). И вот оно у атомов одного и того же элемента может различаться. Например, любой атом, в ядре которого шесть протонов, будет атомом углерода. Но есть несколько разных типов атомов углерода, например с шестью нейтронами в ядре (12C) или с семью нейтронами в ядре (13C). Атомы, имеющие одинаковый атомный номер, но разное массовое число, называются изотопами.
Углекислый газ (CO2) может включать в себя как атом 12C, так и атом 13C. Но вот белок, связывающий углекислый газ для фотосинтеза, гораздо охотнее захватывает молекулы CO2 с углеродом 12C просто потому, что они более легкие. В результате происходит разделение изотопов. На самом деле оно идет не только при фотосинтезе, но и при других способах биологической фиксации CO2, но фотосинтез — самый распространенный из них на современной Земле. Однако в любом случае отсюда следует, что живые организмы, прямо или опосредованно питающиеся продуктами фиксации углекислоты — то есть практически все живые организмы на свете, — имеют смещенное соотношение “легкого” и “тяжелого” изотопов углерода: доля “тяжелого” изотопа там заметно понижена по сравнению с атмосферным углекислым газом. А это означает, что, найдя чистый углерод, можно по соотношению 12C/13C определить, является ли этот углерод биогенным, то есть входил ли он когда-нибудь в состав живого тела.
Но что, если при переплавлении горных пород заработал какой-нибудь другой, чисто физический механизм разделения изотопов углерода? Это теоретически возможно, и некоторые ученые считают, что в случае с породами Исуа именно так оно и было[424]. Тогда “следы самой древней жизни” исчезают. Нельзя сказать, что эта тема закрыта, но статус пород Исуа сейчас определенно под сомнением. Печальнее всего, что биологи тут и сделать ничего не могут — решающее слово принадлежит геологии и изотопной химии. Биогенное происхождение углерода из Исуа не исключено, оно просто спорно. С другой же стороны, в самое последнее время появились данные, что в формации Исуа есть остатки строматолитов — слоистых бактериальных колоний, но это еще требует проверки[425].
В любом случае зеленокаменная формация Исуа, судя по всему, не предел. Недавно было объявлено, что найден предположительно биогенный углерод возрастом 4,1 миллиарда лет[426] [427]. Это совершенно поразительно, потому что для настолько древних времен почти неизвестны полноценные горные породы. Главные сохранившиеся с тех пор твердые объекты — это мелкие зерна чрезвычайно устойчивого минерала циркона, захороненные где-нибудь в более поздних осадках. Вот в составе этих цирконовых зерен геологи и нашли углерод со смещенным изотопным соотношением, типичным для живых организмов. По оценке авторов исследования, другие пути разделения изотопов в данном случае маловероятны, так что это могут быть следы жизни — невообразимо древней жизни! Какой она была, остается загадкой, ведь в изученных образцах налицо только химический сигнал.
Между тем первые живые организмы могли очень сильно отличаться от современных — причем под “современностью” в данном случае приходится подразумевать не более и не менее как последние три с лишним миллиарда лет. Например, мы знаем, что в современной цепочке передачи генетической информации есть три главных звена: копирование ДНК (репликация), синтез РНК (транскрипция) и синтез белка (трансляция). При этом молекулярные данные свидетельствуют, что у общего предка всех клеточных организмов системы транскрипции и трансляции были намного более простыми, чем у современных клеток, а системы репликации ДНК не было совсем. Еще Карл Вёзе показал, что белки репликации бактерий не имеют ничего общего с белками репликации архей и эукариот[428]. Скорее всего, это означает, что весь механизм копирования ДНК возник минимум дважды — у бактерий и у архей (эукариоты унаследовали его от последних). Тогда получается, что у общего предка всех их, вместе взятых, генетическая информация хранилась в основном на РНК, как и предполагает популярная в наше время теория “РНК-мира”.
Кроме того, этот общий предок вполне мог еще не достичь так называемого дарвиновского порога — момента, когда интенсивность привычной нам вертикальной передачи генов (от предков к потомкам) начала существенно превышать интенсивность горизонтального переноса генов (между соседними геномами независимо от родства). Понятие “дарвиновский порог” (Darwinian Threshold) ввел тот же Карл Вёзе — он вообще много занимался ранними этапами эволюции. Нам сейчас трудно вообразить, как выглядела жизнь по ту сторону дарвиновского порога, но ясно, что тогдашние организмы были предельно изменчивы: никаких устойчивых видов в тех условиях существовать не могло. Нетрудно догадаться, что устойчивость биологических видов определяется именно надежной передачей генетической информации от предков к потомкам. Когда этот механизм еще не сложился, мир был совершенно другим. Вёзе потому и назвал порог дарвиновским, что его переход означал происхождение видов в самом что ни на есть буквальном смысле слова “вид” (а “Происхождением видов”, как известно, называется главная книга Дарвина). Живые системы, не достигшие дарвиновского порога, просто не могли распадаться на биологические виды таким же образом, как распадается на них жизнь сейчас.
Самые древние более-менее достоверно определимые остатки живых клеток имеют возраст 3,4 миллиарда лет[429]. Это уже типичные прокариоты, скорее всего входящие в дожившую до современности группу сульфатредуцирующих бактерий. На этой отметке заканчивается туманная повесть о происхождении жизни и начинается ее собственная история.
Обоюдоострый меч О2
Переходя ко второму порогу — кислородной революции, надо прежде всего сказать, что биологические свойства молекулярного кислорода (O2) как минимум двуедины. Кислород — мощный окислитель, с помощью которого можно получить много полезной энергии, и в то же время сильный яд, свободно проходящий сквозь клеточные мембраны и разрушающий структуру клеток. Иногда говорят, что кислород — это обоюдоострый меч[430]. Древнейшим жителям Земли существа, дышащие кислородом, скорее всего, показались бы кем-то вроде людей с фторной планеты из повести “Сердце Змеи” (см. главу 2). У всех организмов, имеющих дело с кислородом, обязательно есть специальные ферментные системы, гасящие его агрессивное химическое воздействие. А те, у кого таких ферментных систем нет, обречены быть строгими анаэробами, выживающими только в бескислородной среде. На современной Земле это некоторые бактерии и археи.
Практически весь молекулярный кислород на Земле имеет биогенное происхождение, то есть выделяется живыми существами. Главный источник O2 — это кислородный фотосинтез. Других процессов, способных давать его в сравнимых количествах, просто нет. Как мы уже знаем, фотосинтезом называется синтез глюкозы (С6H12O6) из углекислоты (CO2) и воды (H2O), происходящий с помощью энергии света. Главным “действующим лицом” тут служит углекислый газ, который восстанавливается водой. Кислород же в этой реакции — не что иное, как побочный продукт, отход. Фотосинтез может вообще не приводить к выделению кислорода, если вместо воды в нем используется в качестве восстановителя какое-нибудь другое вещество — например, сероводород, свободный водород или соединения железа. Такой фотосинтез называется бескислородным, и есть несколько его разных вариантов.
Бескислородный фотосинтез наверняка появился раньше кислородного. Поэтому в первый миллиард лет существования жизни (а скорее всего, дольше) фотосинтез хотя и шел, но никакого насыщения атмосферы Земли кислородом не вызывал. Содержание кислорода в атмосфере в те времена составляло не больше 0,001% от современного — попросту говоря, это значит, что его там не было.
Все изменилось, когда на сцену вышли синезеленые водоросли, или цианобактерии. Впоследствии именно эти существа стали предками хлоропластов, фотосинтезирующих элементов клеток эукариот. Цианобактерии — очень древняя эволюционная ветвь. По меркам земной истории, они удивительно неизменны. Например, широко распространенная в современных водоемах синезеленая водоросль осциллятория имеет ископаемых родственников, живших 800 миллионов лет назад, причем от современных осцилляторий они практически неотличимы[431]. Таким образом, осциллятория — чрезвычайно впечатляющий пример живого ископаемого. Но самые первые цианобактерии появились намного раньше нее, это надежно подтверждено палеонтологическими данными.
Поначалу цианобактерии не были многочисленны, потому что освоенный ими кислородный фотосинтез не давал никаких серьезных преимуществ по сравнению с бескислородным, которым владели другие группы микробов. Но химическое окружение этих микробов постепенно менялось. Наступил момент, когда “сырья” для бескислородного фотосинтеза просто перестало хватать. И вот тогда час цианобактерий пробил. Кислородный фотосинтез имеет одно большое преимущество и один большой недостаток. Преимущество — это совершенно неограниченный запас исходного реагента-восстановителя (воды), а недостаток — высокая токсичность побочного продукта (кислорода). Неудивительно, что поначалу этот тип обмена не был “популярен”. Зато при малейшем дефиците других субстратов, кроме воды, обладатели кислородного фотосинтеза должны были сразу получить конкурентное преимущество, что, по всей видимости, и произошло. После этого наступила эпоха длиной примерно в миллиард лет, на протяжении которой облик Земли определяли в первую очередь цианобактерии. Недавно эту эпоху даже предложили неофициально назвать в их честь “цианозоем”[432].
Именно из-за цианобактерий 2,4 миллиарда лет назад началась кислородная революция, она же кислородная катастрофа, или Великое окислительное событие (Great Oxidation Event, GOE). Строго говоря, это событие не было ни мгновенным, ни абсолютно уникальным[433]. Краткие всплески концентрации кислорода, так называемые “кислородные дуновения”, случались и раньше — это палеонтологически зафиксировано. И все же 2,4 миллиарда лет назад произошло нечто новое. За короткое по меркам земной истории время (считаные десятки миллионов лет) концентрация кислорода в атмосфере выросла примерно в 1000 раз и осталась на этом уровне (см. рис. 16.2). До прежних ничтожных величин она не опустилась больше никогда. Биосфера необратимо стала кислородной.
Для подавляющего большинства древних прокариот такой уровень кислорода был смертельно опасен. Неудивительно, что первым результатом кислородной революции, скорее всего, стало вымирание (хотя, возможно, и не столь катастрофическое, как думали ученые лет 30 назад, когда появился термин “кислородный холокост”). Выжили в первую очередь те, кто успел создать защищающие от кислорода ферментные системы. Есть основания полагать, что в первые 100–200 миллионов лет “нового кислородного мира” кислород был для живых организмов только ядом, и ничем больше. А вот потом ситуация поменялась. Ответом биоты на кислородный вызов стало появление бактерий, которые включили кислород в цепочку реакций, разлагающих глюкозу, и таким образом начали использовать его для получения энергии.
Сразу оказалось, что кислородное окисление глюкозы (дыхание) намного энергетически эффективнее бескислородного (брожения). В расчете на одну молекулу глюкозы оно дает в несколько раз больше свободной энергии, чем любой сколь угодно “навороченный” вариант бескислородного обмена. При этом все начальные этапы распада глюкозы у пользователей дыхания и брожения остались общими: кислородное окисление послужило всего лишь надстройкой над уже имевшимся древним биохимическим механизмом, который сам по себе в кислороде не нуждался.
Группа микробов, которая освоила рискованное, но эффективное получение энергии с помощью кислорода, называется протеобактериями. Согласно общепринятой сейчас теории, именно от одной из их подгрупп произошли дыхательные органеллы эукариотных клеток — митохондрии. Судя по генетическим данным, ближайший современный родственник митохондрий — это пурпурная спиральная альфа-протеобактерия Rhodospirillum rubrum[434]. Родоспириллум обладает и дыханием, и брожением, и бескислородным фотосинтезом (в котором вместо воды используется сероводород), и может переключаться между этими тремя типами метаболизма в зависимости от внешних условий. Без сомнения, такой симбионт был предку эукариот очень полезен.
Более того, многие современные ученые считают, что симбиоз древних архей с альфа-протеобактериями был толчком к образованию эукариотной клетки[435]. Это “раннемитохондриальная” гипотеза, которую мы уже обсуждали в главе 10. Как мы помним, она предполагает, что разделение будущей эукариотной клетки на цитоплазму и ядро произошло только после того, как в нее внедрился симбионт — протеобактерия. Более старый “позднемитохондриальный” сценарий, согласно которому протеобактерия была попросту проглочена готовой эукариотной клеткой, сейчас выглядит несколько менее вероятным. Но надо учитывать, что в любом случае обе клетки — и архейная, и протеобактериальная — были в процессе объединения серьезно “пересобраны”, породив своего рода химеру с новыми свойствами. Эта химера и стала эукариотной клеткой. Молекулярные компоненты архейного и протеобактериального происхождения в ней сильно перемешались, разделив между собой функции[436]. Так или иначе без протеобактерий эукариоты не возникли бы. А это означает, что их появление было прямым следствием кислородной революции. В свете сказанного почти не выглядят преувеличением слова двух современных крупных ученых, палеонтолога и геолога: “Все согласны с тем, что эволюция синезеленых водорослей была самым значительным биологическим событием на нашей планете (даже более значительным, чем развитие эукариотических клеток и появление многоклеточных организмов)”[437]. Действительно, знакомый нам мир животных и растений не существовал бы, если бы не цианобактерии и вызванный ими кризис. При всей малопривлекательности марксизма приходится признать, что известный тезис Маркса “революции — локомотивы истории” применительно к биосферным революциям иногда все-таки подтверждается.
Эпохи жизни
Вся история Земли делится на четыре огромных промежутка, именуемых эонами. Названия эонов следующие: катархей или гадей (4,6–4,0 млрд лет назад), архей (4,0–2,5 млрд лет назад), протерозой (2,5–0,54 млрд лет назад) и фанерозой (начался 0,54 млрд лет назад и продолжается сейчас). Первые три эона (то есть все, кроме фанерозоя) принято объединять понятием “криптозой”, что буквально значит “скрытая жизнь”. Это деление будет нам постоянно помогать. Сделаем оговорку, что почти во всех подобных случаях запоминать стоит не точные датировки, а саму последовательность эпох и относящихся к ним событий: она гораздо важнее (см. рис. 16.1). Исключение можно сделать разве что для двух-трех ключевых дат вроде возраста Земли.
Катархей — это так называемая догеологическая эпоха, от которой почти не осталось “нормальных” горных пород, расположенных послойно. Классические геологические и палеонтологические методы, основанные на сравнении последовательных слоев отложений, там принципиально неприменимы. Оставшиеся от катархея твердые объекты — это в первую очередь мелкие зерна циркона, те самые, в которых недавно нашли предположительно биогенный углерод. О катархейской жизни (если она была) известно крайне мало.
В архее Земля принадлежит прокариотам — бактериям и археям (совпадение корней в названии геологической эры “архей” и группы микробов “археи” случайно). Граница архея и протерозоя приходится примерно на момент одного из сильных “кислородных дуновений”, предшествовавших кислородной революции. Сама кислородная революция произошла уже внутри протерозоя, хотя и в самом его начале.
Протерозой — это эпоха кислорода и эукариот. О кислороде мы уже говорили, а с датировкой происхождения эукариот связан интересный парадокс. Дело в том, что более-менее надежно определимые многоклеточные эукариоты появляются в палеонтологической летописи гораздо раньше, чем столь же надежно определимые одноклеточные. Нитчатая водоросль Grypania spiralis, которую обычно считают эукариотом, появилась 2,1 миллиарда лет назад[438]. Справедливости ради нужно сказать, что главным доводом за эукариотную природу грипании служит ее крупный размер — все остальные признаки на самом деле не дают уверенности, что это не гигантская колония цианобактерий[439]. Но дело в том, что эта находка далеко не единственная. Самым древним известным эукариотом сейчас считается грибообразный организм Diskagma buttonii возрастом 2,2 миллиарда лет[440]. А еще есть загадочные крупные спиралевидные существа — скорее всего, водоросли, возраст остатков которых не меньше 2,1 миллиарда лет, как и у грипании[441]. Зато самые ранние одноклеточные, однозначно определяемые как эукариоты, имеют возраст всего 1,6 миллиарда лет[442]. Это, разумеется, не значит, что многоклеточные эукариоты возникли раньше одноклеточных — такое предположение противоречит и молекулярным данным, и здравому смыслу. Одноклеточные просто хуже сохраняются, да и признаков, по которым можно понять, что это за организм, у них меньше.
Из приведенных цифр следуют важные общебиологические выводы. Вспомним, что дата кислородной революции — 2,4 миллиарда лет назад. Следовательно, мы теперь знаем, что всего через 200 миллионов лет после кислородной революции в палеонтологической летописи появляются не просто эукариоты, а многоклеточные эукариоты. Это означает, что первые этапы эволюции эукариот были пройдены, по меркам глобальной истории, очень быстро. Безусловно, эукариотной клетке потребовалось некоторое время, чтобы оформить симбиоз с предками митохондрий, создать ядро, усложнить цитоскелет. Но после того, как эти процессы завершились, первые многоклеточные организмы возникли буквально сразу же. На уровне клетки это не потребовало никаких дополнительных приспособлений. Любая эукариотная клетка уже имеет в наличии полный набор молекулярных структур, необходимых, чтобы построить из таких клеток многоклеточное тело (во всяком случае, относительно простое). Разумеется, все эти структуры не менее полезны и для жизни одиночной клетки, иначе они просто не появились бы. Общий предок эукариот, без сомнений, был одноклеточным, и очень многим его потомкам многоклеточность так никогда и не пригодилась. Насколько разнообразны современные одноклеточные эукариоты, мы отчасти знаем из главы 15.
Добавим, что совсем недавно палеонтологи описали нитчатые структуры, очень похожие по деталям строения на настоящую грибницу, в горных породах, возраст которых оценивается в 2,2–2,4 миллиарда лет (причем 2,2 миллиарда лет — это минимальная оценка)[443]. Кстати, имеющая возраст 2,2 миллиарда лет Discagma во многом напоминает относительно примитивные современные грибы — зигомицеты (см. рис. 16.3). Если предположение о таком огромном возрасте грибов подтвердится, это заодно послужит прекрасным подтверждением гипотезы “эукариотного Большого взрыва”, которую мы обсуждали в главе 15. Тогда волей-неволей получится, что все главные эволюционные ветви эукариот возникли очень быстро, за считаные десятки миллионов лет, — типичная взрывная эволюция. Альтернативное объяснение могло бы состоять в том, что эукариоты появились на несколько сотен миллионов лет раньше, чем мы сейчас думаем. Такая гипотеза тоже существует, но она пока более чем спорная[444].
Кислородная революция имела еще одно важное последствие, коснувшееся состава атмосферы. В архейской атмосфере было много азота (как и сейчас), а также углекислого газа и метана (гораздо больше, чем сейчас). Углекислый газ и метан очень хорошо поглощают инфракрасное излучение и тем самым удерживают в атмосфере Земли тепло, мешая ему уходить в космос. Это называется парниковым эффектом. Причем считается, что от метана парниковый эффект как минимум раз в 20–30 сильнее, чем от углекислого газа. А в архейские времена метана в атмосфере Земли было примерно в 1000 раз больше, чем сейчас, и это обеспечивало довольно теплый климат.
Тут вмешивается еще и астрономия. Согласно общепринятой теории эволюции звезд, светимость Солнца медленно, но непрерывно растет. В архее она составляла всего 70–80% от современной — понятно, почему парниковый эффект был важен для поддержания планеты в тепле. Но после кислородной революции атмосфера стала окислительной и почти весь метан (CH4) превратился в углекислый газ (CO2), эффективность которого как парникового газа гораздо ниже. Это вызвало катастрофическое гуронское оледенение, длившееся около 100 миллионов лет и в некоторые моменты охватывавшее практически всю Землю: на участках суши, которые тогда находились всего в нескольких градусах широты от экватора, найдены следы ледников[445]. Пик гуронского оледенения наступил 2,3 миллиарда лет назад. К счастью, оледенение не могло остановить тектоническую активность земной мантии. Вулканы продолжали выбрасывать в атмосферу углекислый газ, и со временем его накопилось достаточно, чтобы восстановить парниковый эффект и растопить льды.
Надо сразу сказать, что такое климатическое испытание было в истории Земли не последним. Самое широко известное глобальное оледенение — позднепротерозойское, о котором речь впереди. Оно оставило больше следов, чем раннепротерозойское гуронское оледенение, и было раньше открыто палеонтологами, став в свое время настоящей сенсацией. Видимо, при определенных обстоятельствах Земле было не так уж и трудно превратиться в ледяной шар.
“Скучный миллиард лет” и его конец
За бурными событиями начала протерозоя последовал так называемый “скучный миллиард лет” (Boring Billion). В это время не происходило никаких оледенений, никаких резких перемен в составе атмосферы, никаких биосферных переворотов. Эукариотные водоросли жили в океанах, понемногу выделяя кислород. Их мир был по-своему разнообразным и сложным. Например, из эпохи “скучного миллиарда” известны многоклеточные красные и желто-зеленые водоросли, поразительно похожие на своих современных родственников[446]. Известны оттуда и грибы[447]. А вот многоклеточные животные на просторах “скучного миллиарда лет” отсутствуют. Будем аккуратны: на нынешний момент никто не может с полной уверенностью утверждать, что многоклеточных животных тогда не было, но аргументы в пользу того, что они были, в лучшем случае очень сомнительны[448].
В чем тут дело? Напрашивается мысль, что многоклеточность как таковая гораздо более совместима с образом жизни растения, чем с образом жизни животного. Любая клетка растения заключена в жесткую клеточную стенку, и нет сомнений, что это сильно облегчает регуляцию взаимного расположения клеток в сложном теле. Наоборот, клетки животных вообще лишены клеточной стенки, их форма неустойчива да еще и постоянно меняется при актах движения или фагоцитоза. Собрать из таких клеток целый организм — сложная задача. Если бы никаких многоклеточных животных не появилось вовсе, а биологами стали представители растений либо грибов, они, скорее всего, после изучения этой проблемы пришли бы к выводу, что сочетание многоклеточности с отсутствием клеточной стенки просто невозможно. Во всяком случае, это объясняет, почему многоклеточность много раз возникала в разных группах водорослей, но только один раз — у животных.
Есть и другая идея. В 1959 году канадский зоолог Джон Ральф Нерселл связал внезапное (как тогда считалось) появление животных в палеонтологической летописи с ростом концентрации кислорода в атмосфере[449]. Животные, как правило, обладают активной подвижностью, которая требует столько энергии, что без кислородного дыхания им никак не обойтись. И кислорода им нужно много. А в эпоху “скучного миллиарда” содержание О2 в атмосфере почти наверняка не достигало 10% от современного уровня — минимума, который принято считать необходимым для поддержания животной жизни. Правда, эта подозрительно круглая цифра, скорее всего, завышена: физиологические исследования показывают, что многие животные могут обойтись и меньшим количеством кислорода[450]. Подобные оговорки, однако, не мешают признать, что старая идея Нерселла как минимум не противоречит современным данным: предполагаемое начало эволюции многоклеточных животных весьма приближенно, но все-таки совпадает по времени с новым ростом концентрации атмосферного кислорода в конце протерозоя[451]. Это просто не могло не стать фактором, облегчившим появление животных: в конце-то концов ясно ведь, что чем больше кислорода, тем для них лучше. Не надо только считать кислородный фактор строго единственным. Будем помнить, что и во времена, когда кислорода стало сколько угодно, никаких многократных попыток создания многоклеточности животного типа не отмечается. Этот эксперимент удался природе только один раз.
Уютная эпоха “скучного миллиарда лет” могла бы длиться еще долго, если бы в биологию не вмешалась география. Драматические события, героем которых стала сама планета, привлекали внимание ученых на протяжении полувека, но только лет 15 назад информацию о них удалось сложить в более-менее цельную картинку. Бросим на эту картинку беглый взгляд, начав, как и положено, с начала.
“Земля-снежок”: пролог
В 1964 году английский геолог Брайан Харленд опубликовал статью, в которой констатировал, что абсолютно на всех континентах есть следы древнего оледенения, относящегося к одному и тому же времени — позднему протерозою. Как раз в начале 1960-х геологи научились определять прошлое положение континентов с помощью данных о намагниченности горных пород. Харленд собрал эти данные и увидел, что убедительно объяснить их можно только одним способом: предположив, что позднепротерозойское оледенение охватило сразу все широты Земли, то есть было всепланетным. Любые другие гипотезы выглядели еще менее правдоподобными (например, пришлось бы предполагать немыслимо быстрое перемещение полюсов, чтобы все континенты по очереди накрывались полярной шапкой). Как сказал Шерлок Холмс во время поисков Джонатана Смолла, “отбросьте все невозможное, то, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался”. Именно так Харленд и поступил. Выпущенная им с соавтором обстоятельная, написанная прекрасным языком статья не претендует ни на какие сенсации — там просто-напросто честно изложены факты и выводы[452]. И все же гипотеза о всепланетном оледенении была для большинства ученых слишком смелой. Поэтому популярность она получила далеко не сразу.
Буквально в те же годы теорией оледенений занялся известный геофизик, ленинградец Михаил Иванович Будыко. Он обратил внимание на то, что оледенение может саморазвиваться. Ледяной покров имеет высокую отражательную способность (альбедо), поэтому чем больше суммарная площадь ледников, тем большая доля солнечного излучения отражается обратно в космос, унося с собой тепло. А чем меньше Земля получает тепла, тем на ней становится холоднее, и площадь ледяного покрова в результате растет, повышая альбедо еще сильнее. Получается, что оледенение — это процесс с положительной обратной связью, то есть способный усиливать сам себя. А в таком случае должен существовать некоторый критический уровень оледенения, после которого оно будет нарастать, пока волны льда с Северного и Южного полюсов не схлопнутся на экваторе, полностью заключив планету в ледяной покров и понизив ее температуру на несколько десятков градусов. Будыко математически показал, что такое развитие событий возможно[453]. Но он и понятия не имел, что в истории Земли несколько раз это действительно происходило! Потому что на тот момент Будыко и Харленд еще не читали друг друга.
“Земля-снежок”: основное действие
Сейчас оледенение, которое открыл Харленд, принято называть эпохой “Земли-снежка” (Snowball Earth). Судя по всему, оно действительно было всепланетным. А главной его причиной считается резкое ослабление парникового эффекта из-за падения концентрации углекислого газа (который стал главным парниковым газом после того, как кислород “съел” почти весь метан). Фотосинтез и дыхание тут, скорее всего, ни при чем. Если кислородную революцию биота Земли устроила себе сама, то теперь она оказалась жертвой внешнего фактора, совершенно небиологического по своей природе.
Дело в том, что оборот углекислого газа в целом гораздо меньше зависит от живых существ, чем оборот кислорода. Основным источником атмосферного CO2 на Земле до сих пор служат извержения вулканов, а основным стоком — процесс, который называется химическим выветриванием. Углекислый газ взаимодействует с горными породами, разрушая их, а сам при этом превращается в карбонаты (ионы HCO3– или CO32–). Последние отлично растворяются в воде, зато в состав атмосферы больше уже не входят. И получается предельно простая зависимость. Если интенсивность работы вулканов превосходит интенсивность химического выветривания, атмосферная концентрация CO2 растет. Если наоборот — падает.
На исходе “скучного миллиарда”, 800 миллионов лет назад, почти вся земная суша входила в состав единственного суперконтинента под названием Родиния. По словам известных геологов, гигантские суперконтиненты, как и крупные империи в социальной истории Земли, всегда оказывались неустойчивыми[454]. Поэтому неудивительно, что Родиния быстро начала раскалываться. По краям разломов застывал извергнутый базальт, который сразу же становился объектом химического выветривания. А почвы тогда не было, и продукты выветривания легко сносились в океан. В конце концов Родиния распалась на семь или восемь небольших — размером примерно с Австралию — континентов, которые стали дрейфовать в стороны друг от друга.
Расход CO2 на выветривание базальта привел к падению его уровня в атмосфере. Вулканизм, которым распад суперконтинента неизбежно сопровождался, мог бы это скомпенсировать, если бы не одно случайное обстоятельство. В силу каких-то причуд дрейфа континентов и Родиния, и ее обломки находились у экватора, в теплом поясе, где химическое выветривание шло особенно быстро. Математические модели показывают, что именно по этой причине концентрация CO2 опустилась ниже порога, за которым начинается оледенение[455]. А когда оно началось, останавливать выветривание было уже поздно.
Надо признать, что положение континентов в позднем протерозое оказалось настолько неудачным (с точки зрения обитателей планеты), насколько это вообще возможно. Дрейф континентов направляется потоками вещества земной мантии, динамика которых, по сути, неведома. Но мы знаем, что в данном случае эти потоки собрали всю земную сушу в единый континент, находившийся точно на экваторе и вытянутый по широте. Если бы он оказался на одном из полюсов или был вытянут с севера на юг, начавшееся оледенение закрыло бы часть пород от выветривания и тем самым приостановило уход углекислого газа из атмосферы — тогда процесс мог бы притормозиться. Как раз такую ситуацию мы наблюдаем сейчас, когда есть ледяные щиты Антарктиды и Гренландии[456]. А в конце протерозоя почти все крупные участки суши находились близко к экватору — и оставались обнаженными до того самого момента, когда северный и южный ледяные покровы наконец сомкнулись. Земля стала ледяным шаром.
На самом деле эпизодов “Земли-снежка” было не меньше трех. Первый из них относится еще к гуронскому оледенению (которое, как мы помним, произошло не из-за углекислого газа, а из-за метана). Потом в течение более чем миллиарда лет никаких оледенений не было совсем. А затем последовало еще два разделенных небольшим перерывом всепланетных оледенения, одно из которых длилось примерно 60 миллионов лет, другое — примерно 15 миллионов лет. Именно их открыл Брайан Харленд. Геологический период, охватывающий эти оледенения, называют криогением (он является частью протерозойской эры).
О живой природе криогения известно относительно мало. Климат тогда на всей Земле был, по нынешним меркам, антарктическим. Большую часть Мирового океана покрывал километровый слой льда, так что интенсивность фотосинтеза не могла быть высокой. Свет, неожиданно ставший ценнейшим ресурсом, попадал в океан только местами, сквозь трещины, полыньи или небольшие участки тонкого льда. Удивительно, что некоторые многоклеточные организмы сумели пережить криогений, совершенно не изменившись, — например, красные водоросли. Они и сейчас приспособлены к тому, чтобы использовать очень слабый свет, проникающий на такую глубину, где уже не могут жить никакие другие фотосинтезирующие существа[457]. Никуда не исчез и одноклеточный планктон. Содержание кислорода в криогениевом океане сильно упало, поэтому жизнь на его дне, скорее всего, была в основном анаэробной, но подробности этого от нас пока скрыты.
Окончания эпизодов “Земли-снежка” тоже были по-своему драматичны. Во время всепланетных оледенений все процессы, связанные с поглощением больших объемов углекислого газа, в буквальном смысле замораживались. А между тем вулканы (работу которых никто не останавливал) выбрасывали и выбрасывали CO2 в атмосферу, постепенно доводя его концентрацию до огромных величин. В какой-то момент ледяной щит уже не мог сопротивляться парниковому эффекту, и тогда начинался лавинообразный процесс разогрева планеты (см. рис. 16.4). Буквально за несколько тысяч лет — то есть геологически за мгновение — весь лед таял, освободившаяся вода заливала значительную часть суши мелкими окраинными морями, а температура земной поверхности, судя по расчетам, подскакивала до 50 °С[458]. И только после этого начинался постепенный возврат Земли к “нормальному” для нее внеледниковому состоянию. За время криогения весь этот цикл был пройден минимум дважды.
Необычный мир венда
Эпоха “Земли-снежка” закончилась 635 миллионов лет назад. Начался последний период протерозоя — эдиакарий (635–542 млн лет назад). Теперь нам будет удобнее вести счет времени не на миллиарды лет, а на миллионы — это наглядно показывает, насколько события ускоряются. Хотя, возможно, дело просто в том, что они к нам ближе и от них сохранилось больше следов.
Раньше эдиакарий называли вендом, в честь нескольких групп древних индоевропейских племен — венедов (от этого же слова, по-видимому, произошло название города Венеция). К сожалению, сейчас это красивое наименование сохранилось лишь как нестрогий синоним.
Главным событием эдиакария (нельзя не добавить: с нашей антропоцентричной точки зрения) следует назвать появление многоклеточных животных. Датировать это событие нелегко. В палеонтологической летописи эдиакария хватает свидетельств перехода к многоклеточности животного типа — правда, чем они более ранние, тем более спорные[459]. Во второй половине эдиакария в изобилии появляются вендобионты — крупные (до метра длиной) загадочные существа с плоским дисковидным или листовидным телом, состоящим из множества однотипных повторяющихся “сегментов” (см. рис. 16.5). “Сегменты” здесь поставлены в кавычки, потому что сегментация вендобионтов почти наверняка не имеет ничего общего с сегментацией настоящих многоклеточных животных. Сам термин “вендобионты” предложил немецкий палеонтолог Адольф Зейлахер, который считал этих существ совершенно особой формой жизни — гигантскими многоядерными клетками[460].
Действительно, есть серьезные основания считать, что вендобионты были во многих отношениях ближе не к многоклеточным животным, а к амебам или грибам (между прочим, и у тех и у других большие многоядерные клетки не редкость). Они совершили попытку выхода в крупный размер, которая сначала привела к успеху, но в итоге кончилась неудачей: в конце эдиакария вендобионты вымерли.
При этом надо учитывать, что вендобионты были очень разнообразны. Не факт, что их вообще можно хоть в каком-то приближении считать единой группой. Это скорее эволюционный уровень. И несмотря на то, что большинство вендобионтов никаких потомков не оставило, от кого-то из них вполне могли напрямую произойти некоторые современные животные — например, такие типы, как пластинчатые и гребневики[461] [462]. В эдиакарских корнях этих эволюционных ветвей нет ничего невероятного.
Самое древнее, абсолютно бесспорное ископаемое многоклеточное животное называется Kimberella quadrata (см. рис. 16.6). Это двусторонне-симметричное существо длиной до 15 сантиметров, ползавшее по морскому дну. Характер изменений формы тела найденных кимберелл (а найдено их много, в разных частях света) вместе с отпечатками следов не оставляет никаких сомнений, что они активно ползали, растягиваясь, сжимаясь и изгибаясь с помощью мышц. Характерные признаки кимбереллы — вытянутое, но компактное тело с ногой (мускулистой нижней поверхностью) и мантией (складкой, окаймляющей туловище). По этим признакам она очень похожа не на кого-нибудь, а на моллюсков[463]. Есть мнение, что у кимбереллы была даже радула — свойственный моллюскам “язык” с хитиновыми зубцами, приспособленный для соскребания водорослей[464]. Так или иначе это уже по всем статьям настоящее многоклеточное животное — с мышцами, нервной системой, ротовым аппаратом и вообще всем, что такому животному полагается иметь.
Кимберелла жила 555 миллионов лет назад[465]. И примерно в это же время впервые появляются многочисленные ископаемые следы животных, явно активно ползавших по дну[466]. Тут надо заметить, что “настоящие многоклеточные животные” — не особенно строгий термин. Сейчас нам достаточно условиться, что мы называем так животных с мускулатурой, нервной системой и ртом. У вендобионтов, насколько можно судить, ничего этого не было. Они питались в лучшем случае микроскопическими водорослями, а скорее всего — просто веществами, растворенными в морской воде[467]. И только в конце эдиакария появились многоклеточные существа, способные активно отыскивать добычу и захватывать ее крупными кусками, чтобы переварить внутри. Вендобионты были перед такими чудовищами беззащитны — неудивительно, что их “золотой век” на этом закончился. В истории донных сообществ началась совершенно другая эпоха.
17. фанерозой
И солнце парит топь в полдневном жаре,
И в зарослях хвощей из затхлой мглы
Возносятся гигантских сигиллярий
Упругие и рыхлые стволы.
Косматые — с загнутыми клыками —
Пасутся мамонты у мощных рек,
И в сумраке пещер под ледниками
Кремень тяжелый точит человек.
Михаил Зенкевич. Темное родствоКонец эдиакарского периода является в то же время рубежом двух эонов — протерозоя и фанерозоя. И вот тут нужно небольшое пояснение.
“Фанерозой” буквально означает “явная жизнь”. Это эпоха, к которой относится подавляющее большинство изучаемых палеонтологами ископаемых остатков. Все предшествующие времена, включая протерозой, архей и катархей, собирательно называют криптозоем — “скрытой жизнью”. Фанерозой же, в свою очередь, делится на три эры, названия которых, скорее всего, знакомы большинству читателей: палеозой, мезозой и кайнозой. “Палеозой” буквально означает “древняя жизнь”, “мезозой” — “средняя жизнь” и “кайнозой” — “новая жизнь”. А каждая из этих эр делится на периоды. Период, с которого начинается палеозой (и тем самым весь фанерозой), называется кембрием. Как и многие другие геологические периоды, кембрий получил свое имя из географии: Кембрия — это римское название Уэльса, кельтской страны на западе Британии. Соответственно, очень распространенный синоним криптозоя — докембрий.
Чтобы правильно видеть перспективу, будем помнить следующее: весь фанерозой составляет (округленно) всего лишь примерно 1/9 как от времени существования Земли, так и от истории жизни на ней. Остальные 8/9 — это криптозой, или докембрий, которому посвящена предыдущая глава. Иное дело, что в фанерозое события очень сгущаются.
В 1845 году шотландский геолог Родерик Мурчисон предложил назвать все времена до начала кембрия азойской эрой, то есть — буквально — безжизненной. Долго это название не продержалось: уже палеонтологи XIX века показали, что в толще докембрийских пород есть следы жизни[468]. А сейчас мы точно знаем, что жизнь существовала на Земле на протяжении большей части докембрия, и можем датировать многие ключевые события докембрийской истории — например, кислородную революцию или появление многоклеточности. И о том и о другом мы вкратце говорили в предыдущей главе.
“Большой взрыв жизни”
Главное отличие фанерозойской жизни от докембрийской — колоссальное обилие многоклеточных животных. Причем подавляющее большинство этих животных с самого начала относится уже к современным типам. В кембрии появляются губки, гребневики, стрекающие, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, брахиоподы, иглокожие, полухордовые и хордовые. Внезапное появление всех этих животных в палеонтологической летописи принято называть кембрийским взрывом. В более древних слоях их остатков нет (по крайней мере, определяемых однозначно и бесспорно). Таким образом, кембрий — это время рождения фауны, близкой к современной. Кембрийский взрыв дал такой эффект и произошел так быстро, что его часто называют “эволюционным Большим взрывом” — по аналогии с тем Большим взрывом, в котором родилась Вселенная[469].
Еще кембрийский взрыв иногда называют скелетной революцией. Действительно, многие появившиеся в этот момент группы животных приобрели твердые скелеты, причем совершенно разные по структуре и на разной биохимической основе: например, между спикулами губок, раковинами моллюсков и хитиновыми панцирями членистоногих нет буквально ничего общего. Такая одновременность никак не может быть случайной. Тем не менее “кембрийский взрыв” и “скелетная революция” — не синонимы. Во-первых, твердые скелеты были далеко не у всех кембрийских животных (например, у первых хордовых их не было). Во-вторых, и в докембрии иногда попадаются явные скелетные структуры — например, непонятно кому принадлежавшие жилые трубки[470]. В общем, понятие “кембрийский взрыв” куда более определенное, и неудивительно, что современные авторы чаще говорят именно о нем.
А был ли взрыв?
Но вот вопрос: произошел ли кембрийский взрыв на самом деле? Существует мнение, что многие современные группы животных появились еще в глубоком докембрии, но долгое время не оставляли ископаемых остатков, а потому были палеонтологически “невидимы”[471]. Причины этого могли быть разными: мелкий размер животных, отсутствие у них твердых скелетов или просто неподходящие для захоронения физические условия. Гипотеза “долгой скрытой докембрийской эволюции” неплохо поддерживается молекулярной филогенетикой, основанной на сравнении аминокислотных и нуклеотидных последовательностей белков и генов разных животных (разумеется, современных — ведь со времен кембрия ни белков, ни ДНК не осталось). Реконструкции, сделанные исключительно по молекулярным данным, зачастую уводят корни современных типов животных даже не в эдиакарий, а в предыдущий период — криогений[472]. Тогда выходит, что кембрийский взрыв — это не столько реальное эволюционное событие, сколько артефакт сохранности. На рубеже кембрия животные просто “проявились”, обретя твердые скелеты и начав захораниваться в осадочных толщах. А возникли они гораздо раньше.
Однако есть впечатление, что тщательной проверки, при которой молекулярно-биологические данные аккуратно шаг за шагом сопоставляются с палеонтологическими, гипотеза “долгой скрытой докембрийской эволюции” все же не выдерживает. В 2013 году группа исследователей под руководством австралийского палеонтолога Майкла Ли попыталась провести такую проверку, использовав материал по самому многочисленному типу животных — членистоногим[473]. Были рассмотрены и морфологические признаки, изучаемые палеонтологами, и последовательности ядерных генов, изучаемые генетиками. Специальная компьютерная программа построила по всему этому массиву данных единое эволюционное древо (причем молекулярные последовательности она учитывала наравне с морфологией). Назовем его для краткости “древом Ли”. Программа, использованная для построения древа Ли, могла определить скорость эволюции на каждом отрезке этого древа и в результате вычислить наиболее вероятные даты расхождений эволюционных ветвей. Это и было целью исследователей.
Теперь давайте следить за цифрами. Считается, что кембрийский период начался 542 миллиона лет назад. Согласно древу Ли, расхождение двух главных эволюционных ветвей членистоногих — Chelicerata (мечехвосты и паукообразные) и Mandibulata (многоножки, ракообразные и насекомые) — произошло 543 миллиона лет назад. А расхождение двух подгрупп внутри Mandibulata, многоножек и ракообразных, произошло 538 миллионов лет назад. Как видим, граница кембрия попадает точно между этими датами: Chelicerata и Mandibulata разошлись перед самым началом кембрия, а многоножки и ракообразные — сразу после него. Понятно, что точность таких датировок не абсолютна, но уж случайным совпадением они не могут быть никак. Итак, мы видим, что рождение главных эволюционных ветвей членистоногих произошло в ближайшей временной окрестности нижней границы кембрия. На этот момент действительно пришелся пик изменений.
Получается, что кембрийский взрыв — никакой не артефакт. Вероятно, большинство крупнейших эволюционных ветвей животных действительно возникло в ближайшей временной окрестности границы кембрия (плюс-минус несколько миллионов лет). Есть и математические модели, подтверждающие, что погруженные в докембрий “стволы” эволюционных древес современных типов животных должны быть короткими[474]. Время существования этих докембрийских “стволов” — считаные миллионы лет, может быть, первые десятки миллионов, но уж никак не сотни миллионов. В общем, на данный момент у нас достаточно оснований, чтобы считать гипотезу “долгой скрытой докембрийской эволюции” скорее неверной, а кембрийский взрыв — реальностью, как это, собственно говоря, и следует напрямую из палеонтологических данных.
Чтобы ослабить категоричность, добавим: вывод, который мы только что сделали, безусловно обладает свойством фальсифицируемости. Это означает, что можно сформулировать четкие условия, при которых он будет опровергнут. Например, для этого достаточно найти хотя бы одного достоверно определимого скорпиона (или сороконожку, или улитку) криогениевого возраста. Но пока такого не было, и вероятность, что это когда-нибудь случится, с каждым годом уменьшается.
Причины взрыва
Итак, в начале кембрия невероятно быстро возникло множество новых крупных эволюционных ветвей животных. Такого не случалось больше никогда, ни раньше, ни позже. Даже после катастрофических массовых вымираний (о которых речь впереди) животный мир восстанавливался за счет нарастания разнообразия уже существовавших больших групп, а не за счет появления новых. Вот почему кембрийский взрыв обязательно требует объяснения.
Правда, “невероятно быстро” не значит “мгновенно”. Новые группы животных отнюдь не появились в начале кембрия все разом в полном составе, как актеры после подъема занавеса. Кембрийский взрыв был хоть и сильно сжатым во времени, но все же постепенным. Скорость эволюционных процессов в нем вполне можно измерить, и такие исследования, как мы видели, есть. Кембрий длился примерно 57 миллионов лет (542–485 млн лет назад), при этом в самом его начале (первые шесть миллионов лет) морская фауна была еще довольно бедна. Новые группы животных появились там действительно быстро, по меркам истории Земли, но вовсе не одномоментно.
С чем же все-таки это было связано? За полтора века, прошедших с тех пор, как ученые (и в том числе Чарльз Дарвин) осознали загадку кембрийского взрыва, предлагались разнообразнейшие объяснения этого события, от генетических до космических. Одна современная обзорная статья на эту тему так и называется — “По ту сторону кембрийского взрыва: от галактики до генома”[475]. Например, тенденция к массовому образованию минеральных скелетов — знаменитая “скелетная революция”, она же “биоминерализация”, — в начале кембрия охватила не только самых разных многоклеточных животных, но и одноклеточных эукариот, и некоторые водоросли. Напрашивается предположение, что это было связано с глобальным изменением химического состава внешней среды, то есть в данном случае морской воды. И в самом деле, показано, что в начале кембрия по каким-то чисто геологическим причинам примерно в три раза выросла концентрация в морской воде кальция (Ca2+) — иона, который нужен для создания твердых скелетов как никакой другой[476]. Минеральная основа скелетов животных — чаще всего карбонат кальция (раковины моллюсков, иглы и чашечки коралловых полипов, спикулы губок), а иногда фосфат кальция (кости позвоночных). Уже из этих названий ясно, что без кальция тут так или иначе не обойтись.
Проблема в том, что объяснить скелетную революцию еще не значит объяснить сам кембрийский взрыв. Скелетная революция всего лишь снабдила твердыми минерализованными тканями животных, уже существовавших к моменту ее начала. Причем это коснулось далеко не всех из них. В тех кембрийских местонахождениях, тип сохранности которых допускает захоронение бесскелетных существ, сразу же обнаруживается, что значительная часть кембрийской фауны так и осталась “мягкотелой”. Так что дело не в скелетах. Явление, которое надо объяснить в первую очередь, — это уникальное ускорение эволюции многоклеточных животных, очень быстро (за конец эдиакария и начало кембрия) создавшее множество новых крупных групп, неважно, скелетных или нет.
В дальнейшем рассказе мы будем исходить из сценария, который кратко изложил еще в начале 1970-х годов американский палеонтолог Стивен Стэнли. Конечно, тут надо помнить, что палеонтология — очень быстро развивающаяся наука. Работы 40-летней давности в ней всегда требуют поправок, и мы эти поправки по ходу разговора внесем. Правда, в данном случае это будут скорее дополнения. Главная идея Стэнли исключительно хорошо выдержала проверку временем. Сумма фактов, известных на данный момент, вполне в нее вписывается.
Начнем с начала. На полях заметим: решить, что именно стоит принять за “начало”, при разборе любого исторического процесса — задача непростая, ведь причинно-следственные цепочки могут тянуться в прошлое едва ли не до бесконечности, сбивая неосторожного исследователя с толку. В нашем случае “началом” будет эдиакарская биота. Что же она собой представляла?
В экологии принято выделять организмы-средообразователи, активность которых определяет собой структуру целых сообществ. Такие организмы называются эдификаторами. Например, в дубраве эдификатором является дуб, в маленьком тихом пруду им вполне может быть ряска, и т.д. Так вот, в эдиакарских морях эдификаторами были покрывавшие дно “ковры” нитчатых водорослей — так называемые водорослевые маты[477]. На этих “коврах” жили уже знакомые нам вендобионты. Большинство из них вело прикрепленный образ жизни. Как они питались — не совсем понятно, но, скорее всего, осмотрофно, всасывая из воды растворенные вещества всей поверхностью тела. Таким способом до сих пор питаются некоторые морские протисты, например крупные — до 20 сантиметров! — многоядерные ксенофиофоры, похожие на гигантских амеб (они относятся к супергруппе Rhizaria). Вендобионты вполне могли быть близки к ним по образу жизни.
Впрочем, на эту тему есть и другие идеи. В 1986 году палеонтолог Марк Макменамин предположил, что вендобионты были экологическими аналогами современных погонофор — глубоководных кольчатых червей, лишенных рта и кишечника. Погонофоры живут в океане на такой глубине, куда солнечный свет не проникает. Зато там встречаются горячие источники, выделяющие в воду сероводород (H2S). Тело погонофоры набито симбиотическими бактериями, которые окисляют сероводород до серы и полученную при этом энергию используют для фиксации углекислоты, как при фотосинтезе. За счет этого процесса питаются и сами бактерии, и червь, в котором они живут. Некоторые погонофоры питаются за счет других бактерий, окисляющих не сероводород, а метан, но тоже автотрофных. В любом случае погонофоры — это фактически автотрофные животные. Что касается вендобионтов, то им было еще проще: они часто жили на мелководье, где солнечного света хватало для фотосинтеза, и вполне могли бы питаться за счет наполнявших их тело симбиотических одноклеточных водорослей. Это тоже реально, есть современные черви и моллюски, которые именно так и делают. Правда, у них этот способ питания обычно является дополнительным, но почему бы ему не стать и основным? Мир вендобионтов, где никто никого не ел, Макменамин назвал “садом Эдиакары”, с явной шуточной аллюзией на сад Эдема[478]. Большой недостаток этой гипотезы в том, что ее пока трудно проверить. К тому же она заведомо не может распространяться на всех вендобионтов без исключения: некоторые из них жили в море глубже уровня, куда проникает достаточно света для фотосинтеза[479]. Но в конце концов, в разных условиях они могли питаться по-разному.
Парадокс в том, что концепция “сада Эдиакары” представляется близкой к истине при любом сколько-нибудь реалистичном предположении о способе питания вендобионтов. Тут уже и неважно, жили в них водоросли или нет. В эдиакарском мире действительно никто никого не ел (не считая одноклеточных организмов). Принципиально важно, что в эдиакарских сообществах до некоторого момента не было не только хищников (которые питались бы другими животными), но и “травоядных” (которые умели бы механически соскребать водоросли). Таким образом, водорослевым матам там никто особо не мешал расти.
Все изменилось, когда повышение концентрации кислорода в морской воде (судя по геологическим данным, оно шло постепенно в течение всего эдиакария) позволило некоторым многоклеточным существам ускорить обмен веществ настолько, чтобы начать вести по-настоящему активный образ жизни. Тогда появились “сборщики урожая” — крупные животные со сложной двигательной системой и ртом, которые перемещались по водорослевым матам и выедали их значительные участки. Одним из таких “сборщиков” была знакомая нам кимберелла. По образу жизни и по скорости передвижения первые эдиакарские животные-водорослееды, скорее всего, приблизительно напоминали современных улиток. Для нас это выглядит безобидно, но с точки зрения эдиакарских жителей появление таких чудищ было настоящей катастрофой. Водорослевые маты немедленно перестали быть сплошными. К тому же животные не только соскребали их сверху, но и объедали снизу, освоив для этого проникновение в грунт (у зоологов принято называть такое поведение “минированием”). Тут досталось заодно и вендобионтам, которые в конце эдиакария просто исчезли.
С этого момента начала работать общая закономерность, установленная экологами уже давно и проверенная разными способами вплоть до прямых экспериментов: в условиях давления хищника разнообразие его жертв повышается по сравнению с сообществом, где хищников нет вовсе[480]. Если раньше донные сообщества заполнялись очень немногочисленными доминирующими видами водорослей, то теперь равновесие рухнуло и на этом фоне началась бурная эволюция. А между тем набор экологических ниш, доступных животным, тоже расширялся. Появились, например, активные грунтоеды, приспособленные к тому, чтобы постоянно жить в норах, пропуская донный грунт сквозь кишечник и извлекая из него питательные вещества. Так и до сих пор живут многие морские черви, вроде пескожила. Черви-грунтоеды впервые стали рыть в морском дне не только горизонтальные, но и вертикальные ходы, вызывая обогащение грунта кислородом и тем самым дополнительно облегчая его заселение другими животными (см. рис. 17.1). Эти события получили название субстратной революции[481]. Таким образом, эволюционирующие животные не только занимали готовые экологические ниши, но и активно создавали новые, превращая процесс в автокаталитический (самоускоряющийся).
Некоторые жители поверхности дна стали расширять свои экологические ниши не в сторону грунта, а, наоборот, в сторону водной толщи. В результате возник зоопланктон — сообщество мелких животных, пребывающих взвешенными в воде и дрейфующих вместе с ней. Как правило, представители зоопланктона питаются, фильтруя воду и отцеживая из нее фитопланктон, то есть находящиеся в той же водной толще одноклеточные водоросли (а таких к моменту кембрийского взрыва было уже сколько угодно, на все вкусы). И действительно, в раннем кембрии в палеонтологической летописи появляются первые планктонные фильтраторы — жаброногие рачки[482]. Жаброноги, как и все ракообразные, обладатели членистых конечностей, исходно предназначенных для хождения по грунту, то есть по дну. Поэтому нет никаких сомнений, что ранние этапы своей эволюции они прошли на дне, а к планктонному образу жизни обратились только после этого.
Последствия появления зоопланктона, в свою очередь, оказались вполне глобальными. Дело в том, что животные-планктеры отфильтровывают из воды не только водоросли, но и любую взвесь, в которой могут быть хоть какие-то питательные вещества. В основном это распыленные остатки мертвых организмов. Отфильтровав взвесь и всосав из нее полезные молекулы, планктеры (в первую очередь ракообразные) аккуратно “упаковывают” остальное содержимое кишечника в плотные комки — фекальные пеллеты, которые из-за своей компактности быстро тонут и отправляются на дно. А вода в результате очищается. Пеллетная транспортировка взвеси — важнейший фактор, понижающий мутность воды в океане.
Надо сказать, что переменивший облик Земли феномен пеллетной транспортировки непосредственно связан с одной чисто физиологической особенностью животных, образующих основную массу зоопланктона, — ракообразных. Дело в том, что находящаяся в кишечнике пища у них окружается перитрофической мембраной — тонкой белково-хитиновой пленкой, пропускающей мелкие молекулы, но отфильтровывающей крупные. Остатки переваренной пищи оформляются в компактные пеллеты именно благодаря ей. Перитрофическая мембрана есть и у насекомых, что неудивительно: ведь насекомые — это на самом-то деле всего лишь одна из многих эволюционных ветвей ракообразных[483] [484]. “В лице” насекомых ракообразные освоили сушу. Впрочем, тут мы забегаем вперед.
Итак, после появления планктонных фильтраторов вода в океане стала прозрачной, свет начал проникать в нее на большую глубину и повысилась концентрация кислорода (часть которого раньше расходовалась на окисление той же мертвой взвеси). Первый фактор сразу увеличил глубину зоны, в которой света достаточно для фотосинтеза, а второй улучшил условия для придонной фауны. По всем данным, прозрачный насыщенный кислородом фанерозойский океан резко отличается от мутного докембрийского океана[485]. Заодно повысилась концентрация кислорода и в атмосфере. Естественно, что в новых благоприятных условиях разнообразие как растений, так и животных дополнительно выросло. Замкнулась еще одна автокаталитическая петля.
Пришествие хищника
Все животные, о которых мы до сих пор говорили, были “травоядными” — хотя бы в самом наиширочайшем смысле этого слова. Они питались или фотосинтезирующими организмами, или, на худой конец, чьими-то останками. При этом собственная биомасса “травоядных” представляла собой ценный (и до какого-то момента совершенно невостребованный) ресурс для животных, питающихся другими животными, то есть для хищников.
Поначалу никаких многоклеточных хищников просто не существовало. Но при наличии таких атрибутов активной жизни, как нервная система, мускулатура и ротовой аппарат, их появление было всего лишь вопросом времени. Первые крупные хищники, уже совершенно определенно специализированные на питании другими многоклеточными животными, появляются в летописи примерно 520 миллионов лет назад. Это динокариды — хорошо плавающие существа, родственные членистоногим[486]. Самый известный представитель динокарид — аномалокарис, стройное сегментированное создание длиной около метра со сложными фасеточными глазами и мощными членистыми околоротовыми конечностями, явно служившими для захвата крупной подвижной добычи (см. рис. 17.2). В самом начале кембрия подобных хищников нет. Пресловутая “скелетная революция”, несомненно, в какой-то мере стала ответом на их появление — изменение химического состава морской воды только облегчило ее. А появление скелетов, в свою очередь, запустило освоение новых и новых экологических ниш.
Стивен Стэнли совершенно правильно писал, что для объяснения кембрийского взрыва вполне достаточно чисто биологических причин. Факторы, действующие на биосферу извне, могли повлиять на скорость того или иного процесса, но все главные события можно объяснить и без них. Вспышка разнообразия многоклеточных животных была естественным результатом серии автокаталитических процессов, запущенных появлением первых “травоядных” (вроде кимбереллы) и происходивших на уровне природных сообществ, то есть, иначе говоря, экосистем. Вне экологии понять кембрийский взрыв невозможно.
С появлением хищников процесс образования новых жизненных форм стал понемногу тормозиться. Репертуар экологических ниш сложился, почти все они уже были распределены и заняты. Разумеется, расширение сообществ продолжалось и дальше — просто медленнее. Например, только после окончания кембрийского периода появились лопатоногие моллюски, занявшие довольно-таки экзотическую нишу роющих хищников, преследующих своих жертв внутри грунта[487]. Но такого размаха, как на рубеже эдиакария и кембрия, крупномасштабная эволюция животных больше никогда не достигала.
С точки зрения событийной истории началом кембрийского взрыва можно считать появление первых эффективных водорослеедов (кимберелла), а концом — появление первых эффективных хищников (аномалокарис). Кимберелла появилась 555 миллионов лет назад, аномалокарис — 520 миллионов лет назад, интервал между ними — 35 миллионов лет. Не так уж и быстро.
Первопроходцы суши
Выход жизни на сушу — событие, настолько сильно растянутое во времени, что его просто невозможно рассматривать как четкий порог. Более того, сама постановка вопроса о выходе на сушу на самом деле спорна. Утверждение “море — колыбель жизни” вовсе не настолько само собой разумеющееся, как может показаться.
Например, в последние годы стала популярной гипотеза, согласно которой жизнь возникла не в океане, а в мелких наземных водоемах[488]. В пользу этой гипотезы есть несколько биохимических доводов, самый простой и наглядный из которых следующий. Известно, что цитоплазма практически всех живых клеток содержит гораздо больше ионов калия (K+), чем ионов натрия (Na+). Между тем почти во всех природных водоемах соотношение концентраций этих ионов в точности обратное. В морской воде в 40 раз больше натрия, чем калия, а в живой клетке, наоборот, в 10–20 раз больше калия, чем натрия. Внутриклеточный избыток калия важен для работы многих ферментов, и в том числе для системы синтеза белка. Причем анализ генных последовательностей показывает, что эти калий-зависимые ферменты очень древние. Скорее всего, они были уже у общего предка всех современных живых организмов. Значит, первые клетки формировались в среде, где калия было намного больше, чем натрия. Океан такой средой быть не мог. Гораздо вероятнее, что это были горячие источники, вода в которых как раз может иметь подходящий химический состав. И располагаться эти источники могли как в море, так и на суше (см. главу 11).
Но даже если живые клетки появились в неглубоких водоемах на суше, то после этого они быстро заселили океан. Дело в том, что по большинству параметров морская среда намного комфортнее наземной: в ней всегда хватает воды, и в нее почти не проникают опасные для клеток ультрафиолетовые лучи. Сейчас ультрафиолетовый компонент солнечного света экранируется слоем атмосферы, обогащенным газом озоном (O3), который постоянно образуется в небольшом количестве из атмосферного кислорода (O2). До кислородной революции на Земле не было никакого озонового слоя, поэтому защищать клетки от ультрафиолетовых лучей могла только вода. Получается, что океан был если и не колыбелью жизни, то уж точно ее убежищем на первые несколько миллиардов лет эволюции.
Первые признаки жизни на суше относятся еще к раннему докембрию[489]. В основном это палеопочвы, обогащенные “легким” изотопом углерода 12C — как мы помним, именно по этому критерию биогенный углерод, прошедший по биохимическим путям живых клеток, отличается от абиогенного. Первые такие палеопочвы имеют возраст примерно 2,7 миллиарда лет, но не исключено, что они существовали и раньше. Это — архейская эпоха, когда на Земле жили одни прокариоты. Зная, насколько огромны экологические возможности прокариот, нетрудно допустить, что кто-то из них прижился и в таком негостеприимном месте, как архейская суша.
Первое прямое свидетельство наземной жизни — остатки нитчатых синезеленых водорослей в ископаемой пещере возрастом 1,2 миллиарда лет[490]. Этот момент времени относится к эпохе “скучного миллиарда лет”, когда синезеленые водоросли, они же цианобактерии, уже не только были многочисленны, но и мало чем отличались от своих современных родичей. А о современных синезеленых водорослях известно, что они довольно часто живут вне воды, например на почве или на скалах. Так что никаких серьезных причин сомневаться в этой находке нет.
Несколько позже — один миллиард лет назад — появляются остатки наземных водорослей, предположительно относящихся уже к эукариотам[491]. Они образуют пластинчатые колонии, а также цисты, то есть покоящиеся стадии с толстой сложно структурированной клеточной стенкой. Тут надо сказать, что проникновение эукариотных водорослей в наземную среду — явление, опять же, не столь и редкое. Например, современная зеленая водоросль трентеполия не просто выдерживает наземные условия, а специализирована к ним и ведет полностью наземный образ жизни. У нее есть целый набор приспособлений к жизни на воздухе — очень толстые клеточные стенки, обилие запасных веществ. Колонии трентеполии обычно выглядят как кирпично-красный или желтый налет на коре деревьев (зеленый цвет, присущий большинству растений, тут маскируется дополнительными красными пигментами, защищающими водоросль от “световых перегрузок” в слишком хорошо освещенной среде). В том, что водоросли с похожим образом жизни существовали миллиард лет назад, нет ровным счетом ничего невероятного.
Надо отметить, что оценки, которые мы сейчас обсуждаем, не самые смелые, а, наоборот, самые скептические. Например, древнейшая известная кора выветривания (понятие, частным случаем которого является почва) образовалась примерно 3,5 миллиарда лет назад, и есть исследователи, которые допускают существование наземной жизни уже тогда[492]. Это не выглядит невозможным, но пока не имеет строгих доказательств. В чем мы можем быть уверены, так это в том, что наземная жизнь, причем многоклеточная, существовала еще до позднепротерозойской эпохи “Земли-снежка”. Неудивительно, что сразу после “Земли-снежка”, то есть в эдиакарском периоде, она возродилась.
И как возродилась! Есть гипотеза, что именно активностью наземной биоты объясняется “вторая кислородная революция”, то есть происходивший в эдиакарии рост содержания кислорода в атмосфере. Причинно-следственная цепочка тут вот какая. Важным фактором, влияющим на концентрацию кислорода, является присутствие в той же среде мертвого органического вещества. Если такого вещества много, то значительная часть кислорода тратится на его окисление, переходя в итоге в углекислоту и воду. Если любым способом вывести из оборота мертвую органику, свободного кислорода при прочих равных условиях станет больше. Именно это произошло, когда кембрийский зоопланктон освоил пеллетную транспортировку мелкой взвеси на дно. В эдиакарии механизм, приводивший к этому эффекту, тоже существовал, но был несколько другим. Мертвая органика связывалась частицами глины, которые поступали в океан с континентальным стоком, и оседала на дно вместе с этими частицами. Между тем геологи считают, что источником такого количества глины может быть только биогенная кора выветривания, то есть почва[493]. Тогда получается, что эдиакарская наземная биота, предположительно состоявшая из водорослей и грибов, запустила уже достаточно мощное почвообразование. Кстати, есть данные, что в эдиакарии были и лишайники[494].
С другой стороны, в палеонтологии, как мы уже знаем, довольно широко распространена идея, что эволюция многоклеточных животных зависела от содержания кислорода в атмосфере (так называемая гипотеза кислородного контроля). Высокая концентрация кислорода, несомненно, облегчила переход к “настоящей” животной многоклеточности, требующей много энергии. Если же подъем этой концентрации произошел в конечном счете из-за активности наземных организмов — значит, выход жизни на сушу не только предшествовал появлению настоящих многоклеточных животных, но и был в какой-то мере его причиной.
Леса и насекомые
В первые четыре периода палеозойской эры — кембрий (542–485 млн лет назад), ордовик (485–443 млн лет назад), силур (443–419 млн лет назад) и девон (419–359 млн лет назад) — наземная биота постепенно, но неуклонно усложнялась. Высшие споровые растения, относящиеся примерно к тому же уровню организации, что и современные мхи, совершенно достоверно появились в ордовике[495]. Наземные водоросли, от которых они, скорее всего, произошли, известны из кембрия[496]. Ну а в конце ордовика уже существовали первые сосудистые растения, имеющие специальные проводящие ткани для транспорта воды и питательных веществ. К ним относятся все современные высшие растения, кроме мхов: папоротники, псилоты, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые. Начиная с силура именно сосудистые растения преобладают в растительном покрове Земли[497].
Животные тоже вышли на сушу. В первую очередь это членистоногие — тип, который в наземных условиях достиг колоссального расцвета (см. рис. 17.3). В силуре появились многоножки и скорпионы, в девоне — сенокосцы, клещи, ложноскорпионы и насекомые[498]. Причем на сушу некоторые из них выбрались довольно рано: например, ископаемые следы, наверняка принадлежащие наземным многоножкам, обнаруживаются в ордовике[499]. А в начале девона появились хищные губоногие многоножки, которые могли питаться только другими членистоногими. У ископаемых экземпляров этих многоножек сохранились даже ногочелюсти с крючками, сквозь которые в тело жертвы впрыскивался яд из ядовитых желез — этот механизм у них одинаков с современными представителями группы[500]. Это означает, что к началу девона сообщество наземных членистоногих было уже достаточно сложным, чтобы хищник всегда мог найти себе добычу.
Что касается позвоночных, то они вышли на сушу едва ли не последними. Наземные позвоночные появляются в палеонтологической летописи только во второй половине девона, причем их первые известные представители, скорее всего, еще вели в основном водный образ жизни[501]. Расцвет их начался в следующем периоде — каменноугольном, или карбоне (359–299 млн лет назад). Освоившись на суше, наземные позвоночные заняли в сообществе место “суперхищников”, способных без особого труда съесть любое членистоногое, и приступили к собственной бурной эволюции.
В сложившемся “пазле” наземной фауны явно не хватает двух привычных нам фрагментов. Во-первых, там нет пауков. Их ископаемые родичи, еще не умевшие плести паутину, вышли на сушу в силуре, но настоящие пауки, и то очень примитивные, появились только в конце карбона[502]. А во-вторых, мы пока еще не сказали ни слова о летающих насекомых. Упомянутые девонские насекомые были первичнобескрылыми, то есть относились к таким группам, у которых крыльев никогда не было. Первичнобескрылые насекомые есть и сейчас: например, встречающаяся в домах сахарная чешуйница. Но подавляющее большинство современных насекомых — крылатые (включая сюда и тех, кто по той или иной причине потерял крылья вторично). И вот этой группы в девоне еще нет. Первый бескрылый родственник крылатых насекомых, очень похожий на них строением ротового аппарата, обнаружен в конце девона[503]. А первое насекомое с крыльями — в начале карбона[504]. С этого момента в истории жизни на Земле началась новая эпоха, хотя поначалу, вероятно, это особенно заметно не было.
Дело в том, что крылатые насекомые во многих отношениях уникальны на фоне всей остальной земной фауны, вместе взятой. Достаточно сказать, что к этой группе относится примерно две трети всех современных видов животных. Кстати, наиболее богатый видами отряд крылатых насекомых — жесткокрылые, или жуки; с этим связано знаменитое (хотя и не имеющее четкого подтверждения в источниках) высказывание биолога Джона Холдейна: “Если Создатель существует, он, должно быть, необычайно любит жуков”. При всем этом крылатые насекомые обладают необычайно широким набором способов питания. Это наглядно выражено во многообразии их ротовых аппаратов: грызущий, лижущий, грызуще-лижущий, трубчато-сосущий, колюще-сосущий, режуще-сосущий и др., вплоть до таких необычных, как хватательная маска личинки стрекозы, гигантские жвалы жука-оленя или 20-сантиметровый спирально закрученный хоботок длиннохоботного бражника. Крылатые насекомые встречаются везде, где только могут жить многоклеточные существа, за исключением морских глубин. Они бывают хищниками, растительноядными, паразитами, поедателями грибов или разрушителями мертвой органики, и во всех этих ролях могут вырабатывать тончайшие пищевые специализации. Кроме того, они образуют еще и множество других, непищевых связей с соседями по сообществам: например, насекомые-опылители сильно повлияли на эволюцию цветковых растений. В общем, биосферную роль крылатых насекомых трудно переоценить.
Растительный мир на рубеже девона и карбона тоже изменился. В середине девона сразу несколько неродственных групп наземных растений выработали жизненную форму дерева с мощной корневой системой и вертикальным ветвящимся стволом высотой до восьми метров[505]. А в позднем девоне появились первые леса, состоявшие в основном из древовидного папоротника археоптериса[506]. И хотя археоптерисовые леса конца девона не пережили, другие древесные породы тут же пришли им на смену. Например, в карбоне появились те самые сигиллярии с “упругими и рыхлыми стволами”, которые упомянул в стихах поэт-акмеист Михаил Зенкевич. В общем, на рубеже девона и карбона началось великое “облесение суши” (afforestation of the land)[507]. Лес открыл множество новых экологических ниш, которые не замедлили занять животные, питавшиеся как растениями, так и друг другом. И тот же лес выбрасывал в атмосферу огромное количество кислорода, тем самым облегчая животным всевозможные “эксперименты” с формой и размером. В карбоне достигли своего расцвета амфибии и появились первые рептилии — несомненно, в связи с ростом разнообразия насекомых, которыми эти позвоночные могли питаться. Так пошло и дальше. Крылатые насекомые и леса — два фактора, вот уже примерно 350 миллионов лет определяющие облик земной суши.
Парк пермского периода
Последний период палеозойской эры — пермский — продолжался 46 миллионов лет (298–252 млн лет назад). Пермский мир был уже во многих отношениях близок к нынешнему. Сушу населяли многообразные наземные позвоночные, среди которых были и хищники, и растительноядные. Процветал мир насекомых; именно в перми появился отряд, оказавшийся самым эволюционно успешным в этом классе, — жуки. На континентах росли леса, состоявшие в Северном полушарии из древних хвойных, а в Южном — из лиственных голосеменных, отдаленно родственных современному гинкго. Водная жизнь тоже бурно развивалась: пермские моря были полны моллюсков, иглокожих, брахиопод, ракообразных, кораллов и других беспозвоночных, не говоря уж о рыбах. Современного наблюдателя (если бы он не слишком всматривался) в перми поразило бы, прежде всего, отсутствие птиц, млекопитающих и цветковых растений, а если бы он мог увидеть Землю из космоса — то еще и совершенно другое расположение материков.
В конце карбона — начале перми произошло так называемое гондванское оледенение, охватившее значительную часть суши Южного полушария. Очень вероятно, что его главной причиной было распространение лесов. Деревья карбонового периода связывали огромное количество углерода в биомассе своих стволов, разлагать которую было некому: эффективные разрушители древесины тогда еще не возникли. В результате деревья падали и захоранивались как есть, создавая залежи каменного угля. Переход углерода из атмосферного углекислого газа в эти залежи, где он оказался “заперт”, сильно ослабил парниковый эффект — вот этого, по-видимому, и хватило для запуска оледенения. Достоверно показано, что атмосферная концентрация CO2 в тот момент сильно упала[508]. Гондванское оледенение создало холодный климат на части земной суши, но никаких биосферных переворотов, насколько можно судить, не вызвало. Все крупные группы организмов его спокойно пережили.
События конца перми были гораздо драматичнее. Но чтобы к ним перейти, нам понадобится небольшое вступление.
Пять великих рубежей
Еще палеонтологи XIX века прекрасно знали, что рубежи периодов, а тем более эр, обычно характеризуются спадами разнообразия живых организмов, то есть, попросту говоря, вымираниями. Это естественно: одни живые существа вымирают, другие приходят им на смену. Границы периодов как раз и проводятся по моментам, когда смены флор и фаун особенно заметны. А конец пермского периода одновременно является концом всей палеозойской эры — не приходится удивляться, что некоторая часть биоты на этом рубеже исчезла.
А что получится, если оценить это явление количественно? В 1979 году палеонтолог Дэвид Рауп, много занимавшийся статистическим анализом разнообразия древних фаун, опубликовал статью со следующим выводом: есть основания считать, что в конце пермского периода вымерло, не оставив потомков, примерно 96% всех видов морских животных на Земле[509]. Получалось, что биота, по крайней мере морская, прошла в этот момент через настоящее “бутылочное горлышко”. Подсчеты Раупа были основаны на огромном материале. И хотя его результаты касались только морской фауны, они не оставляли сомнений, что в конце перми действительно случилось очень крупное вымирание.
Другой известный палеонтолог, Дуглас Эрвин, решил определить скорость этого процесса. Анализируя вместе с коллегами распределение остатков животных в осадочных толщах, он постепенно пришел к выводу, что пермское вымирание произошло за очень короткий срок — меньше одного миллиона лет[510]. Коротким этот срок, конечно, можно назвать только по меркам истории Земли, но для событий такого масштаба он действительно мал.
Итак, на границе палеозоя и мезозоя произошло нечто большее, чем рядовая смена ископаемых фаун. Рауп и Эрвин столкнулись с явлением, относящимся к категории массовых вымираний (mass extinctions). Что же это, собственно, такое?
Массовые вымирания, они же биосферные кризисы, случались в истории Земли довольно регулярно. Принято считать, что в фанерозое крупнейших вымираний было пять[511]. Пермское — одно из них. Из остальных четырех два произошли внутри палеозоя (в конце ордовика и в конце девона), одно — внутри мезозоя (на рубеже триасового и юрского периодов), и еще одно отделяет мезозой от кайнозоя (именно тогда исчезли динозавры). Некоторые из этих событий вполне могли иметь внешние причины. Например, вымирание на границе мезозоя и кайнозоя связывают с падением на Землю 10-километрового астероида, кратер от которого сейчас находится на побережье полуострова Юкатан. Но похоже, что если это и верно, то случай тут все же исключительный: большинство вымираний объяснить подобными единичными катастрофами не удается. Необходимо учитывать, что кризисов, лишь немного уступающих пяти “главным” вымираниям, а то и сравнимых с ними, в фанерозое на самом-то деле было еще больше десятка[512]. Космических катастроф просто не хватит на них на всех.
Некоторые палеонтологи считают, что кризис, сопровождающийся массовым вымиранием, есть совершенно нормальная стадия развития природного сообщества, во всяком случае, сообщества размером с земную биосферу. Известный палеоботаник Валентин Абрамович Красилов так и писал: кризис — это естественный механизм эволюции сообществ[513]. Под этим углом зрения становится понятно, почему некоторые кризисы не удается толком связать ни с какими внешними воздействиями на живую природу. Но столь же ясно, что само по себе признание кризиса нормальным явлением еще ничего не объясняет. В основе любого исторического события, и биосферного кризиса в том числе, лежат вполне реальные причинно-следственные связи. Наша задача — их раскрыть. Если нет внешних причин, значит, есть внутренние, и наоборот.
В этом плане вымирание на границе палеозоя и мезозоя особенно интересно. Чтобы понять почему, его можно бегло сравнить с вымиранием на границе мезозоя и кайнозоя, тем самым, которое погубило динозавров. Прежде всего уточним названия этих событий. Последний период мезозоя называется меловым, первый период кайнозоя — палеогеновым, поэтому “динозавровый” кризис мы будем называть мел-палеогеновым, как это обычно и делают. Кризис на рубеже палеозоя и мезозоя по тому же принципу называют пермо-триасовым.
Разница между этими кризисами следующая. Во-первых, пермо-триасовое вымирание было намного мощнее. Аккуратный подсчет по одной и той же методике показывает, что мел-палеогеновый кризис уничтожил примерно 15% от всех существовавших тогда биологических видов, а пермо-триасовый — примерно 60%[514]. Эти цифры несколько меньше тех, которые обычно приводятся в научно-популярных публикациях, но зато уж в них можно не сомневаться. Во-вторых, в отличие от мел-палеогенового кризиса, пермо-триасовый кризис не был вызван никаким внешним ударом вроде астероидного импакта (гипотеза, что подобный импакт был и тут, высказывалась, но не подтвердилась). И в-третьих, после пермо-триасового кризиса разрушенная биосфера вступила в очень долгий — растянувшийся на десятки миллионов лет — период постепенного восстановления, чего после мел-палеогенового кризиса не было вообще: там сообщества восстановились сразу[515].
Недавно детальные геологические исследования показали, что пермское вымирание заняло гораздо более короткий срок, чем думали раньше, — всего 60 000 лет[516]. Это 0,06 миллиона лет, срок по меркам планетной истории просто невероятно маленький. Что же там случилось?
Пермский кризис
Большинство ученых сейчас считает, что пермскую катастрофу вызвали вулканы. Показано, что точно в момент биосферного кризиса (то есть 252 миллиона лет назад) на территории, которая сейчас называется Западной и Средней Сибирью, образовалась трапповая провинция — система действующих вулканов, не ограниченных точечными кратерами, а занимающих сплошное протяженное поле. Выглядело это, должно быть, грандиозно. Расколотая во многих местах земная кора извергла буквально море расплавленного базальта, залившее 1,6 миллиона квадратных километров — это площадь современного Ирана. Текущий базальт затопил огромную территорию и постепенно застывал, создавая абсолютно плоскую безжизненную равнину, по которой текли новые базальтовые волны от новых извержений. А дым от них, надо полагать, затмил небо. Но все это было только прологом ко всепланетной катастрофе.
Трапповые вулканы неизбежно выбрасывали в атмосферу колоссальные объемы вулканических газов — углекислого газа (CO2), хлороводорода (HCl), сероводорода (H2S), сернистого ангидрида (SO2) и др. Это имело много последствий. Во-первых, углекислый газ усилил парниковый эффект, вызвав сильное глобальное потепление. Во-вторых, вулканические газы повысили кислотность морской воды, а это по чисто химическим причинам сильно затруднило жизнь кораллов и иглокожих: карбонаты, из которых состоят твердые скелеты этих животных, в слишком кислой воде просто-напросто растворяются. В-третьих, сероводород ядовит для большинства живых организмов, особенно при концентрации, в тысячи раз превышающей нынешнюю атмосферную, — а именно такой уровень сероводорода создавали трапповые вулканы[517].
Более того, показано, что существует концентрация сероводорода, которая еще не мешает росту фитопланктона (то есть одноклеточных водорослей), но уже мгновенно убивает зоопланктон (например, веслоногих рачков). Если такое случится в реальном водоеме, он тут же “зацветет”. Дальше последует цепочка событий, обычная для цветущих водоемов и в наше время: бесконтрольно размножающимся водорослям не хватит ресурсов, часть из них погибнет, погрузится на дно и там начнет разлагаться, связывая запас кислорода в нижних слоях воды, который в данном конкретном случае должен быть и без того невелик: ведь чем выше температура, тем хуже кислород растворяется в воде[518]. Если этим водоемом будет Мировой океан, то его глубины в результате станут практически бескислородными, что, собственно, в момент пермского кризиса и наблюдалось[519]. Называя вещи своими именами, там случился глобальный замор.
Между тем в бескислородной среде, богатой соединениями серы, прекрасно себя чувствуют анаэробные бактерии, в том числе и сульфатредуцирующие, выделяющие в качестве побочного продукта метаболизма опять же сероводород[520]. Готово — петля положительной обратной связи замкнулась. И наверняка подобных петель было несколько. Вулканических газов могло и не хватить, чтобы убить все живое, но их хватило, чтобы запустить серию обратных связей, сделавших катастрофу саморазвивающейся.
Пустынная планета
Сразу после пермского кризиса Земля представляла собой довольно унылое место. Ничем не сдерживаемый парниковый эффект привел к разогреву Мирового океана до 38–40 ºС[521]. Это близко к смертельной для большинства животных и растений температуре денатурации белков (примерно 45º). К тому же при высокой температуре снижается растворимость кислорода в воде, так что существование водной фауны практически исключается. Палеонтологические данные показывают, что рыбы в эту эпоху остались только в приполярных областях океана. Суша, скорее всего, прогревалась еще сильнее, поэтому тропические и субтропические широты были непригодны для жизни крупных наземных животных. Авторы, опубликовавшие эти данные, делают твердый вывод: в раннем триасе температура стала дополнительной причиной массового вымирания.
Не блестяще обстояло дело и с кислородом. В перми его концентрация в атмосфере поднялась почти до 30%, а после пермского кризиса она упала до 10–15% и оставалась такой большую часть триаса[522]. Это сильно ограничивало физиологические возможности уцелевших позвоночных, не давая им достичь крупных размеров. Полностью исчезли леса — деревьев, способных их образовать, просто не осталось нигде на Земле. Соответственно, вымерли все животные, занимавшие специфически лесные экологические ниши[523]. Самым крупным и многочисленным наземным позвоночным этой эпохи был листрозавр — всеядная зверообразная рептилия размером со среднюю собаку. Впрочем, еще чаще листрозавра сравнивают со свиньей, подразумевая, что он вел похожий образ жизни и питался чем попало. Участвуя в подготовке телепередачи о листрозавре, английский палеонтолог Майкл Бентон назвал ее “Когда свиньи правили Землей”.
В целом можно утверждать, что больше всего от пермо-триасового кризиса пострадали морские беспозвоночные, а меньше всего — насекомые[524]. У последних вообще все “провалы” разнообразия, вызванные массовыми вымираниями, сглажены по сравнению с другими группами животных. Частично это связано с их удачной анатомией и физиологией (дыхательная система насекомых состоит из микроскопических трубочек — трахей, которые пронизывают тело, доставляя воздух прямо к клеткам без всякого переноса кровью; как бы мало кислорода в этом воздухе ни было, животное его получит), а частично — с тем, что наземная среда, к которой они приспособлены, гораздо более разнообразна и расчленена, чем водная. Если вы — жук, то уж какое-нибудь приемлемое для себя микроместообитание всегда найдете.
Триасовое возрождение
На протяжении триасового периода структура сообществ постепенно восстанавливается. Более того, в ней возникают принципиально новые жизненные формы — например, морские рептилии. В середине триаса появляются двукрылые насекомые (то есть комары и мухи), а в конце — черепахи, крокодилы, динозавры, летающие ящеры (птерозавры) и млекопитающие. Это уже почти современная биота. Из групп, представителей которых мы привыкли каждый день видеть, не хватает только птиц (появляются в юре) и цветковых растений (появляются в мелу). Никаких переворотов, сравнимых с кембрийским взрывом или пермским кризисом, в истории Земли отныне больше не будет, по крайней мере до появления человека.
Тут уместно привести интереснейший чисто эмпирический результат, который получил американский палеонтолог Джон Сепкоски. Он собрал данные по морским животным за все времена — от кембрия до современности — и построил график, где по горизонтали было отложено время, а по вертикали — разнообразие, измеренное числом родов и семейств (см. рис. 17.4). Оказалось, что в течение всего палеозоя, не считая начального периода роста сразу после кембрийского взрыва, разнообразие остается в целом стабильным. После кризисов оно просто возвращается к прежнему уровню. На границе перми и триаса, естественно, виден глубокий провал. И что же дальше? За пермо-триасовым провалом следует не возвращение к прежнему устойчивому уровню, а непрерывный подъем, который иногда притормаживается очередными кризисами, но тем не менее неуклонно длится вот уже почти 250 миллионов лет. На графике Сепкоски очень наглядно видно, что вся эволюция как бы делится на две части: до пермского кризиса, когда разнообразие было по большому счету стабильным, и после него, когда оно непрерывно растет. Никакого общепринятого объяснения этому до сих пор нет, но сам факт установлен твердо[525]. И получается, что пермский кризис изменил весь режим развития жизни на Земле. Перефразируя знаменитого английского историка Арнольда Тойнби, вполне можно сказать: эволюция — это ответ на вызов.
От клетки к социуму
Сумма доступных нам сейчас научных знаний, в общем, не оставляет сомнений, что одним из самых важных процессов в эволюции эукариот было слияние организмов. Оно шло на разных уровнях. Уже самая первая эукариотная клетка, скорее всего, возникла в результате симбиоза археи с бактерией. На следующем эволюционном этапе, который наступил довольно быстро, эукариотные клетки начали всевозможными способами объединяться друг с другом. Интересно, что генетическая близость клеток, вступающих в союз, была при этом моментом хоть и важным, но не решающим. В общем случае клетки, составляющие единый организм, могут быть как строго генетически одинаковыми (в типичном многоклеточном теле), так и вовсе не родственными друг другу (например, в лишайнике, где клетки гриба самым натуральным образом порабощают клетки зеленой водоросли). Преобладание в нынешней биоте организмов “первого типа”, каждый из которых возникает из одной-единственной яйцеклетки, — не сам собой разумеющийся факт, а поворот эволюции, требующий объяснения. Но так или иначе, не позже чем к началу палеозойской эры Земля стала миром многоклеточных эукариот — растений и животных.
На новом эволюционном витке началось объединение целых организмов в системы следующего уровня — социальные. Довольно точные эквиваленты слова “социальность” — “общественность”, или, в устаревшей лексике, “общежительность”. Любая социальность основана на обмене сигналами между особями, в результате которого у них формируется некоторое общее поведение. Например, социальные амебы, относящиеся к так называемым клеточным слизевикам (из супергруппы Amoebozoa), могут обмениваться химическими сигналами в виде молекул циклического аденозинмонофосфата (цАМФ, см. главу 8). Под действием этого сигнального вещества они сползаются вместе и образуют грибообразное плодовое тело. Это один из простейших случаев социальности, часто рассматриваемый как ее элементарная модель. Но ясно, что канал для обмена сигналами у слизевиков очень узкий. Примерно так же обстоит дело у растений, сигнальные системы которых почти исключительно химические и передают мало информации. Тут, однако, вспоминается знаменитый роман Джона Уиндема “День триффидов”, в котором хищные растения-мутанты научились общаться звуковыми сигналами, тем самым резко расширив канал передачи информации и создав сложное, организованное поведение. Нетрудно догадаться, какая группа организмов получила подобные возможности не в фантастике, а в реальности. Это — животные.
Качественно новым эволюционным достижением была не столько социальность животных как таковая, сколько ее высшая форма — эусоциальность, при которой “представители вида живут группами, состоящими из нескольких поколений, и члены группы действуют альтруистично по отношению друг к другу в соответствии с регулярным разделением труда”[526]. Животные, ставшие эусоциальными, фактически объединяются в суперорганизм, члены которого больше не являются самодостаточными (не могут существовать без поддержки товарищей по виду и сами вынуждены тратить ресурсы на такую поддержку), но обретают взамен новые возможности, принципиально недоступные одиночной особи. Согласно процитированному определению, человек разумный — эусоциальный вид. “В этом смысле люди вполне сравнимы с муравьями, термитами и другими эусоциальными насекомыми” (там же). И есть некоторые основания полагать, что именно эусоциальность создала человека разумного — во всяком случае, в большей степени, чем любая другая его биологическая особенность.
Рассмотренное определение эусоциальности взято из относительно недавней книги Эдварда Уилсона, крупнейшего в мире специалиста по муравьям и глубокого мыслителя, в свое время фактически создавшего науку социобиологию. Тут возникает загвоздка, которую мы не можем обойти вниманием. Дело в том, что традиционно биологи называли эусоциальными только тех животных, у которых есть разделение на размножающуюся касту и стерильных рабочих. Идеал эусоциальности — это муравейник, где яйца откладывает только матка. Причем раньше так считал и сам Эдвард Уилсон. В своей обзорной работе 1975 года он перечисляет три признака эусоциальности: (1) общественная забота о потомстве, (2) разделение особей на размножающиеся и стерильные касты и (3) перекрывание как минимум двух поколений[527]. Очевидно, что в случае с человеком камнем преткновения служит второй признак. Общественная забота о потомстве и перекрывание поколений у него есть, а вот разделения особей на размножающихся и стерильных — нет (если не считать бездетных элит вроде духовенства некоторых религий и китайских чиновников-евнухов, но наличие таких элит никак нельзя считать всеобщей чертой нашего вида).
Спустя 30 лет, в 2005 году, Уилсон с соавтором выпустили обзорную статью о муравьях, в которой дали следующее определение: “Эусоциальность — это эволюционно достигнутый уровень колониального существования, при котором взрослые члены колонии относятся к двум или более перекрывающимся поколениям, сотрудничают в уходе за молодью и делятся на размножающуюся и неразмножающуюся (или, по крайней мере, менее размножающуюся) касты”[528]. Как видим, тут уже появилась оговорка. Кроме того, в этом же обзоре подчеркивается, что главное в явлении эусоциальности — это “общие принципы, существующие на организменном и сверхорганизменном уровне”, “параллели, ясно прочерченные между построением организма из молекул и тканей и суперорганизма — из взаимодействующих целостных организмов”. А в конце статьи упоминается и человек. Авторы признают, что путь его эволюции имеет много общего с эусоциальными животными, но прямо назвать человека эусоциальным существом еще пока не решаются.
Однако в том же 2005 году вышла статья, озаглавленная “Новое эусоциальное позвоночное?”[529]. Ее авторы, английские биологи Кевин Фостер и Фрэнсис Рэтникс, обратили внимание на одну всем известную особенность человека — менопаузу. Это генетически запрограммированная физиологическая перемена, имеющая отчетливо пороговый характер (в отличие от старения, которое идет медленно и постепенно). И она приводит к тому, что все особи одного из двух полов выключаются из размножения примерно в середине жизни, при этом сохраняя свою социальную функцию — участие в выращивании потомства. Вероятнее всего, менопауза — это адаптация, появление которой было как-то связано с социальной структурой наших предков. Здесь Фостер и Рэтникс отмечают, что свойственная человеку полная и необратимая стерильность значительной части особей, ухаживающих за потомством, — это признак, вообще уникальный среди позвоночных. У голых землекопов — грызунов, которых часто считают образцом эусоциальности, — такого нет, стерильность рабочих особей у них физиологически обратима. Таким образом, если можно считать эусоциальным видом голого землекопа, то можно и человека разумного[530].
При всей спорности этой аргументации она, очевидно, дала нужную подсказку Эдварду Уилсону, мысли которого и без того много лет развивались в сходном направлении. В статье, опубликованной им вместе с соавторами в 2010 году, уже прямо сказано, что существует широкое определение эусоциальности (наличие “частично неразмножающихся каст”), под которое человек подходит[531]. К этому времени Уилсон стал убежденным сторонником расширенной интерпретации эусоциальности: главное в ней — не распределение репродуктивных функций (как считали когда-то первые социобиологи), а возникновение сверхорганизма, “часто причудливого по устройству, но представляющего особый уровень биологической организации” (оттуда же). И вот в такое понимание эусоциальности человек уже вписывается. В 2012 году Уилсон выпустил замечательную книгу “Социальное завоевание Земли” (в русском переводе, вышедшем в 2014 году, — “Хозяева Земли”), целиком посвященную тому, какую роль в эволюции жизни на Земле сыграли эусоциальные существа, включая человека.
Муравьиными тропами
Именно на работах Эдварда Уилсона и будет преимущественно основан наш краткий рассказ про эусоциальность. Уилсон — идеальный проводник по этой теме, независимо от того, согласны ли мы с его общефилософскими взглядами (которые он решительно высказывает в нескольких своих последних книгах). И действительно, кто может разбираться во всем этом лучше, чем человек, посвятивший 60 лет своей жизни изучению муравьев?
Итак, первое, что можно констатировать: эусоциальность часто дает ее обладателям огромный эволюционный успех. Во многих тропических лесах две трети насекомых — это муравьи. Скоординированная активность множества муравьев или термитов позволяет построить огромное защищенное поселение с собственным микроклиматом, организовать походы на фуражировку и даже создать аналог сельского хозяйства (и среди муравьев, и среди термитов есть виды, разводящие в гнездах строго определенные грибы по достаточно сложным технологиям). Ясно, что одиночным насекомым такое не под силу.
Тем удивительнее, что эусоциальность появилась в эволюции относительно поздно. В палеозое неизвестны никакие следы активности эусоциальных животных — судя по всему, такого феномена тогда просто не существовало. Насколько мы знаем, первыми на Земле эусоциальными существами стали термиты. Самые ранние известные остатки термитов относятся к началу мелового периода[532]. При этом меловые термиты очень похожи на современных — настолько, что неспециалист не смог бы их отличить, и, что еще важнее, они обнаруживаются на нескольких разных континентах, которые в меловом периоде уже отделены друг от друга океаном. Единым целым эти континенты были только в триасе. Так что, скорее всего, первые термиты произошли от своих тараканообразных предков не в мелу, а значительно раньше. Специалисты помещают вероятное время их возникновения где-то между средним триасом и ранней юрой, в интервале 237–174 миллиона лет назад[533]. Получается, что первые общественные насекомые заняли (или создали) одну из принципиально новых экологических ниш, открывшихся после пермо-триасовой “перезагрузки” биосферы.
Несколько позже, но тоже в мезозойскую эру, появляются общественные перепончатокрылые насекомые — муравьи, пчелы, шмели, некоторые осы. На их развитие сильно повлияла так называемая “цветковая революция”, когда голосеменные растения в большинстве сообществ массово сменились недавно возникшими цветковыми — родственниками привычных нам магнолий, буков, роз и других деревьев, трав и кустарников. Это произошло примерно в середине мелового периода, и как раз тогда же началась очень бурная эволюция муравьев, в итоге сделавшая их одними из самых заметных членов наземных экосистем[534]. Конечно, это не случайное совпадение. “Цветковые” леса обладают более сложной структурой местообитаний, в которую разным насекомым, в том числе и общественным, оказалось легче встроиться.
В масштабе эволюционного древа эусоциальность — в общем-то нечастое явление. Эдвард Уилсон и его соавторы пока насчитывают всего 18 независимых событий возникновения эусоциальности у животных (не считая человека), 16 из которых относятся к членистоногим. Эусоциальность возникла один раз у термитов, девять раз у перепончатокрылых (ос, пчел, муравьев), три раза у других насекомых и три раза у ракообразных[535]. При этом во всех без исключения известных случаях необходимым предварительным условием для эусоциальности было защищенное гнездо, в котором постоянно живет и размножается группа особей одного вида. Эусоциальные морские ракообразные — десятиногие раки-щелкуны — умудряются создавать такое гнездо даже внутри тела другого животного, а именно губки. Только на основе постоянного гнезда может начаться разделение функций, при котором одни особи размножаются, а другие занимаются исключительно добычей пищи, уходом за личинками или защитой от внешнего мира. И тогда группа превращается в сверхорганизм.
У позвоночных животных эусоциальность возникает очень редко. Самый известный пример эусоциального позвоночного — африканский грызун под названием голый землекоп (Heterocephalus glaber). Голые землекопы ведут роющий образ жизни. Они создают подземное защищенное гнездо, в котором живет группа, представляющая собой расширенную семью с “маткой” (размножающейся самкой), ее двумя-тремя “мужьями” и несколькими десятками “рабочих” обоих полов, которые не размножаются, пока это делает “матка”. Такой уровень эусоциальности не уступает тому, которого достигли термиты.
У голых землекопов есть еще два необычных признака. Во-первых, они не стареют (смертность не растет с возрастом) и могут жить до 30 лет и больше — для млекопитающих такого размера это уникальный случай. Во-вторых, они не способны самостоятельно поддерживать постоянную температуру тела, то есть фактически не являются теплокровными животными. Последнее очевидным образом вызвано колониальной жизнью землекопов: температура в хорошо устроенном подземном поселении достаточно стабильна, чтобы физиологические механизмы терморегуляции можно было и отключить. Причины “отключения” старения гораздо более загадочны (одно из самых простых объяснений, хотя и не обязательно самое верное, таково: у землекопов любая рабочая самка в принципе может дождаться своего шанса занять место царицы, но для этого ей нужно как можно дольше прожить, сохранив силы, — отсюда естественный отбор против старения), но в любом случае они наверняка так или иначе связаны с необычной социальной структурой этих зверей.
Второй вид стопроцентно эусоциальных млекопитающих — дамарский землекоп (Fukomys damarensis). Если голый землекоп живет в Восточной Африке, то дамарский — в Юго-Западной. Эусоциальность сложилась у этих двух близких видов, скорее всего, независимо, так же, как она несколько раз независимо возникала у близких видов ос и пчел. Вот, по сути, и все эусоциальные позвоночные, не считая человека. Правда, к эусоциальности приближаются некоторые грызуны (прерийные полевки) и хищники (гиеновые собаки), но с голыми землекопами их по глубине приспособлений нельзя и сравнивать. В любом случае подавляющее большинство обладателей эусоциальности — это насекомые.
Эусоциальный мозг
Чем же отличается эусоциальность человека от эусоциальности любых других животных? Начнем с того, что в ней общего. Это склонность объединяться в устойчивые группы на стоянках. Тут стоит привести длинную цитату из Эдварда Уилсона, она лучше любого пересказа своими словами:
“Стоянки a priori были важнейшей адаптацией на пути к эусоциальности: по сути, стоянки — это человеческие гнезда. Все без исключения животные, достигшие эусоциальности, начинали со строительства гнезда и защиты его от врагов. Они выводили в нем потомство, покидали его, уходя на поиски пищи, и возвращались в него с добычей, которую делили с остальными обитателями... Почему защищенное гнездо играет такую важную роль? Потому что в нем члены группы вынуждены собираться вместе. Им приходится уходить на разведку и поиски пищи, но в конце концов они всегда возвращаются”.
Именно плотная “упаковка” разновозрастных и разнополых особей в компактном гнезде, которое нельзя покинуть без риска для жизни, вынуждает животных совершенствовать систему взаимодействий друг с другом. В истории человечества таким “гнездом” мог быть и костер, вокруг которого собиралась группа степных охотников, и пещера, и рыцарский замок, и даже советская коммунальная квартира. Этот фактор действовал на человека с самого начала, так же как он действует, например, на каких-нибудь социальных ос (кстати, именно от ос произошли муравьи).
И вот тут мы упираемся в принципиальные отличия человеческой эусоциальности от той, которая свойственна насекомым. Их, по мнению Уилсона, всего два: ограниченная способность к расселению и слишком крупный размер особей.
На расселение общественных насекомых очень сильно влияет их главное преимущество — крылья. Оплодотворенная муравьиная матка может легко пролететь расстояние, которое для человека (с поправкой на размер тела) было бы эквивалентно нескольким сотням километров. После этого она обламывает крылья и основывает новую колонию на новом месте, где, если повезет, может не оказаться никаких конкурентов. Следует добавить, что эта возможность стремительного расселения реализуется не всегда: например, у рыжих лесных муравьев гнезда обычно образуются “почкованием”, рядом со старыми, соединяясь с ними поначалу обменными дорогами. Но так или иначе расселение путем дальних перелетов муравьям в принципе доступно. А млекопитающим, во всяком случае наземным, — нет. Они могут расселяться только очень постепенно, не имея “предохранительного клапана”, позволяющего за один шаг разделить родственные колонии в пространстве и тем самым снизить напряженность конкуренции между ними. Это касается как голых землекопов, так и людей, и имеет у них одни и те же последствия, а именно высокую внутривидовую агрессивность. Показано, что голые землекопы отличаются “ксенофобией” и часто нападают на незнакомых — а значит, заведомо принадлежащих другому гнезду — особей своего вида[536]. В отношении человека разумного тут можно обойтись без пояснений. В фильме Мамору Осии “Небесные скитальцы”, который уже упоминался совсем по другому поводу в главе 14, недаром звучат слова: “Нельзя уничтожить войну, не уничтожив человека”. В самом этом утверждении можно усомниться, но вот в том, что склонность к войне запечатлена в нашей чисто биологической природе, особых сомнений нет.
Не менее важен размер тех особей, которые образуют колонию. Млекопитающие — гиганты животного мира. Типичное современное млекопитающее превосходит массой типичное современное насекомое примерно на три порядка, то есть в тысячу раз. Это не абсолютный закон (некоторые млекопитающие бывают меньше некоторых насекомых), но — повторимся — типичное соотношение именно таково. Что же касается человека, то его размер очень велик даже по стандартам большинства млекопитающих: среди них на самом деле не так уж и много животных, вес которых превосходит килограмм, а тем более измеряется десятками килограммов. В эпоху динозавров, то есть в мезозое, таких зверей не существовало вовсе, но и в кайнозое их доля никогда не была особенно велика. Достаточно сказать, что две трети всех современных видов млекопитающих — это грызуны и летучие мыши.
Почему это важно? Очевидно, что чем крупнее животное, тем крупнее будут и его отдельные органы, в том числе мозг. Любой мозг состоит из более-менее однотипных нервных клеток — нейронов, размер которых у всех позвоночных в первом приближении одинаков. Чем мозг больше, тем большее число нейронов он вместит. А чем больше будет нейронов, тем больше между ними установится связей и тем сложнее при прочих равных условиях может стать поведение. Правда, оговорка насчет “прочих равных” тут очень сильна (в мозге слона втрое больше нейронов, чем в мозге человека, но 97% из них находятся в мозжечке — отделе мозга, который управляет в первую очередь мышечным движением). И тем не менее, если усреднить данные по крупным группам животных, мы, скорее всего, увидим, что абсолютные цифры тут важнее относительных. В мозге муравья примерно 250 000 нервных клеток, в мозге пчелы — около миллиона. При таком количестве нейронов поведение относительно жестко программируется инстинктами (это видно хотя бы из классических книг Жана Анри Фабра, детально описывавшего сложные формы поведения перепончатокрылых). У серой крысы 200 миллионов нейронов, и это уже другое дело: все мы знаем, как разнообразно поведение этих зверьков и как хорошо развита у них способность к обучению. А у современного человека нормальное число нейронов составляет 86 миллиардов. Эусоциальное существо с мозгом такого размера просто обречено стать разумным.
Опять же — почему? Есть серьезные основания считать, что самая ресурсоемкая область применения головного мозга крупных животных — это социальные контакты, то есть выстраивание системы взаимодействий с сородичами по виду. Основанное на этом представление, связанное в основном с именем английского антрополога Робина Данбара, получило название гипотезы социального мозга. Наблюдения над разными видами обезьян показывают, что с ростом абсолютного размера мозга взаимодействия между особями очень быстро усложняются. А в сложной социальной системе, в свою очередь, индивиды с более крупным мозгом могут получить за счет этого преимущество при естественном отборе, то есть заработает положительная обратная связь. Размер мозга голого землекопа, существа размером с мышь, по всей видимости, не достиг порога, за которым эта положительная обратная связь может запуститься. Ну а размер мозга первых представителей рода Homo, появившихся около двух миллионов лет назад, — достиг.
Примем во внимание, что и крупный размер, и эусоциальность — качества в целом довольно редкие (например, из всех современных насекомых эусоциальностью обладает только 2% видов). А их сочетание, судя по всему, реализовалось за всю историю Земли только один раз[537]. Вот результатом этого сочетания и стала наша цивилизация. Результат неизбежный, зато само сочетание крайне маловероятное.
Люди и селениты
Огромный мозг человека позволил ему реализовать в высшей степени неэкономичную эволюционную стратегию, сочетающую эусоциальность с универсальностью каждой особи. Очевидно, что любой здоровый человек потенциально способен не только размножаться, но и более-менее успешно освоить любой предлагаемый наличным социумом род деятельности (разве что с небольшими ограничениями, вытекающими из случайной индивидуальной изменчивости по таким, например, признакам, как музыкальный слух). Причем эта способность сохраняется на протяжении большей части активной жизни. Кроме того, человек способен десятилетиями накапливать знания, формируя в итоге совершенно неповторимую структуру личности с уникальными навыками. Поддержание социальной системы, состоящей из особей с такими свойствами, — дело достаточно затратное. Не могла ли природа выбрать какой-то другой путь?
Здесь помогут мысленные эксперименты, поставленные научными фантастами. Например, в романе Герберта Уэллса “Первые люди на Луне” описана гуманоидная цивилизация, устроенная совершенно по иному принципу, чем наша. Уэллсовские селениты (жители Луны) готовят каждого члена общества к строго определенной профессии с самого рождения, используя для этого не только сложную систему воспитания, но и “смелые хирургические операции”. Например, селенит-математик чисто физиологически не способен заниматься чем-либо, кроме математики: у него сильно развит мозг (и даже определенные области мозга), конечности и внутренние органы уменьшены, а сильные и яркие переживания могут быть связаны только с математикой, и ни с чем другим. Селенит-пастух, наоборот, хорошо физически тренирован, имеет глаза, защищенные “твердой и угловатой роговой оболочкой”, но не знает ничего, кроме технических понятий своего ремесла, и счастье может испытывать, только занимаясь пастушеской работой. “И так обстоит дело с селенитами всех сословий — каждый представляет собой в совершенстве законченную составную часть общей машины”.
Уэллс прекрасно знал биологию и не мог не понимать, что с точки зрения этой науки он рисует довольно реалистичную картину. Эусоциальность почти всегда приводит к тому, что отдельные особи начинают специализироваться, приобретая физиологические и даже анатомические различия между собой. Чтобы оценить последнее, достаточно сравнить, например, рабочего термита с термитом-солдатом. Уэллсовские селениты вписываются в это правило. Примерно такого уровня специализации особей и стоило бы “из общих соображений” ожидать от эусоциальных существ с крупным мозгом.
С этой точки зрения социум Homo sapiens, в котором каждая особь одновременно универсальна и уникальна, выглядит чудом. А ведь он существует уже несколько десятков тысячелетий. По эволюционным меркам это мало, но по меркам истории культуры — очень много. Более того, внутри человеческих обществ время от времени возникают очаги дополнительного “сброса специализации”. Например, после так называемой катастрофы бронзового века (XII в. до н.э.) начались события, которые Михаил Константинович Петров, известный философ, специалист по истории античной культуры, в свое время проанализировал в статье с замечательным названием: “Пентеконтера. В первом классе европейской школы мысли”[538]. Гибель крупных империй Восточного Средиземноморья разрушила специализацию людей, основанную на кастовом делении, и породила мир, где каждый мужчина был универсальным матросом на борту столь же универсального небольшого корабля — пентеконтеры (см. рис. 17.5). По мнению Петрова, именно с этого и началось знаменитое “греческое чудо”, создавшее в конце концов европейскую цивилизацию.
Космическая рулетка
Насколько закономерны в нашей Вселенной такие явления, как жизнь и разум?
Кратко на этот вопрос не ответить. Современные научные знания не дают оснований поддерживать связанную с именем маркиза Пьера Симона де Лапласа позицию полного детерминизма. В реальности существует не только необходимое. Существование жизни не противоречит никаким положениям физики или химии, но оно и не вытекает непосредственно из этих положений. Обратим внимание, что такое утверждение верно далеко не для всех природных явлений: например, образование атомов, молекул, звезд при данных физических законах было неизбежно. О возникновении жизни этого сказать нельзя. Звездные системы не обязательно порождают жизнь, как и жизнь (судя по всему) не обязательно порождает разум. Во всяком случае, у нас пока нет никаких серьезных оснований утверждать обратное.
Можно мысленно прочертить траекторию, соединяющую в одно целое все ключевые моменты химической и биологической эволюции, начиная от формирования планетной системы и заканчивая становлением цивилизации. Такие события, как возникновение первых клеток, многоклеточности или мозга, будут на этой траектории промежуточными точками. Как же оценить вероятность того, что жизнь на данной планете пройдет по ней от начала до конца?
Думается, что тут уместна вот какая аналогия. Представим себе игрока в рулетку, который все время ставит на красное с одним дополнительным условием: серия выпадений красного должна быть обязательно непрерывной. Пока раз за разом выпадает красное, человек остается в игре. Если хотя бы один раз выпало черное, игра прекращается и он выбывает. Какие шансы будут у такого игрока?
Это легко подсчитать. При одном испытании игрой в рулетку вероятность выпадения красного составляет ½. Но уже при десятке испытаний вероятность постоянного выпадения красного станет меньше 1/1000, а при сотне испытаний в знаменателе окажется вполне астрономическое 32-значное число. Вот оно-то и будет характеризовать соотношение тех, кто выиграл, и тех, кто проиграл.
Похоже, что жизнь в космосе сталкивается примерно с такой же игрой вероятностей. Для каждого отдельного фактора или события вероятность помешать развитию жизни может быть невысока. Настоящая проблема в том, что этих факторов и событий очень много. Планета не должна оказаться слишком близко или слишком далеко от звезды, не должна быть разрушена ударом другого небесного тела, не должна проявлять слишком высокую или слишком низкую тектоническую активность — продолжать в таком роде можно до бесконечности. Между тем никакого суммирования, приводящего к взаимной компенсации, здесь нет. Единичного события, хотя бы на короткое время выводящего условия на планете за пределы пригодных для жизни, может быть достаточно, чтобы закрыть вопрос навсегда, даже если значения всех остальных переменных при этом остаются в пределах допустимого.
Более того, биосфера может не только погибнуть от внешних по отношению к ней факторов (это можно назвать угрозой первого рода), но и буквально совершить самоубийство (угроза второго рода). Причем для этого не обязательно нужен разумный агент, который устроит термоядерную войну. У известного геолога Джозефа Киршвинка есть интересная статья под названием “Красная Земля, белая Земля, зеленая Земля, черная Земля”[539]. Под “красной Землей” тут понимается Земля в начале кислородной эпохи: тогдашние осадки богаты окисленными соединениями железа, часто имеющими красноватый оттенок. “Белая Земля” — это Земля эпохи “Земли-снежка”. “Зеленая Земля” — это современная Земля с ее почти сплошным растительным покровом. А вот “черная Земля” — это ситуация, которая, по мнению Киршвинка, в принципе могла бы реализоваться в далеком будущем. Современные системы фотосинтеза поглощают свет разных цветов (синий, красный), но вот зеленый свет они большей частью отражают. Именно поэтому современные растения и выглядят зелеными. Между тем в солнечном свете зеленый компонент очень силен. А что, если эволюция создаст фотосинтезирующий организм с такими пигментами, которые будут преимущественно поглощать зеленый свет? Это вполне может повысить эффективность фотосинтеза и дать такому организму преимущество в выживании: эволюция — слепой скульптор, она никогда не заглядывает вперед дальше чем на один шаг. Земля, покрытая растениями, поглощающими зеленый свет, будет из космоса выглядеть черной. Отражательная способность планеты при этом грозит снизиться настолько, что биосфера не сможет справиться с перегревом и большинство живых организмов погибнет от высокой температуры (как это чуть было не произошло на рубеже перми и триаса). При всей внешней фантастичности этого сценария никаким законам природы он не противоречит.
Говоря о жизни в космосе, мы сразу сталкиваемся с еще одной проблемой, связанной скорее с человеческим восприятием реальности. Рассуждая о том, почему мы до сих пор не встретили инопланетные цивилизации, люди очень часто основываются (больше подсознательно, чем сознательно) на старинных представлениях, согласно которым Вселенная практически вечна. Философы, убежденные, что мир никогда не рождался и никогда не умрет, были даже в Средневековье. В Новое время близкую к этому позицию выразил, например, шотландский геолог Джеймс Геттон, писавший: “В истории Земли мы не видим никаких следов начала и никаких признаков конца”. Но сейчас-то мы знаем, что это совсем не так! Любая планетная система имеет конечный срок существования, в который развивающаяся там жизнь должна уложиться. И в сравнении с темпами эволюции самой жизни этот срок не так уж велик. Например, часть “жизненного цикла” Солнца, охватывающая промежуток от протозвезды до красного гиганта, должна занять около 10 миллиардов лет. Это всего-навсего вдвое больше, чем уже длится история Солнечной системы.
Кроме того, возникновение жизни было невозможно в первые миллиарды лет после Большого взрыва, пока звезды первых поколений не достигли стадии сверхновых и не взорвались, разбросав по Галактике пригодные для сборки планетных систем и живых тел тяжелые химические элементы. Считается, что наше Солнце — звезда даже не второго, а третьего поколения. В древней Вселенной, включавшей только звезды первого поколения и состоявшей почти исключительно из водорода и гелия, никакой жизни быть не могло. Это дополнительно ограничивает максимальный срок, отпущенный на биологическую эволюцию.
С другой стороны, эта эволюция обычно идет очень неравномерно. Например, первые эукариоты появились только после “кислородной революции”, и, скорее всего, вследствие нее. До этого биосфера Земли в течение двух миллиардов лет была чисто прокариотной. Но и в эукариотной биосфере эволюция отнюдь не всегда шла быстро: за “эукариотным Большим взрывом” (если он был) последовал “скучный миллиард лет”, в течение которого в живой природе Земли не появилось никаких качественных новшеств. Вполне возможно, что без них обходилось бы и дальше, если бы не катастрофическое оледенение, вызванное особенностями дрейфа континентов и приведшее к вынужденной перестройке всей биосферы (эпоха “Земли-снежка”). Сложись геологическая история Земли несколько иначе, самыми сложными живыми организмами на ней до сих пор могли бы быть строматолиты — или, в лучшем случае, красные водоросли. Более того, не исключен сценарий, когда целая биосфера доживает до гибели в огне своего солнца (ставшего красным гигантом), так и не успев породить ни многоклеточных животных, ни высших растений.
Отсюда следует ясный вывод. Обычно (и чаще всего неявно) принимаемое “господами ксенологами” допущение, что время, нужное для развития цивилизации, пренебрежимо мало по сравнению с временем существования Вселенной, совершенно неверно. На самом деле эти времена сравнимы друг с другом. Первое, конечно, меньше, но не на порядки, а всего лишь в разы. На Земле от возникновения жизни до возникновения разума прошло время, приблизительно равное трети времени существования Вселенной, и ничего не стоит вообразить сценарий, где это время было бы еще больше.
Эта логика сразу подсказывает возможное решение пресловутой загадки “молчания Вселенной” (Silentium Universi), или основного парадокса ксенологии, как предпочитали выражаться Стругацкие. Весьма вероятно, что наша цивилизация — просто первая в Галактике. Другие биосферы, если они где-то и существуют, еще не успели дойти до этой стадии. Только и всего. Может быть, успеют в будущем — а может быть, и нет.
“Человек — не статический центр мира, как он долго полагал, а ось и вершина эволюции, что много прекраснее”, — писал в середине XX века Пьер Тейяр де Шарден. Что ж, современные научные данные не исключают, что Тейяр был в каком-то смысле прав. Удивительный сверхорганизм человечества — острие эволюции жизни во Вселенной.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Природа не ведает сна. Жизнь никогда не останавливается. Сотворение мира не закончено. Библия учит нас, что в День Шестой бог сотворил человека и потом дал себе отдых, но каждый из шести дней длился миллионы лет. День же отдыха был, верно, очень коротким. Человек — не завершение, а начало. Мы живем в начале второй недели творения. Мы — дети Дня Восьмого.
Торнтон Уайлдер. День ВосьмойПьер Тейяр де Шарден писал в книге “Феномен человека”, первое издание которой вышло в 1955 году:
“Нам кажется невероятным, что могли жить люди, которые и не подозревали, что звезды мерцают над нами на расстояниях в сотни световых лет или что контуры жизни начали вырисовываться уже миллионы лет назад у границ нашего горизонта. И, однако, достаточно открыть любую из чуть пожелтевших книг, в которых авторы XVI и даже еще XVIII века пространно рассуждали о структуре мира, чтобы с изумлением констатировать, что наши прапрапрадедушки чувствовали себя совершенно непринужденно в пространстве-ящике, где звезды вращались вокруг Земли менее шести тысяч лет. В космической атмосфере, в которой мы бы сразу же задохнулись, в перспективе, куда мы бы физически были не в состоянии вступить, они дышали без малейшей стесненности, если не полной грудью”[540].
Это высказывание Тейяра прекрасно описывает начавшуюся в Новое время революцию в понимании природы — революцию, которую часто называют переходом “от существующего к возникающему” или “от бытия к становлению”. Нам сейчас трудно вообразить Вселенную, которая существует 6000 лет и оканчивается сферой неподвижных звезд за орбитой Сатурна. А ведь на протяжении тысячелетий подобное представление о мире было нормой, пусть и находились великие умы, его оспаривавшие.
Многочисленные открытия, сделанные на протяжении трех веков (с XVIII по XX), открыли перед людьми совершенно новую космологическую перспективу. Научная картина мира перестала быть стационарной. Кант и Лаплас предложили первую физическую модель образования Солнечной системы. Геология Геттона и Лайеля продемонстрировала бездонную (как тогда казалось) глубину истории нашей планеты, а начавшая развиваться после выхода знаменитой книги Дарвина эволюционная биология доказала, что не менее сложная история была и у живой природы. Благодаря теории относительности Эйнштейна возникла модель расширяющейся Вселенной — сначала чисто математическая, но быстро получившая астрономические подтверждения. После этого Жорж Леметр и Георгий Гамов сформулировали теорию расширения Вселенной “от первоначального атома”, которую еще при их жизни назвали теорией Большого взрыва. Радиоизотопный метод позволил определить возраст Солнечной системы (4,6 миллиарда лет), а расчеты на основе теории Большого взрыва — возраст Вселенной (13,8 миллиарда лет). Теория тектоники плит в основных чертах объяснила, как и почему на Земле менялось расположение континентов. Инфляционная теория дополнила классическую космологию, установив, что видимая Вселенная — это не просто не вся Вселенная, а ее ничтожно малая часть (из-за стремительного расширения в самом начале). Неравновесная термодинамика начала исследовать физические принципы, делающие возможной самоорганизацию материи — упорядоченное изменение от простого к сложному. Одним словом, Вселенная обрела историю. На месте статичного аристотелевско-птолемеевского космоса возникла картина грандиозного потока, несущего в себе все вещи и устремленного из бурного прошлого в неведомое будущее.
Вот частью этого потока и является древо жизни — иначе говоря, эволюционное древо. Надо сказать, что сейчас мы знаем довольно много даже о его глубоких “корнях”: загадка происхождения жизни, рассуждения о которой еще недавно воспринимались как бездоказательные, в наше время обернулась рядовой научной проблемой, вполне поддающейся решению экспериментальными методами. Однако тема этой книги — не столько “корни” древа жизни, сколько его “ствол” и главные ветви. Автор должен признаться, что на протяжении всей работы он считал смысловым центром книги третью часть, так и озаглавленную — “Древо жизни”, — и именно ее писал с особым удовольствием. То, что эта часть не стала заодно и самой большой, объясняется — увы — чрезмерным объемом первых двух частей, которые задумывались как вводные (например, глава о биоэнергетике разрослась в процессе написания до совершенно непредвиденного размера, а сокращать было жалко: тема-то интересная). Впрочем, нет худа без добра: широкий охват материала позволяет нам увидеть, что субъектами эволюции в том или ином смысле могут быть структуры всех уровней — от атомов и молекул до планеты Земля.
“Философский камень” биологии
Открытие генетического кода подарило людям такие возможности для изучения биологической эволюции, которые до середины XX века было просто невозможно вообразить. Например, представим, что молекулярный филогенетик сравнивает несколько видов эукариот, у которых прочитаны аминокислотные последовательности 100 белков. Типичный размер эукариотного белка — 300 аминокислот. Получается, что сравнению подлежат 30 000 аминокислотных позиций. Если прочитаны еще и нуклеотидные последовательности генов, кодирующих эти белки, то — поскольку любая аминокислота кодируется тремя нуклеотидами — сравнение охватит уже 90 000 позиций, на каждой из которых в принципе может стоять любой из четырех нуклеотидов (А, Т, Г или Ц). Таково количество признаков, с которыми работают систематики в молекулярную эру. Открытие методов работы с генетической информацией поистине стало “философским камнем” биологии, во всяком случае эволюционной. Отметим, что все приведенные числа не взяты с потолка — они заимствованы из реальных свежих научных работ, причем достаточно скромных по размаху: объем анализируемых данных запросто может быть и больше (например, во многих современных исследованиях сравниваются целые геномы, и тогда речь идет уже о миллионах нуклеотидов).
Любая группа живых организмов имеет общего предка, у которого был свой геном. От этого генома путем конвариантной редупликации, то есть копирования с сохранением изменений, произошли геномы всех современных представителей группы. Многообразные события, меняющие геномы в ходе эволюции, оставляют следы, которые наслаиваются друг на друга. Их можно найти и прочитать, примерно так же, как можно найти и прочитать следы правок в обычном тексте. Ведь геном — это тоже текст (хотя и не только текст, конечно). Геном любого организма заключает в себе целую летопись эволюционных изменений, многие из которых можно довольно точно распознать и датировать. Сплошь и рядом это относится даже к изменениям, которые произошли много сотен миллионов лет назад. Текст может сохранить все.
Любой геном — это в некотором смысле архив, документирующий события, происходившие на всем протяжении эволюционной линии от последнего общего предка всех живых организмов (или, во всяком случае, клеточных организмов, если мы говорим о них) до обладателя этого генома. Конечно, следы многих событий в конце концов стираются из генома начисто, и с этим ничего не поделаешь: “Полностью утраченная информация, не сохранившаяся ни в одном экземпляре, восстановлена быть не может”[541]. С другой стороны, бывают и такие эволюционные новшества, которые запечатлеваются в геноме очень четко — так, что “прочитать” их следы можно даже спустя миллиарды лет. “Впечатанные” в геном свидетельства в принципе могут воспроизводиться из поколения в поколение сколь угодно долго. Причем все они заключены внутри сложной упорядоченной структуры, дающей возможность их послойно датировать. Это означает, что наряду с палеонтологической летописью, которая интенсивно изучается с начала XIX века, в распоряжении биологов теперь есть еще одна настоящая летопись — генетическая. Как и палеонтологическая летопись, она неполна, но зато любой ее сохранившийся фрагмент несет огромное количество информации.
Установление родства между организмами — далеко не единственная, но, безусловно, очень важная задача эволюционной биологии. Сейчас эта задача частью уже решена, а частью активно решается. Неудивительно, что книги на эту тему быстро устаревают, и данная книга не составит исключения. Особенно это относится к главе 15, которая местами, вероятно, успеет устареть еще до выхода книги из печати. Избежать этого невозможно: скорость открытий в области мегасистематики сейчас такова, что любая сводка должна обновляться по меньшей мере раз в год, а иногда и быстрее. Например, супергруппа Excavata все более четко разбивается современными исследованиями на две самостоятельные супергруппы — Discoba и Metamonada, которые независимо отходят от “корня” общего древа эукариот[542]. Вместо супергруппы Opisthokonta на эволюционном древе эукариот все чаще появляется супергруппа Obazoa, включающая тех же опистоконтов плюс две небольшие группы примитивных жгутиконосцев[543]. Загадочную ветвь криптомонад в последнее время сближают с архепластидами, то есть с растениями — в противовес старой системе, причислявшей криптомонад к хромальвеолятам[544]. С другой стороны, на молекулярных деревьях, построенных с учетом новейших данных, регулярно возникает сестринская по отношению к ризариям ветвь, состоящая из страменопилов и альвеолят — а это означает, что систематики, возможно, поторопились с “закрытием” группы Chromalveolata: не достаточно ли было просто изменить ее состав, выкинув оттуда криптомонад и гаптофит? Наконец, в феврале 2018 года, когда эта книга уже версталась, вышла авторитетная и основанная на большом наборе новых данных работа, показывающая, что коллодиктион (многократно здесь упоминавшийся) вместе с двумя другими “микроцарствами” малоизвестных протистов образует целую супергруппу, сестринскую по отношению ко всем одножгутиковым (Unikonta = Amorphea)[545]. И конечно же, “продолжение следует”. Остается лишь посоветовать интересующимся этой темой следить за научными новостями, благо освещаются они сейчас неплохо, а тема — и впрямь интригующая.
Подчеркнем примечательную вещь. Все перечисленные изменения касаются новой мегасистемы, которая оформилась только на рубеже XX–XXI веков. Преемственной по отношению к старой мегасистеме (разбивавшей живые организмы на два, три, четыре или пять царств) она не является. Можно утверждать, что современная мегасистема соотносится со старыми системами живой природы (образца “животные — растения — грибы — протисты — бактерии...”) так же, как современная астрономия, во всей ее красе и славе, соотносится с геоцентрической системой Птолемея. С точки зрения истории науки это утверждение будет верным буквально, без всяких преувеличений. И это прекрасно! Нам выпало жить в годы, когда новая научная картина мира (во всяком случае, биологическая) формируется прямо на глазах.
Будем помнить, что построение филогенетического древа, отображающего — в идеале — родственные связи абсолютно всех земных живых организмов, в любом случае станет только первым шагом к настоящему, глубокому познанию эволюционного процесса. Как механизмы эволюции, так и ее результаты невероятно многообразны. Известный американский биолог Стивен Гулд говорил по этому поводу:
“Проблема с историей жизни состоит в том, что у нас есть только один эксперимент. Благодаря огромному биохимическому сходству мы понимаем, что вся жизнь на Земле произошла из одного источника. Тем самым у нас нет никакого ответа на главный вопрос: должна ли любая жизнь быть устроена так, как она устроена на Земле, или мы наблюдаем всего одну возможность, осуществившуюся на фоне сотни миллионов нереализованных альтернатив?”[546]
Сам Гулд, насколько можно судить, склонялся ко второму варианту ответа. Если бы историю Вселенной можно было каким-то непостижимым образом повторить, возникла ли бы в ней хоть какая-нибудь жизнь? И если да — то как бы она выглядела? К чему пришла бы жизнь на Земле, если бы не было столкновения, породившего Луну, или “Земли-снежка”, или пермского кризиса (см. главы 16, 17)? За всеми этими поворотами и развилками скрываются возможности, которых мы, скорее всего, никогда не сможем даже вообразить (как сказал писатель Олег Ладыженский: “Вся западная мифология не смогла придумать кенгуру”). Вряд ли кто-нибудь мог бы предсказать, например, такое уникальное событие, как возникновение эукариот, точный механизм которого до сих пор остается загадкой (см. главы 10, 14). Вряд ли инопланетный биолог, посетивший Землю в мезозойскую эру, мог бы предсказать великую эволюционную судьбу тогдашних млекопитающих. Или, скажем, если бы тот же биолог попал три миллиона лет назад в Африку и встретил там странных прямоходящих обезьян — смог бы он предсказать, что именно эти нелепые и малочисленные существа создадут великую письменную культуру, преобразуют облик планеты, выйдут в космос?..
А ведь перед нами будущее — и оно еще более сложно и непредсказуемо, чем прошлое.
От древа к лабиринту
Чарльз Дарвин считал, что родственные отношения всех живых организмов могут быть изображены ветвящимся древом. Сам термин “древо жизни” изобретением Дарвина не является — он, скорее всего, заимствован из библейской Книги Бытия. Классическая биология полагала, что все биологическое разнообразие возникло из единственного начального узла эволюционного древа в результате серии его последовательных ветвлений. Сейчас эту “нулевую гипотезу” дополняет постулат, блестяще популяризированный Ричардом Докинзом в книгах “Эгоистичный ген” и “Расширенный фенотип”: эволюция генов и эволюция целых организмов — просто-напросто разные вещи. Гены вполне могут перемещаться из одного организма в другой, и все реальные организмы (включая человека) суть в той или иной степени генетические химеры. Например, в геноме человека имеется довольно много генов и еще больше некодирующих нуклеотидных последовательностей, включенных туда эндогенными ретровирусами (см. главу 12). Все эукариоты получили от вирусов такие важные для работы генетического аппарата вещи, как механизм кэпирования информационной РНК и фермент топоизомеразу, играющий важную роль в репликации ДНК (см. главу 10)[547]. Список подобных примеров легко продолжить. Итак, в общем случае нам приходится иметь дело не с единым молекулярно-филогенетическим древом, а с набором древес, относящихся к отдельным генам, которые совсем не обязаны совпадать друг с другом.
Картина еще больше усложняется в тех случаях, когда по ходу эволюции организмы не просто обменивались генами, а сливались целиком. Таких примеров гораздо меньше, но некоторые из них очень важны для истории жизни на Земле: например, происхождение эукариот, которое сопровождалось слиянием минимум двух, а может быть, и трех микроорганизмов (см. главы 10, 14). Систему родственных связей, возникающую в результате наложения друг на друга множества событий подобного рода, “древом” уже не назвать.
В 2010 году известный французский биолог Дидье Рауль предложил для обозначения структур такого типа термин “ризома”[548]. Попросту говоря, ризома — это сеть. Типичную ризому дает, например, попытка построить по молекулярным данным общее эволюционное древо бактерий. Иначе и не может быть, учитывая, насколько легко разные бактерии обмениваются генами. Внутри древа эукариот эффекты горизонтального переноса генов выражены гораздо меньше, но зато происхождение эукариот как таковых без учета этого процесса вообще необъяснимо.
Французское слово “ризома” (rhizome) буквально означает “корневище”. В 1976 году философы-постмодернисты Жиль Делёз и Феликс Гваттари сделали это слово философским термином. Ризома — это сетевая структура, противопоставляемая древовидной; визуализацией ризомы будет запутанная корневая система, лишенная сколько-нибудь четкой формы, но пронизанная множеством внутренних связей. “Ризома так устроена, что в ней каждая дорожка имеет возможность пересечься с другой. Нет центра, нет периферии, нет выхода. Потенциально такая структура безгранична”, — писал Умберто Эко в “Заметках на полях “Имени розы””, рассуждая о типах лабиринтов. Ризома — образ мира, “потерявшего свой стержень”, но таящего в себе неожиданные возможности, — “творящий Хаос”. Превращая “ризому” из чисто философского термина в биологический, Дидье Рауль, несомненно, учитывал эти оттенки значений. В своих интервью он обратился еще и к философии Ницше, говоря, что эволюция — не столько аполлонический мир (красивый, разумный, организованный), сколько дионисический (хаотичный, бурный, внезапный). С точки зрения Рауля, эволюция гораздо более прерывиста, случайна и непредсказуема, чем полагало большинство ученых XIX–XX веков.
Разумеется, такой взгляд на вещи не надо превращать в догму (впрочем, к любым другим научным взглядам это тоже относится). Тем не менее здесь наверняка отражены некоторые реальные свойства природных процессов — причем не только генетических. Из сказанного в этой книге можно увидеть, что система траекторий, по которым двигалась (или могла бы двинуться) история жизни на Земле, в общем-то гораздо больше похожа на сеть тропинок в дремучем лесу, чем на прямую, как стрела, провешенную трассу. Это относится к нашему прошлому, и нет никаких оснований считать, что это не будет относиться к будущему. Стоит добавить, что такой вывод не должен служить основанием для пессимизма. Конечно, путь сопряжен с риском — в ризоме легко заблудиться, но она же может подарить путнику новые, неожиданные возможности: ведь сотворение мира еще длится. Эволюция — не освещенная дорога, ведущая от амебы прямо к человеку, а темный лабиринт, полный обрывов, провалов, тупиков, внезапных пересечений, катастроф и эвкатастроф. Дионисический космос, таящий в себе и смерть, и надежду.
ИЗБРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1 Азимов А. Асимметрия жизни. — М.: Центрполиграф, 2007.
Оригинальное название этой книги — “Левая рука электрона”, что уже само по себе отлично ее характеризует. Фактически это сборник очерков на разные темы, интересные автору и пунктирно связанные общей идеей, — от фундаментальной асимметрии Вселенной до роли асимметрии в происхождении жизни.
2 Азимов А. Мир углерода. — М.: Химия, 1978.
Введение в органическую химию, увлекательное (как и все у Азимова) и не требующее абсолютно никаких начальных знаний. Рассказывает о многих интересных вещах, в том числе не имеющих ни малейшего отношения к биологии: бывает ведь и просто химия.
3 Азимов А. Мир азота. — М.: Химия, 1981.
Непосредственное продолжение книги “Мир углерода”. Азимов не успел в первой книге рассказать обо всем, что ему показалось интересным, и написал вторую — про азотсодержащую органику.
4 Гранин Д.А. Зубр. — Л.: Советский писатель, 1987.
Документальный биографический роман о жизни выдающегося биолога, упоминаемого в данной книге. Рассказывает про его интеллектуальный круг, его учителей и учеников — многие из них были причастны к открытиям, которые тут обсуждаются.
5 Джохансон Д., Иди М. Люси: Истоки рода человеческого. — М.: Мир, 1984.
Подробный рассказ о находке одного из древнейших представителей гоминид. При этом в состав книги входит целая часть, где подробно излагаются теоретические взгляды антрополога Оуэна Лавджоя на происхождение человека — взгляды, которые с тех пор получили много новых подтверждений.
6 Дойч Д. Структура реальности. — М.: Альпина нон-фикшн, 2015.
Книга современного философа и физика-теоретика, в которой в числе прочего разбирается теория репликаторов (но есть и еще много интересного, относящегося не к биологии, а к космологии).
7 Докинз Р. Рассказ предка. — М.: АСТ: CORPUS, 2015.
Книга об эволюции жизни на Земле, описывающая, как устроено всеобщее эволюционное древо. Содержит ценный, хотя и устаревший с тех пор обзор системы эукариот, ну и еще много хорошего попутно.
8 Докинз Р. Расширенный фенотип. — М.: АСТ: CORPUS, 2011.
Книга по эволюционной теории, развивающая идеи другой работы Докинза — “Эгоистичный ген”. Требует некоторых начальных знаний (как минимум предварительного прочтения того же “Эгоистичного гена”), но зато и глубоких мыслей содержит много.
9 Докинз Р. Слепой часовщик. — М.: АСТ: CORPUS, 2014.
Книга о том, как идет эволюция, согласно теории Дарвина. Как говорил Фрэнсис Крик, “если вы до сих пор сомневаетесь в реальности эволюции — во имя спасения ваших душ, прочитайте эту книгу!”.
10 Докинз Р. Эгоистичный ген. — М.: АСТ: CORPUS, 2013.
Главная книга знаменитого биолога и популяризатора науки Ричарда Докинза по эволюционной теории. Вполне популярно написана (так, что начальных знаний не нужно).
11 Дьяков Ю.Т. Занимательная микология. — М.: Ленанд, 2015.
Популярная книга о грибах, написанная крупнейшим специалистом по ним — человеком, который много лет заведовал соответствующей кафедрой биофака МГУ и был одним из лучших лекторов на этом факультете. Сочетает познавательность с хорошим стилем.
12 Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней: От хаоса до человека. — М.: НЦ ЭНАС, 2004.
Рассказ обо всей эволюции жизни на Земле, написанный на высоком уровне (почти как в университетском спецкурсе) и в то же время отличным живым литературным языком (ибо автор не только ученый, но и крупный современный писатель). Эта книга была бы идеальным источником знаний по теме, если бы не успела местами устареть, что и неизбежно, за семнадцать-то лет. Но лучше нее все равно ничего нет. Несколько раз переиздавалась, в том числе под другими названиями (“Удивительная палеонтология”, например).
13 Журавлев А.Ю. Парнокопытные киты, четырехкрылые динозавры, бегающие черви... — М.: Ломоносовъ, 2015.
Свежая книга, написанная известным, активно работающим современным палеонтологом. Содержит много ценных фактов и мыслей, в том числе по вопросу о происхождении многоклеточных животных. К сожалению, там встречаются огрехи в редактировании, но читать все равно стоит.
14 Кемп П., Армс К. Введение в биологию. — М.: Мир, 1988.
Идеальное введение в биологию “с нуля”, не требующее ровно никаких начальных знаний. Особенно подходит для тех, кто хочет разобраться в клеточной биологии и основах генетики. Таким людям можно начинать читать прямо со второй части, которая называется “Химия жизни”.
15 Кунин Е.В. Логика случая. О природе и происхождении биологической эволюции. — М.: Центрполиграф, 2014.
Книга крупнейшего современного биоинформатика о механизмах и закономерностях эволюции. Популярной, строго говоря, не является, поэтому рекомендуется продвинутому читателю (но не обязательно профессиональному биологу). Очень насыщена мыслями.
16 Лэйн Н. Кислород. Молекула, изменившая мир. — М.: Эксмо, 2016.
Рассказ о роли кислорода в истории жизни на Земле. Местами устарел (русский перевод вышел с опозданием), но остается интересным и может кое в чем дополнить данную книгу, особенно ее IV часть.
17 Лейн Н. Лестница жизни. Десять величайших изобретений эволюции. — М.: АСТ: CORPUS, 2013.
Хороший популярный обзор всей эволюции жизни на Земле, написанный со специфической точки зрения ученого, изучающего в основном клеточные механизмы.
18 Лэйн Н. Энергия, секс и самоубийство. Митохондрии и смысл жизни. — СПб.: Питер, 2016.
Книга, рассказывающая про разнообразные проблемы, связанные с митохондриями. Кстати, одна из ее частей содержит интересный разбор проблемы происхождения эукариот.
19 Леонтьев Д.В. Общая биология: система органического мира. Конспект лекций (изд. 4-е). — Харьковская государственная зооветеринарная академия, 2017.
Запись курса лекций, рассказывающего о системе живых организмов в ее самой современной версии. Регулярно обновляется, с учетом новейших открытий, и переиздается. На русском языке — лучшее, если не единственное, что можно сейчас почитать на эту важнейшую тему. В сети встречаются предыдущие издания — они, разумеется, чуть-чуть устарели (обзор по этой теме неизбежно устаревает даже за год), но тоже представляют ценность.
20 Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека. Т. 1–2. — М.: Мир, 1993.
В отличие от большинства включенных сюда книг, это не научно-популярное произведение, а чистой воды вузовский учебник. Но очень хороший. За четким, последовательным, тщательно логически и терминологически выверенным изложением основ биохимии стоит обращаться именно к нему.
21 Медавар П., Медавар Дж. Наука о живом. Современные концепции в биологии. — М.: Мир, 1983.
Компактное популярное введение в современную (на тот момент) биологию, написанное крупным известным ученым. Кое-где спорно, но читать от этого только интереснее.
22 Райан Ф. Виролюция. — М.: Ломоносовъ, 2016.
Хорошая популярная книга о роли вирусов в эволюции. Есть мелкие редакторские сбои, но ценности книги они не снижают.
23 Марков А.В. Рождение сложности. — М.: АСТ: CORPUS, 2010.
Книга нашего известнейшего популяризатора науки, в которой рассказано немало интересного о происхождении жизни и о ранних этапах ее эволюции.
24 Никитин М.А. Происхождение жизни. От туманности до клетки. — М.: Альпина нон-фикшн, 2016.
Содержание книги вполне соответствует ее названию. Очень подробно, с опорой на новейшую научную литературу разбираются все химические и молекулярно-биологические события, с которых начиналась эволюция жизни. Для интересующихся этой темой незаменима.
25 Смит Дж. Старина-четвероног. — М.: Географгиз, 1962.
Захватывающий рассказ о поисках живого ископаемого — кистеперой рыбы латимерии в прекрасном переводе Льва Жданова.
26 Тайсон Н. Д., Голдсмит Д. История всего. 14 миллиардов лет космической эволюции. — СПб.: Питер, 2016.
Хороший популярный рассказ о развитии Вселенной, от Большого взрыва до происхождения жизни.
27 Тимофеев-Ресовский Н.В. Генетика, эволюция, значение методологии в естествознании. — Екатеринбург: Токмас-пресс, 2009.
Курс лекций, которые великий генетик читал аудитории, включавшей физиков и математиков (может поэтому рекомендоваться и людям без всякого биологического образования: лектор это учитывал).
28 Уилсон Э. Хозяева Земли. Социальное завоевание планеты человечеством. — СПб.: Питер, 2014.
Книга об эволюции жизни на Земле, написанная под особым углом зрения крупного ученого, всю жизнь изучавшего природные социальные системы на примере общественных насекомых. При серьезном интересе к теме эволюции обязательна к прочтению, даже если с какими-то мыслями вы там и не согласитесь.
29 Эттенборо Д. Жизнь на Земле. — М.: Мир, 1984.
Достаточно легкая, но в то же время очень грамотная книга, написанная знаменитым английским популяризатором биологии. За тридцать с лишним лет, естественно, кое-где устарела, но все равно так хороша, что не стоит ее списывать со счетов. Содержит чудесные иллюстрации.
30 Яковлева И.Н., Яковлев В.Н. По следам минувшего. — М.: Детская литература, 1983.
Великолепная книга о развитии жизни на Земле, написанная на редкость живо и увлекательно. В отличие от книги Кирилла Еськова не требует никаких предварительных знаний по теме. В то же время, несмотря на то что написана для детей, буквально набита примечательными фактами и серьезными научными загадками (примерно как у Стругацких: “Эта книга читалась как приключенческий роман, потому что была битком набита поставленными и нерешенными проблемами”). И устарела на удивление мало. Полузабытый шедевр научно-популярной литературы.
Примечания
1
Broda E. The evolution of the bioenergetic processes. Pergamon Press, 1975. Перевод на русский: Брода Э. Эволюция биоэнергетических процессов. — М.: Мир, 1978.
(обратно)2
Циркин Ю.Б. Мифы Угарита и Финикии. — М.: АСТ, 2003.
(обратно)3
Dobzhansky T. Nothing in biology makes sense except in the light of evolution // The American Biology Teacher, 1973, V. 14, № 3, 125–129. Русский перевод этой статьи можно прочитать в сети по адресу:
(обратно)4
Фейнмановские лекции по физике. — М.: Мир, 1965.
(обратно)5
Вклад легких частиц вроде фотонов и нейтрино здесь не учтен, но в современной Вселенной он в любом случае невелик (десятые доли процента).
(обратно)6
Brock W. H. The life and work of William Prout // Medical history, 1965, V. 9, №2, 101–126.
(обратно)7
Caffau E. et al. An extremely primitive halo star // arXiv preprint arXiv: 1203.2612 (2012).
(обратно)8
Oddo G. Die molekularstruktur der Radioaktiven atome // Zeitschrift fur anorganische und allgemeine Chemie, 1914, V. 87, №1, 253–268. Harkins W. D. The evolution of the elements and the stability of complex atoms. I. A new periodic system which shows a relation between the abundance of the elements and the structure of the nuclei of atoms // Journal of the American Chemical Society, 1917, V. 39, №5, 856–879.
(обратно)9
Binnemans K. et al. Rare-earth economics: the balance problem // JOM, 2013, V. 65, №7, 846–848.
(обратно)10
Burbidge E. M. et al. Synthesis of the elements in stars // Reviews of Modern Physics, 1957, V. 29, №4, 547–650.
(обратно)11
Dobzhansky T. Teilhard de Chardin and the orientation of evolution // Zygon, 1968, V. 3, №3, 242–258. Перевод этого фрагмента несколько сокращен (без потери для смысла).
(обратно)12
Красилов В.А. Нерешенные проблемы теории эволюции. — Владивосток: Дальневосточный научный центр АН СССР, 1986.
(обратно)13
Bracher P. J. Origin of life: Primordial soup that cooks itself // Nature Chemistry, 2015, V. 7, №4, 273–274.
(обратно)14
Пер. А. Попова.
(обратно)15
Vanderbilt B. Kekule’s whirling snake: Fact or fiction // Journal of Chemical Education, 1975, V. 52, №11, 709.
(обратно)16
Irwin L. N., Schulze-Makuch D. Petrolakes // Cosmic Biology, 2011, 225–251.
(обратно)17
Bracher, 2015.
(обратно)18
Страйер Л. Биохимия. — М.: Мир, 1984–1985 (2 тома).
(обратно)19
Менделеев Д.И. Рассуждение о соединении спирта с водою, представленное в физико-математический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета для получения степени доктора химии (1865).
(обратно)20
Друг с другом они взаимодействуют за счет так называемых ван-дер-ваальсовых сил — электростатического притяжения нейтральных молекул, возникающего между мгновенными микрозарядами, которые неизбежно образуются из-за случайного характера движения электронов внутри этих молекул. Благодаря ван-дер-ваальсовым силам даже совершенно неполярные молекулы могут притягиваться друг к другу, хотя и слабо.
(обратно)21
Inagaki F. et al. Microbial community in a sediment-hosted CO2 lake of the southern Okinawa Trough hydrothermal system // Proceedings of the National Academy of Sciences, 2006. V. 103, №38, 14164–14169.
(обратно)22
Budisa N., Schulze-Makuch D. Supercritical carbon dioxide and its potential as a life-sustaining solvent in a planetary environment // Life, 2014, V. 4, №3, 331–340.
(обратно)23
Whittet D. C. B. et al. Observational constraints on methanol production in interstellar and preplanetary ices // The Astrophysical Journal, 2011, V. 742, №1, 1–10.
(обратно)24
Schulze-Makuch D. Io: Is life possible between fire and ice // Journal of Cosmology, 2010, V. 5, 912–919.
(обратно)25
Азимов А. Асимметрия жизни. От секрета научных прозрений до проблемы перенаселения. — М.: Центрполиграф, 2008.
(обратно)26
Vickery H. B. The origin of the word protein // The Yale Journal of Biology and Medicine, 1950, V. 22, №5, 387–393.
(обратно)27
Кольцов Н.К. Физико-химические основы морфологии // Труды Третьего Всероссийского съезда зоологов, анатомов и гистологов в Ленинграде 14–20 декабря 1927 г. — Издание Главного управления научных учреждений, 1928.
(обратно)28
Williams A. N., Woessner K. M. Monosodium glutamate ‘allergy’: menace or myth? // Clinical & Experimental Allergy, 2009, V. 39, № 5, 640–646.
(обратно)29
Пармон В.Н. Новое в теории появления жизни // Химия и жизнь. 2005. №5.
(обратно)30
Cronin J. R., Pizzarello S. Amino acids in meteorites // Advances in Space Research, 1983, V. 3, №9, 5–18.
(обратно)31
Пер. В. Кулагиной-Ярцевой, И. Левшина.
(обратно)32
Блюменфельд Л.А. Проблемы биологической физики. — М.: Наука, 1974.
(обратно)33
Хургин Ю.И., Чернавский Д.С., Шноль С.Э. Молекула белка-фермента как механическая система // Колебательные процессы в биологических системах. — М.: Наука, 1967.
(обратно)34
Пер. В.В. Вересаева.
(обратно)35
Povolotskaya I. S., Kondrashov F. A. Sequence space and the ongoing expansion of the protein universe // Nature, 2010, V. 465, 922–926.
(обратно)36
Bruckner H. et al. Liquid chromatographic determination of D-amino acids in cheese and cow milk. Implication of starter cultures, amino acid racemases, and rumen microorganisms on formation, and nutritional considerations // Amino Acids, 1992, V. 2, №3, 271–284.
(обратно)37
Elsila J. E. et al. Meteoritic amino acids: diversity in compositions reflects parent body histories // ACS Central Science, 2016, V. 2, №6, 370–379.
(обратно)38
Пер. К. Душенко.
(обратно)39
Крысова А.В., Циркин В.И., Куншин А.А. Роль аквапоринов в транспорте воды через биологические мембраны // Вятский медицинский вестник. 2012. №2.
(обратно)40
Шноль С.Э. Физико-химические факторы биологической эволюции. — М.: Наука, 1979.
(обратно)41
Woese C. R., Kandler O., Wheelis M. L. Towards a natural system of organisms: proposal for the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya // Proceedings of the National Academy of Sciences, 1990, V. 87, №12, 4576–4579.
(обратно)42
Lombard J., Lopez-Garcia P., Moreira D. The early evolution of lipid membranes and the three domains of life // Nature Reviews. Microbiology, 2012, V. 10, №7, 507–515.
(обратно)43
Koga Y. et al. Did archaeal and bacterial cells arise independently from noncellular precursors? A hypothesis stating that the advent of membrane phospholipid with enantiomeric glycerophosphate backbones caused the separation of the two lines of descent // Journal of Molecular Evolution, 1998, V. 46, №1, 54–63.
(обратно)44
Martin W., Russell M. J. On the origins of cells: a hypothesis for the evolutionary transitions from abiotic geochemistry to chemoautotrophic prokaryotes, and from prokaryotes to nucleated cells // Philosophical Transactions of the Royal Society of London, B: Biological Sciences, 2003, V. 358, №1429, 59–85.
(обратно)45
Cordova A. et al. Amino acid catalyzed neogenesis of carbohydrates: A plausible ancient transformation // Chemistry: A European Journal, 2005, V. 11, №16, 4772–4784.
(обратно)46
Watanabe H. et al. A cellulase gene of termite origin // Nature, 1998, 330–331.
(обратно)47
Tanimura A. et al. Animal cellulases with a focus on aquatic invertebrates // Fisheries Science, 2013, V. 79, №1, 1–13.
(обратно)48
Robinson J. M. Lignin, land plants, and fungi: biological evolution affecting Phanerozoic oxygen balance // Geology, 1990, V. 18, №7, 607–610.
(обратно)49
Beerling D. J. et al. Carbon isotope evidence implying high O2/CO2 ratios in the Permo-Carboniferous atmosphere // Geochimica et Cosmochimica Acta, 2002, V. 66, №21, 3757–3767.
(обратно)50
Cavalier-Smith T. Cell evolution and Earth history: stasis and revolution // Philosophical Transactions of the Royal Society of London, B: Biological Sciences, 2006, V. 361, №1470, 969–1006.
(обратно)51
Callahan M. P. et al. Carbonaceous meteorites contain a wide range of extraterrestrial nucleobases // Proceedings of the National Academy of Sciences, 2011, V. 108, №34, 13995–13998.
(обратно)52
Mulkidjanian A. Y., Cherepanov D. A., Galperin M. Y. Survival of the fittest before the beginning of life: selection of the first oligonucleotide-like polymers by UV light // BMC Evolutionary Biology, 2003, V. 3, №1, 12–18.
(обратно)53
Dahm R. Friedrich Miescher and the discovery of DNA // Developmental Biology, 2005, V. 278, №2, 274–288.
(обратно)54
Troland L. T. Biological enigmas and the theory of enzyme action // The American Naturalist, 1917, V. 51, №606, 321–350.
(обратно)55
Demerec M. What is a gene? // Journal of Heredity, 1933, V. 24, №10, 369–378.
(обратно)56
Avery O. T., MacLeod C. M., McCarty M. Studies on the chemical nature of the substance inducing transformation of Pneumococcal types // Journal of Experimental Medicine, 1944, V. 79, №2, 137–158.
(обратно)57
Watson J. D., Crick F. H. Molecular structure of nucleic acids // Nature, 1953, V. 171, 737–738.
(обратно)58
Jeffries A. C., Symons R. H. A catalytic 13-mer ribozyme // Nucleic Acids Research, 1989, V. 17, №4, 1371–1377.
(обратно)59
Forterre P. Three RNA cells for ribosomal lineages and three DNA viruses to replicate their genomes: a hypothesis for the origin of cellular domain // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2006, V. 103, №10, 3669–3674.
(обратно)60
Коляскина Е.А. Дающая жизнь: традиционные представления русских крестьян Алтая о женском плодородии и деторождении // Вестник Томского государственного университета. 2008. №317.
(обратно)61
Маклин Ф. 1759. Год завоевания Британией мирового господства. — М.: АСТ, 2011. Книга посвящена решающим событиям Семилетней войны.
(обратно)62
Roberts I. F. Maupertuis: Doppelganger of Doctor Moreau // Science Fiction Studies, 2001, V. 28, №2, 261–274.
(обратно)63
Крик Ф., Ниренберг М. Генетический код // Успехи физических наук. 1964. Т. 82. Вып. 1, 133–160.
(обратно)64
Gamow G., Ycas M. Statistical correlation of protein and ribonucleic acid composition // Proceedings of the National Academy of Sciences, 1955, V. 41, №12, 1011–1019.
(обратно)65
Аспиз М.Е. Об А.А. Нейфахе как об ученом // А.А. Нейфах — взгляды, идеи, раздумья. — М.: Наука, 2001, 114–118.
(обратно)66
Кроме стоп-кодона существует еще и другой “знак препинания” — старт-кодон, с которого синтез полипептидной цепочки начинается. Обычно им является кодон аминокислоты метионина — АУГ. Таким образом, первым “кирпичиком”, с которого начинает синтезироваться почти любой белок, служит метионин. Это, однако, не значит, что все белки обязательно начинаются с метионина, потому что он вполне может удаляться в ходе так называемой посттрансляционной модификации.
(обратно)67
Здесь воспроизведена идея, которую высказал в сетевом обсуждении китайский биохимик Минь Чжоу: / post/Why_did_evolution_favor_ ATP_and_not_GTP_TTP_or_CTP
(обратно)68
Вот описание этого опыта, которое в данном случае будет лучше любого пересказа своими словами: “В экспериментах с бесклеточной системой Маршалл Ниренберг и Генрих Маттэи, исследовавшие активность различных препаратов РНК в роли матриц для белкового синтеза, в качестве контроля использовали синтетическую полиуридиловую кислоту (poly U), рассчитывая, что она не будет проявлять существенной матричной активности. К своему большому удивлению, они обнаружили, что poly U достаточно эффективно направляет синтез полифенилаланина. Более того, полифенилаланин оказался единственным полипептидом, синтезируемым в присутствии poly U. Из этих наблюдений непосредственно вытекало, что триплет UUU служит кодоном для фенилаланина. Вскоре аналогичным образом было установлено, что poly C направляет синтез полипролина, а poly A — полилизина, то есть CCC является пролиновым кодоном, а AAA кодирует лизин. К счастью, использованная в этих экспериментах бесклеточная система содержала повышенную концентрацию ионов магния, при которой (как выяснилось в дальнейшем) инициация синтеза полипептидной цепи происходит и в отсутствие инициаторного кодона AUG. Только поэтому вышеупомянутые синтетические матрицы и удалось использовать для аномальной инициации трансляции. Так, отчасти благодаря счастливой случайности, удалось сделать первые шаги на пути к полной расшифровке генетического кода”.(Кайгер Д., Айала Ф. Современная генетика. — М.: Мир, 1987. Т. 2. С. 76.)
(обратно)69
Retallack G. J. et al. Problematic urn-shaped fossils from a Paleoproterozoic (2.2 Ga) paleosol in South Africa // Precambrian Research, 2013, V. 235, 71–87.
(обратно)70
Кунин Е.В. Логика случая. — М.: Центрполиграф, 2014.
(обратно)71
Hussell T., Bell T. J. Alveolar macrophages: plasticity in a tissue-specific context // Nature Reviews. Immunology, 2014, V. 14, 81–93.
(обратно)72
Малахов В.В. Основные этапы эволюции эукариотных организмов // Палеонтологический журнал. 2003. №6. 25–32.
(обратно)73
Раутиан А.С., Сенников А.Г. Отношения хищник — жертва в филогенетическом масштабе времени // Экосистемные перестройки и эволюция биосферы. 2001. Вып. 4, 29–46.
(обратно)74
Danovaro R. et al. The first metazoa living in permanently anoxic conditions // BMC Biology, 2010, V. 8, №1, 30.
(обратно)75
Joseph R. The origin of eukaryotes: Archaea, bacteria, viruses and horizontal gene transfer // Journal of Cosmology, 2010, V. 10, 3418–3445.
(обратно)76
Кунин Е.В. Логика случая — М.: Центрполиграф, 2014.
(обратно)77
Yutin N. et al. The origins of phagocytosis and eukaryogenesis // Biology Direct, 2009, V. 4, №1, 9.
(обратно)78
Muller F. et al. First description of giant Archaea (Thaumarchaeota) associated with putative bacterial ectosymbionts in a sulfidic marine habitat // Environmental Microbiology, 2010, V. 12, №8, 2371–2383.
(обратно)79
Pittis A. A., Gabaldon T. Late acquisition of mitochondria by a host with chimaeric prokaryotic ancestry // Nature, 2016, V. 531, 101–104.
(обратно)80
Baum D., Baum B. An inside-out origin for the eukaryotic cell // BMC Biology, 2014, V. 12, №1, 76.
(обратно)81
Baum D., Baum B. The world in a cell // New Scientist, 2015, V. 225, №3008, 28–29.
(обратно)82
Albers S. V., Meyer B. H. The archaeal cell envelope // Nature Reviews. Microbiology, 2011, V. 9, 414–426.
(обратно)83
Хороший обзор гипотезы Баумов на русском языке:
(обратно)84
Bell P. J. L. Viral eukaryogenesis: was the ancestor of the nucleus a complex DNA virus? // Journal of Molecular Evolution, 2001, V. 53, №3, 251–256.
(обратно)85
Takemura M. Poxviruses and the origin of the eukaryotic nucleus // Journal of Molecular Evolution, 2001, V. 52, №5, 419–425.
(обратно)86
Abedin M., King N. Diverse evolutionary paths to cell adhesion // Trends in Cell Biology, 2010, V. 20, №12, 734–742.
(обратно)87
Szymona M., Ostrowski W. Inorganic polyphosphate glucokinase of Mycobacterium phlei // Biochimica et Biophysica Acta (BBA), Specialized Section on Enzymological Subjects, 1964, V. 85, №2, 283–295.
(обратно)88
Hug L. A. et al. A new view of the tree of life // Nature Microbiology, 2016, V. 1, 1–6.
(обратно)89
Кулаев И.С. Неорганические полифосфаты и их роль на разных этапах клеточной эволюции // Соросовский образовательный журнал. 1996. №2.
(обратно)90
Липман Ф. Современный этап эволюции биосинтеза и предшествовавшее ему развитие // Происхождение предбиологических систем. — М.: Мир, 1966.
(обратно)91
Yamagata Y. et al. Volcanic production of polyphosphates and its relevance to prebiotic evolution // Nature, 1991, V. 352, 516–519.
(обратно)92
Скулачев В.П. Эволюция биологических механизмов запасания энергии // Соросовский образовательный журнал. 1997. №5.
(обратно)93
Энергия может передаваться от одного тела к другому и путем излучения, без непосредственного контакта между частицами, но для процессов, интересующих нас сейчас, это особого значения не имеет.
(обратно)94
Романовский Ю.М., Тихонов А.Н. Молекулярные преобразователи энергии живой клетки. Протонная АТФ-синтаза — вращающийся молекулярный мотор // Успехи физических наук. 2010. Т. 180, 931–956.
(обратно)95
Yoshida M. et al. ATP synthase — a marvellous rotary engine of the cell // Nature Reviews. Molecular Cell Biology, 2001, V. 2, 669–677.
(обратно)96
Langen P., Hucho F. Karl Lohmann and the Discovery of ATP // Angewandte Chemie International Edition, 2008, V. 47, №10, 1824–1827.
(обратно)97
Skulachev V. P. Sodium bioenergetics // Trends in Biochemical Sciences, 1984, V. 9, №11, 483–485.
(обратно)98
Mulkidjanian A. Y., Dibrov P., Galperin M. Y. The past and present of sodium energetics: may the sodium-motive force be with you // Biochimica et Biophysica Acta (BBA). Bioenergetics, 2008, V. 1777, №7, 985–992.
(обратно)99
Mulkidjanian A. Y. et al. Evolutionary primacy of sodium bioenergetics // Biology Direct, 2008a, V. 3, №1, 13–22.
(обратно)100
Quayle J. R., Ferenci T. Evolutionary aspects of autotrophy // Microbiological Reviews, 1978, V. 42, №2, 251–273.
(обратно)101
Pereto J. et al. Comparative biochemistry of CO2 fixation and the evolution of autotrophy // International Microbiology, 1999, V. 2, 3–10.
(обратно)102
Скулачев В.П. Законы биоэнергетики // Соросовский образовательный журнал. 1997. №1.
(обратно)103
Голубовский М.Д. Век генетики: эволюция идей и понятий. Научно-исторические очерки. — СПб.: Борей Арт, 2000.
(обратно)104
Тут трудно не вспомнить популярный у биологов весьма реалистичный анекдот: “Инструкция по биохимическому опыту. Пункт первый. Подготовьте крысу к опыту. Пункт второй. Полученную кашицу...”
(обратно)105
Корнберг А. Биохимия на рубеже веков // Химия и жизнь. 2002. №12.
(обратно)106
Haldane J. B. S. The origin of life // Rationalist Annual, 1929.
(обратно)107
Lane N., Allen J. F., Martin W. How did LUCA make a living? Chemiosmosis in the origin of life // BioEssays, 2010, V. 32, №4, 271–280.
(обратно)108
Siebers B., Schonheit P. Unusual pathways and enzymes of central carbohydrate metabolism in Archaea // Current Opinion in Microbiology, 2005, V. 8, №6, 695–705.
(обратно)109
Martin W., Russell M. J. On the origin of biochemistry at an alkaline hydrothermal vent // Philosophical Transactions of the Royal Society of London, B: Biological Sciences, 2007, V. 362, №1486, 1887–1926.
(обратно)110
Weiss M. C. et al. The physiology and habitat of the last universal common ancestor // Nature Microbiology, 2016, V. 1, 16116–16122.
(обратно)111
Herschy B. et al. An origin-of-life reactor to simulate alkaline hydrothermal vents // Journal of Molecular Evolution, 2014, V. 79, №5-6, 213–227.
(обратно)112
Sojo V., Pomiankowski A., Lane N. A bioenergetic basis for membrane divergence in archaea and bacteria // PLoS Biology, 2014, V. 12, №8, e1001926.
(обратно)113
Bernhardt H. S., Tate W. P. Primordial soup or vinaigrette: did the RNA world evolve at acidic pH? // Biology Direct, 2012, V. 7, №1, 4.
(обратно)114
Диброва Д.В. и др. Системы Nа+/К+-гомеостаза как предшественники мембранной биоэнергетики // Биохимия. 2015. Т. 80. №5. 590–611.
(обратно)115
Dibrova D. V. et al. The role of energy in the emergence of biology from chemistry // Origins of Life and Evolution of Biospheres, 2012, V. 42, №5, 459–468.
(обратно)116
Djokic T. et al. Earliest signs of life on land preserved in ca. 3.5 Ga hot spring deposits // Nature Communications, 2017, V. 8, 15263.
(обратно)117
Благодарю Михаила Никитина за то, что обратил на это мое внимание.
(обратно)118
Keeling P. J. et al. The reduced genome of the parasitic microsporidian Enterocytozoon bieneusi lacks genes for core carbon metabolism // Genome Biology and Evolution, 2010, V. 2, 304–309.
(обратно)119
Felix M. A. et al. Natural and experimental infection of Caenorhabditis nematodes by novel viruses related to nodaviruses // PLoS Biology, 2011, V. 9, №1, e1000586.
(обратно)120
Suttle C. A. Viruses in the sea // Nature, 2005, V. 437, 356–361.
(обратно)121
Weitz J. S., Wilhelm S. W. An ocean of viruses // Scientist, July 2013.
(обратно)122
Baltimore D. Expression of animal virus genomes // Bacteriological Reviews, 1971, V. 35, №3, 235–241.
(обратно)123
Агол В.И. Разнообразие вирусов // Соросовский образовательный журнал. 1997. №4.
(обратно)124
Кунин Е.В. Логика случая. — М.: Центрполиграф, 2014.
(обратно)125
На эту тему есть экспериментальные данные, показывающие, что запустить трансляцию прямо с ДНК в принципе можно, хотя далеко этот процесс не заходит и для синтеза полноценных белков он непригоден. Damian L. et al. Single-strand DNA translation initiation step analyzed by Isothermal Titration Calorimetry // Biochemical and Biophysical Research Communications, 2009, V. 385, №3, 296–301.
(обратно)126
Moreira D., Lopez-Garcia P. Ten reasons to exclude viruses from the tree of life // Nature Reviews Microbiology, 2009, V. 7, 306–311.
(обратно)127
Hegde N. R. et al. Reasons to include viruses in the tree of life // Nature Reviews Microbiology, 2009, V. 7, 615.
(обратно)128
Forterre P. Defining life: the virus viewpoint // Origins of Life and Evolution of Biospheres, 2010, V. 40, Issue 2, 151–160.
(обратно)129
Bandea C. I. A new theory on the origin and the nature of viruses // Journal of Theoretical Biology, 1983, V. 105, №4, 591–602.
(обратно)130
La Scola B. et al. A giant virus in amoebae // Science, 2003, V. 299, №5615, 2033–2033.
(обратно)131
Miller S., Krijnse-Locker J. Modification of intracellular membrane structures for virus replication // Nature Reviews Microbiology, 2008, V. 6, 363–374.
(обратно)132
Novoa R. R. et al. Virus factories: associations of cell organelles for viral replication and morphogenesis // Biology of the Cell, 2005, V. 97, №2, 147–172.
(обратно)133
Suzan-Monti M. et al. Ultrastructural characterization of the giant volcano-like virus factory of Acanthamoeba polyphaga Mimivirus // PLoS One, 2007, V. 2, №3, e328.
(обратно)134
Claverie J. M. Viruses take center stage in cellular evolution // Genome Biology, 2006, V. 7, №6, 110.
(обратно)135
Thompson L. R. et al. Phage auxiliary metabolic genes and the redirection of cyanobacterial host carbon metabolism // Proceedings of the National Academy of Sciences, 2011, V. 108, №39, E757–E764.
(обратно)136
Forterre, 2010.
(обратно)137
Bamford D. H. Do viruses form lineages across different domains of life? // Research in Microbiology, 2003, V. 154, №4, 231–236.
(обратно)138
Raoult D., Forterre P. Redefining viruses: lessons from Mimivirus // Nature Reviews Microbiology, 2008, V. 6, 315–319.
(обратно)139
Koonin E. V., Senkevich T. G., Dolja V. V. The ancient Virus World and evolution of cells // Biology Direct, 2006. V. 1, №1, 29.
(обратно)140
Lwoff A. Interaction among virus, cell, and organism. Nobel Lecture, December 11, 1963.
(обратно)141
Benner S. A. Defining life // Astrobiology, 2010, V. 10, №, 10, 1021–1030.
(обратно)142
Раутиан А.С. О природе генотипа и наследственности // Журнал общей биологии. 1993. Т. 54. №2, 131–148.
(обратно)143
Редактируя эту главу, А.В. Марков заметил, что — в противовес этому рассуждению — в молодой Вселенной довольно долго все элементы тяжелее лития существовали именно в мире “платоновских идей”. И все их химические соединения тоже, и все свойства. И пространство белковых последовательностей, о котором идет речь в главе 3, — это тоже в основном мир платоновских идей. Какого-то белка нет в природе, но он возможен, и его свойства предопределены.
(обратно)144
Stanley W. M. Isolation of a crystalline protein possessing the properties of tobacco mosaic virus // Science, 1935, V. 81, №2113, 644–645.
(обратно)145
Lwoff A. The concept of virus // Microbiology, 1957, V. 17, №2, 239–253.
(обратно)146
La Scola et al., 2003.
(обратно)147
Arslan D. et al. Distant Mimivirus relative with a larger genome highlights the fundamental features of Megaviridae // Proceedings of the National Academy of Sciences, 2011, V. 108, №42, 17486–17491.
(обратно)148
Abergel C., Legendre M., Claverie J. M. The rapidly expanding universe of giant viruses: Mimivirus, Pandoravirus, Pithovirus and Mollivirus // FEMS Microbiology Reviews, 2015, V. 39, №6, 779–796.
(обратно)149
Schulz F. et al. Giant viruses with an expanded complement of translation system components // Science, 2017, V. 356, №6333, 82–85.
(обратно)150
Colson P. et al. Viruses with more than 1,000 genes: Mamavirus, a new Acanthamoeba polyphagamimivirus strain, and reannotation of Mimivirus genes // Genome Biology and Evolution, 2011, V. 3, 737–742.
(обратно)151
Legendre M. et al. Genomics of Megavirus and the elusive fourth domain of life // Communicative & Integrative Biology, 2012, V. 5, №1, 102–106.
(обратно)152
Philippe N. et al. Pandoraviruses: amoeba viruses with genomes up to 2.5 Mb reaching that of parasitic eukaryotes // Science, 2013, V. 341, №6143, 281–286.
(обратно)153
Corradi N. et al. The complete sequence of the smallest known nuclear genome from the microsporidian Encephalitozoon intestinalis // Nature Communications, 2010, V. 1, 77–83.
(обратно)154
Schulz et al., 2017.
(обратно)155
Raoult, Forterre, 2008.
(обратно)156
Forterre P. The origin of DNA genomes and DNA replication proteins // Current Opinion in Microbiology, 2002, V. 5, №5, 525–532.
(обратно)157
Forterre P. The two ages of the RNA world, and the transition to the DNA world: a story of viruses and cells // Biochimie, 2005, V. 87, №9–10, 793–803.
(обратно)158
Forterre P., Prangishvili D. The great billion-year war between ribosome- and capsid-encoding organisms (cells and viruses) as the major source of evolutionary novelties // Annals of the New York Academy of Sciences, 2009, V. 1178, №1, 65–77.
(обратно)159
Shuman S. What messenger RNA capping tells us about eukaryotic evolution // Nature Reviews. Molecular Cell Biology, 2002, V. 3, 619–625.
(обратно)160
Это связано с тем, что РНК-содержащему вирусу не нужно проникать в ядро, чтобы размножиться. Ему достаточно проникнуть в цитоплазму. Fay N., Pante N. Nuclear entry of DNA viruses // Frontiers in Microbiology, 2015, V. 6, 467.
(обратно)161
Forterre P. The origin of viruses and their possible roles in major evolutionary transitions // Virus Research, 2006, V. 117, №1, 5–16.
(обратно)162
Takeuchi N., Hogeweg P. Evolution of complexity in RNA-like replicator systems // Biology Direct, 2008, V. 3, №1, 11.
(обратно)163
La Scola B. et al. The virophage as a unique parasite of the giant mimivirus // Nature, 2008, V. 455, 100–104.
(обратно)164
Suttle C. A. Marine viruses — major players in the global ecosystem // Nature Reviews. Microbiology, 2007, V. 5, 801–812.
(обратно)165
Eugene V. Koonin E. V., Dolja V. V. Virus world as an evolutionary network of viruses and capsidless selfish elements // Microbiology and Molecular Biology Reviews, 2014, V. 78, №2, 278–303.
(обратно)166
Forterre P. To be or not to be alive: How recent discoveries challenge the traditional definitions of viruses and life // Studies in History and Philosophy of Science, Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 2016, V. 59, 100–108.
(обратно)167
Перевод мой.
(обратно)168
Беляков С.С. Гностик из Уржума // Урал. 2003. №5.
(обратно)169
Salt G. Experimental studies in insect parasitism. XIII. The haemocytic reaction of a caterpillar to eggs of its habitual parasite // Proceedings of the Royal Society of London, B: Biological Sciences, 1965, V. 162, №988, 303–318.
(обратно)170
Stoltz D. B., Vinson S. B. Penetration into caterpillar cells of virus-like particles injected during oviposition by parasitoid ichneumonid wasps // Canadian Journal of Microbiology, 1979, V. 25, №2, 207–216.
(обратно)171
Edson K. M. et al. Virus in a parasitoid wasp: suppression of the cellular immune response in the parasitoid’s host // Science, 1981, V. 211, №4482, 582–583.
(обратно)172
Stoltz D. B. et al. Polydnaviridae — a proposed family of insect viruses with segmented, double-stranded, circular DNA genomes // Intervirology, 1984, V. 21, №1, 1–4.
(обратно)173
Fleming J. G., Summers M. D. Polydnavirus DNA is integrated in the DNA of its parasitoid wasp host // Proceedings of the National Academy of Sciences, 1991, V. 88, №21, 9770–9774.
(обратно)174
Gundersen-Rindal D. et al. Parasitoid polydnaviruses: evolution, pathology and applications: Dedicated to the memory of Nancy E. Beckage // Biocontrol Science and Technology, 2013, V. 23, №1, 1–61.
(обратно)175
Hayakawa Y. Growth-blocking peptide: an insect biogenic peptide that prevents the onset of metamorphosis //Journal of Insect Physiology, 1995, V. 41, №1, 1–6.
(обратно)176
Beckage N. E. Parasitoids and polydnaviruses // Bioscience, 1998, V. 48, №4, 305–311
(обратно)177
Stoltz D. B. The polydnavirus life cycle // Parasites and pathogens of insects, 1993, V. 1, 167–187.
(обратно)178
Webb B. A. Polydnavirus biology, genome structure, and evolution // The insect viruses. Springer US, 1998, 105–139.
(обратно)179
Federici B. A., Bigot Y. Origin and evolution of polydnaviruses by symbiogenesis of insect DNA viruses in endoparasitic wasps // Journal of Insect Physiology, 2003, V. 49, №5, 419–432.
(обратно)180
Webb B., Fisher T., Nusawardani T. The natural genetic engineering of polydnaviruses // Annals of the New York Academy of Sciences, 2009, V. 1178, №1, 146–156.
(обратно)181
Beckage N. E. Games parasites play: the dynamic roles of proteins and peptides in the relationship between parasite and host // Parasites and Pathogens of Insects: Parasites. Academic Press, 1993, 25–57.
(обратно)182
Whitfield J. B., Asgari S. Virus or not? Phylogenetics of polydnaviruses and their wasp carriers // Journal of Insect Physiology, 2003, V. 49, №5, 397–405.
(обратно)183
Whitfield J. B. Molecular and morphological data suggest a single origin of the polydnaviruses among braconid wasps // Naturwissenschaften, 1997, V. 84, №11, 502–507.
(обратно)184
Bezier A. et al. Polydnaviruses of braconid wasps derive from an ancestral nudivirus // Science, 2009, V. 323, №5916, 926–930.
(обратно)185
Volkoff A. N. et al. Analysis of virion structural components reveals vestiges of the ancestral ichnovirus genome // PLoS Pathogens, 2010, V. 6, №5, e1000923.
(обратно)186
Strand M. R., Burke G. R. Polydnaviruses: nature’s genetic engineers // Annual Review of Virology, 2014, V. 1, 333–354.
(обратно)187
Strand M. R., Burke G. R. Polydnaviruses: from discovery to current insights // Virology, 2015, V. 479, 393–402.
(обратно)188
Villarreal L. P. Can viruses make us human? // Proceedings of the American Philosophical Society, 2004, V. 148, №3, 296–323.
(обратно)189
Roossinck M. J. The good viruses: viral mutualistic symbioses // Nature Reviews. Microbiology, 2011, V. 9, №2, 99–108.
(обратно)190
Thurber R. V. et al. Virus-host interactions and their roles in coral reef health and disease // Nature Reviews Microbiology, 2017, V. 15, №4, 205–216.
(обратно)191
Oldstone M. B. A. Prevention of type I diabetes in nonobese diabetic mice by virus infection // Science, 1988, V. 239, №4839, 500–503.
(обратно)192
Stoye J. P. Studies of endogenous retroviruses reveal a continuing evolutionary saga // Nature reviews. Microbiology, 2012, V. 10, №6, 395–406.
(обратно)193
Villarreal L. P. et al. Virus-host symbiosis mediated by persistence // Symbiosis (Rehovot), 2007, V. 44, №1/3, 1–9.
(обратно)194
Gregory T. R. Synergy between sequence and size in large-scale genomics // Nature Reviews. Genetics, 2005, V. 6, 699–708.
(обратно)195
Stoye, 2012.
(обратно)196
Li W. et al. Human endogenous retrovirus-K contributes to motor neuron disease // Science Translational Medicine, 2015, V. 7, №307, 307ra153-307ra153.
(обратно)197
Lager S., Powell T. L. Regulation of nutrient transport across the placenta // Journal of Pregnancy, 2012, V. 2012.
(обратно)198
Mess A., Carter A. M. Evolutionary transformations of fetal membrane characters in Eutheria with special reference to Afrotheria // Journal of Experimental Zoology, Part B: Molecular and Developmental Evolution, 2006, V. 306, №2, 140–163.
(обратно)199
Dupressoir A., Lavialle C., Heidmann T. From ancestral infectious retroviruses to bona fide cellular genes: role of the captured syncytins in placentation // Placenta, 2012, Volume 33, Issue 9, 663–671.
(обратно)200
Magiorkinis G., Blanco-Melo D., Belshaw R. The decline of human endogenous retroviruses: extinction and survival // Retrovirology, 2015, V. 12, №1, 8.
(обратно)201
Manghera M., Ferguson J., Douville R. Endogenous retrovirus-K and nervous system diseases // Current Neurology and Neuroscience Reports, 2014, V. 14, №10, 488.
(обратно)202
Fisher R. A. The genetical theory of natural selection. Oxford University, 1930.
(обратно)203
Bouvier A., Wadhwa M. The age of the Solar System redefined by the oldest Pb–Pb age of a meteoritic inclusion // Nature Geoscience, 2010, V. 3, 637–641.
(обратно)204
Larson R. E., Bromm V. The first stars in the Universe // Scientific American, 2004, V. 14, №4, 4–11.
(обратно)205
Glover S. The first stars // The First Galaxies. Springer Berlin Heidelberg, 2013, 103–174.
(обратно)206
Cameron A. G. W., Truran J. W. The supernova trigger for formation of the solar system // Icarus, 1977, V. 30, №3, 447–461.
(обратно)207
Hester J. J. et al. The cradle of the solar system // Science, 2004, V. 304, №5674, 1116–1117.
(обратно)208
Tachibana S. et al. 60Fe in chondrites: Debris from a nearby supernova in the early Solar System? // The Astrophysical Journal Letters, 2006, V. 639, №2, L87–L90.
(обратно)209
Leger A. et al. A new family of planets? “Ocean-Planets” // Icarus, 2004, V. 169, №2, 499–504.
(обратно)210
Elkins-Tanton L. T. Uranus, Neptune, Pluto, and the Outer Solar System. Chelsea House Publishers, 2006.
(обратно)211
Сорохтин О.Г., Ушаков С.А. Развитие Земли. — М.: Издательство МГУ, 2002.
(обратно)212
Robert F. The origin of water on Earth // Science, 2001, V. 293, №5532, 1056–1058.
(обратно)213
Robert F. The origin of water on Earth // Science, 2001, V. 293, №5532, 1056–1058.
(обратно)214
Halliday A. N. The Origin of the Moon // Science, 2012, V. 338, №6110, 1040–1041.
(обратно)215
Hartmann W. K. The giant impact hypothesis: past, present (and future?) // Philosophical Transactions of Royal Society, A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2014, V. 372, №2024, 2013.0249.
(обратно)216
Di Achille G., Hynek B. M. Ancient ocean on Mars supported by global distribution of deltas and valleys // Nature Geoscience, 2010, V. 3, 459–463.
(обратно)217
Huber C., Wachtershauser G. α-Hydroxy and α-amino acids under possible Hadean, volcanic origin-of-life conditions // Science, 2006, V. 314, №5799, 630–632.
(обратно)218
Martin W., Russell M. J. On the origin of biochemistry at an alkaline hydrothermal vent // Philosophical Transactions of the Royal Society of London, B: Biological Sciences, 2007, V. 362, №1486, 1887–1926
(обратно)219
Russell M. J. The alkaline solution to the emergence of life: energy, entropy and early evolution // Acta Biotheoretica, 2007, V. 55, №2, 133–179.
(обратно)220
Mulkidjanian A. Y. On the origin of life in the zinc world: 1. Photosynthesizing, porous edifices built of hydrothermally precipitated zinc sulfide as cradles of life on Earth // Biology Direct, 2009, V. 4, №1, 26.
(обратно)221
Mulkidjanian A. Y., Galperin M. Y. On the origin of life in the zinc world. 2. Validation of the hypothesis on the photosynthesizing zinc sulfide edifices as cradles of life on Earth // Biology Direct, 2009, V. 4, №1, 27.
(обратно)222
Wachtershauser G. On the chemistry and evolution of the pioneer organism // Chemistry & Biodiversity, 2007, V. 4, №4, 584–602.
(обратно)223
Руденко А.П. Теория развития открытых каталитических систем. — М.: Издательство МГУ, 1969.
(обратно)224
Huber C., Eisenreich W., Wachtershäuser G. Synthesis of α-amino and α-hydroxy acids under volcanic conditions: implications for the origin of life // Tetrahedron Letters, 2010, V. 51, №7, 1069–1071.
(обратно)225
Wachtershauser G. Origin of life: RNA world versus autocatalytic anabolist // The Prokaryotes. Springer Berlin Heidelberg, 2013. 81–88.
(обратно)226
О том, как возник аппарат трансляции, подробно рассказано в книге: Никитин М. Происхождение жизни. От туманности до клетки. — М.: Альпина нон-фикшн, 2018.
(обратно)227
Leipe D. D., Aravind L., Koonin E. V. Did DNA replication evolve twice independently? // Nucleic Acids Research, 1999, V. 27, №17, 3389–3401.
(обратно)228
Takeuchi N., Hogeweg P. Evolutionary dynamics of RNA-like replicator systems: a bioinformatic approach to the origin of life // Physics of Life Reviews, 2012, V. 9, №3, 219–263.
(обратно)229
Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология. — М.: Издательство МГУ, 1992.
(обратно)230
Заренков Н.А. Лекции по теории систематики. — М.: Издательство МГУ, 1996.
(обратно)231
Лункевич В.В. От Гераклита до Дарвина. — М.: Издательство Министерства просвещения РСФСР, 1960. Т. 1.
(обратно)232
Willdenow K. L. The principles of botany, and of vegetable physiology. Edinburgh, University Press, 1805.
(обратно)233
Ellis J. On the Nature and Formation of Sponges: In a Letter from John Ellis, Esquire, FRS to Dr. Solander, FRS // Philosophical Transactions, 1765, V. 55, 280–289.
(обратно)234
Ragan M. A. A third kingdom of eukaryotic life: History of an idea // Archiv fur Protistenkunde, 1997, V. 148, №3, 225–243.
(обратно)235
Sapp J. Genesis: the evolution of biology. Oxford University Press (USA), 2003.
(обратно)236
Hogg J. On the distinctions of a plant and an animal, and on a fourth kingdom of nature // The Edinburgh New Philosophical Journal, 1860, V. 12.
(обратно)237
Sapp J. The new foundations of evolution: on the tree of life. Oxford University Press (USA), 2009.
(обратно)238
Copeland H. F. The kingdoms of organisms // The Quarterly Review of Biology, 1938, V. 13, №4, 383–420.
(обратно)239
Katscher F. The history of the terms prokaryotes and eukaryotes // Protist, 2004, V. 155, №2, 257–263.
(обратно)240
Whittaker R. H. New concepts of kingdoms of organisms // Science, 1969, V. 163, №3863, 150–160.
(обратно)241
Hennig W. Phylogenetic systematics // Annual Review of Entomology, 1965, V. 10, №1, 97–116.
(обратно)242
Клюге Н.Ю. Современная систематика насекомых. Принципы систематики живых организмов и общая система насекомых с классификацией первичнобескрылых и древнекрылых. — СПб.: Лань, 2000.
(обратно)243
Leedale G. F. How many are the kingdoms of organisms? // Taxon, 1974, V. 23, №2/3, 261–270.
(обратно)244
Watanabe Y. et al. Introns in protein‐coding genes in Archaea // FEBS Letters, 2002, V. 510, №1/2, 27–30.
(обратно)245
Woese C. R., Kandler O., Wheelis M. L. Towards a natural system of organisms: proposal for the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya // Proceedings of the National Academy of Sciences, 1990, V. 87, №12, 4576–4579.
(обратно)246
Stanier R. Y., Van Niel C. B. The concept of a bacterium // Archiv fur Mikrobiologie, 1962, V. 42, №1, 17–35.
(обратно)247
Woese C. R., Fox G. E. Phylogenetic structure of the prokaryotic domain: the primary kingdoms // Proceedings of the National Academy of Sciences, 1977, V. 74, №11, 5088–5090.
(обратно)248
Williams T. A. et al. An archaeal origin of eukaryotes supports only two primary domains of life // Nature, 2013, V. 504, 231–236.
(обратно)249
Hug L. A. et al. A new view of the tree of life // Nature Microbiology, 2016, V. 1, 16048.
(обратно)250
Gribaldo S. et al. The origin of eukaryotes and their relationship with the Archaea: are we at a phylogenomic impasse? // Nature Reviews. Microbiology, 2010, V. 8, №10, 743–752.
(обратно)251
Embley T. M., Williams T. A. Steps on the road to eukaryotes // Nature, 2015, V. 521, 169–170.
(обратно)252
Zaremba-Niedzwiedzka K. et al. Asgard archaea illuminate the origin of eukaryotic cellular complexity // Nature, 2017, V. 541, 353–358.
(обратно)253
Единственный эукариот, у которого не удалось обнаружить не только остатков митохондрий, но и никаких митохондриальных белков, — бесцветный жгутиконосец Monocercomonoides, относящийся к супергруппе Excavata. Но из положения этого жгутиконосца на филогенетическом древе однозначно следует, что и у его предков митохондрии когда-то были. Karnkowska A. et al. A eukaryote without a mitochondrial organelle // Current Biology, 2016, V. 26, №10, 1274–1284.
(обратно)254
Fuerst J. A. Intracellular compartmentation in planctomycetes // Annual Review of Microbiology, 2005, V. 59, 299–328.
(обратно)255
Fuerst J. A. Beyond prokaryotes and eukaryotes: planctomycetes and cell organization // Nature Education, 2010, V. 3, №9, 44.
(обратно)256
McInerney J. O. et al. Planctomycetes and eukaryotes: a case of analogy not homology // Bioessays, 2011, V. 33, №11, 810–817.
(обратно)257
Yutin N. et al. The origins of phagocytosis and eukaryogenesis // Biology Direct, 2009, V. 4, №1, 9.
(обратно)258
Baum D. A., Baum B. An inside-out origin for the eukaryotic cell // BMC Biology, 2014, V. 12, №1, 76.
(обратно)259
Sogin M. L. Early evolution and the origin of eukaryotes // Current Opinion in Genetics & Development, 1991, V. 1, №4, 457–463.
(обратно)260
Gupta R. S. et al. Cloning of Giardia lamblia heat shock protein HSP70 homologs: implications regarding origin of eukaryotic cells and of endoplasmic reticulum // Proceedings of the National Academy of Sciences, 1994, V. 91, №8, 2895–2899.
(обратно)261
Lake J. A., Rivera M. C. Was the nucleus the first endosymbiont? // Proceedings of the National Academy of Sciences, 1994, V. 91, №8, 2880–2881.
(обратно)262
Moreira D., Lopez-Garcia P. Symbiosis between methanogenic archaea and δ-proteobacteria as the origin of eukaryotes: the syntrophic hypothesis // Journal of Molecular Evolution, 1998, V. 47, №5, 517–530.
(обратно)263
Lopez-Garcia P., Moreira D. Metabolic symbiosis at the origin of eukaryotes // Trends in Biochemical Sciences, 1999, V. 24, №3, 88–93.
(обратно)264
Lake J. A. Eukaryotic origins // Philosophical Transactions of the Royal Society of London, B: Biological Sciences, 2015, V. 370, №1678, 20140321.
(обратно)265
Lopez-Garcia P., Moreira D. Open questions on the origin of eukaryotes // Trends in Ecology & Evolution, 2015, V. 30, №11, 697–708.
(обратно)266
Gupta R. S., Golding G. B. The origin of the eukaryotic cell // Trends in Biochemical Sciences, 1996, V. 21, №5, 166–171.
(обратно)267
Lopez-Garcia, Moreira, 2015.
(обратно)268
Там же.
(обратно)269
Марков А.В., Куликов A.M. Происхождение эвкариот: выводы из анализа белковых гомологий в трех надцарствах живой природы // Происхождение и эволюция биосферы. — Новосибирск: ИК РАН, 2005.
(обратно)270
Takishita K., Inagaki Y. Eukaryotic origin of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase genes in Clostridium thermocellum and Clostridium cellulolyticum genomes and putative fates of the exogenous gene in the subsequent genome evolution // Gene, 2009, V. 441, №1, 22–27.
(обратно)271
Nelson-Sathi S. et al. Origins of major archaeal clades correspond to gene acquisitions from bacteria // Nature, 2015, V. 517, 77–80.
(обратно)272
Shimada H., Yamagishi A. Stability of heterochiral hybrid membrane made of bacterial sn-G3P lipids and archaeal sn-G1P lipids // Biochemistry, 2011, V. 50, №19, 4114–4120.
(обратно)273
Hartman H., Fedorov A. The origin of the eukaryotic cell: a genomic investigation // Proceedings of the National Academy of Sciences, 2002, V. 99, №3, 1420–1425.
(обратно)274
Taylor F. J. R. Problems in the development of an explicit hypothetical phylogeny of the lower eukaryotes // BioSystems, 1978, V. 10, №1/2, 67–89.
(обратно)275
Schulze F. E. XXXII.—On the relationship of the sponges to the Choanoflagellata // Journal of Natural History, 1885, V. 15, №89, 365–377.
(обратно)276
Cavalier-Smith T. Eukaryote kingdoms: seven or nine? // BioSystems, 1981, V. 14, №3/4, 461–481
(обратно)277
Cavalier-Smith T. The origin of eukaryote and archaebacterial cells // Annals of the New York Academy of Sciences, 1987, V. 503, №1, 17–54.
(обратно)278
Baroin A. et al. Partial phylogeny of the unicellular eukaryotes based on rapid sequencing of a portion of 28S ribosomal RNA // Proceedings of the National Academy of Sciences, 1988, V. 85, №10, 3474–3478.
(обратно)279
Lynn D. H., Sogin M. L. Assessment of phylogenetic relationships among ciliated protists using partial ribosomal RNA sequences derived from reverse transcripts // BioSystems, 1988, V. 21, №3/4, 249–254.
(обратно)280
Mollenhauer D. Adolf Pascher (1881–1945) — Romantic Phycologist // Protist, 2001, V. 152, №3, 231–238.
(обратно)281
Baldauf S. L. et al. A kingdom-level phylogeny of eukaryotes based on combined protein data // Science, 2000, V. 290, №5493, 972–977.
(обратно)282
Baldauf S. L. The deep roots of eukaryotes // Science, 2003, V. 300, №5626, 1703–1706.
(обратно)283
Adl S. M. et al. The new higher level classification of eukaryotes with emphasis on the taxonomy of protists // Journal of Eukaryotic Microbiology, 2005, V. 52, №5, 399–451.
(обратно)284
Keeling P. J. et al. The tree of eukaryotes // Trends in Ecology & Evolution, 2005, V. 20, № 12, 670–676.
(обратно)285
Baldauf S. L. An overview of the phylogeny and diversity of eukaryotes // Journal of Systematics and Evolution, 2008, V. 46, № 3, 263–273.
(обратно)286
Koonin E. V. The origin and early evolution of eukaryotes in the light of phylogenomics // Genome Biology, 2010, V. 11, № 5, 209.
(обратно)287
Adl S. M. et al. The revised classification of eukaryotes // Journal of Eukaryotic Microbiology, 2012, V. 59, № 5, 429–514.
(обратно)288
Леонтьев Д. В. Общая биология: система органического мира. Конспект лекций (издание 2-е). — Харьковская государственная зооветеринарная академия, 2014.
(обратно)289
Алешин В. В. Филогения беспозвоночных в свете молекулярных данных: перспективы завершения филогенетики как науки // Труды Зоологического института РАН. 2013. Т. 317, приложение № 2, 9–38.
(обратно)290
Simpson A. G. B., Roger A. J. The real ‘kingdoms’ of eukaryotes // Current Biology, 2004, V. 14, № 17, R693 — R696.
(обратно)291
Keeling P. J. Diversity and evolutionary history of plastids and their hosts // American Journal of Botany, 2004, V. 91, № 10, 1481–1493.
(обратно)292
Mullner A. N. et al. Phylogenetic analysis of phagotrophic, photomorphic and osmotrophic euglenoids by using the nuclear 18S rDNA sequence // International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2001, V. 51, № 3, 783–791.
(обратно)293
Marin B. Origin and fate of chloroplasts in the euglenoida // Protist, 2004, V. 155, № 1, 13–14.
(обратно)294
Pringsheim E. G., Hovasse R. The loss of chromatophores in Euglena gracilis // New Phytologist, 1948, V. 47, № 1, 52–87.
(обратно)295
Kolisko M. et al. A wide diversity of previously undetected free-living relatives of diplomonads isolated from marine / saline habitats // Environmental Microbiology, 2010, V. 12, № 10, 2700–2710.
(обратно)296
Hongoh Y. et al. Genome of an endosymbiont coupling N2 fixation to cellulolysis within protist cells in termite gut // Science, 2008, V. 322, № 5904, 1108–1109.
(обратно)297
Carpenter K. J., Keeling P. J. Morphology and phylogenetic position of Eucomonympha imla (Parabasalia: Hypermastigida) // Journal of Eukaryotic Microbiology, 2007, V. 54, № 4, 325–332.
(обратно)298
Misof B. et al. Phylogenomics resolves the timing and pattern of insect evolution // Science, 2014, V. 346, № 6210, 763–767.
(обратно)299
Sutherland J. L. et al. Protozoa from Australian termites // Quarterly Journal of Microscopic Science, 1933, V. 76, 145–173.
(обратно)300
Wenzel M. et al. Identification of the ectosymbiotic bacteria of Mixotricha paradoxa involved in movement symbiosis // European Journal of Protistology, 2003, V. 39, № 1, 11–23.
(обратно)301
Margulis L. The conscious cell // Annals of the New York Academy of Sciences, 2001, V. 929, № 1, 55–70.
(обратно)302
Radek R., Nitsch G. Ectobiotic spirochetes of flagellates from the termite Mastotermes darwiniensis: attachment and cyst formation // European Journal of Protistology, 2007, V. 43, № 4, 281–294.
(обратно)303
Brugerolle G. Devescovinid features, a remarkable surface cytoskeleton, and epibiotic bacteria revisited in Mixotricha paradoxa, a parabasalid flagellate // Protoplasma, 2004, V. 224, № 1, 49–59.
(обратно)304
Wier A. et al. Spirochete and protist symbionts of a termite (Mastotermes electrodominicus) in Miocene amber // Proceedings of the National Academy of Sciences, 2002, V. 99, № 3, 1410–1413.
(обратно)305
Заварзин Г. А. Роль комбинаторных событий в развитии биоразнообразия // Природа. 2002. № 1.
(обратно)306
Красилов В. А. Нерешенные проблемы теории эволюции. — Владивосток: Дальневосточный научный центр АН СССР, 1986.
(обратно)307
Keeling P. J. The endosymbiotic origin, diversification and fate of plastids // Philosophical Transactions of the Royal Society of London, B: Biological Sciences, 2010, V. 365, № 1541, 729–748.
(обратно)308
Beakes G. W., Glockling S. L., Sekimoto S. The evolutionary phylogeny of the oomycete “fungi” // Protoplasma, 2012, V. 249, № 1, 3–19.
(обратно)309
Turner A. Microscopical advances: the posterity of Huygens’ simple microscope of 1678 // ENDOXA, 2004, V. 1, № 19, 41–58.
(обратно)310
Hadzi J. An attempt to reconstruct the system of animal classification // Systematic Zoology, 1953, V. 2, № 4, 145–154.
(обратно)311
Leander B. S. et al. Molecular phylogeny and surface morphology of Colpodella edax (Alveolata): insights into the phagotrophic ancestry of apicomplexans // Journal of Eukaryotic Microbiology, 2003, V. 50, № 5, 334–340.
(обратно)312
Obornik M. et al. Evolution of the apicoplast and its hosts: from heterotrophy to autotrophy and back again // International Journal for Parasitology, 2009, V. 39, № 1, 1–12.
(обратно)313
Adl et al., 2005.
(обратно)314
Cavalier-Smith T. A revised six-kingdom system of life // Biological Reviews, 1998, V. 73, № 3, 203–266.
(обратно)315
Finet C. et al. Multigene phylogeny of the green lineage reveals the origin and diversification of land plants // Current Biology, 2010, V. 20, № 24, 2217–2222.
(обратно)316
Wickett N. J. et al. Phylotranscriptomic analysis of the origin and early diversification of land plants // Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, V. 111, № 45, E4859 — E4868.
(обратно)317
Graham L. E. et al. Aeroterrestrial Coleochaete (Streptophyta, Coleochaetales) models early plant adaptation to land // American Journal of Botany, 2012, V. 99, № 1, 130–144.
(обратно)318
Пономаренко А. Г. Основные события в эволюции биосферы // Проблемы доантропогенной эволюции биосферы. — М.: Наука, 1993.
(обратно)319
Kenrick B. Alternation of generations in land plants: new phylogenetic and palaeobotanical evidence // Biological Reviews, 1994, V. 69, № 3, 293–330.
(обратно)320
Graham L. E., Cook M. E., Busse J. S. The origin of plants: body plan changes contributing to a major evolutionary radiation // Proceedings of the National Academy of Sciences, 2000, V. 97, № 9, 4535–4540.
(обратно)321
Журавлев А. Ю. Ранняя история Metazoa — взгляд палеонтолога // Журнал общей биологии. 2014. Т. 75. № 6, 411–465.
(обратно)322
Fritzsch B., Straka H. Evolution of vertebrate mechanosensory hair cells and inner ears: toward identifying stimuli that select mutation driven altered morphologies // Journal of Comparative Physiology A, 2014, V. 200, № 1, 5–18.
(обратно)323
Pena J. F. et al. Conserved expression of vertebrate microvillar gene homologs in choanocytes of freshwater sponges // EvoDevo, 2016, V. 7, № 1, 13.
(обратно)324
James T. Y., Berbee M. L. No jacket required — new fungal lineage defies dress code // Bioessays, 2012, V. 34, № 2, 94–102.
(обратно)325
Karpov S. A. et al. Obligately phagotrophic aphelids turned out to branch with the earliest-diverging fungi // Protist, 2013, V. 164, № 2, 195–205.
(обратно)326
Karpov S. A. et al. Morphology, phylogeny, and ecology of the aphelids (Aphelidea, Opisthokonta) and proposal for the new superphylum Opisthosporidia // Frontiers in Microbiology, 2014, V. 5, 112.
(обратно)327
Mendoza L., Taylor J. W., Ajello L. The class Mesomycetozoea: a heterogeneous group of microorganisms at the animal-fungal boundary // Annual Reviews in Microbiology, 2002, V. 56, № 1, 315–344.
(обратно)328
Suga H., Ruiz-Trillo I. Development of ichthyosporeans sheds light on the origin of metazoan multicellularity // Developmental Biology, 2013, V. 377, № 1, 284–292.
(обратно)329
Paps J., Ruiz-Trillo I. Animals and their unicellular ancestors // eLS, 2010.
(обратно)330
Sebe-Pedros A. et al. Unexpected repertoire of metazoan transcription factors in the unicellular holozoan Capsaspora owczarzaki // Molecular Biology and Evolution, 2010, V. 28, № 3, 1241–1254.
(обратно)331
Sebe-Pedros A., Ruiz-Trillo I. Evolution and Classification of the T-Box Transcription Factor Family // Current Topics in Developmental Biology, 2017, V. 122, 1–26.
(обратно)332
Sebe-Pedros A. et al. Early evolution of the T-box transcription factor family // Proceedings of the National Academy of Sciences, 2013, V. 110, № 40, 16050–16055.
(обратно)333
Mikhailov K. V. et al. The origin of Metazoa: a transition from temporal to spatial cell differentiation // Bioessays, 2009, V. 31, № 7, 758–768.
(обратно)334
Paps J. et al. Molecular phylogeny of unikonts: new insights into the position of apusomonads and ancyromonads and the internal relationships of opisthokonts // Protist, 2013, V. 164, № 1, 2–12.
(обратно)335
Sebe-Pedros A., Degnan B. M., Ruiz-Trillo I. The origin of Metazoa: a unicellular perspective // Nature Reviews. Genetics, 2017, V. 18, 498–512.
(обратно)336
James T. Y. et al. Reconstructing the early evolution of Fungi using a six-gene phylogeny // Nature, 2006, V. 443, 818–822.
(обратно)337
Xu H. et al. The α-aminoadipate pathway for lysine biosynthesis in fungi // Cell Biochemistry and Biophysics, 2006, V. 46, № 1, 43–64.
(обратно)338
Vogel H. J. Distribution of lysine pathways among fungi: evolutionary implications // The American Naturalist, 1964, V. 98, № 903, 435–446.
(обратно)339
Moroz L. L. On the independent origins of complex brains and neurons // Brain, Behavior and Evolution, 2009, V. 74, № 3, 177–190.
(обратно)340
Moroz L. L. et al. The ctenophore genome and the evolutionary origins of neural systems // Nature, 2014, V. 510, № 7503, 109–114.
(обратно)341
Jekely G., Paps J., Nielsen C. The phylogenetic position of ctenophores and the origin (s) of nervous systems // EvoDevo, 2015, V. 6, № 1, 1.
(обратно)342
Малахов В. В. Симметрия и щупальцевый аппарат книдарий // «Биология моря», 2016, т. 42, № 4, 249–259.
(обратно)343
Holland P. W. H. Did homeobox gene duplications contribute to the Cambrian explosion? // Zoological Letters, 2015, V. 1, № 1, 1.
(обратно)344
Adl et al., 2005.
(обратно)345
Butterfield N. J. Early evolution of the Eukaryota // Palaeontology, 2015, V. 58, № 1, 5–17.
(обратно)346
Burki F. et al. Phylogenomics reshuffles the eukaryotic supergroups // PloS One, 2007, V. 2, № 8, e790.
(обратно)347
Hackett J. D. et al. Phylogenomic analysis supports the monophyly of cryptophytes and haptophytes and the association of rhizaria with chromalveolates // Molecular Biology and Evolution, 2007, V. 24, № 8, 1702–1713.
(обратно)348
He D. et al. Reducing long-branch effects in multi-protein data uncovers a close relationship between Alveolata and Rhizaria // Molecular Phylogenetics and Evolution, 2016, V. 101, 1–7.
(обратно)349
Adl et al., 2012.
(обратно)350
Burki F. et al. The evolutionary history of haptophytes and cryptophytes: phylogenomic evidence for separate origins // Proceedings of the Royal Society of London, B: Biological Sciences, 2012, rspb20112301.
(обратно)351
Cavalier-Smith T. Kingdoms Protozoa and Chromista and the eozoan root of the eukaryotic tree // Biology Letters, 2010, V. 6, № 3, 342–345.
(обратно)352
Cavalier-Smith T. Protist phylogeny and the high-level classification of Protozoa // European Journal of Protistology, 2003, V. 39, № 4, 338–348.
(обратно)353
Stechmann A., Cavalier-Smith T. The root of the eukaryote tree pinpointed // Current Biology, 2003, V. 13, № 17, R665 — R666.
(обратно)354
Cavalier-Smith T. Megaphylogeny, cell body plans, adaptive zones: causes and timing of eukaryote basal radiations // Journal of Eukaryotic Microbiology, 2009, V. 56, № 1, 26–33.
(обратно)355
Roger A. J., Simpson A. G. B. Evolution: revisiting the root of the eukaryote tree // Current Biology, 2009, V. 19, № 4, R165 — R167.
(обратно)356
Burki et al., 2007.
(обратно)357
Baldauf, 2008.
(обратно)358
Hampl V. et al. Phylogenomic analyses support the monophyly of Excavata and resolve relationships among eukaryotic “supergroups” // Proceedings of the National Academy of Sciences, 2009, V. 106, № 10, 3859–3864.
(обратно)359
He D. et al. An alternative root for the eukaryote tree of life // Current Biology, 2014, V. 24, № 4, 465–470.
(обратно)360
Adl et al., 2012.
(обратно)361
Cavalier-Smith T. Deep phylogeny, ancestral groups and the four ages of life // Philosophical Transactions of the Royal Society of London, B: Biological Sciences, 2010, V. 365, № 1537, 111–132.
(обратно)362
Cavalier-Smith T. Early evolution of eukaryote feeding modes, cell structural diversity, and classification of the protozoan phyla Loukozoa, Sulcozoa, and Choanozoa // European Journal of Protistology, 2013, V. 49, № 2, 115–178.
(обратно)363
Cavalier-Smith T. Symbiogenesis: mechanisms, evolutionary consequences, and systematic implications // Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 2013a, V. 44, 145–172.
(обратно)364
Cavalier-Smith T. et al. Multigene eukaryote phylogeny reveals the likely protozoan ancestors of opisthokonts (animals, fungi, choanozoans) and Amoebozoa // Molecular Phylogenetics and Evolution, 2014, V. 81, 71–85.
(обратно)365
Cavalier-Smith T. Origin of animal multicellularity: precursors, causes, consequences — the choanoflagellate / sponge transition, neurogenesis and the Cambrian explosion // Philosophical Transactions of the Royal Society, B: Biological Sciences, 2017, V. 372, 1713.
(обратно)366
Cavalier-Smith, 2009.
(обратно)367
Cavalier-Smith T. The origins of plastids // Biological Journal of the Linnean Society, 1982, V. 17, № 3, 289–306.
(обратно)368
Cavalier-Smith, 2013a.
(обратно)369
Keeling P. J. Diversity and evolutionary history of plastids and their hosts // American Journal of Botany, 2004, V. 91, № 10, 1481–1493.
(обратно)370
Burki F. The eukaryotic tree of life from a global phylogenomic perspective // Cold Spring Harbor. Perspectives in Biology, 2014, V. 6, № 5, a016147.
(обратно)371
Adl et al., 2012.
(обратно)372
Burki F., Shalchian-Tabrizi K., Pawlowski J. Phylogenomics reveals a new ‘megagroup’ including most photosynthetic eukaryotes // Biology Letters, 2008, V. 4, № 4, 366–369.
(обратно)373
Hampl et al., 2009.
(обратно)374
Adl et al., 2012.
(обратно)375
Germot A., Philippe H. Critical analysis of eukaryotic phylogeny: a case study based on the HSP70 family // Journal of Eukaryotic Microbiology, 1999, V. 46, № 2, 116–124.
(обратно)376
Germot, Philippe, 1999.
(обратно)377
Philippe H., Germot A., Moreira D. The new phylogeny of eukaryotes // Current Opinion in Genetics & Development, 2000, V. 10, № 6, 596–601.
(обратно)378
Philippe H. Early — branching or fast — evolving eukaryotes? An answer based on slowly evolving positions // Proceedings of the Royal Society of London, B: Biological Sciences, 2000, V. 267, № 1449, 1213–1221.
(обратно)379
Philippe, 2000.
(обратно)380
Philippe et al., 2000. «Примитивность» — двусмысленный термин. В данном случае Эрве Филипп называет примитивностью раннее отхождение группы от общего ствола (а не простоту организации или сходство с общим предком — такие значения термина «примитивность» тоже существуют, но здесь они неактуальны).
(обратно)381
Baldauf, 2003.
(обратно)382
Завадский К. М., Колчинский Э. И. Эволюция эволюции. — Л.: Наука, 1977.
(обратно)383
Simpson G. G. Periodicity in vertebrate evolution // Journal of Paleontology, 1952, V. 26, № 3, 359–370.
(обратно)384
Colbert E. H. Explosive evolution // Evolution, 1953, V. 7, № 1, 89–90.
(обратно)385
Chaline J. Rodents, evolution, and prehistory // Endeavour, 1977, V. 1, № 2, 44–51.
(обратно)386
Rokas A., Carroll S. B. Bushes in the tree of life // PLoS Biology, 2006, V. 4, № 11, e352.
(обратно)387
Pawlowski J. The new micro-kingdoms of eukaryotes // BMC Biology, 2013, V. 11, № 1, 40.
(обратно)388
Walker G., Dacks J. B., Martin Embley T. Ultrastructural description of Breviata anathema, n. gen., n. sp., the organism previously studied as “Mastigamoeba invertens” // Journal of Eukaryotic Microbiology, 2006, V. 53, № 2, 65–78.
(обратно)389
Heiss A. A., Walker G., Simpson A. G. B. The flagellar apparatus of Breviata anathema, a eukaryote without a clear supergroup affinity // European Journal of Protistology, 2013, V. 49, № 3, 354–372.
(обратно)390
Minge M. A. et al. Evolutionary position of breviate amoebae and the primary eukaryote divergence // Proceedings of the Royal Society of London, B: Biological Sciences, 2009, V. 276, № 1657, 597–604.
(обратно)391
Burki, 2014.
(обратно)392
Brown M. W. et al. Phylogenomics demonstrates that breviate flagellates are related to opisthokonts and apusomonads // Proceedings of the Royal Society of London, B: Biological Sciences, 2013, V. 280, № 1769, 20131755.
(обратно)393
Cavalier-Smith, 2009.
(обратно)394
Cavalier-Smith T., Chao E. E. Phylogeny and evolution of apusomonadida (protozoa: apusozoa): new genera and species // Protist, 2010, V. 161, № 4, 549–576.
(обратно)395
Torruella G., Moreira D., Lopez-Garcia P. Phylogenetic and ecological diversity of apusomonads, a lineage of deep-branching eukaryotes // Environmental Microbiology Reports, 2017, V. 9, № 2, 113–119.
(обратно)396
Brown et al., 2013.
(обратно)397
Paps J. et al. Molecular phylogeny of unikonts: new insights into the position of apusomonads and ancyromonads and the internal relationships of opisthokonts // Protist, 2013, V. 164, № 1, 2–12.
(обратно)398
Cavalier-Smith et al., 2014.
(обратно)399
Atkins M. S., McArthur A. G., Teske A. P. Ancyromonadida: a new phylogenetic lineage among the protozoa closely related to the common ancestor of metazoans, fungi, and choanoflagellates (Opisthokonta) // Journal of Molecular Evolution, 2000, V. 51, № 3, 278–285.
(обратно)400
Carter H. J. XXXII. — On the fresh-and salt-water Rhizopoda of England and India // Journal of Natural History, 1865, V. 15, № 88, 277–293.
(обратно)401
Brugerolle G. et al. Collodictyon triciliatum and Diphylleia rotans (= Aulacomonas submarina) form a new family of flagellates (Collodictyonidae) with tubular mitochondrial cristae that is phylogenetically distant from other flagellate groups // Protist, 2002, V. 153, № 1, 59–70.
(обратно)402
Zhao S. et al. Collodictyon — an ancient lineage in the tree of eukaryotes // Molecular Biology and Evolution, 2012, V. 29, № 6, 1557–1568.
(обратно)403
Brown et al., 2013.
(обратно)404
Burki, 2014.
(обратно)405
Cavalier-Smith T. et al. Multigene phylogeny resolves deep branching of Amoebozoa // Molecular Phylogenetics and Evolution, 2015, V. 83, 293–304.
(обратно)406
Burki, 2014.
(обратно)407
Голиченков В. А., Никерясова Е. Н., Попов Д. В. Значение массы клеток для становления и эволюции онтогенеза // Современная эволюционная морфология. — Киев: Наукова думка, 1991. С. 130–139.
(обратно)408
Corliss J. O. The kingdom Protista and its 45 phyla // BioSystems, 1984, V. 17, № 2, 87–126.
(обратно)409
Corliss J. O. Protistan diversity and origins of multicellular / multitissued organisms // Italian Journal of Zoology, 1989, V. 56, № 3, 227–234.
(обратно)410
Dickinson D. J., Nelson W. J., Weis W. I. An epithelial tissue in Dictyostelium challenges the traditional origin of metazoan multicellularity // BioEssays, 2012, V. 34, № 10, 833–840.
(обратно)411
Dickinson D. J., Nelson W. J., Weis W. I. Studying epithelial morphogenesis in Dictyostelium // Tissue morphogenesis: methods and protocols. Springer New York, 2015. 267–281.
(обратно)412
Miller P. W. et al. The evolutionary origin of epithelial cell-cell adhesion mechanisms // Current Topics in Membranes, 2013, V. 72, 267–311.
(обратно)413
Worley A. C., Raper K. B., Hohl M. Fonticula alba: a new cellular slime mold (Acrasiomycetes) // Mycologia, 1979, V. 71, № 4, 746–760.
(обратно)414
Deasey M. C. Spore formation by the cellular slime mold Fonticula alba // Mycologia, 1982, V. 74, № 4, 607–613.
(обратно)415
Brown M. W., Spiegel F. W., Silberman J. D. Phylogeny of the “forgotten” cellular slime mold, Fonticula alba, reveals a key evolutionary branch within Opisthokonta // Molecular Biology and Evolution, 2009, V. 26, № 12, 2699–2709.
(обратно)416
Paps, Ruiz-Trillo, 2010.
(обратно)417
Brown M. W. et al. Aggregative multicellularity evolved independently in the eukaryotic supergroup Rhizaria // Current Biology, 2012, V. 22, № 12, 1123–1127.
(обратно)418
Mikhailov et al., 2009.
(обратно)419
Беклемишев К. В. Зоология беспозвоночных. Курс лекций. — М.: Издательство МГУ, 1979.
(обратно)420
Kirschner M., Gerhart J. Evolvability // Proceedings of the National Academy of Sciences, 1998, V. 95, № 15, 8420–8427.
(обратно)421
Rupke N. A. Richard Owen’s vertebrate archetype // Isis, 1993, V. 84, № 2, 231–251.
(обратно)422
Список может показаться произвольным, но это совершенно неизбежная особенность выбранного подхода. Произвольной (в той или иной степени) будет любая попытка выделить счетное число пороговых событий в истории жизни на целой планете. Хотя, разумеется, каждый сделанный тут выбор имеет свое объяснение: например, появление эукариот не вошло в список, потому что его можно включить в тему кислородной революции, а появление первых многоклеточных животных — потому что его гораздо труднее датировать, чем кембрийский взрыв.
(обратно)423
De Duve C. Constraints on the origin and evolution of life // Proceedings of the American Philosophical Society, 1998, V. 142, №4, 525–532.
(обратно)424
Fedo C. M., Whitehouse M. J. Metasomatic origin of quartz-pyroxene rock, Akilia, Greenland, and implications for Earth’s Earliest Life // Science, 2002, V. 296, №5572, 1448–1452.
(обратно)425
Nutman A. P. et al. Rapid emergence of life shown by discovery of 3,700-million-year-old microbial structures // Nature, 2016, V. 537, 535–538.
(обратно)426
Bell E. A. et al. Potentially biogenic carbon preserved in a 4.1 billion-year-old zircon // Proceedings of the National Academy of Sciences, 2015, V. 112, №47, 14518–14521.
(обратно)427
Harrison T. M., Bell E. A., Boehnke P. Hadean zircon petrochronology // Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 2017, V. 83, №1, 329–363.
(обратно)428
Woese C. R. On the evolution of cells // Proceedings of the National Academy of Sciences, 2002, V. 99, №13, 8742–8747.
(обратно)429
Wacey D. et al. Microfossils of sulphur-metabolizing cells in 3.4-billion-year-old rocks of Western Australia // Nature Geoscience, 2011, V. 4, №10, 698–702.
(обратно)430
Sessions A. L. et al. The continuing puzzle of the great oxidation event // Current Biology, 2009, V. 19, №14, R567–R574.
(обратно)431
Schopf J. W. The fossil record of cyanobacteria // Ecology of cyanobacteria II. Springer Netherlands, 2012. 15–36.
(обратно)432
Barbieri M. Code Biology. A New Science of Life. Springer, 2015.
(обратно)433
Lyons T. W., Reinhard C. T., Planavsky N. J. The rise of oxygen in Earth’s early ocean and atmosphere // Nature, 2014, V. 506, 307–315.
(обратно)434
Esser C. et al. A genome phylogeny for mitochondria among α-proteobacteria and a predominantly eubacterial ancestry of yeast nuclear genes // Molecular Biology and Evolution, 2004, V. 21, №9, 1643–1660.
(обратно)435
Кунин Е.В. Логика случая. — М.: Центрполиграф, 2014.
(обратно)436
Марков А.В., Куликов A.M. Происхождение эвкариот: выводы из анализа белковых гомологий в трех надцарствах живой природы // Происхождение и эволюция биосферы. — Новосибирск: ИК РАН, 2005.
(обратно)437
Уорд П., Киршвинк Д. Новая история жизни на Земле. — СПб.: Питер, 2016.
(обратно)438
Wang Y., Wang Y., Du W. The long-ranging macroalga Grypania spiralis from the Ediacaran Doushantuo Formation, Guizhou, South China // Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology, 2016, V. 40, №3, 303–312.
(обратно)439
Butterfield N. J. Early evolution of the Eukaryota // Palaeontology, 2015, V. 58, №1, 5–17.
(обратно)440
Retallack G. J. et al. Problematic urn-shaped fossils from a Paleoproterozoic (2.2 Ga) paleosol in South Africa // Precambrian Research, 2013, V. 235, 71–87.
(обратно)441
El Albani A. et al. Large colonial organisms with coordinated growth in oxygenated environments 2.1 Gyr ago // Nature, 2010, V. 466, 100–104.
(обратно)442
Knoll A. H. et al. Eukaryotic organisms in Proterozoic oceans // Philosophical Transactions of the Royal Society of London, B: Biological Sciences, 2006, V. 361, №1470, 1023–1038.
(обратно)443
Bengtson S. et al. Fungus-like mycelial fossils in 2.4-billion-year-old vesicular basalt // Nature Ecology & Evolution, 2017, V. 1, 0141.
(обратно)444
Rasmussen B. et al. Reassessing the first appearance of eukaryotes and cyanobacteria // Nature, 2008, V. 455, №7216, 1101–1104.
(обратно)445
Kopp R. E. et al. The Paleoproterozoic snowball Earth: a climate disaster triggered by the evolution of oxygenic photosynthesis // Proceedings of the National Academy of Sciences, 2005, V. 102, №32, 11131–11136.
(обратно)446
Knoll A. H. et al. Eukaryotic organisms in Proterozoic oceans // Philosophical Transactions of the Royal Society of London, B: Biological Sciences, 2006, V. 361, №1470, 1023–1038.
(обратно)447
Butterfield N. J. Probable proterozoic fungi // Paleobiology, 2005, V. 31, №1, 165–182.
(обратно)448
Retallack G. J. et al. Problematic urn-shaped fossils from a Paleoproterozoic (2.2 Ga) paleosol in South Africa // Precambrian Research, 2013, V. 235, 71–87.
(обратно)449
Nursall J. R. Oxygen as a prerequisite to the origin of the Metazoa // Nature, 1959, V. 183, 1170–1172.
(обратно)450
Mills D. B. et al. Oxygen requirements of the earliest animals // Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, V. 111, №11, 4168–4172.
(обратно)451
Sperling E. A., Knoll A. H., Girguis P. R. The ecological physiology of Earth’s second oxygen revolution // Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 2015, V. 46, 215–235.
(обратно)452
Harland W. B., Rudwick M. J. S. The great infra-Cambrian ice age // Scientific American, 1964, V. 211, 28–36.
(обратно)453
Budyko M. I. The effect of solar radiation variations on the climate of the earth // Tellus, 1969, V. 21, №5, 611–619.
(обратно)454
Ломизе М.Г., Хаин В.Е. Геотектоника с основами геодинамики. — М.: Издательство МГУ, 1995.
(обратно)455
Donnadieu Y. et al. A ‘snowball Earth’ climate triggered by continental break-up through changes in runoff // Nature, 2004, V. 428, 303–306.
(обратно)456
Hoffman P. F., Schrag D. P. Snowball Earth // Scientific American, 1999, №9.
(обратно)457
Дьяков Ю.Т. Введение в альгологию и микологию. — М.: Издательство МГУ, 2000.
(обратно)458
Kirschvink J. L. Red Earth, White Earth, Green Earth, Black Earth // Engineering and Science, 2005, V. 68, №4, 10–20.
(обратно)459
Chen L. et al. Cell differentiation and germ-soma separation in Ediacaran animal embryo-like fossils // Nature, 2014, V. 516, 238–241.
(обратно)460
Seilacher A. Evolutionary innovation versus ecological incumbency // Planetary Systems and the Origins of Life. Cambridge, 2007. 193–209.
(обратно)461
Sperling E. A., Vinther J. A placozoan affinity for Dickinsonia and the evolution of late Proterozoic metazoan feeding modes // Evolution & Development, 2010, V. 12, №2, 201–209.
(обратно)462
Tang F. et al. Eoandromeda and the origin of Ctenophora // Evolution & Development, 2011, V. 13, №5, 408–414.
(обратно)463
Ivantsov A. Y. New reconstruction of Kimberella, problematic Vendian metazoan // Paleontological Journal, 2009, V. 43, №6, 601–611.
(обратно)464
Seilacher A., Hagadorn J. W. Early molluscan evolution: evidence from the trace fossil record // Palaios, 2010, V. 25, №9, 565–575.
(обратно)465
Martin M. W. et al. Age of Neoproterozoic bilatarian body and trace fossils, White Sea, Russia: Implications for metazoan evolution // Science, 2000, V. 288, №5467, 841–845.
(обратно)466
Budd G. E. The earliest fossil record of the animals and its significance // Philosophical Transactions of the Royal Society of London, B: Biological Sciences, 2008, V. 363, №1496, 1425–1434.
(обратно)467
Xiao S., Laflamme M. On the eve of animal radiation: phylogeny, ecology and evolution of the Ediacara biota // Trends in Ecology & Evolution, 2009, V. 24, №1, 31–40.
(обратно)468
Gregory J. W., Barrett B. H. The major terms of the pre-Paleozoic // The Journal of Geology, 1927, V. 35, №8, 734–742.
(обратно)469
Shu D. On the phylum Vetulicolia // Chinese Science Bulletin, 2005, V. 50, №20, 2342–2354.
(обратно)470
Журавлев А.Ю. Скелетный докембрий // Природа. 2006. №12.
(обратно)471
Erwin D. H. et al. The Cambrian conundrum: early divergence and later ecological success in the early history of animals // Science, 2011, V. 334, №6059, 1091–1097.
(обратно)472
Wheat C. W., Wahlberg N. Phylogenomic insights into the Cambrian explosion, the colonization of land and the evolution of flight in Arthropoda // Systematic Biology, 2012, V. 62, №1, 93–109.
(обратно)473
Lee M. S. Y., Soubrier J., Edgecombe G. D. Rates of phenotypic and genomic evolution during the Cambrian explosion // Current Biology, 2013, V. 23, №19, 1889–1895.
(обратно)474
Budd G. E., Jackson I. S. C. Ecological innovations in the Cambrian and the origins of the crown group phyla // Philosophical Transactions of the Royal Society of London, B: Biological Sciences, 2016, V. 371, №1685, 20150287.
(обратно)475
Isozaki Y. et al. Beyond the Cambrian explosion: from galaxy to genome // Gondwana Research, 2014, V. 3, №25, 881–883.
(обратно)476
Brennan S. T., Lowenstein T. K., Horita J. Seawater chemistry and the advent of biocalcification // Geology, 2004, V. 32, №6, 473–476.
(обратно)477
Seilacher A. Biomat-related lifestyles in the Precambrian // Palaios, 1999, V. 14, №1, 86–93.
(обратно)478
McMenamin M. A. S. The garden of Ediacara // Palaios, 1986, V. 1, №2, 178–182.
(обратно)479
Laflamme M., Xiao S., Kowalewski M. Osmotrophy in modular Ediacara organisms // Proceedings of the National Academy of Sciences, 2009, V. 106, №34, 14438–14443.
(обратно)480
Stanley S. M. An ecological theory for the sudden origin of multicellular life in the late Precambrian // Proceedings of the National Academy of Sciences, 1973, V. 70, №5, 1486–1489.
(обратно)481
Bottjer D. J., Hagadorn J. W., Dornbos S. Q. The Cambrian substrate revolution // GSA Today, 2000, V. 10, №9, 1–7.
(обратно)482
Butterfield N. J. Plankton ecology and the Proterozoic-Phanerozoic transition // Paleobiology, 1997, V. 23, №2, 247–262.
(обратно)483
Алешин В.В. и др. О положении насекомых в кладе Pancrustacea // Молекулярная биология. 2009. Т. 43. №5. 866–881.
(обратно)484
Алешин В.В., Петров Н.Б. Происхождение насекомых: взгляд генетика // Суперкомпьютерные технологии в науке, образовании и промышленности. — М.: Издательство МГУ, 2009.
(обратно)485
Butterfield N. J. Oxygen, animals and oceanic ventilation: an alternative view // Geobiology, 2009, V. 7, №1, 1–7.
(обратно)486
Zhang X. et al. Triggers for the Cambrian explosion: hypotheses and problems // Gondwana Research, 2014, V. 25, №3, 896–909.
(обратно)487
Reynolds P. D. The scaphopoda // Advances in Marine Biology, 2002, V. 42, 137–236.
(обратно)488
Mulkidjanian A. Y. et al. Origin of first cells at terrestrial, anoxic geothermal fields // Proceedings of the National Academy of Sciences, 2012, V. 109, №14, E821–E830.
(обратно)489
Beraldi-Campesi H., Retallack G. J. Terrestrial ecosystems in the Precambrian // Biological soil crusts: an organizing principle in drylands. Springer International Publishing, 2016. 37–54.
(обратно)490
Horodyski R. J., Knauth, L. P. Life on Land in the Precambrian // Science, 1994, V. 263, №5146, 494–498.
(обратно)491
Strother P. K. et al. Earth’s earliest non-marine eukaryotes // Nature, 2011, V. 473, №7348, 505–509.
(обратно)492
Beraldi-Campesi H. Early life on land and the first terrestrial ecosystems // Ecological Processes, 2013, V. 2, №1, 1.
(обратно)493
Kennedy M. et al. Late Precambrian oxygenation; inception of the clay mineral factory // Science, 2006, V. 311, №5766, 1446–1449.
(обратно)494
Yuan X., Xiao S., Taylor T. N. Lichen-like symbiosis 600 million years ago // Science, 2005, V. 308, №5724, 1017–1020.
(обратно)495
Steemans P. et al. Origin and radiation of the earliest vascular land plants // Science, 2009, V. 324, №5925, 353–353.
(обратно)496
Graham L. et al. Early terrestrialization: transition from algal to bryophyte grade // Photosynthesis in bryophytes and early land plants. Springer Netherlands, 2014. 9–28.
(обратно)497
Wellman C. H. The nature and evolutionary relationships of the earliest land plants // New Phytologist, 2014, V. 202, №1, 1-3.
(обратно)498
Kenrick P. et al. A timeline for terrestrialization: consequences for the carbon cycle in the Palaeozoic // Philosophical Transactions of the Royal Society of London, B: Biological Sciences, 2012, V. 367, №1588, 519–536.
(обратно)499
Wilson H. M. Juliformian millipedes from the Lower Devonian of Euramerica: implications for the timing of millipede cladogenesis in the Paleozoic // Journal of Paleontology, 2006, V. 80, №4, 638–649.
(обратно)500
Anderson L. I., Trewin N. H. An early Devonian arthropod fauna from the Windyfield cherts, Aberdeenshire, Scotland // Palaeontology, 2003, V. 46, №3, 467–509.
(обратно)501
Ahlberg P. E., Clack J. A. Palaeontology: a firm step from water to land // Nature, 2006, V. 440, 747–749.
(обратно)502
Selden P. A., Penney D. Fossil spiders // Biological Reviews, 2010, V. 85, №1, 171–206.
(обратно)503
Garrouste R. et al. A complete insect from the Late Devonian period // Nature, 2012, V. 487, №7409, 82–85.
(обратно)504
Prokop J., Nel A., Hoch I. Discovery of the oldest known Pterygota in the lower Carboniferous of the Upper Silesian Basin in the Czech Republic (Insecta: Archaeorthoptera) // Geobios, 2005, V. 38, №3, 383–387.
(обратно)505
Meyer-Berthaud B., Soria A., Decombeix A. L. The land plant cover in the Devonian: a reassessment of the evolution of the tree habit // Geological Society, London, Special Publications, 2010, V. 339, №1, 59–70.
(обратно)506
Meyer-Berthaud B., Scheckler S. E., Wendt J. Archaeopteris is the earliest known modern tree // Nature, 1999, V. 398, №6729, 700–701.
(обратно)507
Retallack G. J. Afforestation of the land // Soils of the Past. Springer Netherlands, 1990. 399–421.
(обратно)508
Fielding C. R., Frank T. D., Isbell J. L. The late Paleozoic ice age—a review of current understanding and synthesis of global climate patterns // Geological Society of America Special Papers, 2008, V. 441, 343–354.
(обратно)509
Raup D. M. Size of the Permo-Triassic bottleneck and its evolutionary implications // Science, 1979, V. 206, №4415, 217–218.
(обратно)510
Bowring S. A. et al. U/Pb zircon geochronology and tempo of the end-Permian mass extinction // Science, 1998, V. 280, №5366, 1039–1045.
(обратно)511
Raup D. M., Sepkoski J. J. Mass extinctions in the marine fossil record // Science, 1982, V. 215, №4539, 1501–1503.
(обратно)512
Bambach R. K. Phanerozoic biodiversity mass extinctions // Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 2006, V. 34, 127–155.
(обратно)513
Красилов В.А. Нерешенные проблемы теории эволюции. — Владивосток: Дальневосточный научный центр АН СССР, 1986.
(обратно)514
Benton M. J. et al. Diversification and extinction in the history of life // Science, 1995, V. 268, №5207, V. 52–58.
(обратно)515
Sahney S., Benton M. J. Recovery from the most profound mass extinction of all time // Proceedings of the Royal Society of London, B: Biological Sciences, 2008, V. 275, №1636, 759–765.
(обратно)516
Burgess S. D., Bowring S., Shen S. High-precision timeline for Earth’s most severe extinction // Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, V. 111, №9, 3316–3321.
(обратно)517
Kump L. R., Pavlov A., Arthur M. A. Massive release of hydrogen sulfide to the surface ocean and atmosphere during intervals of oceanic anoxia // Geology, 2005, V. 33, №5, 397–400.
(обратно)518
Уорд П., Киршвинк Д. Новая история происхождения жизни на Земле. — СПб.: Питер, 2016.
(обратно)519
Benton M. J., Twitchett R. J. How to kill (almost) all life: the end-Permian extinction event // Trends in Ecology & Evolution, 2003, V. 18, №7, 358–365.
(обратно)520
Knoll A. H. et al. Paleophysiology and end-Permian mass extinction // Earth and Planetary Science Letters, 2007, V. 256, №3, 295–313.
(обратно)521
Sun Y. et al. Lethally hot temperatures during the Early Triassic greenhouse // Science, 2012, V. 338, №6105, 366–370.
(обратно)522
Huey R. B., Ward P. D. Hypoxia, global warming, and terrestrial Late Permian extinctions // Science, 2005, V. 308, №5720, 398–401.
(обратно)523
Benton M. J., Newell A. J. Impacts of global warming on Permo-Triassic terrestrial ecosystems // Gondwana Research, 2014, V. 25, №4, 1308–1337.
(обратно)524
Расницын А.П. Когда жизнь и не думала умирать // Природа. 2012. №9.
(обратно)525
Sepkoski J. J. Biodiversity: past, present, and future // Journal of Paleontology, 1997, V. 71, №4, 533–539.
(обратно)526
Уилсон Э. Хозяева Земли. Социальное завоевание планеты человечеством. — СПб.: Питер, 2014.
(обратно)527
Wilson E. O. Some central problems of sociobiology // Social Science Information, 1975, V. 14, №6, 5–18.
(обратно)528
Wilson E. O., Holldobler B. The rise of the ants: a phylogenetic and ecological explanation // Proceedings of the National Academy of Sciences, 2005, V. 102, №21, 7411–7414.
(обратно)529
Foster K. R., Ratnieks F. L. W. A new eusocial vertebrate? // Trends in Ecology & Evolution, 2005, V. 20, №7, 363–364.
(обратно)530
Есть данные, что самая настоящая менопауза имеется у некоторых китообразных, а именно у гринд, косаток и, возможно, даже у кашалотов. Это связано с их социальной структурой: молодые самки долгое время остаются в составе группы вместе с матерями. Таким образом, в логике Фостера и Рэтникса нам придется или считать гринд, косаток и кашалотов эусоциальными наравне с человеком, или же признать, что этот критерий эусоциальности все-таки не единственный. McAuliffe K., Whitehead H. Eusociality, menopause and information in matrilineal whales // Trends in Ecology & Evolution, 2005, V. 20, №12, 650.
(обратно)531
Nowak M. A., Tarnita C. E., Wilson E. O. The evolution of eusociality // Nature, 2010, V. 466, №7310, 1057–1062.
(обратно)532
Thorne B. L., Grimaldi D. A., Krishna K. Early Fossil History of the Termites // Termites: evolution, sociality, symbioses, ecology. Springer Netherlands, 2000. 77–93.
(обратно)533
Wilson E. O., Nowak M. A. Natural selection drives the evolution of ant life cycles // Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, V. 111, №35, 12585–12590.
(обратно)534
Wilson, Holldobler, 2005.
(обратно)535
Wilson, Nowak, 2014. Составленный Уилсоном и его соавторами список, скорее всего, при желании можно будет дополнить. Независимо возникшая эусоциальность наблюдается, например, у некоторых паразитических плоских червей: Hechinger R. F., Wood A.C., Kuris A. M. Social organization in a flatworm: trematode parasites form soldier and reproductive castes // Proceedings of the Royal Society of London, B: Biological Sciences, 2011, V. 278, №1706, 656–665.
(обратно)536
Burda H. et al. Are naked and common mole-rats eusocial and if so, why? // Behavioral Ecology and Sociobiology, 2000, V. 47, №5, 293–303.
(обратно)537
Очень близко к этому сочетанию подошли некоторые китообразные — например, косатки, у которых есть и большой мозг, и сложный социум, и даже менопауза. Но на китообразных действует сильное ограничение: отсутствие возможности использовать огонь. “Даже самый умный дельфин или осьминог не способен изобрести кузнечный горн — и никогда не сможет построить культуру, которая сконструировала бы микроскоп, расшифровала процесс фотосинтеза и сфотографировала спутники Сатурна”, — пишет по этому поводу Эдвард Уилсон.
(обратно)538
Петров М.К. Пентеконтера. В первом классе европейской школы мысли // Вопросы истории естествознания и техники. 1987. №3. С. 100–109.
(обратно)539
Kirschvink J. L. Red Earth, White Earth, Green Earth, Black Earth // Engineering and Science, 2005, V. 68, №4, 10–20.
(обратно)540
Тейяр де Шарден П. Феномен человека. — М., Наука, 1987.
(обратно)541
Ляпунов А. А. О соотношении понятий материя, энергия и информация. Тезисы доклада, написанного для Международного конгресса по философии (Варна, 1973) // Ляпунов А. А. Проблемы теоретической и прикладной кибернетики. — М., Наука, 1980, 320–323.
(обратно)542
Simpson A. G. B., Slamovits C. H., Archibald J. M. Protist diversity and eukaryote phylogeny // Handbook of the Protists. Springer, 2017, 1–21.
(обратно)543
Leontyev D. V., Schnittler M. The Phylogeny of Myxomycetes // Myxomycetes, Academic Press, 2017, 83–106.
(обратно)544
Janouskovec J. et al. A new lineage of eukaryotes illuminates early mitochondrial genome reduction // Current Biology, 2017, V. 27, № 23, R1270 — R1271.
(обратно)545
Brown M. W. et al. Phylogenomics places orphan protistan lineages in a novel eukaryotic supergroup // Genome Biology and Evolution, 2018, V. 10, № 2, 427–433.
(обратно)546
Текст интервью, из которого взято это высказывание, выложен в сети по адресу:
(обратно)547
Erives A. J. Phylogenetic analysis of the core histone doublet and DNA topo II genes of Marseilleviridae: evidence of proto-eukaryotic provenance // Epigenetics & Chromatin, 2017, V. 10, № 1, 55.
(обратно)548
Raoult D. The post-Darwinist rhizome of life // The Lancet, 2010, V. 375, № 9709, 104–105.
(обратно)





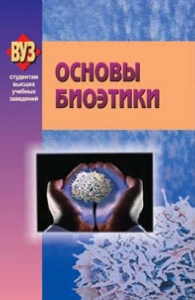
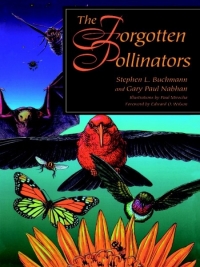




Комментарии к книге «От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни», Сергeй Яcтребов
Всего 0 комментариев