Вера Колочкова Коварство, или Тайна дома с мезонином
Россия может разделить судьбу Древнего Рима: культура останется, а народ исчезнет.
Владимир НабоковГлава 1
День выдался тем самым – особенным, легко летящим и осязаемо счастливым. Не ярким и не жарким. Перетек ласково теплым песком из горсти в горсть, от утра к полудню. Тина очень любила такие дни. Они образовывались как-то сами собой, с первого момента пробуждения, будто ощущение счастья давно стояло около ее кровати, улыбалось тихо и только того и ждало, когда ж она изволит проснуться наконец, чтоб тут же устроиться у нее внутри поудобнее. Нет, ничего такого особенного, конечно, в такие дни не происходило, да и не должно было произойти. Все, в общем, как обычно – вон Анюта проснулась и, накормив грудью маленькую Сонечку, устраивает ее в коляске под старой грушей, вон соседка тетя Таня, повязавшись по-деревенски белым платочком, склонилась над грядкой и подслеповато щурится в буйно разросшееся ее огуречно-кудрявое плетение. И с речки слышны ломкие мальчишеские голоса, и плеск воды, и музыка с соседней дачной усадьбы… Все, все как обычно. И только поселившееся в ней с самого утра счастье живет отдельной, своей жизнью, пропуская через себя простые картинки летнего бытия и заставляя то замирать на вдохе, то блаженно улыбаться или, того глупее, долго смотреть, задрав голову, на плывущие по небу облака и слушать, слушать, слушать… В такие дни надо именно слушать, она это давно уже поняла. В такие дни солнце поет совсем тоненькой ноткой, когда льется с неба вот так, не изнуряя, тихой и нежной июльской благодатью, отдаваясь прозрачному еще от ночной прохлады воздуху, который тут же и отзывается ей навстречу низким, чуть глуховатым благодарственным бархатом-звоном, принимая в себя солнечную нежность. И с пролетающих мимо облаков льется вниз своя мелодия – торжественная, высокая и самую чуточку горделивая – и ложится тонкой белой драгоценностью, как жемчуг в коробочку, в этот бархатный звон, вплетаясь очень удачно в музыку летнего счастья. Она слышит его, точно слышит! Вот и душа ее, торопливо почистив слежавшиеся мятые перышки, устремилась красивой белой птицей музыке этой навстречу и вместе с залетевшим во двор гуленой-ветром затевает свои игры на траве, на цветах, на дальнем пригорке, на видимом с усадьбы белом берегу реки…
В такие дни Тина старалась жить, ни на что особо не отвлекаясь. Сама с собой и с живущим у нее внутри счастьем, сплошь состоящим из звуков, ощущений и особенного какого-то, до дрожи радостного волнения. Сил от него набиралась для жизни. Плавала, купалась в нем, улетала рука об руку со счастливой душой к небу. А то вдруг с солнечным лучом дружила-обнималась или шорох травы под босыми ногами внимательно слушала…
Нет, в обыденной жизни она была просто женщиной. Самой обыкновенной, с несложившейся, по принятым людским меркам, бабской судьбой. И с грузом нелегко прожитых лет за плечами. И с подкравшимся незаметно пенсионным возрастом. А вот поди ж ты – как повезло ей с этими счастливыми днями-то. Не забывает про нее ребячье звенящее счастье, никак не дает душе повзрослеть, да и телу не дает расплыться-раскиселиться, как ему и положено к законным своим пятидесяти пяти годам. Кажется, вот и сейчас бы запрыгала-завертелась, раскинув широко руки да прогнувшись в спине, как малолетка какая. Или как та героиня Островского, которая все взмыть над обрывом птицей пыталась. Хотя ну ее. Не надо про нее, и без того надоела за тридцать долгих учительских лет – за такое время и самый яркий луч света в темном царстве погаснуть может. Вот герои любимого Антона Палыча – те нет, те не надоели. С ними она, можно сказать, с детства дружит. Или, как недавно выразилась Анюта, страдает комплексом «врожденной чеховоманки». Тоже нашлась юмористка доморощенная. Еще дочь называется…
Улыбнувшись, Тина прошла по мягкому ромашковому ковру в конец двора, заросшего по периметру шершавыми стволами подсолнухов вперемежку с кустами золотых шаров – много желтого, хороший цвет, – тихо опустилась на бревна, почерневшие и порядочно потрескавшиеся от долгого лежания под снегом да дождем. Кто и зачем сюда привез эти бревна, она уже и не помнила. Но сиживать на них любила – особенно в такие вот дни. Ей казалось, что именно в этом уголке как раз все и сходилось в одну звенящую точку: и музыка солнца, неба и воздуха, и летающая рядом счастливой птицей душа, и вся прелесть летнего ее в этом дворе бытия вместе с приехавшими из города на выходные дни дочерью с внучкой… Закрыв глаза и откинувшись спиной на теплые бревна, она попыталась даже впихнуть каким-то образом в этот счастливый ряд и вопрос обыденный, то есть осмелилась подумать о том, что же бы ей такого хорошего на обед приготовить. Ответ на вопрос пришел сам собой, тоже будто из этого счастливого ряда выплыл: готовь, мол, дорогая наша Тина, окрошку да оладьи со сметаной, и чтоб запах от них на всю усадьбу стоял. Не хватает, мол, в нашем счастливом ряду обыкновенного сытного земного запаху…
«Сейчас полежу еще пять минут и пойду, – решила Тина, чуть приподняв голову и взглянув на Сонечкину коляску – не проснулась ли ее драгоценная внученька. – Надо Анюту хоть в выходные поесть заставить, иначе погибнет на своей диете. И с чего это взяла девчонка, что она толстая? Не толстая вовсе, а справная, как раньше в деревнях говорили. Кровь с молоком. Да и нельзя ей худеть, пока Сонечку кормит… Сейчас-сейчас… Еще пять минут… Уже встаю…»
– Тина! Тиночка! Ты где? Слышишь ли меня? Гости к тебе, Тиночка! – ворвался в счастливое ее состояние голос соседки тети Тани, и с ним одновременно гукнула нетерпеливым коротким звуком подъехавшая к воротам машина. Звук гудка был слуху незнакомым – Лёнина машина так никогда не гудит. А Митенька бы и вовсе на клаксон нажимать не стал, а пошел бы сам себе открывать ворота… Значит, чужие. Что ж, жаль. Придется отвлечься, выплыть на время из своего счастливо-бездумного состояния. Ничего, она потом еще вернется…
Анюта уже спешила к воротам, натягивая поверх купальника старую клетчатую Митину ковбойку. Отодвинула засов на калитке, распахнула ее навстречу двоим, в нее зашедшим. Мужчина и женщина. Молодые совсем. Господи, кто же это… Лица такие знакомые… Похожие… Похожие… Нет, этого не может быть…
– Здравствуйте! – вежливо-холодно растянула в улыбке губы молодая женщина, одетая в серые джинсы-трубочки и гладко-белую футболку. Пряталась, впрочем, за этой простой серостью да гладко-белостью фирменная дороговизна. Вернее, не пряталась. Наоборот, наезжала некой спесивостью – такой же, как и нарочито-вежливая улыбка с ее лица.
– Здравствуйте… А вам кого? – весело-вызывающе поинтересовалась Анюта, выставляя снисходительную веселость впереди себя оружием против холодной вежливости гостьи.
– Скажите, Валентина Петровна Званцева здесь проживает?
– Да, здесь. Это мама моя…
– Да? Что ж… Тогда давайте знакомиться. Моя девичья фамилия тоже Званцева. И зовут меня Ольга. Ваша двоюродная сестра, стало быть. А это ваш брат, тоже двоюродный, – Никита Званцев. А вы… Вы Анна Званцева, насколько я понимаю?
– Да… Да, я Анна… Только я не Званцева…
Анюта растерянно обернулась к медленно идущей к ним по дорожке матери и вздрогнула от естественно накатившего желания встать сейчас у нее на пути, закрыть спиной от этих гостей, от вежливо-холодного взгляда этой молодой женщины по имени Ольга, назвавшейся ее сестрой. Господи, что это их принесло сюда, каким таким незваным ветром?..
Да, она знала, конечно же, что у нее есть двоюродные сестра и брат. Она даже, было дело, очень давно, правда, мечтала с ними и увидеться, и познакомиться поближе. Но, упаси бог, никогда не стала бы этого делать. Потому что кто знает, как бы к этому отнеслась мама – тема-то эта у них всегда была сверхзапретной. Нет, не больной, конечно, но зачем, скажите, ворошить лишний раз обстоятельства прошлого, круто изменившие мамину судьбу и на долгие годы застрявшие в сердце тяжелым камнем? Камнем, замешенным на любви, на обиде, на предательстве, на жалких усилиях простить-забыть, на бессонных ночах, на осознанном выборе своего женского одиночества. Чуть тронь этот камень – и тут же он даст о себе знать материнской грустной задумчивостью да мукой в глазах, спокойно переносить которую Анюта так и не научилась с самого своего детства. Она вообще всегда ощущала себя маминой защитницей. Дочерью-матерью. Дочерью – широкой спиной. Даже дочерью-грубиянкой, если понадобится. А как могло быть по-другому? Вот идет по дорожке такая маленькая и гибкая-хрупкая, и большие, не растерявшие к возрасту своей изумрудной зелени глаза распахнуты широко и радостно-открыто, и губы уже сложились в удивленную и широкую, заранее ко всему благожелательную улыбку… Не женщина – марсианка какая-то. Аэлита. Потому и не стареет, наверное…
– Мам, это к тебе, – делая шаг в сторону, словно и впрямь собираясь загородить мать спиной, настороженно произнесла Анюта. – Познакомься, это Ольга и Никита Званцевы…
– Вы… Вы Машины дети? Да? Не может быть… А как вы здесь… Случилось что-нибудь? Что-то с Машей? – тихо и испуганно задавала свои вопросы Тина, переводя растерянно-загнанный взгляд с красиво-надменного Ольгиного лица на лицо Никиты, рассматривающего ее с досадным равнодушием спешащей юности, вынужденной так бездарно терять драгоценное время в беседах с какой-то теткой, которой он и в глаза никогда не видел. Что из того, что она ему по крови родная, тетка эта. Какая разница. Все равно чужая, получается. Если б не важное дело, черта с два поехал бы он в эту тьмутаракань – трястись в машине целые сутки…
– Нет, Валентина Петровна, – четко разделяя слова, словно с трудом сдерживая внутреннее раздражение перед чужой глупой растерянностью, заговорила Ольга. – С мамой нашей ничего не случилось. А вот отец два месяца назад умер. Такое вот дело. Наш отец, а ваш официальный муж, получается. Ведь вы, говоря языком юридическим, формально свой брак не расторгали… Ведь так?
– Да… Так… То есть нет, не расторгали… Так, значит, Антон умер… Два месяца…
– Ну да. Мама вам не сообщила – простите ее, конечно. Да и мы с Никитой тоже так решили – ни к чему это вам. Сами посудите – столько лет прошло, вы совсем чужими стали, и ваш брак с нашим отцом превратился в одну лишь пустую формальность. Я вообще не понимаю, почему вы его тогда еще не расторгли… А теперь вот у нас из-за этого сплошные проблемы! И нам бы хотелось все с вами спокойно и взвешенно обсудить. И постараться прийти к соглашению. К справедливому, я полагаю, соглашению…
– Так… Да, конечно… Проблемы… Антон умер…
Тина вдруг резко развернулась и быстро пошла по тропинке к дому, как слепая, выставив вперед руку и держа спину очень прямо. Так изо всех сил старается держать прямо спину человек, боящийся упасть. Ольга удивленно проводила ее глазами и, пожав плечами, повернулась к Анюте, словно ждала от нее каких-то объяснений странного поведения матери. Анюта помолчала какое-то время, набычившись, как девчонка-строптивица, потом нехотя произнесла:
– Что ж… Проходите в дом, раз приехали… Машину во двор загонять будете?
– Ну, я надеюсь, мы к вам ненадолго, – подстроившись под ее явно вынужденную вежливость, проговорила, тонко улыбнувшись, Ольга. И тут же поинтересовалась искренне: – Слушай, сестра, сколько тебе лет, а? Ты намного меня моложе?
– Мне двадцать пять. А что? А тебе сколько? – настороженно произнесла Анюта.
– А мне двадцать семь… Стало быть, Валентина Петровна не так уж долго после расставания с отцом горевала? Зря, выходит, наша мать всю жизнь чувством вины перед ней упивалась… Ни развода, ни официального для себя брака вовремя не потребовала…
– Слушай, ты… – обернувшись к ней, резко и зло сверкнув глазами, тихо прошипела Анюта, – ты не смей так о ней, поняла? Что ты об этом знаешь вообще?
– Да ничего я не знаю. Ты, пожалуйста, не обижайся, Ань. Нам и в самом деле ничего об этой истории не рассказывали. Ни отец, ни мать. Молчали всю жизнь, как партизаны. Что там у них произошло-то?
– Да я и сама толком ничего не знаю, – отчего-то смягчившись, доверчиво проговорила Анюта. – И мама мне тоже никаких подробностей не рассказывала. Я только одно знаю – она всегда вашего отца любила. Все эти годы. И потому за моего отца замуж не вышла. А ты ей прямо с ходу в лоб выдала – два месяца как умер…
– Ну, я ж не знала, что тут такая трагедия! – широко развела руками Ольга. – Кому рассказать – не поверят. Сама подумай – сколько лет прошло! Столько вообще не живут, а не то что любят кого-то. Прям как в старинных романах…
– Ладно, вы тут устраивайтесь пока, отдохните с дороги, я сейчас… У меня там ребенок проснулся…
Бросив гостей прямо у крыльца дома, она метнулась к качающейся мягко на нежных рессорах коляске, укрытой от постороннего глаза ветками старой груши, навстречу мелькающим из нее толстеньким ножкам и ручкам, навстречу милому материнскому сердцу кряхтению хорошо выспавшегося здорового младенца. Выуженная из коляски Сонечка запрыгала в руках матери, загукала что-то абсолютно радостное на своем младенческом языке, засверкала нежно-розовыми щечками да круглыми локотками-коленками. Она тоже по-своему чувствовала этот день. Видимо, он и для нее был особенно счастливым. Слава богу, бесконечно далеко ей пока до тех времен, когда этот самый день способен оборваться лопнувшей струной так же неожиданно, как сегодняшний бабушкин…
– Смотри, Никитка, какая у нас с тобой племянница! Чудо просто! – протянула к ребенку руки Ольга. – Ань, можно я подержу? Да не бойся, не уроню…
Сонечка, притихнув в незнакомых руках, долго разглядывала чужую улыбающуюся тетю, потом повернула розовое личико к матери и моргнула удивленно, словно спрашивала ее таким образом: а кто она такая есть, эта тетя, и почему она, Сонечка, вдруг стала не доченькой и не внученькой, а какой-то там племянницей?.. И тут же протянула руки обратно. Потому что тетя тетей, конечно, а на руках матери, уж простите, как-то покомфортнее будет…
– А у тебя дети есть? – забирая из Ольгиных рук ребенка, спросила Анюта.
– У меня? – почему-то удивилась ее вопросу Ольга. – У меня нет, что ты… Да и когда мне! Я еще на ноги не встала как следует, и вообще… Мы с мужем пока и разговоров таких не заводили…
– Да мы тоже не заводили, знаешь! – улыбнулась вдруг весело Анюта. – Чего их заводить, разговоры эти? От них дети не рождаются! Взяли и произвели на свет это чудо! И нисколько об этом не жалеем! Да, дочь?
– Гы! – радостно подтвердила Сонечка и расплылась в счастливой младенческой улыбке, продемонстрировав всем два проклюнувшихся нежных зуба-резца, и взмахнула плотными ручками, чуть не вылетев из материнских рук.
– Так, чего ж это мы на крыльце стоим? Вы в дом проходите. Сейчас я вас чаем напою, потом обедать будем…
– Нет-нет, Аня, не суетись! Ничего такого не надо. Нам бы с Валентиной Петровной вопрос решить побыстрее… Понимаешь, времени очень мало. Вот и Никита торопится…
Они вместе обернулись к сидящему на скамеечке у крыльца парню, с интересом разглядывающему дворовый интерьер с его деревьями и цветами, с заросшей толстым ромашковым ковром большой поляной и прокоптившимся мангалом в самой ее сердцевине, с колодцем и обложенным прогоревшими булыжниками кострищем около сваленных у забора старых бревен, с открывающимся отсюда и сразу цепляющим глаз чудесным видом на изгиб реки с ее белым песчаным берегом.
– А хорошо тут у вас, знаете… – проговорил Никита тихо. – Спокойно так, будто счастьем пахнет… Как, говорите, это место называется? Я забыл… Красивое такое название…
– Белоречье, – хором подсказали ему Ольга с Анютой.
– А… Ну да… И в самом деле Белоречье… Смотри, Ольга, какой берег белый. И река от него тоже белым светится…
– Ладно, Никита. Некогда нам видами любоваться. Река, берег… Ты не забыл, что нам надо сегодня же обратно выехать? Время, время, Никита! Пошли давай! Ань, проводи нас к матери, пожалуйста. Где она?
– Ну что ж, пойдемте… Мам! Ты где? – заходя в дом, крикнула Анюта осторожно. – Иди к нам…
– Здесь я, дочь.
Тина выглянула из большой комнаты, улыбнулась навстречу входящим вслед за дочерью гостям. Сердце Анютино тут же и сжалось в комочек от вымороченной этой материнской улыбки, от вмиг потерявших привычную зеленую прозрачность глаз, будто приглушила, прошлась по ним в одночасье злая патина времени. С трудом подавив в себе вздох досадно-жалостливого дочернего понимания, она лишь гостеприимно протянула руку приглашающим жестом – проходите, мол, в комнату, чего на пороге стоять…
– Валентина Петровна, вы простите нас, конечно, что мы вот так ворвались со своей проблемой. Надо было предупредить, конечно. Но мы ведь и адреса вашего толком не знали! Искали село под названием Белоречье, а ни улицы, ни номера дома не знали… Спрашивали у всех, где здесь живет Званцева Валентина Петровна. Кстати, вы очень здесь популярная личность, знаете ли! У кого ни спрашивали, нам всякий дорогу показывал…
– А почему у мамы своей адреса не спросили? Или она забыла его уже?
– Нет, не забыла, наверное. Только мы ей не стали говорить, что к вам поехали. Не стали беспокоить.
– Почему?
– Ну, так уж получилось… Да она бы и не пустила нас. А ехать к вам все равно обстоятельства заставили. Только… Мы ведь не думали, что для вас это так… Что вы так болезненно все воспримете… – осторожно заговорила Ольга, присаживаясь напротив Тины за стол, по-деревенски покрытый белой ажурной скатертью.
– Ничего. Все в порядке, ребята. Говорите, что у вас за обстоятельства такие срочные.
Тина произносила слова ровным, ничего будто не выражающим голосом, смотрела в глаза прямо, плечи держала ровно, и только сцепленные пальцами одна в другую ладони выдавали внутреннее ее напряжение, которое, казалось, все ушло в эти сжатые мертвой хваткой пальцы.
– Понимаете ли, в чем дело, Валентина Петровна… Отец ведь наш завещания не успел оформить… Он, знаете ли, скоропостижно скончался, от инфаркта. А вы на сегодняшний день так и являетесь его законной женой, то есть юридически входите в круг наследников первой очереди… Вы понимаете, о чем я говорю?
– Да. Понимаю. Конечно же.
– Но согласитесь, Валентина Петровна, это же несколько несправедливо получается. Вот и Никита тоже так считает. Выходит, вам теперь может отойти значительная доля наследства… Ведь так? Правильно я рассуждаю?
– Правильно.
– Но вы согласны со мной, что фактически к наследству нашего отца вы не имеете никакого уже отношения? Вы же не виделись с ним с тех пор, как… Как…
– Да. Не виделась.
– И ничего о нашей жизни не знали…
– Да, не знала.
– И мы о вас тоже ничего не знали! Ну, то есть знали, конечно, что у мамы где-то есть сестра и брат и что была какая-то между вами история… Но ведь всю жизнь с отцом прожила именно наша мать, а не вы! И детей у вас от отца нет, как я понимаю. А теперь получается так несправедливо…
– Да. Несправедливо.
– Так вы согласны, значит?
– Согласна.
– Погодите, Валентина Петровна. Какой-то странноватый разговор у нас получается…
– Действительно, странноватый. Чего вы хотите, ребята? Скажите прямо.
– Но это же так понятно и естественно… Вам надо официально отказаться от своей наследуемой по закону доли, и все! Тут, я считаю, даже и говорить особо не о чем!
– Да. Не о чем. Конечно же. Я должна что-то подписать? Давайте подпишу.
– Но… Если бы все было так просто… Понимаете, отказ от наследства оформляется только нотариально! Причем наш нотариус заявил, что отказ этот примет только от вас лично! Его тоже можно понять – юридические формальности, знаете ли… Не будешь же ему объяснять, что фактически вашего с отцом брака давно уже не существует! Нет, можно было бы, конечно, и через суд это доказать, но все это займет столько времени… Вот мы и решили к вам приехать да решить этот щекотливый вопрос полюбовно.
– Хорошо, ребята. Будем считать, что решили. Что дальше?
– А раз решили, то вам надо ехать вместе с нами, дорогая Валентина Петровна. К нотариусу, в наш город. По месту открытия наследства.
– Что, прямо сейчас?
– Ну да… Хотелось бы… А обратно мы вас самолетом отправим! За наш счет, разумеется! Да, Никита? Ну что ты молчишь, господи? Вот же наказание! Зачем я только тебя с собой сюда тащила! – сердито пробормотала Ольга, обернувшись к брату.
– Но я сейчас не могу… Нет-нет… Вы простите, но нельзя ли мне приехать попозже? Как тут Анюта без меня останется, и Сонечка маленькая… Да и в себя мне надо прийти… Нет, с вами я никак не смогу поехать…
– Хорошо-хорошо, Валентина Петровна! Как скажете! Да мы и не надеялись, в общем, что вы сразу поедете. Главное, что вы в принципе не возражаете! Когда вы сможете приехать?
– Не знаю. На днях, может… Только у меня к вам просьба…
– Да? Какая просьба?
– Вы не оставите мне несколько фотографий Антона? На память? У меня ведь ни одной нет…
– О, да это пожалуйста! Сколько угодно! Вот вы приедете, и я вам приготовлю! Я вам подберу несколько хороших фотографий! У нас даже и портрет его есть, маслом писанный. Можно копию заказать…
– Спасибо. Мне достаточно фотографий. Тех, где мы в молодости.
– Хорошо, Валентина Петровна. Значит, мы договорились? Через неделю мы вас будем ждать. Вам денег на билет оставить?
– Нет. Не надо. Что вы!
– Тогда вот вам моя визитка со всеми телефонами. Как соберетесь – звоните. Да я и сама вам позвоню еще не раз! И помните: вы обещали… А я вас обязательно встречу в аэропорту. Или Никита встретит. Это и времени немного займет, в общем. Из аэропорта поедем к нотариусу, потом сразу обратно. Всего один день…
– Хорошо. Спасибо.
– Ну что вы. Это вам спасибо, дорогая Валентина Петровна. Спасибо, что вы нас правильно поняли. И вообще – приятно было познакомиться. И с вами, и с вашей милой дочерью, и с внучкой…
– А у вас ведь еще и брат есть, ребята. Митей его зовут. Он сын Алексея, матери вашего брата. Он вечером сюда придет.
– Ну что ж, жаль, конечно, что не увидимся. Нам ехать пора. И вообще, жаль, что все так нелепо вышло в нашей жизни…
– Да. Действительно, жаль.
– Тогда до скорой встречи, Валентина Петровна! Пойдем мы, пожалуй…
Ольга неловко поднялась из-за стола и, сердито мотнув головой сидящему в кресле в углу комнаты Никите, быстро пошла к выходу. Тина же так и осталась сидеть, прямо держа спину и по-прежнему сцепив перед собой пальцы рук. Надо бы встать, проводить гостей, да она не могла – сил отчего-то не было…
– Что же это вы, гости дорогие, даже и чаю не попьете? – насмешливо выскочила из кухни в прихожую, держа Сонечку под мышкой, Анюта. – За долю свою воевать, значит, приехали? Отвоевали, стало быть? Все по своим местам расставили? Занесли мать мою в список пустых формальностей? И нас с Митькой тоже, значит, в тот же ряд записали? Ну-ну… Молодцы какие…
– Анюта! Не надо. Прекрати немедленно. Пусть идут с богом. Проводи, – тихо скомандовала из комнаты Тина.
– Ладно, мам. Провожу, конечно. Пойдемте, гости дорогие…
– Зря ты так, Ань, – обернулась уже от калитки к ней Ольга. – Мы-то тут при чем? Они же сами наворотили невесть чего в молодости, матери наши. Нас ведь никто ни о чем не спрашивал! Что уж вышло, то вышло. Ты прости нас…
– Ладно, поехали! – потянул Ольгу за рукав Никита. – Хватит тут сопли разводить! Ругаешься на меня, а сама… Нам еще заправиться где-то надо. Поехали!
– Ну что ж, прощай, Аня. Всего вам доброго – и тебе, и дочке твоей. И маме.
– И вам прощайте, дорогие братья-сестры. Счастливого пути. Мать, когда приедет, не особо там обижайте. Да на могилу к вашему отцу свозите, пусть попрощается. Она сама-то об этом не попросит, вы уж проявите инициативу, как родственники. Хоть и не состоявшиеся, конечно. В благодарность, так сказать, за матери моей покладистость…
Ольга, ничего Анюте на это не ответив, лишь вскинула резко голову и взглянула в глаза остро и сердито, будто клюнула. Распахнув дверцу машины, плюхнулась на переднее сиденье рядом с Никитой и тут же принялась ему за что-то выговаривать, жестикулируя отчаянно перед лицом руками. Анюта медленно закрыла калитку и, прижимая к себе Сонечку и прислушиваясь к шуршанию гравия под колесами отъезжающей машины, постояла еще какое-то время в задумчивости. Странное у нее было чувство – как будто обидели ее сильно. В чем заключалась эта самая обида, было не совсем понятно. Ну, приехали родственники, и что? Не захотели дружить-родниться? Да и бог с ними, не больно-то и хотелось. Может, маму они чем обидели? Да ничем вроде – это тоже понятно. Не требовали особо ничего, не оскорбляли, не унижали. Просто имущество свое от дележа спасали. Что такого-то? Дело простое, человеческое. Всякое бывает… Олег, Анютин муж, адвокат по профессии, и не такое ей рассказывал. Так иногда людей наизнанку выворачивает при дележе наследства, что сами себя не узнают… И все-таки обида была. В чем-то виноваты были эти двое, своим приездом принесшие в их теплый дом холодный пыльный ветер из маминого прошлого. Ветер, осевший мутью в ее ярких глазах и сцепивший пальцы ладоней в мертвой хватке. Ветер, неуловимо вытеснивший с их двора «добринку-роднинку», как говорит Митька. Пусть хоть на время, на какой-то час всего, но вытеснивший же…
Вздохнув, она медленно пошла к дому, ступая по мягкому травяному ковру и с удовольствием ощущая под босыми ногами приятную теплую шершавость. Нет же, нет. Все в порядке. Все на своем месте. Никому они эту «добринку-роднинку» не отдадут. Никакому чужому ветру. И старый уютный дом не отдадут, и ночной костер у потемневших бревен в углу двора, и старуху грушу, и мамин цветник, и вид на реку… Вот сейчас она матери обо всем этом и скажет…
Тина так и сидела за столом, по-прежнему выставив перед собой сцепленные ладони, смотрела потерянно куда-то в пространство. Сердце Анютино опять сжалось, но голос таки прозвучал вполне бодро-весело. Очень даже вполне, чтоб вытащить мать из этого плохого пространства, – нечего ей там делать…
– Мам, подержи Сонечку! Такая тяжелая стала – у меня сейчас руки отпадут! Скорей бы уж ходить начала, ага?
– Давай… – моментально встряхнувшись, потянула навстречу внучке руки Тина. – Иди ко мне, моя ласточка, мое солнышко, моя золотая рыбочка!
– Ау-гу-гу-гу-у-у… – заворковала вдруг на такой же ноте и Сонечка, устраиваясь с полным комфортом у бабки на коленях и припадая головкой к ее плечу.
– Ну вот, девочки, и хорошо… – встряхивая с наслаждением руки, со смехом произнесла Анюта. – Вы просто замечательно друг друга понимаете. У вас и любовь даже особенная какая-то. Не человеческая будто, а марсианская…
– Да никакая она не особенная, доченька. Обыкновенная. Просто Сонечка знала всегда, как я ее жду… Ты помнишь, как я ее ждала?
– Ну еще бы! У меня и живота еще никакого не было, а ты уже подходила ко мне и с ней разговаривала. Все ей рассказывала: и как ты ее ждешь, и как любишь, и как радуешься… Странноватая ты у меня все-таки женщина, мам!
– Уж какая есть, доченька. Ты гостей проводила?
– Да. Все в порядке. А что, ты и в самом деле к ним поедешь, чтоб от своей этой наследственной доли отказываться?
– Да, поеду.
– Мам, а что там за доля-то? Что они делят? Квартиру, машину?
– Там дом, доченька. Большой такой дом. Бывший купеческий особняк. Его еще отец Антона от советской власти получал за свое правильное, идеологически выдержанное профессорство. Антон уже там родился. Интересный такой особнячок, белый весь, с колоннами да балкончиками. И с мезонином… Помнишь, у Чехова рассказ такой есть – «Дом с мезонином»?
– Целый особняк? Это в том городе, где ты раньше жила? Ничего себе… – всплеснула руками Анюта.
– Вот именно что раньше, дочка. Теперь я ни к тому городу, ни к тому особняку никакого отношения не имею.
– Да какая разница, мам! Доля-то все равно твоя по закону! Ты хоть представляешь себе, в каких деньгах она может выражаться, эта доля? Тебе такие и не снились…
– И хорошо, что не снились, дочь. И не надо. И слава богу. И вообще, ты же знаешь, как я отношусь к этому вопросу!
– Да уж… Знаю, конечно… Но все-таки, мам… Может…
– Нет, не может, Анюта! И давай закончим этот разговор. Он мне не нравится. Пойдем-ка лучше обед какой-нибудь состряпаем. Скоро Митя с Мариной придут…
Глава 2
– Вот объясни, зачем я тебя тащила с собой в такую даль? Чтоб ты молчал, как партизан, да? Почему я всегда и все должна делать сама? Ты думаешь, мне этим приятно заниматься? – бушевала Ольга, развернувшись к сидящему за рулем Никите. – И не гони так, экстремал хренов! Лучше бы в другом месте лихость свою демонстрировал! Сидит, главное, помалкивает чистоплюйски… Получается, что я крайняя, да? Стерва-сестра при благородном брате?
Никита молчал. Знал, что в минуты сестринского гнева помолчать лучше. Сейчас побушует минут пять и успокоится. Сдуется, как воздушный шарик. Еще и прощения просить будет…
– Хоть бы одним словом поддержал меня, поганец! Заладил одно: ах, как у вас красиво, ах, берег белый… Чего тебе этот берег-то дался? Жить, что ли, здесь собрался? Так давай, флаг тебе в руки! Мне меньше заботы! Если уж ты такой романтичный у нас, не выставляй меня пушечным мясом, не делай из меня прагматичную да злую сеструху! Не стал он в разговор встревать, видишь ли… Хороший и добрый мальчик… Противно ему…
Ольга замолчала, вытащила тонкими нервными пальцами сигарету из пачки, завертелась вьюном на кресле в поисках зажигалки.
– В бардачке. Как откроешь, справа, – тихим ровным голосом произнес Никита.
– Без тебя знаю! – уже без прежней злобной горячности пробурчала Ольга, прикуривая. Несколькими глубокими затяжками покончив с сигаретой, по-мужски выщелкнула окурок в окно и замолчала грустно, уперла взгляд в неожиданно выскочившее из-за леса заросшее камышом и осокой то ли мелкое озеро, то ли глубокое болото с желтыми кувшинками в самой его сердцевине. Вскоре и плотный травянисто-пропаренный запах стоячей воды теплой и навязчивой волной проник в открытое окно, заставив ее поморщиться недовольно. – Фу, дрянь какая… Не люблю деревенских запахов… Кофе хочешь, Никитка?
– Давай… – тем же ровным голосом произнес Никита, усмехнувшись про себя: вот и прошла гроза, отсверкали молнии…
Ольга перетащила с заднего сиденья себе на колени дорожную сумку, выудила из нее большой термос, налила кофе в глубокую пластиковую кружку. Осторожно протянув ее брату, спросила совсем уже другим голосом, спокойным и по-деловому озабоченным:
– Как думаешь, не подведет нас эта тетка? Странной она мне показалась какой-то. И согласилась, главное, с ходу…
– А вот это и плохо, что с ходу. Не врубилась в ситуацию, значит.
– Боишься, что передумает?
– Да запросто! Если она нормальная, конечно. Вот ты, будь на ее месте, отказалась бы от своей доли?
– Я? Ну это вряд ли… Нет, конечно же, нет… Чего это ради?
– Ну да. В наше время от денег может отказаться только ненормальный. Каждый за свой кусок смертным боем бьется. А что делать – жизнь такая.
– Ну, ты, допустим, не очень-то и бьешься. Ты смотришь, как другие за него бьются. Зато потом с удовольствием он него откусываешь. Что, не так разве?
– Ну ладно, Оль, поворчала, и хватит. Давай лучше к существу вопроса вернемся. А вдруг она и впрямь передумает?
– Ладно, не пугай меня… А может, она и есть ненормальная? Ты видел, как она на известие о смерти отца прореагировала? Больше четверти века его в глаза не видела и вдруг на ходу сломалась. Есть, есть в ней что-то странное все-таки… И совсем на нашу мать не похожа.
– А может, она и в самом деле его любила все эти годы?
– Че-го? – усмехнулась Ольга, сверкнув сбоку на Никиту холодным голубым взглядом. – Вы что, юноша, киношек сопливых насмотрелись? Бог с вами, кака така любовь?
– А вот така любовь! – в тон ей ответил Никита. – Сама не умеешь любить, так и других не учи, прагматично-циничная ты наша…
– А ты, значит, умеешь?
– А черт его знает. Может, и умею. Но четверть века не осилил бы, это уж точно. Слушай, а эта Анюта тебе как показалась? Не странной?
– Да нет… Обыкновенная девчонка. Симпатичная, и глаза у нее умненькие. Она мне даже понравилась чем-то. Да и то – сестра все-таки. Что-то есть в ней такое, будто притягивающее. Обаяние какое-то деревенское…
– А эта твоя симпатичная да умненькая не уговорит мать передумать? Обработает ее в два счета, и останемся мы ни с чем. Эх, надо было эту тетку все же с собой везти! По горячим следам, как говорится. Не надо было ей уступать…
– Ну так и не уступал бы! Чего молчал-то? Хорошо сейчас после драки кулаками размахивать! Советчик нашелся…
– Ну а если она и впрямь передумает? Чего тогда делать будем? Если с этой теткой делиться придется, то на мою одну треть никакого жилья приличного уж точно не купишь! Дом-то старый уже, да и цены у нас не московские… Тебе-то хорошо, ты у мужа живешь! А мне что прикажешь делать?
– Постой, Никитка… Это что значит, ты собрался на всю свою долю жилье покупать?
– Ну да…
– А мне тогда что делать?
– А что тебе? Ты тоже свою долю получишь.
– А маму куда? Про маму ты забыл, выходит? Дом продадим, доли благополучно поделим, а маме – фигушки? Ей, конечно, тоже какая-то доля полагается, как иждивенке, но она же смешная совсем! На нее уж точно ничего не купишь! И что тогда? Где она жить-то будет? К себе ее возьмешь?
– Да ладно, не делай из меня придурка неблагодарного, чего ты… Не будем скандалить, разберемся как-нибудь. И маме, и мне квартиры купим, и тебе достанется! Главное теперь, чтоб эта отцовская юридическая жена не передумала. Иначе точно ничего не получится.
– Да, ты прав, Никитка, не будем шкуру делить. Тем более и медведя пока мы не убили. Скандалить заранее не будем, тут ты тоже прав. И мамин вопрос еще не решен окончательно. Сам же понимаешь, просто покупкой для нее квартиры нам не обойтись…
– А что ты предлагаешь? Мне ее на руки навеки спихнуть?
– Да почему спихнуть-то? Она же мать твоя!
– И твоя, между прочим, тоже! Вот и забирай ее к себе!
– Да господи, и забрала бы! Но ты же знаешь прекрасно, у меня Игорь против…
– Урод твой Игорь. И вообще, не прикрывайся им. Забрала бы она… Знаю я, как бы ты забрала…
– Сам ты урод! А маму я действительно люблю! Я же не виновата, что так обстоятельства сложились! Мне что теперь, с мужем разводиться? От этого кому-то легче будет?
– Любишь маму, говоришь? А ты когда последний раз у нее была, помнишь?
– Ну… Ты же знаешь, как я занята! У меня день практически по минутам расписан. И я была у нее! Не помню когда, но была…
– А я вот помню. Ты три раза после похорон отцовских приезжала. И только по делу. Все бумаги какие-то ей на подпись привозила. Хоть бы показала, что за бумаги такие! Ни матери толком не показала, ни мне… Подсунула ей, пальцем ткнула в то место, где надо подпись поставить, и все…
– Потом узнаешь. По крайней мере, тебя это мало коснется. А вот насчет этой юридической тетки ты прав, пожалуй, – надо было ее с собой везти. Какая-то она не от мира сего. Я думала, ее уговаривать-пугать придется, а она сразу в лоб: где и что мне подписать надо? Нет, что-то тут не так, Никитка… Или она в самом деле полоумная, или тут какой-то хитрый расчет. Хотя на расчет тоже не похоже – глаза у нее такие… Такие… Даже слова не могу найти подходящего, черт! Какие-то очень умные, очень проницательные и очень наивные, и все это одновременно. Но ведь так не бывает, чтоб все это одновременно…
– А может, просто под дурочку косит? А? Мы вот уехали, а она соберется быстренько – и шасть к нотариусу нашему! А что? Она запросто его найдет! Тетка она, по всему видно, грамотная. Я бы на ее месте так и сделал. Она кем работает, ты не знаешь?
– Учительницей вроде.
– Это после нашего университетского филфака? Ничего себе…
– А кем она должна еще быть в этой тьмутаракани?
– Вот-вот, я и говорю… Такой ей шанс выпал из этой самой тьмы да таракани выбраться, а она взяла и с ходу отказалась! Нет, ты права, сестренка, тут что-то не так. Зря мы поторопились с отъездом. И вообще… Надо было все по-другому сделать…
– Как?
– Ну, я не знаю… Можно было просто для начала взять и пригласить ее к себе. От маминого имени, например. Якобы для восстановления порушенных родственных связей. И не говорить пока ничего про отца, про наследство… А вот когда привезли бы, тогда и говорить про все это надо было. По крайней мере, хуже бы точно не было.
– Нет, Никитка. Не надо ей ничего про маму знать. Так лучше будет.
– Почему?
– Потому! Потом скажу.
– Оль, ты чего-то насчет мамы пакостное задумала, да? Колись давай! А то поставишь потом перед фактом…
– Поставлю, Никитка. Именно перед фактом. Только этот факт тебе во благо будет. Не переживай.
– Точно пакость задумала… И что ты за человек такой, Ольга? Вроде в любви да в благополучии относительном росла, но иногда таким от тебя злым сквозняком несет, что страшно становится.
– А ты не бойся, Никитка. Тебя я не обижу. Мой сквозняк мимо тебя дует. Да и вообще, никакой он и не злой на самом деле. Он обыкновенный. Он мне дорогу расчищает от всяких глупых сомнений да обманчиво-кисельной добродетели. Он очень честный, мой сквозняк. Потому что не я придумала закон о выживании в мире сильнейшего. Ученый его один придумал, Дарвин по фамилии… Не слышал про такого, случаем? Вам на вашем биофаке про такого не рассказывали, нет?
Никита ничего сестре не ответил, поморщился только едва заметно да повел головой взад-вперед, пытаясь таким образом снять напряжение с подуставшего уже загривка. Шутка ли – вторые сутки за рулем. Правда, Ольга дает ему подремать на заднем сиденье часок-другой, сама за руль садится. Но водитель из нее еще тот. Как говаривал один юморист – обезьяна с гранатой. Нервная она очень. Все в хвосте оказаться боится, терпеть не может, когда ее обгонять начинают. Тут же срывается с тормозов. Дорога чистая ей нужна, видишь ли. И так во всем. Нет, молодец, конечно… Наверное, это и правильно, наверное, так и надо. В борьбе за свое место под солнцем все средства хороши: и холодная злость, и острый язык, и коварство – все сгодится. Все на пользу пойдет. А только иногда так по-глупому обыкновенного тепла хочется… Не заботы о его, Никитином, жизненном благополучии, а никчемного и бесполезного сытого тепла. Такого, как от маминых пирогов с капустой. Или как от старого, покрытого вытершимся пледом кресла-качалки в отцовском кабинете, впитавшего, как ему казалось в детстве, всю мудрость расположившихся на стеллажах старых, раритетных почти изданий классиков. Отец так искренне радовался, он помнит, когда видел его в том кресле с томиком Пушкина или Гоголя в обнимку…
Вот Ольга – та вообще книжек читать не любила, как отец ни исхитрялся любовь ей эту привить: и строгостью, и всякими там разными педагогическими заманухами-изысками. Заявила ему, будучи еще тринадцатилетней соплюшкой, что глотать книжную пыль да отказывать себе в исключительных удовольствиях материально-технического прогресса вовсе не собирается. И пусть, мол, ей отец даже и препятствий никаких не чинит на этом пути и младшему братишке тоже – все равно она его в «эту дохлую книжную пылюку» не пустит… Так и поперла потом по этому пути, и самый престижный в их городе политехнический институт почти с отличием закончила – чуть-чуть до красного диплома не дотянула, – и в тележку торжественно шествующего по стране нагло-юного капитализма умело впрыгнула, и замуж за начинающего расчетливо-занудного банкира выскочила. Правда, банкир этот так и застрял в разряде начинающих да подающих надежды, чего-то не связалось у него там, на светлом капиталистическом пути, по добыванию барышей со сказочными нулями. То ли расчетливость с занудностью не связалась, то ли наоборот… Потому, наверное, и из него, из братца родненького, принялась сестрица лепить с упорством да остервенением что-то крепко-мужское и для добывания этих барышей удобоваримое, и на бедный его умненький биофак ополчилась, как пантера, еще и по несчастному Дарвину ерничеством своим прошлась-процарапалась…
Нет, зря-таки он с детства на поводу у нее идет. Лучше бы в том отцовском кресле подольше засиделся. Теперь уж ничего назад не воротишь… Он вообще отца очень любил. И кабинет его любил, и книги, и долгие тихие беседы о высшем-тонком-философском, и упорную его романтическую несовременность, и даже имя любил. Такое же, как у Чехова, – Антон Палыч. Наверное, и внешне отец похож был бы на старого Чехова, доживи тот в свое время до его преклонных лет…
Глава 3
Хозяйка-ночь на цыпочках вошла к ней в настежь распахнутое окно, бросив на произвол судьбы легких своих музыкантов, которые, впрочем, и без нее прекрасно справились, выдавая волшебные звучания июльской ночной колыбельной: и цикады так же старательно наигрывали на тоненьких своих скрипочках прежнюю, навсегда установленную природой мелодию, и листья старой груши пришептывали к ней что-то ласковое, и ветер шелестел травой и цветами, пытаясь вслед за ночью ворваться к ней в окно. По-хорошему, надо бы спать лечь, конечно, да только бесполезное это занятие. Все равно не уснуть. Пролежишь с закрытыми глазами до утра, дожидаясь желанного провала в небытие, – и ничего, устанешь только. Лучше уж пойти пройтись рука об руку с этой ночью, тем более она и не против такой прогулки…
Тина на цыпочках вышла в прихожую, тихо открыла входную дверь, похвалив себя за недавний хозяйский жест – собралась-таки наконец смазать маслом старые ржавые петли, отчего они ей в благодарность не скрипнули теперь противно да не порушили сна Анюты с Сонечкой. Хотя чего уж себя так сильно хвалить – подумаешь, петли смазала. Героиня. Вот если б она удосужилась к пенсии дом отремонтировать – это да. Это был бы подвиг настоящий. Старый уже дом-то. Родительский еще. Хотя вот Митенька считает, что он еще сто лет простоит. А Митеньке можно верить, он парень в этих делах соображучий да рассудительный. Весь в Тининого отца, то есть в деда своего, пошел…
Про отца Тининого, Петра, в Белоречье говорили: не мужик, а клад. Хозяйственный был, хоть и неказист с виду. Зато сметливый да к детям своим добрый – все никак вторую жену в дом не мог привести, потому как ни одна не подходила по статьям добропорядочной честной мачехи. Да и из желающих принимать на себя такую ответственность по отношению к троим чужим детям мал мала меньше тоже, если честно сказать, очередь за воротами не стояла. Вот и справлялся отец один, как мог. Тина ему помогала, конечно. Когда мама в третьих родах умерла, ей уж десять лет было. Готовая почти нянька для родившейся только Машеньки да пятилетнего уже Алешки. Хотя ни ростом, ни статью особой не вышла – худа была, как ивовый пруточек. Соседка тетя Таня только слезами обливалась, через забор взглядывая, как Тина упитанно-справную годовалую Машеньку на руках таскает, девчачьим неокрепшим еще станом назад сильно прогнувшись. По тогдашней-то моде звонкие-тонкие девчонки не в чести были… Зато лицом Тина прехорошенькой вышла – кожа нежная, носик пряменький, аккуратный, рот улыбчивый, глазищи на пол-лица сияют изумрудной зеленью да наивной к миру восторженностью. И нога под ней быстрая оказалась – так ловко туда-сюда по хозяйству бегала, что успевала и уроки делать, и книжки запоем читать. Правда, читала не все подряд, здесь у нее внутреннее чутье срабатывало – слышалась ей в каждом прочитанном тексте своя музыка. Так порой заиграет натужно-фальшиво, что тут же книжку закрыть хочется да плечами передернуть. Бывало, что и никакая музыка не слышалась в прочитанном – скучно до смерти. А бывало, с первой строчки взовьется на тонкой пронзительной ноте да так зазвучит, будто и не на земле живешь, а влетаешь в открытую для тебя одной на небесах дверцу и плаваешь там, пока от книжки не оторвешься…
Так Тина и провела свою раннюю школьную юность в суете по хозяйству-воспитанию да в запойном этом чтении-музыке. Летала туда-сюда легко, как перышко на ветру, везде находя для себя удовольствия. Вбирала в себя эту музыку и летала, и все у нее в руках ладилось в течение каждого долгого да хлопотливого дня. А вечерами, уложив сестренку с братом спать, снова садилась за книжку, чтоб проплыть душой по знакомым уже классическим строчкам сложного и в то же время до прозрачности понятного Толстого, нежно-грустного Куприна, своеобразного и упорно затягивающего в себя Лескова, особенно любимого ею Чехова… Ей и самой странно было немного, отчего это Антона Палыча она полюбила больше всех. Может, музыка его текстов была какой особенной? Умной и грустной? А может, и у нее внутри есть своя музыка, которая вот так взяла и приняла музыку чеховского языка, как родную? Тине казалось даже порой, что Антон ее любимый Палыч вовсе не обосновался навсегда-навеки в строгом ряду изучаемых школьных классиков, а живет где-то рядом, и можно даже написать ему письмо или увидеть по телевизору, например… Да и все рассказы-повести его, ей казалось, живут современной жизнью. Ничего ведь не изменилось! И пошлости, так тонко писателем осмеянной, кругом полно, и злоба обывательская никуда не делась. Нет ничего в чеховских текстах такого уж сильно устаревшего, из другого времени взятого. А главное – Тина особенно остро это чувствовала, – нет там натужного и лихорадочного «придумывания», чем грешны писатели современные. Она чувствовала, не придумывает ничего любимый писатель «от себя», не изображает того, чего нет на свете. Не врет, в общем. И потому герои чеховские представлялись ей настоящими, живыми, реальными людьми, образованными и хорошо воспитанными, старательно ищущими свою правду времени. Ей даже казалось, что они непременно должны жить где-то. Может, в больших городах. Может, в поселках. И ничего, что в Белоречье таковых нет. Все равно они живут! А по-другому и быть не должно…
В общем, Чехову Тина верила безоглядно. И несла в себе эту веру бережно, как носят некую тайну, о которой и рассказать-то никому нельзя. Потому что обзовут глупой фантазеркой, не поймут… Или того хуже – обсмеют напрочь. Да и зачем рассказывать? Можно ведь просто в сочинении об этом написать. Учительница-то школьная, Александра Федоровна, ее всегда поймет-услышит…
Александра Федоровна, слава богу, действительно ее понимала. И слышала. И потому постаралась, конечно же, принять посильное участие в судьбе своей необычной ученицы. Что ж, иногда мы действительно не понимаем, что собственными руками творим чью-то судьбу, исходя из самых лучших своих побуждений…
«У вашей девочки, Петр Афанасьевич, особое чувство языка, талантливое очень, – внушала на школьном родительском собрании покрасневшему от удовольствия Тининому отцу старенькая Александра Федоровна, заслуженная во всех ипостасях учительница литературы. – Его всячески развивать надо, понимаете? Она вот мне реферат по творчеству Чехова написала недавно такой, что зачиталась, ей-богу! Оторваться не могла! Это редкий дар, знаете ли, так писателя слышать. И чувство языка у нее врожденное – не может ни одной орфографической ошибки сделать просто по определению, даже если сильно постарается. Ей, знаете ли, надо обязательно на филфак поступать! И обязательно в какой-нибудь очень хороший университет. Я подумаю в какой… Конечно, она у вас первая в хозяйстве помощница, но все равно вы, как отец, должны ребенка понять и поддержать всеми силами и родительскими возможностями…»
Отец понимал, конечно. Приходил со школьных собраний домой, садился напротив, долго смотрел в дочкины яркие зеленые глаза. Грустно так смотрел, задумчиво. Потом протягивал заскорузлую руку с коричневыми от дешевого табака пальцами к синенькому чеховскому томику в ее руках, с испуганным благоговением щурился в незнакомые книжные строчки и проговаривал робко и потерянно:
– Слышь, Тиночка, ты это… Учительница говорит, у тебя вот чувство какое-то там особенное имеется, я и не понял толком. Говорит, тебе в этот… Как его… В университет какой-нибудь надо обязательно попасть. В общем, ты давай начинай как-то себя снаряжать помаленьку. Наряды какие-никакие пошей, что ль… А потом и пальтишко тебе справим новое, и сапожки… Чтоб все, как полагается…
– Да как же, пап! – сверкала на него изумленной зеленью глаз Тина. – Какой университет, ты что? Вон у нас тут педучилище есть, туда и поступать буду! Еще чего выдумал…
– Нет, дочка. Ты давай и не рассуждай даже. Поедешь, и все тут. Куда учительница скажет, туда и поедешь.
– Да никуда я не поеду! Как ты тут без меня будешь? Ну ладно Алешка, а Мисюсь как?
– А что Мисюсь? Пойдет в школу, как и все дети…
Отец и сам уже не помнил того момента, когда вслед за Тиной стал называть младшую свою дочку этим забавным именем – Мисюсь. Тиночка, правда, ему растолковала потом, что у писателя Чехова рассказ такой есть – «Дом с мезонином» называется, – и в том рассказе барышню одну так все любовно называли. Правда, в жизни она звалась по-другому совсем, но и к маленькой Машеньке это странное имечко тоже довольно быстро прилепилось и легло на язык основательно. Звучит-то как хорошо – Мисюсь… Будто жалостью да любовью по сердцу царапает. Оно и действительно царапало. Жалко было девчонку. А как иначе – без материнской ласки росла. Может, потому и тряслись они над ней, как над хилым цветочным растением, – и обласкана была, и кусок самый лучший ела, и баловства всякого на нее сваливалось побольше, чем на детей в других семьях. Вот и получилась девчонка своевольной, изнеженной да капризной. Одно слово – Мисюсь…
– Пап, да я боюсь, ты с ней не справишься один. Маленькая она еще. А это лето пройдет – и ей уже в школу идти! Как же? Это ж не просто все – первый школьный год для ребенка. Закапризничает – что делать будешь? Ты и слова-то громкого сказать не умеешь… Нет-нет, никуда я не поеду, пап!
– Нет, ты даже не думай об этом, Тиночка. Если понадобится, и слово скажу. И в школу пойдет так, как все дети ходят. Да и Алешка уже подрос, помогать будет. В общем, решено – поедешь учиться, и весь сказ. Раз надо – значит, надо. И не спорь, дочка. Я так решил – и все тут!
Она тогда проплакала, сидя на крыльце, почти всю ночь. А потом вот так же гулять пошла – спустилась по деревянной, отполированной за много лет дождями да ветрами хлипкой лестнице к реке, потом по тропинке к берегу, потом побрела вдоль кромки тихой воды по белому песку – и так до речного крутого изгиба, образующего собой аккуратненький, с морской картинки будто срисованный пляжик с самыми настоящими, врытыми в песок южнокультурными топчанами. Что ж, ничего и не изменилось с тех пор. Так же бежит по воде желтой дрожью лунная дорожка, так же отсвечивает белой плотной прохладой песок-ракушечник, так же гукает вдалеке ночная сова, неся свою бессонную лесную службу… Красивое место. И село у них красивое – большое, чистое, будто звонко-цветное все, удачно расположившееся на взгорке перед рекой, с золотисто-голубой маковкой белой церкви посередке да утонувшее в вековых раскидистых липах. Сейчас, правда, обветшало порядочно, и много домов брошенных стоят, зияют пустыми грустными глазницами… А что делать – времена для всех наступили не лучшие. Испугались люди этих времен, многие в город рванули, сытой-богатой жизни искать. Как будто искать ее там, кроме них, больше и некому. Жалко, конечно. Жалко, если пропадет эта красота ни за что ни про что. И места вокруг красивые – лесные да пряно-луговые, грибные да ягодные. Вроде живи не хочу. И ей вот не надо было тогда уезжать отсюда, наверное. Может, и по-другому как бы судьба сложилась. А что? Вот какая, в сущности, скажите, разница, откуда Чехова Антона Павловича любить – из большого какого города или из села по имени Белоречье? Никакой такой разницы нет. Осталась бы, вышла б замуж за Леню…
При воспоминании о Лене губы сами собой растянулись в добрую улыбку: хорошего мужика она все-таки дочери в отцы «приспособила» – так уж получилось тогда, четверть века назад. Могла бы и в мужья так же запросто «приспособить», да сама с собою не справилась, не сумела из себя выжить-вытравить любовь к своему бывшему мужу. К юридическому, как сегодня дочка его, эта самая Ольга, выразилась. Ее, выходит, родная племянница. Так и прожила с нею, со своей невытравленной любовью, как с белой невидимой тенью рука об руку все эти долгие годы… И Леню намучила порядочно…
Леня Андреев был ее одноклассником. И лучшим другом. И любил ее очень. Самой настоящей и пылкой юношеской любовью, которая на жизненную поверку всегда оказывается сильнее всех Любовей последующих и о которой вспоминается потом со щемящей тоской в сердце. Все школьное детство-юность Леня всегда был рядом – возникал будто из-под земли Сивкой-Буркой, не надо было и сказочных заклинаний произносить. А еще рядом была подружка сердечная Полинка, по обязательному закону школьного треугольника безнадежно в Леню влюбленная и тихо-безотрадно от этой любви страдающая. Девочка она была скромная и худенькая, безликая почти, никакими особенными достоинствами не примечательная. Серенькая такая мышка, тишайшая молчунья-троечница. Так они втроем и дружили, если дружбой можно было назвать постоянное средоточие всей их троицы в Тинином доме, в суете-помощи по хозяйству да няньканью с маленькой Мисюсь. Леня, Тина помнит, и дров наколет, и воды принесет, пока они с Полинкой с пеленками да детскими кашами-обедами управляются. А потом и на уроки ей время выделит, потому что школу Тине, пока Мисюсь была совсем еще крохой, посещать приходилось лишь от случая к случаю, а предметы сдавать чуть ли не экстерном. Благо учителя ей это, войдя в положение, милостиво разрешали, скрепя сердце и наплевав на страхи перед всякими от государственного образования строгими проверками. А что – в те времена вольности-безобразия такие вообще были под строгим запретом, и как Тина с отцом смогли обойтись без вездесущего носа чиновников от опеки и всякого-разного рода попечительства, так и осталось для них загадкой… Потом, правда, полегче стало, когда Мисюсь в годовалом уже возрасте удалось в ясли пристроить. Тина и в школу стала ходить каждый день, и времени на уроки побольше образовалось. Но привычка к дружбе-помощи у всех троих так и осталась. По-прежнему Леня с Полинкой пропадали у Тины в доме. Правда, время появилось у Тины также и для того, чтоб заметить, какими грустными, подернутыми поволокой глазами ее тишайшая подружка-троечница смотрит иногда на Леню… Но разговоров никаких «про чувства» среди них не заводилось. Дружили, и все. Это уж потом, в девятом только классе, Леня ей в любви по-настоящему признался. Смешно так! Стоял перед ней и обрывал лепестки с принесенного ей же букета розовых мохнатых астр. Потом, она помнит, посмотрели они себе под ноги и расхохотались дружно – все вокруг них было устелено розовым этим покрывалом…
Полинке она тогда про Ленины открывшиеся чувства ничего не сказала. Да и зачем? Чего ей зря сердце бередить, и без того оно безответной этой многолетней любовью напрочь израненное. Да и в глазах такая мука да серость безысходная плещется, что и глядеть в них больно. Такой вот у них тогда грустный треугольник получился. Тина и рада была подружке чем помочь, да как тут поможешь? Чужими чувствами ведь не распорядишься, не заставишь Леню по доброте душевной подружку полюбить, чтоб зажглись ее грустные глаза радостью… Правда, один раз и впрямь глаза у Полинки зажглись, сверкнули ярким счастливым блеском некоей надежды. Нет, Тину Полинка очень любила, конечно же. Но глаза все равно зажглись, когда объявила ей Тина о скором своем отъезде в тот самый город, старательно выбранный для ее университетского образования заботливой Александрой Федоровной. И не зря, видно, зажглись. Потому что Тина после учебы да в течение ее случившегося замужества домой так и не вернулась, и со временем достался Полинке вожделенный Леня в самые настоящие законные мужья. Юридические. И фактические тоже. После окончания медицинского института в областном их городе Леня вернулся в родное Белоречье – сначала чтоб интернатуру закончить, как и полагается, а потом и насовсем остался. Вообще, конечно, оставаться он поначалу не собирался, все хотел туда поехать, куда Тину пошлют после университетского распределения. Об этом ей и в письмах писал. Несмотря на то даже, что ответы на письма уж год как перестал получать… А потом Полинка принесла ему грустную весть: не жди, мол. Вышла Тина замуж, в Белоречье никогда не вернется. А в доказательство даже письмо представила, в котором таким милым, таким дорогим его сердцу Тининым почерком было написано, чтоб она, Полинка, эту весть как-нибудь мягко да не обидно Лене преподнесла. Пожалела, значит… Ну что ж, и Леня дал ответ этой Тининой жалости вполне достойный – взял да и женился на Полинке с ходу. Все честь по чести – и со сватовством, и с шумной свадьбой. А чего в самом деле – не пропадать же Полинкиной любви зазря… Вскоре и сына молодая жена ему родила. Может, и прожили бы всю жизнь, как все люди живут, под одной общей крышей, если б Тина снова в Белоречье не объявилась. Как холодный снег на бедную Полинкину голову. Как угроза всем ее юридическим да фактическим статусам.
Как испугалась тогда бедная Полинка этого неожиданного явления, только она одна и знает. А как тут не испугаешься – Леню-то сразу будто подменили… Вроде тут был, и нету. И сразу, казалось Полинке, побег он замыслил из этих своих юридических да фактических статусов. Да чего там замыслил – уж точно бы его совершил! Вот только, слава богу, они ему этого не позволили. Ни Тина, ни Полинка. Не приняла его к себе Тина, потому и побег Ленин из семьи не состоялся. Не приняла вопреки тому даже обстоятельству, что родилась через два года у Тины от Лени дочка и что на признании законного своего отцовства он настоял силой – это уж надо было его упрямый характер знать. И отцом для Анютки стал замечательным – любящим, заботливым, понимающим. И общался-воспитывал, как хорошим отцам и полагается, не от случая к случаю, а ежедневно да кропотливо-ненавязчиво, вызывая на первых порах страшное недовольство таким обидным положением дел законной своей жены. Но постепенно и Полинке пришлось с этим честно-порядочным его отцовством смириться, и все они как-то за прошедшие годы попривыкли к нему… Но Тина всегда знала, всегда чувствовала – любит ее Леня по-прежнему. Как раньше. С той же самой юношеской пылкостью. Потому что как в глубь себя эту любовь ни запрятывай, она все равно изнутри светится и управляет невольно всей твоей жизнью, сотворяя из нее внутреннее тихое счастье, несмотря на внешние всякие горькие обстоятельства. И если уж по этому безответному принципу судить, то всяк, получается, из их прежней и дружной троицы счастлив был по-своему: Тина – своей несостоявшейся университетской любовью, Леня – своей несостоявшейся белореченской, а бедная Полинка – тем обстоятельством, что не отняли у нее мужа навсегда-навеки…
Постояв немного у самой кромки воды, она медленно повернула назад, пошла тем же путем обратно к дому, оставляя на белом прохладном песке маленькие и аккуратные, будто детские, следы. Поднимаясь уже по лесенке к дому, увидела голубой свет ночника в окне Анютиной светелки. Не спит дочь. Читает, наверное. Вот же заразила она ее с детства этой потребностью! Нет чтоб другому чему научить, более к реалиям жизни приспособленному… Сейчас такие вот читающие девушки и невостребованы, получается. Она и сама уже сколько раз наблюдала за тем, какие недовольные взгляды бросает в Анютину сторону ее муж, прагматичный и деловой молодой адвокат, когда видит жену уткнувшейся в книжку…
Глава 4
Анюта и в самом деле не спала. Все не выходил из головы последний разговор с Олегом, оставивший после себя непонятное чувство – то ли обиды, то ли досады. И вроде ничего он такого обидного да досадного не сказал, пока ехали они на машине сюда, в Белоречье, из города…
– Слушай, Аньк, а мать твоя на пенсию пойдет или работать будет? Ты с ней на эту тему не говорила?
– Нет… А что?
– Да так… Ты спроси на всякий случай…
– Зачем? Не понимаю…
– Как зачем? Если она работать больше не собирается, пусть поможет дочери! У тебя же сейчас такой возраст – самое время за что-то уцепиться!
– За что уцепиться? – снова непонимающе моргнула длинными ресницами Анюта. – И при чем здесь мама?
– При том! При том, что с Сонечкой сидеть запросто может! А ты бы на работу пошла…
– Олег, да ты что?! Она же кроха еще совсем! Грудная…
– И что? Сейчас вообще грудью уже никто своих детей не кормит! Вчерашний день… Мир вперед бежит со страшной скоростью, а ты, как боттичеллиевская красотка, глупо так на все это умиляешься… Отстанешь от жизни, Анька! Потом спохватишься, да поздно будет!
– Олег, ты что… Нет, я не понимаю… От какой такой жизни я отстану?
– От обыкновенной, какой! Надо же кем-то становиться, надо же как-то начинать самоутверждаться! Надо же деньги зарабатывать, в конце концов!
– Деньги? Нам что, не хватает денег? У нас же все есть, Олег…
– Да я не в этом смысле, Ань! Конечно, нам хватает. Я в том смысле, что вперед надо двигаться, понимаешь? Не в деньгах, как таковых, дело, а в стремлении их получить! Это как спорт такой – кто чуть опоздал, тот уже в аутсайдерах… А ты в этих самых аутсайдерах запросто можешь оказаться! Ты давай поговори с мамой. Может, она и впрямь Сонечку к себе возьмет? А я бы тебе хорошее место подыскал… У тебя же специальность классная – дизайнер! Да на этом поле сейчас такие дублоны в землю зарыты…
– Нет, Олег. Не буду я с ней говорить. Она-то что, она, конечно, согласится и слова против не скажет. Просто мне ребенок мой дороже, чем самая большая куча отрытых из земли дублонов… Сонечке любовь сейчас материнская да отцовская нужна, а не дублоны твои. Нет, нет и нет…
– Ну и дура…
– Что?!
– Ой, да прости, Анька. Я же как лучше хотел. Вот убей меня, а не понимаю я этих ваших «любовь-нелюбовь»… Нормальный здоровый ребенок – чего его около груди-то держать? Меня вон родители с пяти месяцев в ясли отдали – и ничего! Вырос, слава богу, не дураком. И мать моя теперь мной гордится…
Анюткина свекровь, это было правдой, сыном своим ужасно гордилась. И все время поощряла его на еще большие подвиги во имя этой материнской «гордости», приводя в пример чужие головокружительные карьеры. Так сильно поощряла, что Анютке порой очень хотелось остановить ее, объяснить, чтоб пожалела она сына, наконец. Объяснить про тонкую эту и ранимо-дрожащую связочку под названием «мать-дитя», которую потяни этой потребностью в «гордости» посильнее, и она тут же и оборвется, и заставит сразу страдать обоих. Потому что нельзя, чтоб тобою только гордились. Надо еще и любить уметь. А не заставлять своего ребенка «гордостью» за него выслуживать изо всех сил эту любовь. Так он и сломаться может в одночасье…
Ничего такого Анюта ни разу, конечно же, ей не сказала. Сама она любила мужа за так, ни на какие карьерные подвиги его не поощряя и тем самым навлекая на себя крайнее свекровино недовольство. Но особо по этому поводу не грустила, потому что где ж вы такое видели вообще, чтоб свекровь своей невесткой довольна была…
– …Так что ты подумай хорошо, Анька, я дело говорю! Не собираешься же ты с Сонечкой до трех лет сидеть? Чего с ней сидеть-то? Тем более такой момент – мать на пенсию вышла. Мне-то что в принципе… Я просто о тебе забочусь. Ты ведь не чужая мне, жена все-таки. Мама моя тоже на пенсии, конечно, но сама понимаешь – нянька из нее никакая. Не умеет она этого. Она и со мной никогда не сюсюкала в детстве. Я ее и не видел почти – все на работе пропадала…
Она не нашлась даже, что ему и ответить. Со стороны получалось, что прав Олег. Вроде трогательную заботу о ней проявляет. А только не склеивалось у нее внутри что-то, не принимала душа такой заботы, отторгала ее начисто. Прав он был и в вопросе насчет «вовремя зацепиться» – скоро учебные заведения, расчухав возросшую потребность нового времени в услугах всевозможных дизайнеров-декораторов, и впрямь наштампуют их целую армию. Всяких. И способных, и не очень. Вообще, профессию свою, в пятилетних институтских трудах с удовольствием освоенную, Анюта без ума любила, и студенткой была одержимой, старательной и не совсем уж и бесталанной – прочили ей и преподаватели, и сокурсники большое и светлое будущее на этом художественно-трудовом поприще. Даже и сейчас – больше во сне, конечно, – придумывались-рисовались, рождались в смутных ее мыслях неопределенные детали какие-то, цвета, интересные сочетания… Или вдруг само собой навеет что то ли из прочитанной книжки, то ли из воздуха, то ли ветром принесет… Очень, очень хотелось навеянному этому душу до остаточка навстречу распахнуть, уйти в праздничное состояние всей своей человеческо-творческой сутью… Да только не могла она. Чувствовала – нельзя пока. Потому что суть ее сейчас принадлежала Сонечке и нельзя было от нее оторвать на другое ни кусочка. Раз уж назвалась матерью – отдайся этому сполна, пока дитя любви твоей целиком требует. Не разменивайся, не лишай его того, что природой ему, и только ему пока положено, несмотря ни на какие навеянные искушения… Да и вообще, не получалось у нее как-то связать в одно целое творческие свои ветры и приносимые от их будущей потенциальной реализации «дублоны». Глупо, конечно, но не получалось. И объяснить этого Олегу она не могла. Оскорбляли каким-то образом Олеговы думы о дублонах ее творческие ветры. И вся его каждодневная суета на трудной дороге к вожделенному обогащению их оскорбляла, и ничего она с этим не могла поделать… Хотя, может, насчет потенциального ее женского аутсайдерства Олег и прав был. Прав, потому что время вынесло впереди себя флагом именно такую вот женщину – ни в чем не сомневающуюся сильную добытчицу, монстра в стильных нарядах, почитающую себя громким званием «леди» потому только, что сумела холодно вытравить из себя и Наташу Ростову, и тургеневскую Асю, и чеховских героинь, так сложно-изысканно внутренне устроенных… Прав, конечно. Только правда его трусливой какой-то получается. Потому что совсем не обязательно для женщины быть флагом. Многие флагом этим быть вовсе не хотят. Как говорится, красиво жить не запретишь, но и не заставишь. Хорошее выражение. Целостное. И семья у них тоже хорошая. Тоже целостная. А только само собой получилось как-то, что растащили они это выражение по двум частям. Первая его часть осталась у Олега, а вторая, выходит, у нее. Обидно, черт…
Хотя, если уж честно признаться, был и другой еще человеческий фактор, заставивший Анюту после разговора этого серьезно о самой себе задуматься. «Фактору» этому исполнилось уже три с небольшим месяца, и он изредка давал о себе знать то подступившей неожиданно к горлу тошнотой, то головокружением, а то и острым желанием впиться зубами в соленый огурчик, прыщавый и хрусткий, такой именно, какой водится только в погребе этого большого дома, где прошло ее счастливое детство, и нигде более… Из разговора же с мужем выходило, что «фактору» этому он вроде как совсем и не обрадуется, поскольку застрянет Анюта теперь уж надолго в категории несчастнейших аутсайдеров, ничего решительно в жизни не добьется да только время свое зазря потеряет. Потому и пребывала она в полной растерянности, которая заключалась вовсе не в сомнениях по поводу рожать или не рожать. Этот вопрос она для себя решила, конечно же, в пользу ребенка. Растерянность ее была другого совсем рода – не принимала она странного и непонятного, вдруг таким резким мужским прагматизмом открывшегося отношения ко всему этому горячо любимого мужа Олега. Одно дело – на словах обо всем этом, ничем не обязываясь, пикироваться, а другое дело – перед фактом ставить. Вернее – перед «фактором»…
Познакомились они давно, на стихийно-студенческой вечеринке, которые образовываются как-то вдруг, ниоткуда, ни с того ни с сего, рождаются из запаха жарящейся на кухне задрипанного общежития картошки или из бутылки принесенного кем-то вина, одной на десятерых, и постепенно перерастают в необузданное веселье с танцами в коридоре, с мгновенными вспышками молодых желаний за наспех закрытыми дверьми комнат и всякими другими глупостями, совершать которые так приятно бывает в молодости. И они с Олегом оказались из тех, которым веселье это человеческое не чуждо, и их не обошла стороной эта вспышка-любовь, которая не знает никаких правильных да ханжеских условностей и своевольно берет свое, природное, молодое-хмельное-горячее…
С той памятной вечеринки они уже и не расставались. Потихоньку потребность молодых организмов друг в друге перешла в совместное модно-гражданское сожительство на съемной квартире, а потом, когда дипломы были получены и чувства, как им казалось, были уже проверены вдоль и поперек трехлетним бок о бок проживанием, уже и свадьбу настоящую сыграли. Мама Олегова, Тина да Леня поднатужились-поднапряглись, купили им квартиру в городе – маленькую, правда, и на окраине, но все ж таки свой собственный угол… Анюта помнит, как Олег, обходя свои новые неказистые владения, все повторял и повторял с довольной улыбкой:
– Как классно, Анька! У нас хата своя… Убогая, правда, ну да это ничего! Мы с тобой еще развернемся, мы отсюда быстро выскочим, вот увидишь! У нас с тобой классная квартира будет, элитная, в самом престижном районе… А в Белоречье, у мамы твоей, дачу себе обустроим. Далековато от города, правда, ну ничего. Зато места красивые. Ваш дом снесем, коттедж там зафигачим…
А потом родилась у них Сонечка. Олег был рад, страшно рад! Много работал, домой приходил усталый, рассказывал ей долгими вечерами про свою не очень денежную пока адвокатскую клиентуру да все вздыхал – вот бы свою фирму открыть…
– Представляешь, Анька? Откроем контору под названием «Юридические и дизайнерские услуги»! А что? Звучит необычно… Какую-нибудь еще фишку придумаем, чтоб клиента богатого заманить… Вон однокашники мои – все круто вперед рванули! Вернее, те, у которых стартовый капитал есть. А я сижу и на дядю работаю! Дела выигрываю, а процент хреноватый. Такое зло иногда берет – аж мозги от досады чешутся…
– Не знаю, Олежка… – пожимала она удивленно плечами. – Мне кажется, нам хватает…
– Ну да, хватает! Конечно же, хватает! На плебейские потребности – оно конечно! А только я не хочу вот так вот всю жизнь прожить. Мне много надо, Анька! Чтоб машина была дорогая, а не задрипанная «девятка», чтоб квартира в двух уровнях, чтоб дача огромная… И я знаю, знаю, что у нас все это непременно будет! Иначе в жизни никакого смысла нет.
– Так уж и нет?
– Конечно, нет! А ты что, по-другому думаешь?
– Да ни о чем таком я пока не думаю! – легкомысленно отвечала ему Анюта. – Ни о чем, кроме кормления, купания да на свежем воздухе гуляния!
– Молодец, Анька. Хорошей матерью оказалась. Это радует, конечно. Но материнство, оно ж дивидендов не приносит. Всякая женщина – она уже по природе мать. Это ж само собой разумеется. А вот ты еще и самоопределиться при этом попробуй да карьеру себе сотворить! Вот это будет да! Это, конечно, не всякая сможет. Конечно, оно всегда легче – за материнством своим спрятаться… Но это удел женщин слабых, я считаю. Ведь так, Анька?
– Да, конечно, так, Олежка! Кто ж против того, чтоб в жизни самоопределиться? Никто и не против! Всему свое время есть. И для материнства, и для самоопределения… А только сваливать все в одну кучу никак нельзя.
– Ты так серьезно считаешь?
– Ну да…
– Что ж, твое дело. Хочешь вязнуть в кормлениях да купаниях – вязни, конечно. Только способностей твоих жалко. Все ж говорят, что ты у меня талантливая…
В общем, жизнью своей Анюта, по большому счету, была очень довольна, несмотря на прилетающие время от времени и старающиеся затянуть ее в свой омут творческие позывы. Особо старательно от себя она их и не отгоняла, конечно, складывала потихоньку в самый потаенный уголок подсознания, чтобы достать потом в нужный момент. Но момент этот, выходит, еще оттянуть придется на неизвестное время…
Только вот как теперь Олегу об этом сказать после вчерашнего дорожного разговора? Завтра он уже приедет за ней, и надо сказать… Фу, как нехорошо! Чего это она будто заранее прощения просит? Да за что?! Она же решила, что оставит этого ребенка! И не решила даже, а так сразу почувствовала. Но ребенок-то этот общий, и надо, чтоб Олег о его существовании знал…
Можно было бы с мамой, конечно, на этот счет посоветоваться, и она уж наметила было совещание это на сегодняшний вечер, да не получилось ничего. Нельзя сейчас к маме за советами лезть. Не до того ей. Такие вести не каждый день к человеку приходят – взяли и обрушили ей на голову эти неизвестные родственнички новость о смерти человека, которого мать любила всю жизнь, и смылись, собой довольные…
Вздохнув, Анюта поднялась с постели, выглянула в ночное открытое окно. Взгляд задержался на одинокой, бредущей вдоль белого речного берега женской худенькой фигурке, и сердце тут же дрогнуло от дочерней любви и жалости – вот всегда ей почему-то хочется мать защитить, будто она ребенок малый да кем-то обиженный. Почему – и сама не понимала. Мать сроду ни в какой такой защите не нуждалась, была человеком своеобычным, со своим собственным взглядом на жизнь и на свое в ней законное место. Никогда она несчастной мать не видела, и откуда оно только взялось, это чувство…
Постояв немного над вкусно-сладко сопящей Сонечкой, Анюта накинула на себя Митину рубашку и вышла во двор навстречу матери. Та уже входила через маленькую заднюю калитку, стараясь не скрипеть петлями, обернулась к дочери, вздрогнула:
– Ой, Анют! Ты что не спишь? Напугала как…
– А ты что одна ночами гуляешь?
– Да так, пройтись захотелось. Рекой подышать. Да и не спится…
– Тебя эти родственнички расстроили очень, да? Свалились как снег на голову…
– Да нормальные ребята, Анют! И на Мисюсь так похожи… Особенно дочка. Она такой же красивой была. Хотя почему была? И сейчас, наверное, тоже красивая. А Никита очень на Антона похож. По крайней мере, внешне. Только взгляд у него другой. Равнодушный какой-то. Будто ничего ему в этой жизни уже неинтересно. Странно, правда? Молодой вроде парень…
– Мам, а что ты решила? И впрямь, что ли, поедешь от наследства отказываться?
– Поеду, Анют. Раз просят, поеду.
Они замолчали, стоя рядом плечом к плечу и вглядываясь в привычный обеим с детства пейзаж – река тихо и торжественно несла мерцающую ночную воду среди белых своих берегов. Медленно так несла, ни на что будто не отвлекаясь. Анюте подумалось вдруг, что пейзаж этот давно уже стал для них неким сложившимся человеческим образом, присутствовало в нем что-то завораживающе-живое, когда на него ни смотри, хоть днем, хоть ночью. Веяло от него скрытым достоинством природы, вечности, мудрости, простой правдой жизни. Будто призывала их река к такому же достоинству, к такой же вот простой правде…
– Мам, а может, ну их, этих родственничков? Не ездила бы ты никуда. Сами со своим наследством разберутся. Обязана ты им чем? По-моему, это они тебе все обязаны…
– Чем это? – тихо откликнулась Тина.
– Ну как чем? Сестре ты мужа уступила? Уступила. Я так понимаю, ты сама тогда добровольно в сторону отошла. Хоть и любила его очень. А брату своему сына воспитала. Это вообще подвиг, между прочим! Митька же тебя за родную мать считает, как ни крути. Дядя Алеша-то, братец твой драгоценный, как отдал тебе его по молодости, так и успокоился – пристроил-таки дитя в хорошие руки. И не помог даже ничем. Так и живет теперь, как ветер, перебирается от одной бабы к другой…
– Нет, Анютка, насчет Алеши ты не права. Он пытался Митю сам растить. Он же не виноват, что с мачехами ребенку не везло. Да я и сама рада была, что Митенька с нами остался!
– Да ладно, мам. Знаю я тебя – всегда всему оправдание найдешь. А на деле-то получается – обманывают же тебя! Пользуются твоей добротой… И в школе дети тебя обманывают… Ты что, не видишь этого? Не чувствуешь?
– Ну почему же не чувствую, дочь. И вижу, и чувствую.
– А почему никогда не сопротивляешься? Надо же бороться как-то за свое достоинство! Нельзя же все время в обманутых ходить!
– А чего за него бороться? Мое достоинство всегда при мне. Я-то ведь никого не обманываю. Никому не лгу, никем не манипулирую корысти своей ради… Мне так жить лучше, понимаешь? Пусть за свое достоинство тот беспокоится, кто все это радостно проделывает и себя при этом умным да ловким считает. Если человек счастлив от своих же пакостей, ему стоит только посочувствовать…
– Ну так ты хотя бы вырази это ему сочувствие! Вслух! Обломай ему кайф! Знаю, мол, что вы меня сейчас обманываете, и выражаю вам по этому поводу свои глубочайшие и искренние соболезнования…
– Нет, дочка. Зачем? У каждого свои в жизни радости! По мне – лучше быть мудрым да молчаливым обманутым, чем радостно хамящим обманщиком.
– А что, мудрым и необманутым нельзя быть?
– Нет. Для того чтоб быть необманутым, все время воевать надо. А на войне мудрость запросто растерять можно. Израсходуешь на эту войну все свои человеческие эмоции да силы, которые в тебе природой для души заложены, истончишь ее совсем, душу-то… А жить потом как? Нет уж, не хочу я воевать. Саму себя для себя же оставить хочу. В целости и сохранности. Чтоб счастливой быть. А какой уж меня там другие считают – обманутой или нет, – их дело…
– А ты, значит, счастлива, мам?
– А как же! Очень даже счастлива!
– Ну, не знаю… Все равно мне за тебя обидно! Чего ж ты у меня вечная бессребреница какая. Вот и сейчас готова отказаться от своего. Тебя сестра предала, обманула, выходит, а ты…
– Да бог с тобой, дочь! Какая же я бессребреница? У меня ты есть, у меня Митенька есть, у меня вот этот берег есть, да я сама у себя есть, в конце концов! Главное в жизни, доченька, – саму себя не потерять. В этом и есть счастье.
– Мам, а какая она, твоя сестра? Расскажи… Ты же мне никогда про нее ничего не рассказывала!
– Потом, Анют, потом. Не могу я пока. Ты иди спать, дочь. А я еще здесь посижу, на крылечке. Рассвет встречу…
Глава 5
Какая, какая… Лучше все-таки не думать про это, не вспоминать. Как старалась не вспоминать все эти годы. Все вычеркивала, вымарывала из памяти десять лет той цветущей, наполненно-яркой замужней своей жизни. Трудно это, конечно, было. Попробуй-ка вычеркни их! Хотя теперь чего уж. Теперь, пожалуй, и можно себе позволить вернуться туда, помянуть таким образом ушедшего в иной мир Антона…
«…Здравствуйте, уважаемые мои юноши и девушки. Поздравляю вас с поступлением в наш университет. Позвольте представиться – меня зовут Антон Павлович Званцев, я буду читать вам лекции по русской литературе…»
Тина уже потом поняла, вспоминая ту, первую Антонову лекцию, что влюбилась в него сразу – и глазами влюбилась, и головой, да чего там говорить – всем своим юным и начитанно-восторженным организмом влюбилась в его музыкой звучащее чеховское – Антон Палыч – имя, в его спокойный, доброжелательный голос, пронизанный будто осязаемыми мягкими нотками юмора, в его улыбку, даже в модные квадратные очки в толстой роговой оправе влюбилась. Все в Антоне Павловиче Званцеве для нее сошлось воедино: и образ любимого писателя, и образ настоящего мужчины. Вот же он, чеховский герой! Настоящий! А еще он тот самый, из разряда принцев на белом коне, образ которого каждая, в общем, юная барышня интерпретирует для себя по-своему, в соответствии с собственными требованиями к этой самой «принцевости». Тут уж, извините, кому как. Кому для нее нужна мужская неземная красота, для кого наличие толстого кошелька объективная необходимость, а кому, как Тине, важно, чтоб принц на любимого писателя Чехова похож был…
Так и сидела на его лекциях до самого третьего курса, сердцем замирая и ловя каждое слово, так и робела перед ним на экзаменах и зачетах, обливаясь краской смущения. И на все спецкурсы его ходила. Особенно по творчеству Чехова. А однажды даже осмелилась и подошла к нему после лекции, пробормотала, глядя на носки своих стареньких затертых туфель:
– Антон Павлович, извините, но у меня тут курсовая по Чехову… И несколько вопросов есть. Я бы хотела… Но вы заняты, наверное… Если только можно…
– А почему нельзя? – доброжелательно склонился он к ней всем корпусом, пытаясь заглянуть в глаза. – Давайте найдем время. Постараюсь ответить на все ваши вопросы. Подходите-ка вы ко мне завтра! Вечером можете? Только у нас заседание кафедры кончается поздно, в девятом часу. Это ничего?
– Ничего, ничего! Я приду! Спасибо! – пятясь и быстро кивая, пролепетала Тина. Потом развернулась и торопливо пошла по коридору, унося подальше от Антона Палыча вспыхнувшие кумачом смущения щеки да заблестевшие счастьем-любовью глаза.
– Тинка, ты чего это? – догнала ее одногруппница Варя Синицкая, быстроглазая и любопытная пройдоха. – Ты чего, Званцева охмуряешь, да? Ну ты даешь, девушка…
– Никого я не охмуряю! Бог с тобой, Варька!
– Да я же видела! Стоит вся из себя такая скромница-отличница, глазки долу… Чего, в городе захотелось остаться, да? И правильно. Да ты не стесняйся, Тинка! Это ж понятно все! А он, знаешь, ничего такой… Не сильно и старый, в общем. Сорок лет всего! А главное – не женат!
– Правда? Правда не женат? А ты откуда знаешь?
– Да мне лаборантка с их кафедры рассказывала – у него жена лет пять назад как умерла. Он один живет. А три года назад, говорят, еще и отца похоронил. Он у него профессором каким-то известным был… Лаборантка говорила, что их тетки ученые с кафедры одно время за ним настоящую охоту устроили, да только все без толку. Ни на кого он так и не позарился. Вроде как, кроме Наташи Ростовой да какой-нибудь там Нины Заречной, больше и полюбить-то никого не в состоянии… Да только, я думаю, ерунда все это, злобствуют просто. Мужик как мужик! Так что давай, Тинка, дерзай! И рожицу свою перед ним так низко не опускай – она у тебя очень даже симпатичная! Особенно глазюки – так зеленью и светятся, загляденье одно… Я б тебе еще присоветовала юбку покороче надеть, да случай не тот. Хотя, кто его знает… Да и не сумеешь ты так, пожалуй. Так что умищем, умищем бери! Интеллектом его поражай! Искренней заинтересованностью в вопросе, в любви, так сказать, к искусству, как к таковому… Ты сейчас по какому поводу к нему подвалила-то?
– Да по курсовой своей. Вопросы задать хотела…
– О! Самое то, Тинка! Валяй, дави его вопросами! Только побольше искренней заинтересованности выкладывай, поняла? Может, и получится что…
Уж чего-чего, а этой самой искренней заинтересованности в Тине было с избытком. А вот другое, на что так открыто намекала Варя Синицкая, отсутствовало напрочь. Более того – она и думать даже ни о чем таком никогда бы не осмелилась, не то что коварные какие планы строить, используя эту действительно чистую, действительно искреннюю заинтересованность в вопросе. Не расскажешь же этой Варе, в самом деле, о своем с детства трогательном и святом отношении к музыке чеховских текстов! Точно ведь засмеет и не поверит… Ну кого, скажите, еще так за самую душу трогают эти чеховские маленькие рассказы о людях, претендующих на знание настоящей правды? Рассказы, предостерегающие от душевного человеческого вырождения, от мещанского тупого самодовольства… Никого и не трогают… Нет, все здесь их читают, конечно, и на спецкурсах изучают, и разбирают героев по косточкам. А только не то все это – не то! Музыки пронзительных чеховских текстов все равно по-настоящему не слышит никто. Обидно. А так бы хотелось, чтоб все слышали! Она и Антону Павловичу Званцеву следующим вечером попыталась эту свою мысль-мечту как-то преподнести, чем и вызвала его очень удивленный, очень заинтересованный взгляд в свою сторону. А еще, как ей показалось, взгляд этот был мягкий и слегка насмешливый. Такой, такой именно, как с портрета любимого писателя! Настоящий, чеховский! Она таки не ошиблась… Оттого и смутилась страшно, и покраснела, и замолчала сразу растерянно.
– Простите, а как вас зовут, я забыл? – тихо спросил Антон Палыч, продолжая ее удивленно рассматривать.
– Вообще меня зовут Валентина. Но все называют просто Тиной.
– Что ж, хорошее у вас имя. Тина. Этаким звоночком звучит. А вы откуда сами будете, Тина? Ведь вы не из нашего города? По говору слышно, что не местная…
– Нет. Я из Белоречья. Это далеко отсюда.
– Хм… Ну что ж, очень приятно с вами познакомиться, уважаемая Тина из Белоречья! А что, Чеховым давно увлекаетесь?
– Давно. С шести лет, как читать начала.
– А кто вас учил?
– Чему учил?
– Ну, Чехова слышать… Тексты его любить…
– Ой, что вы! Никто не учил! А разве можно этому научить, Антон Палыч?
– Нельзя. Вы правы. Нельзя этому научить. Вот и получается, что на вопросы свои вы сами себе и ответили. Никого и ничему нельзя научить силой, наверное. Да и зачем? Вот вы, например, любите чеховские тексты, так и любите себе на здоровье! Это уж кому что природой дано. И никому нельзя своей природы, своего понимания мира навязать. Наверное, и Чехов в свое время это тоже понял, вам не кажется? Посмотрите, как герои его слабы, растерянны, интеллигентны…
– Ну почему же – слабы? Я с вами тут не согласна!
– Да потому, Тина, что и в самом деле никто не знает настоящей правды о человеке! И Чехов не знал. Человек и тогда, и сейчас – существо очень несовершенное. А это значит, что и любая истина несовершенна. Тем более каждый ее понимает по-своему. Одной на всех взятой истины в природе не существует. И Чехов это как раз таки больше всех понимал. Оттого и шутил-грустил…
Тина с ним, однако, совсем не согласилась, бросившись защищать свою точку зрения с девчачьей юной горячностью, забыв про смущение и растерянность. Так и затянулся их то ли философский, то ли литературный спор до самого позднего вечера. Потому и пришлось Антону Павловичу, как человеку глубоко порядочному, идти провожать молодую даму по темным улицам до самых дверей студенческого общежития, хотя дама из скромности сопротивлялась такому вниманию, как могла. Тем более и общежитие ее располагалось всего лишь на соседней улице…
– Какое имя у вас все-таки замечательное – Тина… – вдруг проговорил он, прощаясь на крыльце общежития и глядя уже будто по-новому ей в лицо. – А звучит и впрямь как зеленый колокольчик! Тин-тин, тин-тин… И сами вы как колокольчик…
– Антон Павлович, а вы знаете, я ведь люблю вас… Еще с первого курса люблю… – вдруг тихо проговорила Тина, сама от себя такой крайней смелости не ожидая. И даже лица не опустила. И даже в глаза ему прямо взглянула. Почему-то она его больше не боялась. Не было больше испуганного перед этим мужчиной благоговения. Другое что-то взамен пришло – большое, теплое и нежное, молчать о котором становилось просто невмоготу, вот оно и вырвалось на свободу этим самым «люблю». И разрешения не спросило…
– Что ж, спасибо вам за признание, Тина. Большое спасибо. Я очень тронут, конечно… – неловко пожав плечами, произнес Антон Павлович. И замолчал.
А что он мог ответить ей, интересно? Хорошо, хоть хилая лампочка над крыльцом общежития вовремя замигала и погасла напрочь, и не увидела Тина его растерянного лица, на котором перемешались все эмоции этого странного вечера: и невесть откуда взявшийся интерес к этой смешной девчонке-студентке, и неловкость от ее стремительного признания, и без следов радостно-тщеславного мужского волнения тут не обошлось. Не каждый же день юные студентки в любви к доценту Антону Павловичу Званцеву признаются, в самом деле!
Тина, однако, его молчания выдержать долго не смогла. Повернулась решительно и скрылась за большими тяжелыми дверьми студенческого общежития. Проплакала потом в подушку всю ночь. То ли от счастья, то ли от досады на свою эту неизвестно откуда взявшуюся смелость…
На следующий день Антон Павлович подошел к ней сам. Поджидал около университета, окликнул робко, когда она в студенческой стайке девчонок-однокашниц шла мимо. Сердито отмахнувшись от Вари Синицкой, понимающе ей ухмыльнувшейся, она подбежала к нему, изо всех сил пряча за легкой и вежливой улыбкой смущение.
– Да, Антон Павлович! Я вас слушаю…
– Тина, я вас приглашаю в гости. На чашку чаю. Соглашайтесь, Тина! Чай у меня и правда замечательный – недавно друг из Англии привез. Только не подумайте ничего плохого, ради бога…
– Да я согласна, Антон Палыч! Что вы! Спасибо за приглашение. Я с удовольствием выпью вместе с вами настоящего английского чая, – дрожащим от не пожелавшего никуда прятаться смущения голосом проговорила Тина. – Тем более я его никогда и не пробовала.
– Правда? Вы на меня не сердитесь?
– Да за что, Антон Палыч?!
– Ну что ж, и замечательно… Тогда прошу!
Он галантно открыл перед ней дверцу белого «Москвича». Тина робко уселась на пухлую подушку переднего сиденья и быстро подогнула ноги, пытаясь спрятать подальше от его глаз неказистые свои туфли. Беда была с этими туфлями. Размер-то у нее детский совсем, пойди найди их где-нибудь! Платья-юбки еще пошить можно, а вот с туфлями настоящая катастрофа. Пока бежишь в них по тротуару, среди народа, еще туда-сюда, но вот чтоб в гости заявиться… Да еще к Антону Павловичу Званцеву! Он же такой изысканный, в черном костюме с галстуком, в черной шляпе… И улыбается так хорошо, когда машину ведет… Вообще, в машине легковой, если честно, она очутилась впервые в своей жизни – роскошью по тем временам она была невиданной. В те времена к людям науки государство очень даже хорошо относилось. Зарплатами так уж явно не унижало. И квартиры бесплатно давало. А бывало, и особняки целые…
Дом-особняк, в который привез Тину на чашку чаю Антон Павлович, поразил ее в самое сердце. И не размерами даже, а красотой своей достойно-старинной, колоннами белыми, красивым настоящим мезонином наверху. В этом городе вообще, она заметила, было много таких вот старых особнячков. Целые улицы из них были, как и вот эта, вся насквозь заросшая кленами. А в доме был большой гулкий зал, и старинная печь с голубыми изразцами, и огромная библиотека с дореволюционными еще изданиями, уютно расположившаяся наверху, в мезонине. У Тины голова закружилась от восторга, когда она осторожно вытянула с полки шершавый томик чеховского собрания сочинений и стала листать его желтые твердые страницы. Даже сердце странно и тревожно внутри дрогнуло. А может, оно и не от томика чеховского дрогнуло. А оттого, что позвал ее Антон Палыч вниз чай пить.
Чай хваленый английский ей совсем не понравился. Черный и терпкий очень. Непривычно. А когда пригляделась ко всему повнимательнее, не понравилось еще и пыльное кругом запустение – так и захотелось попросить у хозяина ведро с тряпкой да пройтись по этой красоте женскими руками… Антон Павлович, будто поймав на лету ее мысль, заговорил грустно:
– Да, Тина, да… Так и живу, представьте себе, пять лет уже. Один совсем. Дом огромный, а я один… А раньше тут много народу было! Папины все сестры с нами жили, и дети их – кузины мои драгоценные, и мамины родители… Шумно у нас было, весело! Потом всех судьба по разным местам разбросала. Одна моя сестра теперь даже в Америке живет, за диссидентство ее туда выставили…
– Как это? – округлила на него священным ужасом переполненные глаза Тина.
– Ну, не прямо так, как Синявского с Даниэлем, конечно. Просто намекнули, что препятствовать, мол, не станем, если что… Как-то очень уж быстро этот дом опустел, знаете ли. Теперь вот живу один, как сыч. И жена моя пять лет назад умерла. Вон ее портрет висит…
Тина проследила настороженно за его рукой и тут же встретилась взглядом с изображенной на большом портрете красивой женщиной, казалось, улыбнувшейся ей лукаво и понимающе даже. Черные ее волосы лежали вокруг головы непокорным нимбом, и шея была гордо вытянута, и лицо казалось бы даже немного высокомерным, если б не глаза и губы. Глаза и губы женщины улыбались с портрета особенно по-свойски, особенно по-доброму. Одобряли ее глаза все, что происходило сейчас в этой комнате. И Тину тоже одобряли. И даже подсказывали, что здесь будет происходить дальше и чтоб Тина не боялась ничего…
– Красивая какая… – вполголоса уважительно произнесла Тина. – А как ее звали, Антон Палыч?
– Александрой ее звали. Сашенькой. Она балериной была, талантливой очень. Я любил ее безумно! Да ее все любили, чего там… Есть такие женщины, Тина, которых не любить просто нельзя. От них обаяние будто мощным потоком исходит, и противостоять ему практически невозможно. Да и не хочется…
– Да… Оно даже и от портрета исходит, ее обаяние… – почему-то внутренне вся скукожившись, тихо проговорила Тина. Потом снова подняла глаза на портрет и снова вдруг почувствовала, как ободряюще улыбнулась ей Александра – ну чего ты, мол, испугалась так, дурочка…
– Вы знаете, Тина, когда она умерла, я думал, что никогда уже ни с одной женщиной судьбу свою не свяжу. Так и прожил бобылем целых пять лет. А вот вчера, когда вы мне в любви своей так неожиданно весело признались, вдруг повернулось внутри что-то. Как дверь какая-то открылась. Понял вдруг: нехорошо это, что один я живу. Александра бы этого не одобрила, понимаете? И всю ночь не спал. Все думал, думал…
Он вдруг замолчал. Протянув руку, медленно снял очки и долго смотрел на Тину улыбаясь. И она молчала, глядя прямо ему в глаза. Казалось ей, что сердце остановилось у нее в груди, а потом вдруг снова забухало торопливо и радостно, будто в ожидании огромного счастья, готового свалиться ей на голову. Оно и свалилось вскорости…
– Вы вот что, Тина… Я вам… Как же это говорится-то… Ну, в общем, предложение хочу сделать. Выходите-ка за меня замуж, Тина! Я не знаю, может, и нехорошо это для вас… Я ведь старше вдвое, получается…
– Ой… – только и выдохнула Тина, испуганно распахнув на пол-лица глазищи, и пропела торопливо-радостно: – Ой, да я согласна, Антон Павлович! Что вы! Конечно же, согласна! Я же так люблю вас! Если б вы только знали, как люблю…
Потом, сама испугавшись этой радостной своей торопливости, неловко прикусила губу и покраснела стыдливо – чего это она так? Неправильно, наверное. Надо же как-то по-другому было ответить, наверное? Надо же было сказать что-то такое, случаю подобающее: подумаю, мол, над вашим предложением… Однако Антон Павлович тут же сомнения ее и развеял, искренне обрадовавшись навстречу ее торопливому согласию.
– Правда? – расплылся он в счастливой улыбке и даже будто вздохнул облегченно. Потом осторожно, как величайшую драгоценность, взял ее маленькую ладонь в свои руки, поднес к губам тыльной стороной, проговорил тихо: – Спасибо тебе, милая девочка! Спасибо, что ты мне поверила. Спасибо, что полюбила. И я тебя очень люблю – как-то враз на меня это чувство вчера свалилось. Я и не думал, что так бывает… Спасибо тебе, зеленый колокольчик Тин-Тин…
С того самого памятного чаепития он стал называть ее новым этим именем – Тин-Тин. И выходило это у него так расчудесно, так ласково, что Тина и в самом деле постоянно слышала звенящий где-то поблизости колокольчик своего так неожиданно быстро обретенного счастья – тин-тин… тин-тин…
А через месяц они скромно расписались. Свадьбу большую решили не делать, да и зазывать на нее особо им было некого. Ну, пришли на девичник ее однокашницы, попищали-поохали от восторгов, порадовались, а некоторые, может, и позавидовали искренне тому, как Тинка из не известного никому Белоречья «быстренько с замужеством этим провернулась». Особенно искренне радовалась Варя Синицкая, объявившая себя на вечеринке чуть ли не застрельщицей всего этого дела. Если б не она вроде как, то Тинка и не додумалась бы никогда, как правильно этого Званцева охмурить… Потом пришли преподаватели с кафедры Антона Павловича, посидели, поздравили, выбор коллеги во всяческих ипостасях вполне одобрили. Такие все веселые оказались в домашней обстановке! И пели, и плясали… Тина и домой письмо написала – своих хотела тоже в гости позвать. Отец на Тинино приглашение долго не отвечал. Потом, позже уже, пришло письмо, нацарапанное под его диктовку неровным детским Мисюськиным почерком, что приехать они к ней на свадьбу никак не смогли, потому как Алешка, «поганец такой, малец мальцом еще, а тоже, поди ж ты, затеял жениться». Вот если б Тиночка подождала немного, он бы и ее свадьбу немного погодя осилил… А так нет – на две свадьбы денег не хватит, как ни крути. Еще писал отец о том, что невестка Света, будущая Алешкина жена, девка хоть и болезненная с виду, на самом деле ничего оказалась, проворная, из семьи непьющей да работящей. Будет потом кому хозяйство передать да за Мисюськой присмотреть. Шибко уж своенравной девчонка растет, совсем без матери избаловалась… А ты, мол, Тиночка, писал отец, «об нас не беспокойся, живи в городском своем замужестве счастливо да учись дальше себе в удовольствие»… Тина всплакнула над письмом немного, от виноватости своей неизжитой перед отцом всплакнула. Вот ведь как все в жизни повернулось – на нее тут такое счастье свалилось, а он там один на один с жизнью барахтается…
Зажили молодые Званцевы после свадьбы хорошо – Антон Павлович, все это отметили, сразу помолодел будто. Всю сложившуюся за пять долгих лет холостяцкую неприкаянность враз сбросил, на крыльях летал вокруг юной своей жены, блестел глазами. Даже ремонт дома немного погодя затеял – проснулась вдруг в нем деловая настоящая хватка, о наличии которой он и сам раньше не подозревал.
Все бегал, доставал-выбивал стройматериалы всякие, друзей подключал, знакомых… Года три тот ремонт продолжался, не меньше. Тина успела уж и диплом получить, и в аспирантуру поступить. А в Белоречье за это время только один раз и съездила, чтоб своих подарками заграничными порадовать. Повел ее как-то Антон Павлович в «Березку», приодеть решил на валютные чеки, полученные после публикации нескольких статей в научных заграничных журналах. Давно они у него без дела лежали, чеки эти, вот для дела и пригодились – так хотелось жене угодить! В те времена это вообще считалось высшим жизненным показателем успешности – взять и отовариться в «Березке»! Тина и отоварилась. Всякого тряпочного добра для своих набрала, для Мисюсь в основном. А про себя и забыла… Очень уж хотелось ей младшей сестренке угодить. А может, чувство вины уж совсем к тому времени прогрызло в душе у Тины дырочку – как ни крути, а оставила она девчонку на попечение двум мужикам, старому да малому. Сама тут в любви да радости живет, а сестренка-сиротинушка там не обута толком, не одета, не долюблена…
Мисюсь на ее подарки прореагировала очень уж бурно – Тина и не ожидала такой радостно-счастливой реакции. Подпрыгивала, верещала над разложенными по стульям нарядами, напяливала на себя все подряд… А отец, наоборот, от Тины глаз отвести не мог. Такой она показалась ему ладной да умной, что чуть на «вы» к родной дочке в одночасье не обратился – только и успел язык прикусить вовремя. От хозяйства отец отошел – старые болезни совсем замучили. Выползал, кряхтя, утром во двор, щурился слезящимися подслеповатыми глазами на солнышко, выкуривал пару «беломорин» да снова уходил домой. Алешка с молодой женой вовсю вели хозяйство сами – и огород у них был ухожен, и банька новая срублена, и крыша новой оцинковкой сверкала… Все было в доме справно, только вот с Мисюськой их мир никак не брал. Не признавала их девчонка за старших, и все тут. Не слушалась никого. И училась из рук вон плохо. Школу совсем забросила и даже из десятого класса подумывала уже уйти. Решила восьмилеткой обойтись. Тина кое-как ее уговорила на дальнейшее образование. Да и то, она подозревала, согласилась своенравная ее попрыгунья-сестренка на этот героический подвиг в надежде на то только, что Тина ее потом к себе заберет. Тина и готова была, в общем. Не хотелось только среди года Мисюсь с учебного процесса срывать. Пока бы с другой школой определились, времени много потеряли…
В общем, шли-бежали счастливые яркие годы, нанизывались драгоценными жемчужинами на ниточку Тининой жизни один за другим. Мечтали они с Антоном и о ребенке, конечно. И даже под детскую комнатку во время ремонта отвели, раскрасили ее от потолка до пола в веселые цвета да картинки всякие. И Тина все ждала, к себе прислушивалась – очень уж Антон ребенка хотел. Так и не дождавшись от молодой жены радостного известия, он повел ее к знакомому врачу-профессору, известному в то время в определенных кругах светилу медицинской детородной науки. Тина и рада была – наконец-то ей хоть подскажут что хорошее, а то все никак долгожданная беременность в ней не образуется…
Ничего тот профессор хорошего ей не подсказал, конечно. Наоборот, огорошил так, что зеленый яркий свет в Тининых глазах померк сразу, выплеснулся в одночасье женским неизбывным горем наружу.
– Что ж тут поделаешь, деточка… И так тоже бывает. Медицина тут, понимаете ли, бессильна… Природа так распорядилась…
– А что у меня, доктор? Что-то я не понимаю…
– Ну, у вас не такой уж и редкий случай. Называется «детская матка». У вас, Тиночка, детородный орган перестал развиваться примерно в десятилетнем возрасте. Вы, наверное, переболели чем-то серьезным в детстве, да?
– Нет, ничем не болела…
– Ну, может, тяжести какие поднимали? А что, бывает. Дети балуются иногда…
– Нет, доктор, я не баловалась. А поднимать и правда поднимала. Сестренку младшую. Мама когда в родах умерла, мне десять лет как раз и было… А сестренка тяжеленькая, плотненькая такая была…
– Ну что ж, Тиночка, мне искренне вас жаль. Не корите себя и не плачьте. Что же делать, раз судьба так вот распорядилась? Надо смириться, надо жить дальше, Тиночка. Надо принять. Тем более Антон вас так любит… Многие пары всю жизнь счастливо живут и без детей… Я знаю сколько угодно таких случаев…
Антон тоже Тину потом утешал как мог. И себя ругал тоже как мог, последними словами. Захотелось ему наследника срочно, видите ли. Мало ему счастья в лице этой девочки провидение послало! Расстроил милую свою женушку, зеленый колокольчик Тин-Тин…
Сама Тина переживала свалившуюся на нее бездетность очень остро. Как будто горе какое поселилось в ней неизбывное. Не было – и пришло вдруг… Ей даже в голосе мужа, старательно ее успокаивающего, слышались все время нотки недоумения, будто и сам он в происходящее с ней не поверил. А порой даже казаться стало, что она и физически ощущает некую ущербность свою, как видимый глазу недуг или увечье. И сердце никак, ну никак не хотело принимать в себя это горе. Сопротивлялось, и все тут. Как это такое может быть – детей у нее не будет? Нет, не принимают этого известия ни душа, ни сердце. Хотя врач-светило сказал: прими… Что ж делать, в те времена медицинским светилам только и оставалось, что руками разводить да слова всякие сердобольно-правильные говорить в таких случаях. Не было у светил тогда ни опыта мирового в этом тонком деле, ни знаний. Это сейчас способов всяких родить ребенка имеется великое множество – только пожелай. А тогда – нет. Кроме общеизвестного – никаких особых вариантов. Хоть голову о стенку от горя разбей…
Однако вскоре Тинино горе отошло на второй план, отодвинула его туда прилетевшая из Белоречья срочная телеграмма – отец умер. Тина полетела на похороны одна, Антон в тот день как на грех в больницу с пневмонией слег. С замиранием сердца открыла калитку, вошла во двор родного дома и не успела даже опомниться, как с крыльца на шею ей бросилась заплаканная Мисюсь в черном платочке, обхватила ее крепко за плечи сильными руками. Тина и не узнала бы ее вот так, сразу, встреть где-нибудь на улице, – сформировалась как-то вдруг, за короткий после их последней встречи период из неказистой прыгучей девчонки лебедь белая, стопроцентная красавица блондинка с тонкой розовой, не по-деревенски прозрачной кожей, стройными крепкими ножками да гибкой талией. Такое бывает иногда с сельскими девчонками. Какой-то то ли ветер особый подует, то ли организм вдруг спохватится, и нате вам – готовая красавица вылупилась. А глаза, глаза какие у юной Мисюсь образовались! Тоже, как и у Тины, зеленые, да только не наивными круглыми блюдцами распахнутые миру, а по-лисьи хитро к вискам будто специально подтянутые. Не девка, а красота неописуемая. И откуда только что взялось…
За время, проведенное в грустных похоронных хлопотах, Мисюсь от Тины ни на шаг не отошла. Все лепилась-ластилась к ней – то за плечи обнимет, то за руку схватит, а то просто носом в плечо уткнется и сидит рядом, замерев. Тина не возражала, конечно же, потому что и сама скучала по сестренке сильно, да и горе общее их сразу сблизило.
Отца они похоронили достойно, с почестями. Все, считай, Белоречье в той похоронной процессии оказалось. Любили его люди, уважали за мастеровитость да спокойный складный характер. Да и впрямь – безотказный был во всех делах мужик. Все умел. И печку сложить, и технику починить, и другую какую работу сделать. И детей, считай, один поднял. Только вот с младшей дочкой, все говорили с сочувствием, не очень у него заладилось. Совсем девчонка непонятная характером получилась – ни в кого пошла. Что ей надо – сама не поймет. Ни на работу какую, ни на учебу толку нет. С трудом только десятилетку и одолела.
– Тин, возьми меня с собой, а? – проговорила жалобно Мисюсь, когда разошлись с поминок последние гости. – Ну что я тут буду с ними делать, Тин? Видишь, как они меня не любят? Я не хочу с ними жить! Светка ведь беременная, знаешь… Она вреднючая такая, мы с ней не ладим никак! А родит, так вообще меня из дома выгонит! Куда я пойду, Тин? Лишняя я тут…
– Света беременная? Что, правда? – откликнулась Тина, изо всех сил пытаясь завуалировать положенной для такой новости радостью скрытую от посторонних глаз боль. – А не видно совсем…
– Да у нее срок маленький! Они с Алешкой еще никому не говорят, сглазить боятся. Ей ведь врачи не разрешают рожать, у нее сердце больное. А Алешка ее уговорил… Я сама третьего дня случайно услышала, как они у себя в комнате шептались. Ну, Тин… И правда, возьми меня с собой! Я же им тут мешать только буду, сама понимаешь! Он и так над Светкой трясется, прямо и сказать ей ничего нельзя! А потом, как родит, вообще меня загоняет! А школу я почти закончила, через неделю выпускной…
– Конечно, Мисюсь. Конечно же, поедем со мной. Чего ты меня уговариваешь-то? Я и сама так решила, когда сюда еще ехала. Я думаю, и муж мой против не будет…
Антон встречал их на вокзале. С цветами. Похудевший после болезни, в строгом костюме, в черном галстуке, с широчайшей улыбкой на бледном благородном лице. Бросился к Тине с объятиями-поцелуями, нежно потряс тоненькую Мисюськину ручку в знак знакомства. Повел к оставленному на привокзальной площади «Москвичу», распахнул перед дамами дверцы… Глядя на сестру, робко-неловко забирающуюся на заднее сиденье, Тина вспомнила и себя, молодую студенточку, такую же на первых порах неуклюжую в отношении всех этих городских прелестей, и улыбнулась грустно. Ничего-ничего, Мисюська очень сметливая девочка, она побыстрее, чем сестра, здесь пообтешется, всему научится…
– Ой, Тинка! Ты только посмотри – дом с мезонином! Это что, ваш? И я тоже буду здесь жить? – восторженно проговорила Мисюсь, когда выскочила из машины около дома.
– А как бы ты хотела, юная моя родственница? Все именно так и быть должно! – весело откликнулся Антон. – Ты Чехова читала, надеюсь? Вспомнила? Раз есть где-то дом с мезонином, значит, и жить в нем должна именно Мисюсь…
Глава 6
Тина поежилась от налетевшего предрассветного ветра, принесшего с собой запахи вкусной росной сырости, тихо поднялась с крыльца. Рассвет уже и впрямь занимался вовсю, и новый июльский день обещал быть жарким-солнечным, и птицы громко пели свою утреннюю звонкую песню. Только праздник природный начинался сегодня без нее, проходил-обтекал мимо, как обтекает большая быстрая река маленькие свои острова. Что ж, пусть. Конечно же, на сегодня праздник души отменяется. Раз впустила в себя горькие эти думы-воспоминания, что ж… И уснуть уже наверняка не удастся. Наверное, и Оля с Никитой, дети Мисюсь, тоже не спят, мчатся на машине своей сквозь такой же вот рассвет…
А Оля и впрямь очень на Мисюсь похожа. Такая же красавица. И разрез глаз тот же, и лицо нежно-овальное, и манера гордо вскидывать голову… Только строгая очень. И холодная. Но если распустит волосы, улыбнется, глазами сверкнет, подпрыгнет по-девчачьи – настоящая будет Мисюсь! Такая, какой Тина ее и запомнила…
Мисюсь в доме с мезонином освоилась очень быстро. Для себя она облюбовала ту самую веселенькую комнатку, отведенную Тиной с Антоном под детскую. А потом сама собой и в роль дитяти играючи впрыгнула. Причем дитяти любимого, балованного да капризного, устанавливающего в доме собственные порядки. Как-то так получилось, что вся их жизнь сразу завертелась вокруг нее, будто была так внезапно появившаяся в их доме Тинина младшая сестренка воплощением того радостного ожидания прибавления в семействе, в котором жили Тина с Антоном последние годы. Сразу они озаботились было поступлением ее в университет или в другой какой хороший институт, да Мисюсь вдруг закапризничала. Не хотелось ей учиться. Так и заявила им: не хочу, и все…
– Но как же, Мисюсь? Как же ты не хочешь учиться? Может, ты на экзаменах провалиться боишься? – удивленно расспрашивал ее Антон, пытаясь дать объяснения странным, как ему казалось, капризам юной свояченицы.
– Ну вот еще! Ничего такого я не боюсь! Ведь вы бы все равно за меня похлопотали, правда, Антон Палыч? Замолвили бы словечко? Чего мне бояться-то? Просто я сама, сама не хочу!
– А чего ты тогда хочешь, Мисюсь? – огорченно спрашивала Тина, испытывая перед мужем даже некоторую неловкость за заявление сестры.
– Я замуж хочу! Так же, как ты, Тина! Чтоб был дом красивый, чтоб машина, чтоб на море ездить… А учиться я не хочу, нет! Я хочу, чтоб сразу все было!
– Мисюсь! Господи, да что ты такое несешь, ей-богу! – с ужасом махала на нее руками Тина. – Ты что, считаешь, я за Антона Палыча только ради всего этого замуж вышла?
– Ну и ради этого тоже, наверное! А что, разве не так? А зачем тогда надо было из Белоречья тащиться сюда на пять лет? Чтоб потом снова вернуться туда какой-нибудь училкой? Глупо же!
– Мисюсь, уймись! Замолчи сейчас же! Господи, что она несет, Антон…
Тина в ужасе хваталась за голову и замолкала, и не могла подобрать подходящих для случая слов, будто они вмиг разбегались испуганно из ее головы, не выдержав напора этой ничем не прикрытой то ли непосредственности, то ли наглого такого простодушия. Антон же хохотал от души, как раз и забавляясь этой искренней, как ему казалось, детскостью, и, обняв Тину за плечи, по-рыцарски кланялся и благодарил Мисюсь нарочито шутливо:
– Спасибо, спасибо тебе, юная праведница, что раскрыла мне глаза на мою коварную женушку! Так вот, значит, зачем она мне в любви признавалась, искусительница этакая! А я думал, она тоже писателя Чехова любит, как и я… А тут вон в чем дело, оказывается!
– А что, Тинка сама вам призналась в любви? Первая? – раскрывала удивленно на Антона Палыча глаза Мисюсь. – Вот это да…
– Ага. В любви. И ко мне, и к тезке моему, писателю Чехову. Так что возьми на вооружение, Мисюсь, если тоже таким способом замуж решишь выйти! Только вот какого бы тебе писателя любимого для этого дела подобрать поромантичнее… Тебе самой-то кто больше нравится, Мисюсь? Гоголь? Пушкин?
– Ой, да не люблю я этих ваших писателей, Антон Палыч! Ни Гоголя, ни Пушкина! Чего вы на них так зациклились-то, ей-богу, на писателях этих? Я вот, например, вообще читать не люблю. Тоже мне занятие… Как будто больше делать в жизни нечего…
– Ну нет, милая Мисюсь, тут ты просто категорически не права! – шутливо продолжал Антон Палыч, исподтишка подмигивая Тине. – Так ты никогда себе приличного мужа и не найдешь! Они ведь сейчас, потенциальные приличные-то, гранит науки в разных институтах грызут! И грызут его не одни, а в окружении таких же, как ты, красивых, но, в отличие от тебя, очень начитанных девушек. Так что шансы твои, милая Мисюсь, очень уж минимальны, получается…
– И ничего не минимальны! – весело возражала ему Мисюсь, с трудом выговаривая трудное слово. – Я вообще, между прочим, за молодого замуж не хочу!
– Это почему же?
– Да потому! Пока он из своей, как вы говорите, потенциальности в мало-мальскую какую приличность выберется, я уж состариться десять раз успею! Нет уж, не хочу. Я хочу жить прямо сейчас, чтоб у меня сейчас все было, а не потом когда-нибудь… А вот вы, Антон Палыч, вместо того чтоб шутки всякие надо мной разводить, взяли бы да и познакомили меня с профессором каким…
– Ого! А тебе, значит, меньше профессора в мужья и не надо? Эк тебя понесло-то сразу! Не больше и не меньше – сразу чтоб профессора?
– Ну да… А чего мелочиться-то? Ну так познакомите или нет?
Антон опять захохотал, откинувшись на спинку дивана. Тина, взглянув сначала на сестру, потом на веселящегося от души мужа, вдруг произнесла сердито:
– Ну все, друзья, хватит! Что это за разговоры вообще? Не нравятся они мне! И ты тоже хорош, Антон… Девчонка несет чушь несусветную, а ты смеешься, будто поощряешь…
– И ничего не чушь! – обиженно протянула Мисюсь. – Я все это абсолютно серьезно говорю…
– Господи, Мисюсь, ну вот скажи: откуда, откуда в тебе это?
– От верблюда! – весело огрызнулась Мисюсь.
– Да ладно, Тин-Тин, отстань от нее… – беспечно махнул рукой Антон, поднимаясь с дивана и потягиваясь. – Повзрослеет, поумнеет… Пойдем лучше спать, колокольчик…
– А я и так уже умная! – так же весело огрызнулась Мисюсь в Антонову спину. – И взрослая! И сама знаю, чего хочу!
– …А не поумнеет, так обратно в Белоречье ее отправим! Раз не хочет учиться, то что ж… – будто не слыша ее, продолжал разговаривать с Тиной Антон. Потом, обернувшись к Мисюсь и незаметно подмигнув Тине, уточнил деловито: – Хочешь обратно в Белоречье, Мисюсь?
– Нет! Нет, я не хочу обратно! Я это… Я лучше в техникум какой-нибудь поступлю! А? Можно? А еще лучше – в училище… В педагогическое, или на модельера еще можно… Только на следующий уже год, ладно? Я же устала после школы! И потом, надо же подготовиться…
– Ну, что будем делать, Тиночка? – уже не смеясь спросил Антон, обращаясь к жене. – Пусть и правда отдохнет, что ли? Не станем мучить ребенка науками?
– Ну хорошо… Пусть… Но только на следующий год – обязательно учиться! Слышишь, Мисюсь? Чтоб без глупостей!
– Ага! На будущий год – просто обязательно! – весело подтвердила Мисюсь. – Слово даю…
На том и порешили. К тому же унылые троечки в школьном аттестате Мисюсь такое решение проблемы сами собой подсказывали – все равно этим летом ей никуда не поступить, по всем предметам репетиторов нанимать придется… Так Мисюсь и осталась в доме дневной хозяйкой, пока Тина с Антоном пропадали в своем университете. Спала до обеда, еду готовила, по городу гуляла… А в конце августа они взяли ее с собой в отпуск, в хороший крымский санаторий, – девчонка аж обмерла от счастья, когда в приятную курортную жизнь окунулась, и поначалу принимала все ее прелести с восторженным смешным благоговением. А потом как-то незаметно благоговение это перелилось в спокойное и горделивое достоинство, и Тина только диву давалась – откуда что взялось… Слишком уж быстро сестренка научилась не распахивать красивые свои глаза навстречу необычным курортным изыскам, слишком уж быстро появилось на ее лице выражение благодушно-капризной лени избалованной хорошей жизнью приличной воспитанной барышни…
В сентябре вернулись домой. Жизнь снова потекла по прежнему своему руслу – вечером Мисюсь встречала их дома красиво накрытым столом, веселым беспричинным смехом да сверкающими от довольства новой своей жизнью глазами.
Антон попытался было снова проявить педагогическую инициативу да заинтересовать-таки свояченицу своей раритетной библиотекой, вкус к хорошему чтению привить, но не тут-то было. Не хотела Мисюсь книжек читать, и все тут. Так со смехом ему как-то и объявила:
– Ой, да ну вас, Антон Палыч, не приставайте вы ко мне со своими Гоголями да Чеховыми! Не люблю! Да и не понимаю я…
– Чего ты не понимаешь, Мисюсь? О чем они пишут?
– Да нет! Не понимаю, как это можно в городе жить и все свое время на какие-то там книжки тратить! У вас же тут столько всего интересного! У вас здесь жизнь настоящая, а вы – книжки… Книжки можно и в Белоречье читать! А здесь жить, жить надо! Наслаждаться жизнью, а не бумажную пыль глотать… Нет, не буду я читать, отстаньте! Вы бы лучше и впрямь меня с кем-нибудь познакомили, а? А то я торчу все время дома одна… Обидно же! И скучно…
– Ну, скоро, я думаю, тебе скучать некогда будет. Скоро на подготовительные курсы тебя определим… А про идею эту с профессорским замужеством забудь, я тебя умоляю! Иначе и в самом деле в Белоречье обратно отправим, поняла?
– Все, все, забыла… Ей-богу, забыла… – испуганно махала маленькими ладошками Мисюсь. – Я же просто так сказала, к слову…
К слову не к слову, но в яростном своем стремлении зацепиться за хорошую жизнь Мисюсь удалось-таки не только самой красиво оскандалиться, но и протащить по одной нехорошей истории и Тину с Антоном Палычем. Они и сами не поняли, как все это произошло…
Объектом для своего нахального охмурения Мисюсь выбрала, как это ни смешно, и впрямь настоящего профессора, Виноградского Илью Александровича с кафедры иностранной литературы, хорошего приятеля Антона Палыча. Вообще, за Ильей этим Александровичем давно уже полз по факультету нехороший такой шлейфик из разных пикантных историй. Поговаривали, что некоторым симпатичным студенткам дорога к вожделенной положительной оценке в зачетке была им заранее определена и заказана, то есть дорога эта вовсе не зависела ни от знаний его предмета, ни от наличия интеллекта, ни от других каких девчачьих сверхспособностей. Сам Антон Палыч, однако, слухам этим нисколько не верил и дружил с Ильей Александровичем с большим удовольствием, то есть хаживал в его дом запросто. Дружил он многие годы и с его женой, моложавой смешливой дамой, профессором-историком Владленой Вячеславовной. Простота эта в общении с семьей Виноградских сложилась у него еще до женитьбы на Тине, но и молодая жена его профессорской парой была впоследствии хорошо принята и обласкана. В общем, можно сказать, дружили Званцевы и Виноградские семьями. Потому и не пришло ни в одну умную голову заподозрить неладное, когда на семейном празднике по случаю Тининого дня ангела Мисюсь повела себя очень уж странно – взяла и зацепилась сразу глазами за бедного Илью Александровича и не отпускала его из поля зрения весь вечер. А глаза у девчонки, надо сказать, и впрямь были необычными, так и жгли прозрачно-ядовитой юной зеленью. Это уж потом Тина с Антоном спохватились и ругали себя последними словами, что не отнеслись должным и серьезным образом к коварным устремлениям своей молодой родственницы. Думали, так, болтает девчонка попусту, строя планы насчет профессорского замужества. А получилось и впрямь так, как Мисюсь и задумала, – голову Илье Александровичу сразу и напрочь снесло. До такой степени снесло, что пришел он как-то к Антону Павловичу за советом, о разводе заговорил. Тот только за голову схватился, ужаснувшись…
В общем, скандал назревал еще тот. А самое нехорошее – грозил перетечь своим аморальным, страстно осуждаемым обществом в те годы адюльтером уже и на кафедру, и мог очень плохо кончиться для них всех. Потому что, как ни крути, а Мисюсь была членом семьи уважаемого Антона Павловича Званцева, и он тоже был за эту так называемую «аморалку» в большом ответе. Да и Тине достался бы от этой истории свой хороший кусок неприятностей – погнали бы из университета молодого преподавателя Званцеву, как и положено, по какой-нибудь очень уважительной причине, которая для таких случаев обычно всегда заранее и бережно заготовлена.
Положение спасла жена Ильи Александровича. Бывают на свете, слава богу, такие умные жены. Быстренько воспользовавшись приглашением Рижского университета, бросила в один день все и уехала туда на целых полгода, и Илью Александровича с собой утащила, правдами и неправдами выхлопотав и для него семестр лекций по зарубежной литературе. Там Илья Александрович благополучно и прозрел и одумался. И очень своей мудрой жене впоследствии был благодарен…
Антон Палыч долго потом на свояченицу сердился за эту историю. Как бы там ни было, а хорошего друга потерял. Потому что хоть и обошлось все, а осадок в душе остался. Тот самый осадок, который дружбу под корень разрушить может. Хотел даже в первом, самом яростном гневе Мисюсь обратно в Белоречье спровадить, но довольно быстро остыл. И Тина за сестру просила – жалко девчонку стало. В самом деле, глупая еще. Да и сама Мисюсь после этой истории испугалась, притихла совсем, как мышка. После ноябрьских праздников и впрямь пошла на подготовительные курсы при университете, и даже однажды – о чудо! – поднялась к Антону Павловичу в мезонин и попросила дать ей почитать что-нибудь из классики…
– Неужель и вправду поумнела? – насмешливо спросил он, доставая с полки пушкинские «Повести Белкина». – На, почитай вот «Барышню-крестьянку», что ли… Та еще хитрюга была эта барышня, вся в тебя…
– Да я не хитрюга, Антон Палыч! – обиженно вскинула на него глаза Мисюсь. – Просто… Просто вы меня не понимаете совсем… Ни вы, ни Тинка…
– И в чем это, интересно, мы тебя не понимаем?
– Ну, не всем же дано книжки любить. А вы только по себе о людях судите! А может, у меня другие какие способности? А вы – книжки да книжки…
– А что… Может, ты и права, слушай… – задумчиво и внимательно на нее глядя, произнес Антон Палыч. – И даже определенно права… Чего это мы к тебе так с этим чтением привязались?
– Ну так и я говорю…
– Тогда скажи: чем бы тебе хотелось заниматься? Вот скажи четко и определенно: чем?
– А вы сердиться не будете?
– Нет.
– Точно?
– Слово даю!
– Ну, тогда… Вы бы меня машину вашу водить научили, вот это было бы здорово…
– Машину?! – опешил от такого неожиданного заявления Антон Палыч. – Ну, Мисюсь, не знаю… Это ты у Тиночки сначала разрешения испроси… Чего это тебе вдруг такая фантазия в голову пришла?
– Не знаю! Хочу, и все! Давно хочу. Даже во сне вижу, как я руль кручу…
– Ну что ж, хорошо… – грустно-снисходительно усмехнулся Антон Палыч. – Машину так машину. Вот завтра прямо и начнем, если Тиночка возражать не станет…
Тина нисколько против нового увлечения Мисюсь не возражала. Очень тяжело пережив историю с Ильей Александровичем, она даже обрадовалась такому повороту событий. Тем более видела, как и сам Антон идеей этой неожиданно вдруг увлекся – свояченицу вождению научить. А уж про Мисюсь и говорить было нечего. Совсем будто подменили девчонку – и глаза интересом загорелись, и способности к новому занятию откуда ни возьмись проявились у нее недюжинные. Схватывала все с лету, ученицей была прилежной, чем вызывала к себе особого рода уважение. Потому что не полагалось юным девушкам в те времена баранку крутить. Совсем не женское это было дело. Считалось тогда, что у женщин мозги вовсе не так устроены. Антон Палыч Мисюсь в этом отношении даже похваливал. И удивлялся восторженно, насколько она способной автомобилисткой оказалась. И экзамены водительские с первого захода сдала, будто играючи. И Тина была довольна, что сложились у девчонки наконец с ее мужем хорошие и доверительные отношения…
В общем, и месяца не прошло, как Мисюсь стала гонять по городу на белом Антоновом «Москвиче» самостоятельно. При деле оказалась. Они и успокоились оба. Чем бы, как говорится, наше дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. А «дитя» и в самом деле тешилось напропалую. Сначала к ужину стала задерживаться, потом и до позднего вечера где-то пропадать… Они порой с ума сходили, ее ожидая. Правда, Мисюсь их успокаивала, что компанию себе нашла исключительно подходящую, сплошь только приличная «золотая молодежь». Все также за рулем, все из хороших семей, все прилично-дорого одеты…
– Значит, ты у нас теперь золотая? – насмешливо допрашивал ее Антон Павлович.
– А вы что, раньше этого не замечали? – кокетливо парировала Мисюсь. – А зря не замечали! Надо было давно присмотреться!
– Ну-ну… А ты, вообще, в курсе того, что умные люди про «золотых людей» говорят?
– Нет… А что говорят?
– А не все, мол, то золото, что блестит…
– Да ну вас, Антон Палыч! – махала на него беспечно рукой Мисюсь. – Опять вы за старое! Книжки свои, что ль, имеете в виду? Так это кому как! Я вот блестеть предпочитаю, а не бумажной пылью покрываться…
Антон вздыхал только. Надо же, упорная какая девчонка. Гнет свою линию, и все тут. Тиночка вот совсем, совсем не такая…
– Вы будто и не сестры, слушай! Ну ничего общего меж вами нет! Ни одной точки соприкосновения. Бывает же… – поделился он как-то своими наблюдениями с Тиной. – Разные вы, как небо и земля…
Странным отчего-то показался Тине Антонов голос, когда он их с Мисюсь сравнивать начал. Даже и не странным, а чужим каким-то. Будто нотка посторонней какой задумчивости в этом голосе появилась, которой раньше и не было. Антон же тем временем продолжал:
– А знаешь, Тин-Тин, в этой ее жажде хорошей, благополучной жизни что-то есть такое… такое… нам непонятное, в общем. Может, мы и правда с тобой не так живем, Тин-Тин? Может, не так уж и не права эта девочка, когда вступает в отчаянный бой за чисто материальные свои притязания? А? Как думаешь?
– Не знаю, Антон… – задумчиво отвечала ему Тина. – Тут дело вообще не в том, кто прав, кто не прав… Настоящей правды действительно никто не знает! Каждый своим путем идет. Тем путем идет, каким ему идти приятнее…
– Ну вот ты, например, рада была, когда из общежития в этот дом переселилась? Какое у тебя тогда чувство было? Ты радовалась? Или нет? Не помнишь?
– Нет, не помню…
Она улыбнулась ему виновато и лишь плечами пожала – действительно не запомнилась ей сама по себе та радость как таковая. Она тогда к нему, к нему переезжала, а не в его дом с мезонином! Чего это он… Да и вообще, все это благополучное и сытое по всем параметрам замужнее ее существование, как ей казалось, происходило и не с ней будто, а где-то рядом, в параллельном каком пространстве, ничуть не мешая и собой нисколько не искушая. Она даже покупку новых красивых туфель запомнила потому только, что в тот же день, наткнувшись в букинистическом на потрепанный томик Ахматовой, неслась домой как угорелая, чтоб похвастать перед Антоном приобретенной по случаю книжной драгоценностью, и все ноги себе в кровь стерла…
Нет, она старалась, конечно же, изо всех сил старалась выглядеть соответственно своему положению, и наряды хорошие, дорогие у портнихи шила. И он радостно на нее любовался, когда она перед зеркалом в них вертелась. И все равно благополучие это было для нее второстепенным, тут уж ничего она поделать с собой не могла. Главным был Антон, и только Антон. Настоящей, духовной да любовной с мужем близости это тряпочно-сытое благополучие никоим образом вроде и не касалось…
– Нет, Антон. Не помню я никакой такой особенной радости. Ты где угодно мог тогда жить, хоть в самом каком захудалом сарайчике – все равно я бы к тебе переехала. Не понимаю я счастья одной только сытости, хоть убей. Однобокое оно какое-то. Не хочу. Да и ты, я думаю, тоже…
– Ну да, ну да… – грустно улыбнулся ей Антон. – Конечно же, ты права, Тиночка… А только не пропускаем ли мы чего мимо себя, всегда носами в книжки да в диссертации свои уткнувшись сидим? А? Может, эта вот девочка как раз и видит в жизни то, чего мы не видим?
– Ой, боже! Что я такое слышу… – полушутя-полусердито покачала головой Тина. – Антон, да ты ли это, муж мой? Не узнаю тебя… Да отбери сейчас у тебя твои книги – умрешь же сразу! От тоски да несчастья с ума сойдешь в один момент! Вы посмотрите на него – сомнения его материальные одолели…
Махнув в знак понимания рукой, Антон Павлович лишь рассмеялся весело. И разговор этот никчемный прекратил. Однако надолго застрял еще в Тининой голове его то ли вопрос, то ли утверждение: «…А может, не так уж и не права эта девочка…»
Тем не менее жизнь их в доме с мезонином, казалось, наладилась. Мисюсь, смирившись с необходимостью получения высшего образования, регулярно посещала занятия на подготовительных курсах, с удовольствием гоняла по городу на Антоновой машине, отстаивала очереди в магазинах, добывая себе вожделенно редкие в те времена импортные тряпочки. И Тина с Антоном относились к этому вполне добродушно – пусть себе тешится девчонка, лишь бы глупостей больше не творила. Она их и не творила, казалось бы. А только в канун Нового года свалилась на них еще одна нехорошая история… До такой степени нехорошая, что, не подключи Антон к ней всех своих влиятельных знакомых, загремела бы девчонка в колонию, как пить дать…
Попалась Мисюсь в тот раз на «фарцовке», как говаривали в те то ли жестокие, то ли глупые времена. Перепродавала на пару с приятельницей из компании «золотой молодежи» втридорога те самые импортные тряпочки, которые удавалось добыть правдами и неправдами. Тогда многие этим безобидным, на современный взгляд, делом занимались, и ничего. Бывало, очень успешно даже. Тут, главное, надо было суметь извернуться да не засветить свой маленький бизнес так уж открыто. Меру надо было знать. А иначе попадешь в чуждые обществу проводники «загнивающего капитализма», потом от этого «загнивания» и не отмоешься… Вот Мисюсь и умудрилась в эти редкие, но очень показательные «проводники» попасть по неопытности. Когда им из милиции позвонили, Тина чуть с ума не сошла. Спасибо, хоть позвонили вовремя. Слава богу, что уголовного дела завести не успели. У Антона оставалось еще время, чтоб прокрутиться-подсуетиться по нужным знакомым…
– Ну вот скажи, чего тебе не хватает, Мисюсь? – горестно допрашивала сестру Тина. – Ну зачем, зачем тебе иметь больше, чем на самом деле надо? Не понимаю…
– Конечно, не понимаешь… – бурчала тихо в ответ Мисюсь. – Сама-то устроилась, смотри… И дом у тебя, и муж с приличной зарплатой… А я? А у меня что? Ничего и нет…
Антон только усмехался, слушая это ее злобное бурчание. Он вообще в последнее время перестал проявлять в отношении прыткой свояченицы какие бы то ни было эмоции. То ли привык к ее выходкам, то ли смирился… А у Тины руки опускались. Не знала она, что делать с сестрой. И вместе с отчаянием росло и росло чувство вины, что бросила тогда девчонку на отца с братом, да еще и влюбилась так безоглядно в Антона своего. А потом и сам Антон вдруг огорошил ее неожиданным разговором…
– Тиночка, ты знаешь, мне с тобой по одному щекотливому вопросу надо посоветоваться. Даже не знаю, как тебе это сказать…
– Что? Что, Антон? Говори. Что случилось? Опять что-нибудь Мисюсь выдала, да?
– Да ничего серьезного, собственно… Понимаешь… Ну… Я должен тебе это сказать, и все тут! Хотя и не знаю… Только не бери особо в голову, Тиночка! Договорились?
– Господи, да что такое, Антон? Говори уж, не пугай меня!
– Нет, ты не бойся. В принципе ничего страшного не случилось. Но Мисюсь, она… Фу, черт! Как это сказать-то?
– Что? Что – Мисюсь?
– Она недавно такой номер выдала! Представляешь, взяла и сказала, что очень любит меня…
– Да? Ну и что? Конечно же, любит! А кого ей еще любить? И меня, и тебя любит…
– Нет, ты не поняла, Тина! Как мужчину любит! Вообразила себе бог знает что… Детские фантазии какие-то…
– Нет, Антон… Что ты… Этого быть не может! Тебе показалось… Ты что-то не понял, наверное…
– Тиночка, я же мужчина все-таки. Все я понял как надо. Да и вообще… Все эти ее прикосновения-прижимания случайные, взгляд с поволокой, улыбки… Только не подумай ничего такого, Тин-Тин! Говорю же – мне и самому это все очень неприятно!
– А я и не думаю… – растерянно проговорила Тина. – Чего такого я должна думать? Бог с тобой, Антон… Она же ребенок еще.
– Ну да. Ребенок. А только этот ребенок по наличию эротической в ней стервозности может любой опытной женщине фору дать. Помнишь, как она Виноградского в два счета в себя влюбила? Если б Владюшка тогда его отсюда не увезла, бог знает чем бы все это закончилось. Юная женская стервозность – очень опасная штука, Тиночка!
– А зачем ты мне все это говоришь, Антон? – с ужасом подняла на него глаза Тина. – Как будто предупреждаешь… Или боишься?
– Ну почему боюсь? Я-то как раз не боюсь. Слушай, а может, ее и правда каким-нибудь образом замуж выдать? А то мне, знаешь, неуютно… Совершеннейшим идиотом себя чувствую. Дурная ситуация какая-то. Набоковский прям Гумберт Гумберт… Не хочу. Неприятно мне все это. Да еще и объяснение это в любви нелепое – прямо лоб в лоб…
– А что, она так и сказала тебе: люблю, мол?
– Ну да! Ты поговори с ней как-нибудь, Тиночка! Объясни ей по-женски… Это же глупо, это же пошло, в конце концов! И вообще, дальше так продолжаться просто не может…
Когда прошла первая оторопь после этого странного с Антоном разговора, Тина вдруг испугалась. Не за себя, за Мисюсь. Как будто опять ударил ее по лицу кто – это же сестра твоя, которую ты на попечение отца да брата бросила, счастье свое собственное строить начала… Тут же по глазам ударило и впрямь странноватое в последнее время поведение Мисюсь с ее волнующим грудным смехом, с предназначенными Антону многозначительно-откровенными улыбками, с молниеносными игривыми объятиями, которые ранее казались Тине всего лишь милым баловством да детской наивной непоседливостью. Подумав, Тина решила с сестрой очень осторожно на эту тему поговорить. Не задевая ее достоинства, мягко, по-матерински. Не верилось ей ни в какую «эротическую стервозность». Не могла ее сестренка быть такой. Глупенькая – да, наивная – да. Пусть даже и влюбленная в Антона – тоже может быть. Она ведь и сама в него влюбилась, будучи в ее возрасте… Нет, им действительно надо просто поговорить, и все разрешится само собой…
– Мисюсь… Я вижу, что-то с тобой происходит в последнее время… Ты другая какая-то стала, сестренка… Не хочешь мне рассказать?
– Ой, да чего такого рассказывать, Тин! Вечно тебе что-то кажется! Все, поумнела я, обещаю! Больше ни в одну историю не вляпаюсь, буду дома сидеть, к экзаменам готовиться…
– Да я не о том! Ты не бойся, я все-все пойму. Может, ты влюбилась, Мисюсь? Расскажи… Мы вместе решим, что делать…
– А что делать? – вдруг зло повернулась к ней Мисюсь. – Что, что мы можем сделать? И не ходи вокруг да около, я прекрасно понимаю, что ты хочешь мне сказать! Что я в твоего мужа влюбилась, да?
– Да, Мисюсь. Именно об этом я у тебя и хотела спросить…
– Ну так и спрашивай! А то – вместе решим, вместе решим… Чего ты из себя интеллигентку тут строишь? Передо мной-то зачем? Ревнуешь – так и скажи! По-простому! И не надо меня воспитывать, поняла?
– Успокойся, сестренка. Не злись. Давай все-таки поговорим.
– Ага, поговорим! И решим! Да что, что мы с тобой решим? Он же твой муж, и ты мне никогда его не отдашь! Умрешь, а не отдашь! Так ведь?
– Мисюсь, прекрати! – Все-таки перешла на повышенный тон Тина, не выдержав ее наглого напора. – Ты хоть понимаешь, что сейчас несешь? Понимаешь, в какое неудобное положение всех нас ставишь своими фантазиями? В конце концов, это же неуважение к Антону Павловичу… Он тебе не мальчишка-ровесник! И чего это тебе вздумалось вдруг вообразить, что ты в него влюблена?
– А… Он что, тебе сам сказал?
– Ну, это неважно… В общем, делай выводы, Мисюсь! Мне эта ситуация тоже очень неприятна! Не хочешь со мной говорить – пожалуйста! Но с Антоном Палычем, уж будь добра, веди себя прилично! Уж постарайся, чтоб мне не было за тебя стыдно!
– Тогда и ты веди себя прилично, поняла? И не надо из себя добрую любящую мамочку изображать! Давай поговорим, давай решим… Вот роди себе ребенка, его и воспитывай! А меня не надо! Да ты меня и не любишь вовсе! Не любишь! Не любишь! Я же вижу!
– Почему, Мисюсь? Я очень тебя люблю. Ты же знаешь… – снова оторопела от ее напора Тина.
– Да? Любишь? Да ты же только и делаешь, что постоянно унижаешь меня перед ним! Сюсюкаешь со мной, как с маленькой и глупенькой… И разговоры свои специально книжноумные при нем заводишь, чтоб показать, какая я дура неученая! Что книжек не читаю! Ах, поэтика чеховского языка! Ах, расчудесный его текст! Ах, грустный подтекст! – снова состроила Мисюсь злую гримаску, пытаясь изобразить присущие Тининому голосу интонации. – И вообще, не говори со мной больше об этом! Не хочу! Не хочу! И не нужен мне твой Антон Палыч вовсе! Раз он такой… такой… Раз он сам тебе все рассказал!
– А почему он не должен был мне этого рассказывать, Мисюсь? Я ведь ни ему, ни тебе не чужая. Ему, не забывай, – жена, а тебе – родная сестра…
– Да при чем здесь это? Жена, сестра… Ты не понимаешь! Не понимаешь! Я ему сама открылась, а он…
– Ты и в самом деле сейчас рассуждаешь как ребенок, Мисюсь. Как маленькая обиженная девочка. Девочка-эгоистка. Что из того, что сама открылась?
– А то! Я же думала, он порядочный! А он взял и все тебе рассказал! А мне теперь как быть? Знаешь, как мне больно? И ты тут еще со своими беседами! Уйди, Тина, не хочу я с тобой беседовать! Не хочу! Не хочу!
– Мисюсь, успокойся… Ты что, и в самом деле в него влюбилась? Но это же… Как же… И что нам теперь делать, Мисюсь?
– А что делать? Ничего не делать! Не бойся, ничего с твоим мужем не случится. Раз он такой, и не надо тогда ничего…
Расплакавшись, Мисюсь убежала в свою комнату и просидела там, закрывшись, до следующего утра. Даже к ужину не вышла. Приехавший с вечерних лекций Антон ни о чем Тину не спросил и отсутствия Мисюсь за столом как бы и не заметил. С этого времени у них вообще началась очень странно-неудобная жизнь. Многие вещи перестали проговариваться вслух, как бывало это раньше, и глаза у всех троих затянулись невидимой, но достаточно плотной дымкой недоговоренности, и детская резвость Мисюсь разом ушла из нее, обернувшись холодным уважительным смирением по отношению к «сестре-благодетельнице», принявшей ее в свой большой дом с мезонином… И по отношению к Антону Мисюсь изменилась, была с ним очень уж подчеркнуто вежлива. Так обычно ведут себя обиженные начальниками подчиненные, желая хоть каким-то образом продемонстрировать свою тайную обиду, которую по законам субординации просто так и не выскажешь. Хотя, на посторонний взгляд, семейные их отношения выглядели весьма прилично. Все, в общем, было так, как и раньше. Антон с Тиной уезжали утром в университет, вели долгие между собой интересно-творческие литературные разговоры, ходили в гости, вечером все собирались за ужином, и супружескими ночными радостями Антон с Тиной себя ничуть не обделяли, и любили друг друга по-прежнему. Антон, Тине казалось, даже намного чаще стал говорить ей о своей любви, чем раньше…
А только неудобство все равно поселилось в их доме основательно, незримо присутствовало за столом, в Мисюськиной неожиданной замкнутости, в быстрых и не по-детски злобных ее взглядах. У Тины даже однажды мысль вдруг в голове отчаянная промелькнула: а не отправить ли ей сестренку обратно в Белоречье? Нет, не от греха, как говорится, подальше – она и мысли ни о каком таком грехе до себя не допускала, – а ради того прежнего их с Антоном совместного в этом доме пребывания, которое порушилось так обидно после появления Мисюсь. Но она тут же строго себя оговорила, и порыв этот нехороший уничтожила на корню. Еще чего – обратно отправить! Нашлась тоже гедонистка-ревнивица. Прежние удобства жизненные, видишь ли, ей подавай! Глупости все это, глупости! Вот повзрослеет девчонка и сама поймет, что вела себя глупо… Да и в институт, хочет она или не хочет, поступать все равно надо. Сейчас без образования никуда. Там и жениха себе найдет. Ничего-ничего… Все обойдется, все образуется…
Так встретили они в доме с мезонином Новый год, который начался очень уж для них грустно, словно подхватил неловкую эстафету года прошедшего. Поначалу, конечно, он им хорошую новость принес – в самом начале января родился у Тины племянник, и она радостно поздравила Алешу и Свету с этим событием, пообещав по весне приехать к ним в Белоречье, чтоб взглянуть на Митеньку. Однако уехать ей туда пришлось гораздо раньше, через неделю буквально, следуя испуганным Алешиным призывам о помощи, – увезли Свету срочно в больницу, сердце ее больное все-таки закапризничало после родов. И Алеша весь чувством вины измаялся, и перепугался за жену вусмерть – сам уговорил ее рожать, хоть и запретили ей врачи… Тина хотела и Мисюсь с собой прихватить, да та вдруг страстно воспротивилась и ехать с сестрой не захотела ни в какую:
– Тин, ну ты что! Никуда я не поеду! У меня же курсы подготовительные! Сама же все время твердишь, что образование надо получить обязательно! Я только настроилась на эту учебу, а ты… И вообще, не понимаю я эту Светку! Сказали же ей врачи: нельзя рожать! А она… Вот сама теперь пусть и расхлебывает…
– А я думаю, тебе тоже надо поехать, Мисюсь! – решительно встрял в разговор Антон Павлович. – Как Тина одна с ребенком справится? Он грудной, только-только родился, у нее и опыта нет…
Ох, как больно кольнуло в Тинино сердце это «опыта нет»! Само собой кольнуло, безо всякой на Антона обиды. Осознанной, по крайней мере. Понимала, конечно, что он о ней беспокоится, но все равно больно было! Поэтому, может, и вырвалось-проговорилось у нее то, что у умной да любящей своего мужа женщины вовсе и не должно было вырваться-проговориться:
– Да ладно, Антон, пусть она остается! Пусть заканчивает свои курсы, может, и правда потом в институт поступит. А я справлюсь. Это ничего, что опыта нет. Все приходит со временем…
– Тин, а это надолго? – тоскливо-виновато спросил жену Антон, почувствовав что-то в ее голосе. – Я-то как без тебя буду?
– Я не знаю, – пожала плечами Тина. – Алешка говорит, Свету к операции готовить будут. Наверное, где-то с месяц придется там прожить…
Месяцем, конечно же, дело не обошлось. Больное Светино сердце продиктовало им другие совсем сроки, поскольку выдержало на себе аж три сложные операции. Так что вернулась Тина домой лишь по весне – сразу, как невестка ее поднялась на ноги. Алеша уговаривал еще какое-то время в доме пожить, боясь за жену, но Тина все же уехала, хоть и жалко было ей Митеньку, очень уж она к нему привязалась. Но ведь и по мужу тоже соскучилась! Наблюдая из окна купе, как он радостно-торопливо припустил за вагоном, встречая ее на вокзале, чуть не расплакалась от любви и жалости. А потом, позже уже, на перроне, обхватив его руками за шею, и впрямь расплакалась. И Антон все никак из объятий ее выпустить не мог. Так и стояли, будто вечность не виделись…
В доме все было по-прежнему. Мисюсь стрельнула в нее зелеными глазами, улыбнулась приветливо. Но на шею не кинулась – засуетилась, накрывая на праздничный по случаю Тининого возвращения стол. И жизнь потом началась тоже прежняя, очень для Тины счастливая рядом с любимым мужем. Жаль, длилась недолго. В конце весны перед самыми майскими праздниками она разболелась вдруг – свалилась с сильнейшей простудой. Лежала три дня в температурном бреду. А в ту роковую ночь вытащили ее из вязкого болезненно-горячего сна звуки разразившейся над городом первой весенней грозы – разряд, казалось, страшно и громко треснул где-то над самой головой, и следующая за ним вспышка озарила ярким коротким светом всю спальню. От испуга она нырнула с головой под одеяло, заботливо утыканное ей под бока еще с вечера Антоном. А вынырнув через какое-то время, обнаружила вдруг с удивлением, что его половина кровати пуста… Хотя она, конечно, и не придала этому такого уж большого значения. В библиотеке своей засиделся, наверное. Однако как страшно молния сверкает, господи! И дождь льет с таким шумом, как будто там, на улице, Всемирный потоп начался…
Посреди этого весеннего и страшного ночного грохота пронзительной трелью прозвучал телефонный звонок. Настойчиво так, непрерывно требовательно – так вызывала раньше своих абонентов междугородка. Тина тут же протянула руку, схватила поспешно трубку. И едва расслышала в ней из-за очередного разорвавшегося за окном грозового снаряда очень далекий, очень взволнованный голос брата Алеши:
– Тина! Тиночка! Ты слышишь меня? Приезжайте, Тиночка! Срочно! У нас тут горе…
– Что? Что случилось, Алешенька? – тоже закричала Тина в трубку.
– Света умерла…
– Как умерла? Как же так, Алешенька?
– Не знаю, Тин. Ничего не понимаю… Приезжайте! Я тут один с Митенькой, и Свету хоронить надо…
Трубка вдруг захлебнулась в ее руках то ли Алешиным плачем, то ли помехами из-за плохой связи и замолчала напрочь, не подавая больше никаких признаков телефонной жизни. Тина аккуратно положила ее на рычаг, села на постели, попыталась как-то принять эту горькую новость. Свету было ужасно жалко. Хоть и не успела она толком с невесткой подружиться, но свое к ней отношение определила для себя давно еще, по раз и навсегда принятому в жизни принципу: раз брат эту девушку полюбил, то этим уже обстоятельством она и для нее, Тины, автоматом есть любимая и родная, и самая хорошая-распрекрасная, и по-другому быть просто не может. А остальное – какой у нее характер да другие душевные качества – уже как бы и не суть важно, и ее не касается. Может, это было и неправильно, и попахивало неким к человеку снисходительным равнодушием, но лучше уж автоматом любить, Тина считала, чем автоматом не любить…
«Надо ехать. Прямо сейчас. Утренним поездом. Лучше б самолетом, конечно, да погода точно нелетная», – бормотала она, продвигаясь потихоньку к двери Мисюськиной комнаты и стараясь запахнуть поплотнее теплый халат – тело пробивала крупная нервная дрожь, будто оно вобрало в себя разом и температурную больную лихорадку, и горькую новость, и страх перед грозовыми ночными разрядами. Проходя мимо большого зала, вздрогнула страшно от новой ярко-голубой вспышки за окном, и будто иголками ледяными утыканное вмиг зашлось сердце от такого же ледяного предчувствия…
– Мисюсь! Мисюсь, открой быстрее! У нас горе, Мисюсь! Просыпайся! Света умерла… Надо ехать туда, Мисюсь…
Ей долго не открывали. Странная была за дверью тишина, тревожная и одновременно виноватая какая-то. Тина даже подумала, не случилось ли чего с ее сестренкой плохого, и совсем уж было хотела бежать в мезонин, к засидевшемуся в библиотеке мужу, как дверь вдруг распахнулась резко, явив ей на глаза самого Антона, застывшего в проеме бледным изваянием. Из-за плеча его выглядывала взлохмаченная Мисюсь, запахивающая на себе торопливо коротенький шелковый халатик…
В какой-то миг Тине показалось, что сверкнувшая за окном очередная молния ударила ей в самое сердце, потому что сразу закружилось-вспыхнуло перед глазами оранжево-болезненное огненное марево, и вырвало ее из жестокой реальности, и понесло куда-то быстро, чтоб не видела она больше этих виноватых, будто мутью отчаяния подернувшихся Антоновых глаз. А может, и впрямь унесло бы, если б не крайняя необходимость сейчас находиться ей здесь, в этом вот доме с мезонином…
– Собирайся, Мисюсь. Поехали. Надо на утренний поезд успеть. Света умерла. Алешка там один, – ровно и тихо проговорила она, пытаясь опереться дрожащей рукой о стенку. Ноги не держали ее. Но что поделаешь, падать было нельзя. Надо было идти собираться, надо было мчаться на вокзал, чтобы успеть к поезду…
– Тина… Что же это такое, господи… – срывающимся на гласных голосом прошептал Антон, направляясь следом за ней по коридору. – Погоди, не уезжай… Дай мне объяснить тебе! Это не я сейчас был, пойми. Иногда просто разум вдруг отключается, и все… Я и зашел-то к ней, чтоб прекратить все это сумасшествие… Прости меня, Тина. Очень прошу – прости… Я же люблю тебя, я не могу без тебя!
– Не надо, Антон. Потом поговорим, ладно? – торопливо, насколько могли позволять ей трясущиеся в коленках ноги, шагала по коридору в сторону спальни Тина. – Я не могу сейчас говорить. Уйди, пожалуйста, Антон.
– Хорошо, потом так потом. Как скажешь. А можно, я с тобой поеду?
– Нет. Уйди, Антон. Дай мне собраться. Потом, все потом… Господи, не соображу ничего… Где у нас чемоданы лежат, не помнишь? В кладовке, кажется… Или на антресолях?
– В кладовке. Сейчас принесу!
– Ага. Принеси.
Пока Антон бегал за чемоданом, она все стояла посреди их большой спальни, прижав руки к сердцу, будто боялась, что оно выскочит сейчас на твердый дубовый паркет и разобьется вдребезги. А что – и разбилось бы запросто. Последним звонким аккордом под звук утихающей уже весенней ночной грозы…
– Тиночка, давай я хоть на вокзал отвезу! – Вскоре очнулась она от мужниного за спиной виноватого, горестного голоса. Подумалось тут же: уж лучше бы он молчал. Потому что не шел совсем ему этот виноватый испуганный голос. Не соответствовал как-то этот голос тому Антону, которого она так сильно любила, который так был похож на любимого писателя. Антона Павловича Чехова. Хотя при чем в этой пошло-неказистой ситуации вообще Чехов?..
– Нет, Антон, не нужно. Лучше такси вызови. Правда, так будет лучше.
Когда они с Мисюсь вышли к подъехавшему к крыльцу такси, гроза уже совсем закончилась. И дождь почти перестал, только последние тяжелые капли с чувством выполненного природного долга плюхались в огромные свежие лужи, и небо отсвечивало холодной и влажной предрассветной бирюзой, которая к первым лучам солнца обещала засиять положенной ей утренней весенней свежестью. Молча сели в такси. Мисюсь, коротко и боязливо взглянув на Тину, робко и неуклюже махнула на прощание рукой выскочившему их проводить Антону. И на поезд они успели. Только молчали всю дорогу, изредка лишь обмениваясь расхожими фразами вроде «налей мне чаю» да «купи минералку на станции». Со стороны могло показаться, что едут вместе в купе посторонние друг другу женщины, случайные попутчицы…
Увидев почерневшего от горя Алешу, Тина расплакалась громко и отчаянно, забилась маленькой птицей в его руках. Мисюсь стояла поодаль, смотрела на нее то ли виновато, то ли сердито. Не плакала. Ее вообще как бы с ними и не было. Или была, но только в сторонке, будто она им чужая совсем. Как будто Светина смерть ее и не касалась никаким краем. И даже в процессии похоронной затерялась где-то среди черных женских платочков, не подойдя к Тине больше ни разу.
На поминках Алеша сильно напился. Когда ушли все к вечеру, сидел на крылечке, размазывал по лицу пьяные слезы, бил себя кулаком в грудь:
– Тинка! Мисюська! Ну вот куда я теперь с малым дитем денусь? А? Что я, баба, что ли? Что у меня за доля такая? Отцовская, да? Он вот тоже с Мисюськой малой один остался…
– Не надо, Алешенька, прекрати… Чего ты… Ребенок-то в чем виноват? Не надо, Алеша! Сын у тебя есть, ты ему радуйся! – как могла, увещевала его Тина, качая на руках мирно спящего малыша. – Свету жалко, конечно, но ты теперь о сыне думай. Ты ему теперь нужен…
– Да что с того, что он есть? Куда я с ним денусь-то? В декрет пойду? А работать кто будет? Нет, девки, не справлюсь я! Давайте будем придумывать чего-то!
– Ну что ты, Алешенька. Успокойся. Что тут такого придумаешь? Растить надо, воспитывать надо… Что же еще остается? А надо – и в декрет пойдешь! Ничего, Алешенька! Все устроится. А мы тебе поможем на первых порах, конечно же. Мы поживем с тобой столько, сколько надо…
– Слушай, Тин… – вдруг поднял к сестре красное заплаканное лицо Алеша. – А ты это… У тебя же своих-то детей с профессором твоим нет… Может, это… Может, ты его пока к себе возьмешь? А что? Понянькаетесь там с ним, а потом и видно будет… Он же тебе не чужой какой, родной племянник все-таки. Тем более он уже и привык к тебе. Свету-то, как из больницы выписали, он и не признавал даже. А к тебе привык! А что? Раз своих у твоего Антона нет, он и рад будет…
– Есть! – вздрогнули вместе Тина и Алеша от звонкого Мисюськиного голоска. – Неправда! Есть, есть уже у Антона свой ребенок! Понятно вам? Я беременная, понятно? Уже два месяца!
– От кого беременная? – хлопнул растерянно в сторону сестры хмельными глазами Алеша. – Не понял я…
– Да от Антона, господи! Тупой какой… От Антона Тининого я беременная! – громко и зло снова бросила ему в лицо Мисюсь. – То есть не Тининого, а моего теперь, получается! Он мой теперь, мой! И я сейчас же к нему поеду, понятно? И все ему про ребенка скажу! Раньше не говорила, а теперь скажу! И пусть все на свои места встанет! Теперь уж он от меня не отделается… И уж прости меня, дорогая сестренка, но ты сама во всем виновата! – Развернувшись всем корпусом к Тине и зло сверкая глазами, продолжала она говорить взахлеб, будто боялась остановиться на полуслове: – Не видишь никак, что муж твой здесь и сейчас живет, а не в том чеховском времени, в котором ты по дурости застряла! – И, скорчив мерзкую гримаску, добавила: – Может, конечно, твой любимый писатель и выгнал бы меня из своей спальни, а вот твоему мужу не удалось! Мужики, они ж все одинаковые… Хоть и измаялся весь потом, изошел на стыд свой интеллигентский! Ну ничего, теперь уж не до маеты ему будет, когда про ребеночка своего узнает… И все! И не говорите мне больше ничего! И сами теперь в этой дыре живите! А я больше не хочу!
Развернувшись, Мисюсь молнией заскочила в дом и тут же снова появилась на крыльце, уже с дорожной сумкой в руке. Вскинув голову, гордо прошла мимо Тины, мимо сидящего на ступеньке Алеши. Не обернувшись даже, быстро пошла к калитке.
– Ах ты, шалава… – только и смог пробормотать Алеша, с испугом оглядываясь на Тину. – Да я… Да я тебе сейчас за это башку оторву… Тин, да я догоню ее сейчас…
Весь налившись багровой краской и словно вмиг задохнувшись, он начал уже неуклюже подниматься с крыльца, но Тина вдруг окликнула его тихо и властно:
– Сядь, Алеша! Оставь ее. Пусть идет…
– Как же… Как же – идет, Тинка? А ты?
– А что я? Я здесь останусь. С тобой. С Митенькой. Не бросать же ребенка в самом деле…
– Тинка, да ты что?! С ума сошла? Да бог с ним, справлюсь я как-нибудь! Ты поезжай, Тинка, а то эта дрянь и в самом деле там делов наворотит… Гордость-то твоя тебе боком потом и выйдет!
– Да при чем тут гордость… Ладно, Алеш. Не суетись. Не поеду я. Проживем как-нибудь. Работать будем, Митеньку поднимать…
Она хотела добавить пришедшее некстати в голову чеховское «…еще увидим небо в алмазах», да не стала. И впрямь, какие уж тут алмазы…
С тех пор Тина Мисюсь не видела. Через месяц на белореченскую их почту пришла большая посылка с Тиниными вещами, с адресом на грубом холщовом мешке, выведенным старательно неровными детскими буквами. Так буквы писала только Мисюсь, будто они прыгали у нее друг от друга весело в разные стороны. Буквы-попрыгуньи. Веселые такие буквы. Веселые, как и сама их попрыгунья-хозяйка…
Глава 7
Заснуть Тине в эту ночь так и не удалось. Разгулялось-распоясалось в ней былое, как будто ему дверь на свободу наконец открыли. Странно как. А она думала, что и не помнит своего прошлого в таких тонких мельчайших деталях… Спать легла только на рассвете, но так и провела попусту остаток ночи до первых, горячих с самого утра солнечных лучей. Они настырно проникали в комнату через открытое окно, лезли в глаза, играли на стене веселыми зайчиками, отпрыгивая от большой хрустальной вазы с полевыми цветами, что недавно принесла с прогулки по лесу Анюта. Что ж, видно, день будет знойным и душным, раз так солнце с утра распоясалось. А еще – суетливым и счастливо-семейным. И в самом деле, чего его отменять для радости, этот новый день? Ну, не спала ночь, ну, провела ее в горьких думах-воспоминаниях – это разве повод для отмены этого дня, как такового? Ничего не повод! Чего это она… Сегодня воскресенье, сегодня обязательно придет Митенька с юной своей женой Мариной. Олег Анютин из города приедет. И Леня обязательно зайдет… И надо обязательно к вечеру баню истопить…
Во дворе требовательно залопотала что-то на своем младенческом милом языке Сонечка, и тут же потек ей навстречу Анютин ласковый голосок:
– Тише, тише, доча, не кричи… Бабушку разбудишь! Пусть бабушка поспит еще маленько, правда? А мы с тобой давай по травке погуляем, цветочки потрогаем… Ах, они, цветочки, какие красивые…
Тина улыбнулась, выгнулась в спине, потянулась сильно. Подставив лицо солнцу, полежала еще пять минут, словно вобрала в себя нежную утреннюю его ласку. Нет, все-таки хорошая штука жизнь! Несмотря ни на что, хорошая! По крайней мере, первые утренние лучи солнца, рассветы-закаты, запахи-звуки счастливых июльских дней никто для нее отменить не в состоянии. Да и не только июльских! И осенью, и зимой жизнь звучит хоть и по-разному, но той же самой музыкой, которую можно слушать и слушать, можно в ней жить и жить, не засоряя это жизненное счастливое пространство глупыми желаниями да пустыми амбициями. Жаль, что никто этого видеть-слышать не хочет… А может, уже и не может. Потому что умеющая звучать в человеке жизненная музыка суеты да амбиций не терпит, убегает от них сломя голову подальше. Хрупкая она очень. И нежная. Убежала – и не вернуть ее уже никогда. И по-настоящему счастливым себя не почувствовать…
Поднявшись с постели, Тина прошла по нагретому солнцем домотканому коврику к окну, тихо рассмеялась от умиления, наблюдая, как дочка с внучкой, забавно-одинаково сморщив носы, нюхают огромную шапку белого георгина, склонившего к ним радостно гордую головушку – нате, мол, девочки, вдыхайте в себя мой нежный запах…
– Анют, да я не сплю! Давай сюда Сонечку! А ты пойди, доченька, свари-ка мне кофе покрепче. Так, как ты умеешь. Ага?
– Мам, ты так и не заснула ни минутки, да? – подойдя к ней поближе и внимательно вглядевшись в ее лицо, спросила Анюта. – Может, еще полежишь? У тебя лицо такое…
– Какое, Анют?
– Бледное очень. Осунувшееся. Одни глазюки зеленые торчат… Ты как себя чувствуешь-то, мам?
– Да ничего, дочка. Замечательно себя чувствую. Я сильная, ты же знаешь…
– Конечно, знаю… – грустно вздохнула Анюта. – Ты самая сильная, самая добрая, самая умная, самая хорошая на свете мать и бабушка! И силы твоей, доброты да ума на всех с избытком хватает… И все это очень замечательно, мам, но давай я все-таки отцу позвоню, пусть он придет! Давление тебе измерит, сердце послушает… Может, укол какой-нибудь сделает. Ну смотреть же на тебя невозможно!
– Да ну тебя, Анют! Что я, бабка старая? Подумаешь, ночь не поспала! Так теперь в панику из-за этого впадать и врача вызывать? Да и дежурство у него сегодня с утра. Он только к обеду освободится и сам сюда придет. И без тебя ко мне пристанет со своими тонометрами да фонендоскопами…
– Вот и хорошо, что пристанет! К тебе не пристань, ты ж сама никогда не пожалуешься! Молодец папка! Объявлю сегодня ему, пожалуй, благодарность семейным приказом…
– Ну-ну! Давай…
– Мам… Давно, кстати, спросить хочу… А ты почему за отца замуж не вышла? Он же любил тебя! И сейчас любит…
– Так и я его тоже люблю, Анют! Мы очень близкие, дорогие друг другу люди. Разве для того, чтоб быть ребенку настоящими родителями, обязательно нужно под одной крышей жить? Вовсе нет.
– Да это понятно, мам! Я ведь не про это спрашиваю! Неужели ты мужа своего – того, из другой жизни, – так любила, что ничего больше не захотела построить?
– Любила, Анют.
– А папу?
– И папу твоего любила. Только тут другое, понимаешь… Не могла я за него тогда замуж выйти. Раздвоиться, разрубить себя пополам не смогла. Хотя и была очень, очень твоему отцу благодарна! Он спас меня тогда, тобой и спас. Пришел на помощь, как всегда. Как Сивка-Бурка…
– Мам, расскажи! Мы же с тобой никогда про это не говорили!
– Да? Ну что ж, давай! Иди кофе вари. Сядем побеседуем…
Для утреннего кофе Анюта накрыла маленький столик, уютно расположившийся под грушевыми толстыми ветками. Старое это дерево почему-то ни у кого не поднималась рука срубить, хоть и не плодоносило оно давно. Будто было долгие годы членом их семьи, старым, мудрым и заслуженно дорогим. Умывшись, Тина села за стол, с наслаждением вдохнула в себя терпкий кофейный дух, сделала первый обжигающий глоток. Хорошо… Подумалось ей вдруг, что и в этой утренней чашке кофе есть своя жизненная минута счастья, только поймать ее да прочувствовать надо. А дальше они сами собой пойдут, минуты эти, одна за другой. Дай им только волю…
– Мам, ты хотела про папу рассказать! – тихо напомнила ей Анюта, усаживая Сонечку в раскинутый неподалеку детский манежик.
– Я помню, дочка, помню. Не знаю вот, с чего и начать, чтоб ты поняла меня правильно. Начну, пожалуй, с Митеньки…
На первых порах тяжеловато Тине дались ее добровольно взятые по отношению к племяннику постоянные материнские обязанности. Неспокойным малыш был, ночами не спал, все плакал. А что делать – на искусственном питании особым младенческим здоровьем не разживешься. Тина с ног сбивалась, но с рук Митеньку не спускала – жалко было мальчишку. Так и кружила с ним ночами по дому. Только положит в кроватку – он тут же криком заходится…
Алеша приходил вечерами с работы усталый, лицом серый. Иногда и сильно выпивши… Тина его не ругала – некогда было, да и жалко. О Мисюсь они больше не вспоминали. Словно не было у них никогда беспокойной младшей сестренки. И об Антоне Тина изо всех сил старалась не вспоминать. Хотя и екало сердце каждый раз, когда мимо ворот вдруг белый «Москвич» проезжал или мужчина какой похожий проходил мимо дома… И снился он ей часто. Иногда так крепко снился, что, просыпаясь от Митенькиного плача, она в первую секунду не могла понять, где и находится. А когда понимала, тут же хотелось соскочить, схватить в охапку Митеньку да бежать на вокзал к поезду. Но во вторую уже секунду порыв этот сам по себе угасал. Потому что непременно виделась ей во вторую эту секунду Мисюсь с округлившимся животом, и будто тоже сам по себе включался в голове некий счетчик: два месяца да плюс еще три месяца, итого уже пять месяцев Антонову ребеночку будет… Вздохнув, она улыбалась сама себе грустно и, пока шла к Митенькиной кроватке, старалась грустную эту улыбку с лица убрать побыстрее. Ни к чему Митеньке ее видеть. И чувствовать ее грусть-печаль тоже ни к чему…
Душой к племяннику Тина приросла очень крепко, была и впрямь ему вместо матери. Открылось в ней вдруг материнское чувствование во всей своей земной радости, и даже внешне, все говорили, она изменилась – округлилась да размякла-порозовела, словно мадонна какая. Иногда ей даже казалось, что чуть-чуть, и появится у нее грудное настоящее молоко, так необходимое бедному ее малышу-искусственнику. И он, как ни странно, все время ручонками ее за грудь теребил, словно своей природной еды требовал. А потом и вообще стало казаться, что никакой ей Митенька не племянник вовсе, а самый что ни на есть родненький сыночек. Что она сама его и выносила все девять положенных месяцев, и родила сама…
А только оно, материнство ее неожиданное, как пришло, так и ушло в одночасье, порушилось в один прекрасный вечер, оборвалось совершенно для Тины жестоко. Тут уж как ни называй, а результат получается один – горький очень. Потому как привел Алешенька в одно из воскресений в дом милую девушку, невестой своей представил. Митеньке вот-вот годик должен был исполниться…
– Ну все, Тинка! Считай, конец пришел твоим мучениям! А то меня совесть совсем уж загрызла – уселся бедной сеструхе на шею и ножки свесил! Ты давай знакомься – это Варька, жена моя будущая. Да чего там будущая – сейчас уже жена, стало быть…
– Здравствуйте… Здравствуйте, Варя… Проходите… – лепетала Тина, вежливо улыбаясь девушке и прижимая к себе и без того вцепившегося ей в шею пухлыми ручонками Митеньку. – А вы сами откуда, Варенька? Вы наша, белореченская? Вы жить у нас будете?
– Нет, я нездешняя. Я из Устинова… Слышали про такой городок? Это двести километров отсюда. А сюда я на практику приезжала. У меня дома, знаете, мама больная одна осталась, так что мы с Алешей к нам жить поедем…
– Ну, Варька, иди же, знакомься! – выдирая из Тининых рук враз заплакавшего Митеньку, проговорил Алеша. – Теперь это твой сынок будет…
– Алеша! Алеша, не надо! Не трогай его! Видишь, он боится? И вообще, он ко мне привык… Не отдам я его… Ты женись на здоровье, уезжай куда хочешь, а Митеньку я не отдам! Привык он ко мне! Дай его сюда, не мучай ребенка…
– Тин! Да ты что? Ты в своем ли уме, сеструха? Он же мой сын! Как я его брошу-то? Нет уж, пусть сын при отце родном растет, так надежнее будет! Да и тебе свою жизнь как-то надо устраивать…
– Да какую такую жизнь, Алеш?
– Как это – какую? Что я, не вижу, как Ленька Андреев вокруг тебя круги нарезает? Так и шастает сюда каждый день! Как будто ему в своей больнице делать нечего! Его люди на приеме ждут, а он сюда мчится – ах, у Тиночки Митенька чихнул… Да он даже и врач-то не детский! Чего он в ребячьих болезнях вообще понимает?
Тина промолчала, ничего на это Алешеньке не ответила. Потому что все, что он говорил, было совершеннейшей правдой – Леня Андреев действительно ходил вокруг их дома. Как Тина появилась в Белоречье, так и кончилась относительно устроенная жизнь ее бывшего друга-влюбленного. И тишайшая ее подружка бывшая, Полинка, жена его, тоже покой потеряла. Пришла к Тине как-то то ли на судьбу пожаловаться, то ли за мужа просить…
– Тиночка, ты понимаешь, я ведь не могу без него вовсе! Оставь ты его мне, Тиночка! Ты же вон какая раскрасавица, ты себе сто раз другого найдешь!
– Полечка, ну что ты меня уговариваешь, как будто я врагиня-разлучница какая? И не думаю я ничего такого, и в мыслях нет…
– Правда? – с надеждой заглядывала ей в глаза Полинка. – А ты меня не обманываешь? И правда меж вами ничего такого не было?
– Нет, Поля. Слово даю. Не было. И не будет ничего.
– Тиночка, я сейчас очень жалко выгляжу, да? Пришла, за мужа прошу… Знаю ведь, что он тебя любит, а все равно прошу…
– Да нет, Поль, ты не жалкая. Ты такая, какая есть. Не примеряй на себя платье чужой гордыни, не для тебя оно сшито. Раз тебе важно провести свою жизнь рядом с любимым, значит, так тебе и полагается, несмотря ни на что. Каждый же от себя свою жизнь пляшет…
– А ты? Ты-то ведь не стала за своего мужа бороться? Ведь ты все еще его любишь, да, Тин? – тихо спросила Полинка, осторожно заглянув в зеленые грустные Тинины глаза.
– Да. Люблю. И бороться не стала. Тут другое, Полин… Не смогла бы я за него бороться…
– Почему? Гордыни много? Или из-за Мисюськи? Она ведь к нему уехала, да? Все Белоречье только об этом и толкует, Тин. Все возмущаются и тебя очень жалеют. Вот же зараза какая девка, правда? Носились-носились с ней, а она… Взяла и подвинула сестру! Мне так жалко тебя, Тиночка… Хотя ты сильная, тебе все нипочем. Это мне страшно в разведенках остаться, ужас как страшно! Как подумаю, так в глазах прямо темнеет. А тебе ведь не страшно, Тиночка? Хотя тоже страшно, наверное. Это после такого позору, когда родная сестра в разлучницах оказалась…
– Поль, прекрати! Хватит! Давай мы это с тобой обсуждать никогда не будем. Не спрашивай меня об этом больше никогда, ладно?
– Хорошо-хорошо, Тиночка! Не буду, не буду… Так, значит, слово насчет Лени ты мне дала? Не уведешь его от меня? А то ведь тебе только пальцем поманить и осталось!
– Нет, Полечка, не уведу. Живи себе спокойно…
Однако слова своего, так уж получилось, Тина не сдержала. Затосковала страшно после того, как Алеша увез-таки от нее Митеньку в новую свою семью. Так затосковала, что хоть в петлю лезь. Отвернулась от нее тогда совсем жизнь, никакой такой музыки изнутри больше не слышалось. Сплошная глухомань да темень внутри поселились. Если б не Леня, точно б не выжила она тогда, свернуло-скрутило бы ее в трубочку черное тоскливое одиночество…
Нет, одиночества, как такового, Тина совсем не боялась. Было оно не страшным, а иногда даже и необходимым состоянием, было «временем чистки-уборки души», как часто говаривал Антон. Они с ним вообще с полуслова-полувзгляда понимали друг друга и часто давали один другому время на это самое одиночество. Боже, какая жизнь у нее была там, в доме с мезонином – с огромной библиотекой, с душевным комфортом, с любовью, с тихой музыкой счастья внутри… Нет, не боялась Тина одиночества. Боялась обиды, которая могла войти в нее полностью всей черной своей сутью, забрать ее себе на долгие годы, стать полноправной ее хозяйкой. Может, из-за страха оказаться с обидой этой один на один да не победить ее она и не отправила Леню в один из вечеров домой, как обычно, нарушив данное Полинке слово. А потом и на другой вечер он у нее задержался до ночи, и на третий… Полинка, правда, больше к ней не приходила. Терпела, наверное. Что и говорить – домой-то Тина «спасителя» своего честно отправляла, хоть и под утро иногда…
В общем, действительно спас он ее тогда, отогрел своей любовью, вытащил из черной внутренней глухомани, силы для жизни дал. И не только силы. Еще кое-что произошло с Тиной за время этого «спасения». То самое и произошло, чего по всем ранее принятым от жизни приговорам-обстоятельствам вовсе не должно было с нею произойти. Но произошло же! Взяла и плюхнулась в обморок посреди урока в белореченской родной школе, куда устроилась на работу учителем русского языка и литературы, перепугав бедных восьмиклассников вусмерть. А потом, в больнице уже, вылупила глаза от удивления на старую врачиху, которая сообщила ей менторски-равнодушным голосом:
– Да вы, милая моя, беременны… А что такое? Почему вы на меня с таким ужасом смотрите?
– Нет, я не с ужасом… Просто этого не может быть, знаете ли… – пролепетала совсем уж невразумительно Тина, торопливо натягивая на себя одежду.
– То есть как это – не может быть? Почему? Вы не хотите ребенка, что ли?
– Я?! Что вы! Я-то хочу, конечно! Но понимаете, мне ведь врачи сказали, что у меня никогда не будет детей… Что у меня матка неразвитая, как у десятилетней девочки…
– Да глупости вам сказали, милая! – рассердилась вдруг на ее лепет врачиха. – Матка как матка, и срок у вас где-то пять-шесть недель уже…
– Да? Правда? Нет, этого быть не может… Ой, чего это я… Спасибо! Спасибо вам, конечно! Если б вы только знали, какое вам спасибо… – попятилась Тина к двери, со священным ужасом продолжая пучить на удивленную докторшу глаза, одновременно ей улыбаясь и часто-часто кланяясь, как заведенная ключиком кукла.
– Хм… Да мне-то за что? Странная вы какая… – пожала плечами врач, подумав про себя, что такую вот действительно странную женскую реакцию видит, пожалуй, впервые. Чтоб растерянность от услышанного так эмоционально переплеталась с радостью – это очень редко встречается. Обычно бывает или грустная растерянность, или просто радость…
А вечером Тина огорошила своей новостью и Леню. И все трясла его, расплывшегося в счастливой улыбке, за плечо, все требовала с него каких-то объяснений случившемуся:
– Вот скажи, ну как это могло произойти, как? Неужели тот профессор-светило мог ошибиться? Он же меня всю вдоль и поперек обследовал, он же точный и окончательный приговор-диагноз свой вынес! Леня! Ну как же это… Он же так уверенно тогда сказал: детей не будет… И мне, и мужу сказал… Неужели он ошибся, Лень? Ну как же это?!
– Да какая теперь тебе разница, Тинка, что да как… Главное, ребенок у нас с тобой будет! Радость-то какая, Тинка! А насчет твоего профессора я тебе вот что отвечу: не мог он, конечно же, ошибиться. Скорее всего, что не мог.
– Ну так… А как же тогда?
– А вот так! Просто природа взяла и распорядилась твоим организмом по-своему – подарок такой тебе сделала. Митеньке, племяннику своему, спасибо за него скажи…
– Почему Митеньке?
– А потому! Ты ж его на руки в каком возрасте приняла?
– Так сразу почти. Света пришла с ним из роддома, а через две недели в больницу попала…
– Ну вот! Получается, что практически год целый ты его с рук не спускала? Кормила-поила-нянчила… А главное – любила по-матерински, по-настоящему! А природа-матушка – она что? Она и сама обманываться в таких случаях рада! Взяла да и включила твой организм на настоящее материнство! Ты, Тинка, его, материнство это, заочно, считай, заслужила, потому и организм твой на Митеньку так вот среагировал… Да не пялься ты на меня так, никакого здесь чуда нет! Так бывает иногда. Редко, но бывает. Человеческую природу, ее в рамки грубо-медицинские вообще вогнать нельзя. Она сама свои законы диктует. Вот и тебе продиктовала…
– Ой, Ленька… Неужели это правда? Ой, счастье какое…
– Конечно, счастье! Надеюсь, сейчас-то ты меня домой уже не погонишь? Ребенок ведь у нас будет! И я, как честный благородный мужик, просто обязан теперь на тебе жениться… Пойду я, вещи соберу, ладно, Тин? Или не надо вещи? Или Полинке все оставить? Хотя зачем ей мои носки, пиджаки, галстуки…
– Леня! Остановись! – властно окликнула его Тина. – Никуда ты от жены своей не уйдешь, понял? И вообще – не забыл ли ты, что у тебя уже есть ребенок? Вот и расти его, ему тоже отец нужен! А я как-нибудь сама… Я… Спасибо тебе за все, Ленечка…
– То есть как это сама? Ты что, Тинка? Я ведь уже не могу по-другому… Да я живу в последнее время только тобой! Меня сюда, в твой дом, как магнитом тянет. Знаешь, вот сидел бы и смотрел на тебя целыми днями. И даже на работу бы не ходил. Ну как, как я без тебя? Не гони меня, Тинка… Или ты из-за Полинки так решила? Добродетель свою поранить боишься, да?
– Лень, не надо! При чем тут добродетель?.. И Полинка тут ни при чем. Просто так надо. Не могу по-другому. Не обижайся. Ну, пожалуйста… Уходи, Леня. Я и правда хочу побыть одна…
– Значит, мы к этому разговору еще вернемся?
– Нет, Лень, не вернемся. Не будем мы с тобой вместе жить. Нельзя. Обман это.
– Не любишь меня, значит?
– Нет, Лень, не люблю. Прости. Ты добрый, ты замечательный, ты спас меня, но все равно – прости…
– Ладно, Тин… Но ребенка-то я имею право признать?
– Да, конечно. Как захочешь…
Конечно, жестокость свою по отношению к Лениным чувствам Тина с трудом вынесла. Получилось, что всех она обманула – и Леню, и Полинку. Но ведь не ангел же она с крылышками, в конце концов! Просто человек, просто женщина. Женщина, радующаяся предстоящему своему подарку судьбы – материнству…
А через три месяца привезли Тине из Устинова и Митеньку. Не справились молодой папаша с юной мачехой с капризным малышом, решили обратно тетке отдать на воспитание. Тем более и она этому страшно рада была. Митенька вцепился ей в шею намертво и не оторвал своей белой головки от Тининого плеча до тех пор, пока Алеша с заплаканной виноватой Варей не скрылись за калиткой. Потом только отстранился чуть, заглянул счастливо-хитро Тине в глаза и протянул радостно: «Ма-а-а-ма…»
Так и осталась Тина жить в белореченском доме – без мужа, зато при двоих детках.
Анютка ей досталась довольно легко – и беременность свою она выносила без осложнений, и роды прошли по всем акушерским законам-правилам как по маслу. Уже на третий день из роддома домой выпросилась – душа не стерпела. Митеньку-то пришлось на это время к соседке тете Тане пристраивать. Леня хотел к себе его забрать, конечно, да она не дала. Чего зря Полинке душу травить? И так она перед ней виноватая оказалась, что слова своего не сдержала…
Потом трудно пришлось, конечно. Какая там у учительницы сельской зарплата – слезы одни. Только успевай поворачивайся по хозяйству, чтоб двоих детей накормить, одеть, обуть. Леня, конечно, очень помогал. Да и Полинка из-за Анютки на Тину обиды, как выяснилось, не держала и даже пыталась привечать девчонку совсем по-родственному. Хотя от Тины все равно старалась держаться подальше. Все боялась – чего люди скажут… А вот Алеша сыном не интересовался почти. В Устинове у него в свое время жизнь не заладилась, уехал он оттуда в другой город да к другой женщине, оставив Варю с трехлетним сынишкой на руках. А потом и с той развелся, и снова женился… В общем, не до Митеньки Алеше было. Да и Тина не жаловалась – бог с ним, с братцем, был бы жив да здоров. И некогда ей было особо на жалобное нытье исходить, работа да домашнее хозяйство все время отнимали.
Учительница из нее получилась, по общепринятым меркам, наверное, так себе. Слишком уж доброй да покладистой она детям казалась, заботами об особом учительском авторитете себя не обременяла, палочной дисциплины на уроках не устраивала. Уроки ее вообще больше на диспуты походили, на которых она была лицом по счету десятым – стояла обычно в сторонке у окна, наблюдала за ребячьими жестами, мимикой, нескладным порой выражением мыслей. Но – мыслей же! Главное, Тина считала, чтоб она в голове у ребенка появилась, мысль эта. Чтоб своя, собственная была, а не из учебника зазубренная. Потому что литература – это вам не математика с физикой, где без зубрежки формул не обойдешься. Литература – она вольности мысли требует, и вкуса к хорошему слову, и право выбора для себя этого самого слова. Ну что сделаешь, например, если человеку писатель Горький не нравится? Не его это писатель, и все тут. А вот писатель, например, Набоков нравится. И слава богу, что со вкусом своим к тексту человек определился. Нашел свою волну. Никто ж не может никому творчества писательского навязать. Права не имеет. Потому как можно со школьных лет так его «навязать», что человек в последующей своей жизни вообще ни одного классика в руки не возьмет…
Правда, Тина замечала с огромным сожалением, что пылкость юношеская из года в год на ее уроках-диспутах все больше угасала наперекор наступающему вплотную демократическому вроде бы времени. Вот же грустный какой парадокс! Говорить можно уже все, а разговора не получается. Вместо умного задора в глазах одно только тоскливо-насмешливое ерничество да туповато-нагловатое равнодушие. И презрение. Презрение ко всему: к месту, где живешь, к учителю, вложившему в тебя душу, к родителям, месяцами не получающим зарплату… Иногда Тине становилось просто страшно смотреть в эти детские глаза. Больно и страшно. Но мысли эти и страхи она от себя гнала, потому как искренне полагала, что нет у нее на эти страхи никакого учительского права. Нет, и все. А есть только святая обязанность в отношении того самого, сто раз уже осмеянного разумного-доброго-вечного, которое ни один общественный строй, пусть самый распоследний демократический, отменить не в состоянии. И потому сохраняла, как могла, учительскую свою бодрость ритма. И слава богу, была она на этом пути не одинока. Героическом, можно сказать, пути. Ну да, а как вы хотите? Попробуйте сохраните-ка ее, эту бодрость ритма и духа, наблюдая, как почти по-некрасовски нищает родное, богато-красивое некогда село! Когда окна добротных прежде домов-крестовиков смотрят в твою душу пустыми, разоренными глазницами окон, когда некрасовское «…с крыш солома скормлена скоту» предстает взору воочию, когда «обтерханный мужик», его же, некрасовский, персонаж, может запросто взять и встретиться вам на улице или даже прийти, например, на школьное родительское собрание…
И в самом деле, уважаемый городской и относительно рафинированный житель, вглядись когда-нибудь – просто так, интереса ради! – в эти святые лики сельских учительниц, в эту их огрубелость, идущую от буйных весенних и дождливых осенних ветров, в эти их давно для города немодные наряды и прически, в эту совсем не стильную и не мадамскую, а очень даже по-деревенски осанистую твердость тела, в эту уверенную и в то же время будто извиняющуюся за свой деревенский почти вид улыбку… А главное – в глаза их посмотри повнимательнее, уважаемый городской и изысканный, рафинированный житель! Посмотри – не пожалеешь! Ты в этих глазах увидишь не только отлично-добросовестное знание школьного предмета – это само собой, разумеется. Ты в этих глазах увидишь такое, чему стоит до земли поклониться: и настоящую, искреннюю любовь к детям, и горькую любовь к родному порушенному месту, и преданную любовь к жизни, какой бы трудной и многострадальной она ни была, и подвижнически-святую любовь к нашей русской культуре, и личную за все это ответственность, если хотите. А главное, увидишь вот это – ту самую бодрость ритма и духа, которой так не хватает тебе, о рафинированный и изысканный городской житель. Ведь правда не хватает? Чего уж греха таить…
Хотя Тина, будучи той самой сельской школьной учительницей, к героической армии этих женщин себя вовсе не причисляла, потому как оказалась в их рядах несколько поневоле. Может, потому и страх от вокруг происходящего на нее чаще других нападал, и даже, стыдно признаться, тоска иногда приходила… Слава богу, было у нее от этой тоски свое собственное, замечательное лекарство: можно всегда взять в руки чеховский томик и уйти с головой в его мудро-смешливый текст, напитать душу его достоинством, а самое главное – будто так вот с Антоном своим поговорить. Представлялось ей, что он, любимый ее Антон Павлович Званцев, тоже читает сейчас эти самые строчки, и так вот невзначай встречаются они иногда душами. Не любила Тина только чеховского «Дома с мезонином» – перелистывала быстро страницы, будто боялась, что выскочит из них сейчас живая Мисюсь… Бедная чеховская героиня, настоящая милая Мисюсь, тебе-то за что такое наказание от Тины досталось?
Тем не менее все шло и шло своим чередом, и чередом вовсе для Тины неплохим, как она сама искренне полагала. Потому что жили они маленьким своим семейством замечательно. Несмотря на все материальные трудности – куда от них денешься? А раз никуда не денешься, то лучше обойтись без истерики по поводу этих самых трудностей да нехватки пресловутых материальных благ. В общем, весело жили. И весело же старались кусок получше за столом друг другу подсунуть – Тина для Митеньки, Митенька для Анютки, а Анютка, конечно же, тут же пыталась переправить его обратно в тарелку милой матушке… Так незаметно и годы прошли, и Митенька с Анюткой выросли. Крепенькими выросли, статными, сильными да умно-спокойно устроенными. Митя женился, вместе с тестем новый дом себе поставил. Хороший такой дом, разумно на высоком берегу реки расположившийся. Все старался, чтоб с крыльца знакомый белый берег полностью глазам открывался. И жену себе хорошую нашел, рыжую конопушку Маринку, бывшую Тинину ученицу. Из тех, у которых глаза на уроках литературы мыслью все-таки загорались. И еще какой мыслью! Однажды Маринка, Тина помнит, написала такой замечательный реферат, который взял да и занял первое место на областном конкурсе! И тему сама придумала – образ писательницы Татьяны Толстой, живущий в ее прозе, сопоставила с образом той же самой Татьяны Толстой как телеведущей «Школы злословия»… Каково? Прям точно по Бахтину… Это ж надо! Самой бы Тине такое и в голову не пришло. Очень умная девочка. Хотя сама Маринка твердит, что на Тининых уроках так вот думать-сопоставлять научилась. Что ж, хорошо, если так. Значит, благословенна и дальше будет учительская эта бодрость ритма и духа – Маринка-то после школы не куда-нибудь, а в педагогический институт поступила. Правда, на заочный теперь пришлось перевестись по причине грядущего в молодой семье прибавления. Сказали, мальчик будет. Надо бы их попросить, чтоб назвали малыша Антоном…
– Как думаешь, Анют? Ничего, что я их об этом попрошу? Или они уже придумали другое имя? – обратилась Тина к задумавшейся над ее рассказом дочери.
– Да нормально, мам. Попроси, конечно. По-моему, они только рады будут. Митька – тот вообще тебе в рот смотрит, каждое слово твое ловит. Ты ж для него с детства не только родительница, но и авторитет непререкаемый. Слушай, мам, а мне вот сейчас что вдруг в голову пришло… Знаешь, а Митька ведь никогда даже в твоем материнстве и не усомнился… Хоть и знал, что ты не мать ему, а тетка… А я? Ты помнишь, как я с тобой спорила все время?
– А как же? Помню, конечно. И умница, что спорила, что в себе не держала.
– Да нет, это ты у меня умница… – задумчиво проговорила Анюта, благодарно взглянув на мать. – С другими-то детьми, знаешь, родители споров особо не заводили. Приказы-указания давали, и все. А ты… Ты все наоборот… Только сейчас я поняла, мамочка, какая ж ты у меня умница…
– Да ну, скажешь тоже. Налей-ка мне лучше еще кофейку! Может, взбодрюсь хоть, а то Митенька придет, меня испугается…
Да уж, что и говорить – с Митей хлопот особых у Тины никогда не было. А вот Анютка росла неспокойно. Что называется – оторви да брось. Характерец у девчонки тот еще проклюнулся – так порой свое мнение отстаивала, что и до школьных драк дело доходило. Тина ее никогда не наказывала. Просто уважала да понимать старалась. А уж насчет поспорить о чем – тут уж им, матери да дочери, и действительно не мешайте никто…
– Мам! Ну нельзя, нельзя так жить, всем и во всем уступая! Ты что! Надо же стоять за свое горой, уметь всего самой добиваться! Иначе растопчут ведь! – горячилась, будучи еще семиклассницей, Анютка, сидя перед матерью за столом и прижимая медный пятак к разрастающемуся под глазом сиреневому фонарю, результату возникшей стихийно школьной потасовки. – И я буду сама всего добиваться, хоть и кулаками! И не дам себя в обиду!
– Ну да… Добиваться, конечно, надо… – тихо кивала ей в ответ Тина. – А ты посмотри, дочка, ты вдумайся в смысл этого глагола – «добиваться»… Он же происходит от глагола «добивать»…
– Ну и что? И пусть происходит!
– А тебе так обязательно нужно добивать кого-то, чтоб что-то получить? Ну, допустим, добила. Допустим, получила. А дальше-то что? За этим для себя полученным всегда будет тянуться хвостом то самое «добитое», и никуда ты от него не денешься…
– А по-твоему, значит, надо всем и всегда уступать? Быть слабохарактерной лучше, да?
– Хм… А по-твоему, сила характера заключается в том, чтоб не уступать?
– Ну да…
– Нет, Анютка. Не права ты. Согласись, что не уступить – это гораздо проще. Правда? А вот уступить – это гораздо сложнее. Во все времена почиталось за истину, что войны развязывают слабохарактерные и трусливые, а вот урегулировать конфликт миром удается только сильным и смелым. Всегда проще в войну ввязаться, чем мудро отойти в сторону. Всегда проще отобрать, чем отдать. Так что характер у отдающего сильнее, получается, чем у берущего…
– Мам, ну сейчас уже время другое, понимаешь? Жестокое очень! Сейчас будешь вот так рассуждать – на обочине жизни останешься!
– А я согласна быть на обочине, Анют. Я выбираю эту обочину, зато отказываюсь от драки. В драке, понимаешь ли, суть человеческая истончается, а он этого и не замечает… Каждый выбирает для себя свой путь, дочка. Осознанно выбирает. А не бьется в общей драке жестоко непонятно за что. И вообще, нормальный человек никогда не станет дракой отстаивать свою жизненную позицию. Он просто себе ее оставит. А вот человек-невежа будет драться до последнего, совершенно искренне при этом полагая, что его позиция является исключительно правильной. И в драке этой он бывает до абсолютности жесток.
– Да куда ж от нее денешься-то, мам, от жестокости этой? Ты прямо как с луны свалилась, ей-богу! Неужели ты не знаешь, что в нашей школе творится? Ведь та же дедовщина…
– Знаю, Анют. Знаю и вижу. А только знаешь, почему она живет в людях, жестокость эта? Потому что они ее за данность приняли! Убедили себя, что, мол, время такое, что жестокость для этого времени – норма… А я не хочу! Я не хочу принимать ее за норму жизни! И потому я предпочту не воевать, предпочту обочину. Или поддержу того, кто тоже осознанно эту обочину выбрал. Хоть как. Хоть словом, хоть делом…
– Мам, да ты просто Чехова своего начиталась, вот и рассуждаешь так!
– Как, дочь?
– Наивно, вот как! Кто твоего Чехова сейчас читает-то? Сейчас все только детективы читают да блокбастеры смотрят. А ты – Чехов…
– Да, дочь. Пусть читают. Пусть смотрят. А я все равно буду перечитывать Чехова. И никогда не пожалею об этом! Так уж получилось, что мы с Антоном Палычем в этом вопросе единомышленники. Он тоже не хотел хамство и пошлость своего времени принимать за общепринятую норму, за данность. И я не хочу. И мне очень жаль, что люди разучились его читать.
– Интересно ты рассуждаешь… Это что же получается? Ты собралась жить вне времени, что ли? Надеть розовые очки и не видеть жестокости и прагматизма? Это же чистоплюйская позиция, мамочка! Позиция гордого, выпавшего из окружающего его мира человека. Кругом дерьмо, а я его не вижу? Чехова почитываю? Это же позиция слабого, получается! Слабого, который цепляется за отголоски прошлого…
– Нет. Совсем не слабого. Нельзя назвать слабым человека, который не боится со своей позицией в общепринятой морали исчезнуть. Да, голос его слаб. Порой и не слышен даже. Но сила его как раз в том и состоит, что он имеет внутреннюю смелость не пускать в себя прагматизма и жестокости своего времени. Пусть они будут, раз уж существуют, но только не во мне. Такой вот мой выбор.
– Ага. Слышали. Непротивление злу насилием…
– Может быть. Может быть. Но гораздо сложнее, гораздо труднее не противляться злу насилием, как ты говоришь, чем принимать активное участие в этом зле. А человек ведь, по сути, существо сложное. И думающее. И делающее свой выбор. И неизвестно еще, кто более прав – кто «не противляется» или кто работает кулаками в толпе злобствующих. Ты подумай об этом, дочь. Хорошо?
– Хорошо, мам. Подумаю, – снова трогала осторожно пальцами свой фингал Анютка, пристраивая к нему медный пятак. – Ты, конечно же, не права, но что-то меня зацепило, знаешь… Да, я подумаю, мам…
А через неделю Тина с удивлением обнаружила Анютку лежащей в гамаке, привязанном к тогда еще плодоносящей груше, с томиком Чехова в руках. Дочь так зачиталась, что и не увидела ее, медленно идущую по дорожке от калитки к крыльцу. Пришлось-таки Тине встать на цыпочки да проскользнуть мимо дочери незамеченной…
С тех пор как подменили девчонку. Задумчивая стала такая, изнутри будто сосредоточенная. Тина ей не мешала, с расспросами приставучими не лезла. Видела, что происходит в дочери серьезная работа по взрослению да становлению личности. Нарабатывание внутреннего духовного мира происходит. Своего, собственного. А это и есть, Тина считала, в каждом человеке главная его составляющая – наличие собственного внутреннего мира, поскольку без него вовсе и не жизнь получается, а сплошные маетные разброд-шатания, похожие на Сизифовы попытки закатить свой камень в гору. Спокойна была Тина за дочь. Что бы Анютка ни делала, какие бы разухабисто-бездумные на первый взгляд поступки ни совершала, все равно была спокойна. Знала, что будет она жить в ладу с собой, даже и в трудностях. Хотя и не хотелось ей по-матерински никаких таких для дочери трудностей, чего уж там душою кривить. Да их и не было пока в Анюткиной жизни, этих трудностей, если по большому счету судить. Все у нее складывалось в общем благополучно. Правда, в последнее время слишком уж задумчивой стала дочь, будто решала что-то для себя важное. Но Тина опять же с расспросами к ней не лезла. Знала – захочет, сама скажет…
– Мам, я еще вот о чем с тобой поговорить хотела… – будто уловив непостижимым каким образом быструю Тинину мысль, медленно проговорила Анютка.
Тина вздрогнула, выплыв из далеких своих воспоминаний, подняла прозрачное почти после бессонной ночи лицо к дочери.
– Что, Анют? Говори, я слушаю…
– Мам, тебе первой скажу. Ты знаешь, я ведь еще одного ребенка жду…
– Правда? – обрадовалась Тина, по-детски совсем подскочив на своем стульчике и всплеснув руками. – Ну ты даешь, дочь! Молодец!
– Мам, да вот я и не знаю, молодец ли…
– Ты что, Анют… О чем это ты?
– Ну, как бы тебе это объяснить… В общем, в планы Олега, я так понимаю, второй ребенок совсем не вписывается…
– А в твои? В твои планы он вписывается? В твою душу вписывается?
– Да в мою-то душу он давно вписался. Мало того, он уже и живет там! Я его уже вижу, мам…
– Так зачем тогда произносишь сейчас такие слова страшные? Зачем пугаешь его своими сомнениями? Давай успокой его, ты что! Нельзя так, дочь! Ты только представь на секунду, что я бы в любви к тебе хоть на чуточку усомнилась! Нет-нет, даже и мыслить так нельзя, что ты! Он же сейчас на тонком уровне все чувствует, и мысли твои чувствует! Скажи ему, что любишь и ждешь его…
– Ой, мам! Да знаю я про все это! Я же не о том тебя спрашиваю! Как мне с Олегом-то быть? Сказать ему или нет?
– Сказать, конечно! Это же и его ребенок тоже!
– А если он скажет «нет»?
– Ну что ж… Тогда это будет первым жизненным испытанием для твоего ребенка. Зато ты будешь рядом! И твое «да» должно звучать в таком случае в десять раз для него сильнее и надежнее, чем это отцовское «нет». Разве ты не согласна со мной, дочь?
Глава 8
Ольга, стиснув зубы и схватившись за руль мертвой хваткой, так что побелели костяшки пальцев, разразилась внутри себя настоящим гневным монологом по поводу «всяких козлов», набравших себе дешевых старых машин и с умным теперь видом стоящих в пробках, будто бы они и впрямь причастны к этому узкому мирку благополучных и преуспевающих. Тот факт, что сама она в данный момент находилась за рулем по нынешним меркам тоже дешевой и тоже старой «девятки», ею как-то в расчет не брался. Ну и что? Все равно обидно! Стоило мчаться по ночному шоссе на предельной почти скорости, чтоб застрять на три часа в пробке при въезде в город! С ума мир сошел, ей-богу! Вот раньше, мать рассказывала, никаких таких пробок и в помине не было. Всякий знал свое место – кому к трамваю бежать, кому за свой собственный руль хвататься. А сейчас? Все лезут и лезут как одержимые, чтоб тоже схватиться за этот собственный руль, будь он неладен… Из грязи да и туда же – в князи…
Сама себя Ольга вышедшей «из грязи» тоже ни при каких условиях не считала. Еще чего! Она не кто-нибудь все-таки, она дочь профессора филологии Антона Павловича Званцева… Хотя особо родством таким в наше время гордиться и не приходится – не в чести нынче профессоры, да еще, простите, замшелой какой-то там филологии, – но все ж и за то спасибо, что не дочь она слесаря Семенова. Эх, зря она тогда на своем не настояла – надо было девичью фамилию себе оставить! Не надо было Игорю уступать! Он-то сам всегда родителей своих стеснялся, а ей стесняться нечего. Она Званцева все-таки. А теперь выходит – тоже Семенова… Очень уж щепетильно Игорь тогда к ее желанию отнесся. Оно и понятно – он-то как раз из тех, которые вместе с родителями утром на трамвай из своих панельных пятиэтажек бежали, как перепуганные дихлофосом тараканы. А она, слава богу, с детства в этом вонючем транспорте среди серой толпы не езживала. Мать, она помнит, лихо выруливала по городу сначала на белом «Москвиче», потом в жигулевскую «шестерку» пересела, потом в «девятку». Правда, на этом этапе рост благосостояния их профессорской семьи и закончился, и теперь сама она вынуждена довольствоваться этой старенькой уже «девяткой»… Что делать – позор, конечно. Но ничего! Еще не вечер, господа присяжные заседатели! Она, Ольга Званцева, пусть теперь и слесаря Семенова невестка, еще покажет, на что способна! Дайте срок – и все будет! И машина престижная, и квартира, и дача в приличном месте! Только вот с проблемой жизненно-бытовой побыстрее бы разобраться…
Проблема эта сама собой наплыла на них с Никитой после смерти отца. И называлась эта проблема, по общепринятым моральным меркам, вовсе нехорошо – даже язык не поворачивался проговаривать вслух это название. «Куда девать маму» – вот как эта проблема нехорошо звучала. Нехорошо потому, что мама их сейчас пребывала в совершенно беспомощном состоянии и требовала серьезной заботы и внимания. Требовала-то требовала, да где ж их взять прикажете…
Нет, конечно, в прямом смысле слова сама мама ничего такого от них не хотела, каталась себе по огромному дому в инвалидной коляске и просьбами их не беспокоила. Но от этого проблема все равно ничуть не уменьшалась и требовала, конечно же, разумного к себе подхода. Или рационального, как говорил Игорь. Потому что они с Никитой подошли к решению этого вопроса совсем неправильно, он считал. В самом деле, что ж это за решение такое – сдать две комнаты на первом этаже семье русских беженцев из Казахстана? Ну, понятно, они за мамой старательно ухаживают. Понятно, что за домом следят. Понятно, что сиделку нанимать дороже… И все равно – Игорь, как ни крути, прав! Прав в том, что это бульон из-под яиц получается. Они же с Никиткой наследники все-таки, и должны своим наследством разумно распорядиться! А отсюда уже и вытекает этот проклятый вопрос: куда в этом случае маму девать?.. Сейчас пока ладно, сейчас пока наследство оформляется, то да се… А потом, как ни крути, дом продавать придется. Деньги им с Никиткой позарез нужны. Но вот как с мамой быть? Купить ей маленькую квартиру на окраине? А кто там за ней присмотрит? Придется платить приходящей сиделке? Ну нет, это опять тот же самый пресловутый бульон из-под яиц…
Дернув нервно головой, Ольга вздохнула громко и сердито, и даже чуть с рычанием у нее этот вздох получился, отчего свернувшийся неуклюжим калачиком на заднем сиденье Никита проснулся, поднял вверх над передним сиденьем взлохмаченную голову.
– Что, Оль, приехали? – взглянул он в окно, моргая спросонья совсем по-детски. – В пробке стоим, да?
– Да, будь она неладна! – раздраженно проговорила Ольга, ударив ладонями по рулю. – Понаехали тут лохушники всякие! И чего им в своих деревнях не живется? Сидели бы, картошку с молоком трескали… Так и прут сюда целыми стадами! Всем, всем, как на грех, в городе жить охота. Как маслом им тут намазано…
– Ладно, не злись. Цвет лица испортишь. Давай я за руль сяду! Хочешь? – миролюбиво предложил ей Никита, неловко перебираясь на переднее сиденье. – Сейчас, только кофейку глотну…
– А кофе кончился, Никит… – виновато повернула к нему голову Ольга. – Я полчаса назад последнюю чашку выпила… И вообще, тебе выходить скоро…
– Почему выходить? Зачем это?
– К маме поедешь, зачем! Я тебя у конечной троллейбусной высажу, сам доберешься!
– Зачем к маме? Я вообще-то не собирался…
– Да мало ли куда ты собирался, слушай! Все равно надо ее навестить! Узнать хоть, как она там… Скучает, наверное…
– Оль, ну почему я? Давай уж тогда вместе поедем!
– Никит, ну не будь свиньей, а? Ты же понимать должен – некогда мне! И так все дела отложила с этой дурацкой поездкой! Деньги, они ж с неба на голову не сыплются…
– Деньги, деньги… – уныло и тихо произнес Никита, с тоской разглядывая раскинувшийся за окном пригородный производственный пейзаж. – Все вы на деньгах этих помешались…
– Ага. Помешались. Конечно же, помешались, милый братец! Ты же сам через неделю ко мне их выпрашивать придешь, чтоб за съемную свою квартиру заплатить… Разве не так?
– Да так, так…
– Только не вздумай, как в прошлый раз, при Игоре об этом разговор завести! А то мне опять выкручиваться придется!
– Слушай, Оль, ну как ты с ним живешь, с занудой таким? Сам-то он тоже ни хрена не зарабатывает, а отчет за каждую копейку все норовит стребовать!
– А вот это уже не твое дело, братец!
– Почему не мое? Как раз и мое! Он же с ума тебя сведет хамским своим занудством! Уходи ты от него к чертовой матери!
– Ну, если только к чертовой… – грустно усмехнулась Ольга. – Куда мне уходить-то, Никит? Я ж в его квартире живу, своей у меня пока нет…
– Ну, нет, так будет! Вот продадим дом, купим себе квартиры…
– Ладно, Никитка, хватит рассуждать! Давай приводи себя в порядок и вытряхивайся из машины! И с мамой там подольше побудь! Не пять минут, как в прошлый раз! Потом перезвонишь мне, расскажешь, как она там… Что у нее за настроение…
– Слушаюсь, товарищ генерал, – пробурчал недовольно Никита и зевнул коротко, с писком, словно котенок. – Давай тогда останавливайся, что ли…
– Никитка, причешись хоть! – виновато повернулась к нему Ольга.
– Да ладно, чего там… – лениво махнул ей рукой Никита. – Красоту, ее никакой расческой не испортишь…
Хлопнув дверью, он вышел из машины, передернул слегка плечами на холодном пока утреннем ветру и пошел понуро по тротуару, влился в толпу спешащих по своим обыденным делам таких же обыденных людей с одинаково озабоченными, одинаково направленными взглядом себе под ноги лицами. «Странно, почему они всегда так внимательно под ноги смотрят? – с неприязнью вдруг подумалось Ольге. – Как будто что-то написано там для них важное… И Никитка вон так же идет, так же в землю смотрит, и кулаки в карманах ветровки болезненно скукожил, и локти к бокам прижал… Жалко так…»
Вздохнув, она тут же заставила себя взбодриться. Проехав мимо, весело помахала брату рукой, но он голову навстречу ее жизнерадостному жесту так и не поднял.
«Ничего-ничего! Пусть закаляется, не маленький уже! – успокоила она себя быстро. – Пусть съездит, отдаст маме семейный долг. Отец вон пять лет его отдавал, и ничего! Не умер же! Хотя чего это я, прости меня, Господи… – вздрогнула она испуганно, – умер, конечно же, умер… Ничего себе, какая мысль-оговорочка неприятная…» И тем не менее целых пять долгих лет они с Никиткой заботы об этом не знали. Не ценили отцовский подвиг-то. Хотя неужели и в самом деле так много лет прошло после той жуткой аварии? Ужас… А кажется, будто вчера все это случилось…
Тот страшный день Ольга могла воспроизвести в памяти почти поминутно. Мама с утра суетилась по кухне, кормила их всех горячим завтраком – все было как обычно, в общем. Странно, но в этом обязательном утреннем завтраке она усматривала особую свою священную материнскую обязанность – вставала раньше всех, старалась, готовила… Впрочем, обязанность эта так же свято распространялась и на обед, и на ужин. И глаза у нее в то утро были заплаканными – тоже, впрочем, обычно-привычное дело. А чем еще заниматься не обремененной особыми проблемами домохозяйке, скажите? При наличии взрослых уже детей? Только и остается – готовка, уборка, никчемно-пустое кружение по городу на машине да слезно-нервные срывы от вечных ссор с мужем…
К материнским слезам Ольга выработала стойкий иммунитет с самого раннего своего детства. И начинались эти слезные истории всегда одинаково – сначала мама нервно ходила по залу, размахивая полами-крыльями шелкового халата, потом, дробно стуча каблуками домашних туфель, поднималась в мезонин к отцу, и оттуда доносился еще какое-то время ее звонко-истерический голос… Потом спускалась вниз, уже с готовыми слезами на глазах, хватала за руку ее, маленькую Ольгу, и бежала прочь из дома, догоняемая в спину сердитым голосом отца:
– Оставь ребенка в покое, ради бога! Ну что, что ты от меня хочешь? Постой, нельзя тебе за руль в таком состоянии…
– А что, что мне здесь можно? – оборачивалась к нему мать уже от дверей, больно дергая Ольгу за руку. – Кому можно, те не особо сюда торопятся! Не нужен ты ей, понимаешь? Не нужен! Не нужен! Если б нужен был, она б свое право отстояла… Если б нужен был, она бы убила меня, а тебя не отдала! А она не захотела, сама не захотела! Неужели ты этого до сих пор не понял?
Отец ей на это ничего и никогда не отвечал. Просто разворачивался и молча уходил в свою библиотеку. Мама всхлипывала в его удаляющуюся спину громко-истерически и выскакивала из дома, хлопнув дверью, а потом кружила и кружила по одним и тем же улицам на белом «Москвиче», и она, маленькая Оленька, сидела на заднем сиденье, как тихая перепуганная мышка. Очень ей было жалко маму. Отчего она плачет, она не понимала, конечно. И кому отец «не нужен» был, мама тоже ей не рассказывала. Но все равно было жалко. Так кружили они порой до самой темноты, и становилось совсем уже холодно, и нельзя было маме сказать, что она замерзла. Потому что как, как ей скажешь? Она же так плачет… Остановится где-нибудь в темном переулке, уронит голову на руль и трясется вся… Или того хуже – вцепится зубами в кулак и плачет тихо так и отрывисто, пищит будто. Ольга пробовала и сама потом с кулаком в зубах плакать – и правда писк получается. Так, она помнит, потом и засыпала в машине под мамин этот плач. А просыпалась уже утром, в своей постели, и снова солнце светило в окно, и мама звала завтракать – все как обычно…
А когда Никитка родился, все как-то в лучшую сторону уже образовалось, Ольга это сразу детским своим чутьем поняла. И мама повеселела, и отец все чаще стал выходить из своего библиотечного добровольного затворничества, и гости стали в доме собираться… В основном это были отцовские знакомые, конечно. Умные всякие дядьки-тетьки университетские. А мама так суетилась, так старалась пирогов напечь к их приходу! И улыбалась всем, и в глаза искательно заглядывала, словно ответной дружбы прося… Но гости лишь честно-старательно заедали маминой стряпней умные свои разговоры да улыбались ей в ответ снисходительно. А дружить особо с мамой никто не дружил. Потом гости уходили, отец поднимался в свой мезонин-библиотеку, а мама оставалась одна с горой немытой посуды да с грустным лицом к ней в придачу…
И в тот памятный злополучный день все было как обычно. Так же началось утро с доносящихся с кухни вкусных съестных запахов, так же проскрипела лестница под шагами отца, ставшими такими тяжелыми к возрасту. И так же после завтрака они все разбежались по своим делам: Никитка в школу, Ольга в свой политехнический, отец – в университет, лекции классически литературные студентам читать. И вернулись домой только вечером, к ужину. Поначалу никто и не удивился, что мамы дома нет. Мало ли. Застряла, может, в пробке какой. Она любила в последнее время обкатывать новую свою «девятку», тряслась над ней, как над ребенком… Вот и дотряслась. Вместо того чтоб себя спасти, в первую очередь о машине подумала. Не захотела внешний ее лаково-красный вид портить, съехала на обочину, давая дорогу мчащейся ей навстречу бесшабашной фуре. Ну прошлась бы та фура слегка по лаково-красному девяточному боку, подумаешь… А так – настоящая беда из всего этого вытекла. Каким-то образом перевернулась машина очень уж неудачно, переломав мамины позвонки аж в двух местах. Так и не дождались они ее в тот вечер домой. Потом, ночью уже, искать везде стали. По моргам да по больницам, как в таких случаях и полагается. К утру только и нашли. В больнице, в реанимации…
Врачи с той маминой травмой ничего уже не смогли сделать, руками только развели. И вскоре домой выписали – живи, женщина, как хочешь. Руками еще сможешь двигать, а ногами – уж извини. Слава богу, семья у тебя есть. Помогут, мол… Поначалу они все, конечно, и впрямь семейной заботой да любовью ее окружили, просиживали вокруг кровати целыми вечерами. А потом как-то перестроились они с Никиткой на другой лад, завертела их жизнь по своим жестоким правилам. Она сама вскоре замуж вышла да к мужу переехала, взяв с собой в приданое отремонтированную мамину «девятку», и Никитка тоже из дома ушел, снял себе квартиру на другом конце города… Якобы по той причине, что с девушкой какой-то гражданским браком пожить захотел, а на самом деле слинял просто. Ольга уж потом догадалась… А отец – ничего. Отец в этой ситуации самым стойким оказался. Все пять лет честно за мамой ухаживал, несмотря на солидный свой заслуженный возраст. И готовил, и стирал, и убирал… Трудно ему дались эти последние пять лет, что и говорить. Тот трудностей таких не понимает, кто в одном доме с инвалидом неходячим не жил. А кто жил – тот знает, каково это. Но отец даже и не пожаловался ни разу, только в библиотеке своей и спасался в редкие свободные часы. Из университета ему пришлось уйти, конечно. Можно было бы и сиделку нанять, но времена наступили как раз такие, что зарплаты его профессорской едва хватало, чтоб концы с концами свести, какая уж там сиделка… Да, трудно ему пришлось. В его-то возрасте. Конечно, им с Никиткой вроде как и помочь бы ему полагалось, да как поможешь? Никитка еще студент, и заработков у него никаких, а с нее муж за каждую копейку отчет требует. Я, говорит, родителям не даю, и ты не вздумай. Сволочь, конечно, но куда теперь от этой сволочи денешься? Да отец бы и не принял никакой помощи… Все сам делал, ходил себе по дому тихонько – старик стариком. Да и мама как-то уж слишком быстро серо-пыльный старушечий образ на себя напялила, из сорокалетней цветущей женщины превратилась в бледную тень в инвалидной коляске…
Так и прошли эти последние грустные пять лет. Жили и жили родители тихо в своем доме с мезонином. А потом отец так же тихо в своей библиотеке умер, прямо в старом любимом кресле, покрытом вытершимся клетчатым пледом. Томик Чехова валялся рядом на полу – из руки враз ослабевшей выпал, наверное…
Ольга снова вздохнула, потрясла головой, пытаясь выползти из горестных вязких воспоминаний. Слава богу, вот и знакомый двор, и места для парковки – хоть завались. И Игорь еще дома, наверное. Сейчас полный отчет о поездке стребует…
В прихожей вкусно пахло кофе и жаренной с беконом яичницей. Ольга потянула носом, сглотнула голодную слюну – слава богу, сейчас попьет-поест, примет долгожданный душ, выспится…
Игорь выглянул на ее шуршание из кухонного дверного проема, запахнул халат торопливо, сверкнул в нее ранней блестящей лысиной. Все в нем с самого первого взгляда казалось твердым, каменным будто. Твердые глянцевые щеки, твердый выпуклый живот, твердая широкая шея… И взгляд был тоже твердым, упирался в лицо так, что невольно хотелось от него увернуться. Вот и сейчас – уставился на нее молча и вопросительно, будто и впрямь ожидая подробного отчета о поездке.
– Привет… – устало улыбнулась ему Ольга, тяжело опускаясь то ли на ларец, то ли на сундучок такой чудной, стоящий в прихожей вместо стульчика. Игорь притащил его откуда-то недавно. Сказал: скоро антиквариатом будет, пригодится. Хотя ничего антикварного в этой мещанской рухляди не было – Ольга это сразу разглядела, да промолчала вежливо. Обидеть мужа словом случайным нельзя было – ему всюду мерещилась насмешка над его пролетарским недостойным происхождением…
– Ну? – нетерпеливо спросил Игорь, будто и впрямь ударил чем твердым в грудь..
– Что – ну? – подняла на него глаза Ольга. – Поздоровался бы хоть для начала.
– Да ладно… Ну так привезла ты с собой эту тетку? Где она? Чего молчишь, как партизанка?
– Нет, Игорь, не привезла. Не поехала она. Сама обещала прибыть вскорости. Самолетом. Из аэропорта – сразу к нотариусу.
– То есть как это сама? От своего же наследства отказываться – и сама? Да где ты таких идиоток видела, Оль? Я же говорил тебе: надо сажать в машину и везти! Пока не опомнилась! А ты – сама…
– Ну вот сам бы и ехал тогда, и сажал бы в машину! Я что, силой туда ее запихивать должна? Кляп в рот, руки за спину? Я же не бандитка с большой дороги, чтоб такие дела делать! Да и вообще… Нам же лучше, если она сюда на один день только прилетит. Я ее в аэропорту встречу, потом к нотариусу, потом обратно в аэропорт отвезу. И дело с концом…
– И чем все это лучше, интересно?
– А вдруг бы она сейчас к маме захотела поехать? А потом увидела бы ее и заартачилась? Условия какие-нибудь дурацкие выставлять начала бы в мамину пользу… Не забывай, они сестры все-таки.
– Ой, да какие сестры, когда мать твоя мужа у нее увела? На таких делах, знаешь ли, все родное сестринство навеки-навсегда кончается, одно только свинство начинается… А вообще, как она тебе показалась?
– Да я и сама не поняла, знаешь… Она странная какая-то. Нет, не в том смысле, что со странностями, а непонятная просто. Вроде деревенской теткой-простушкой должна быть, судя по окружающему интерьеру, а глаза такие… такие… Сложные очень. Будто сидишь перед ней, и она все-все про тебя знает. В общем, в глаза эти особо и не похамишь даже, и ничем эту тетку не испугаешь, вот что я тебе скажу. От нее хамство отлетит, как от гранитной стенки…
– И тем не менее она же согласилась приехать да от доли своей отказаться?
– Ну да…
– Хм… И чего тогда ты в ней сложного увидела? Если она и не поняла даже, какая сумма ей может на карман так вот запросто упасть? Простушка самая заурядная, выходит?
– Да все она поняла, Игорь. Тут вообще не в этом дело…
– А в чем?
– Да не знаю я! Она, понимаешь, даже и спорить ни о чем не стала. Будто и неинтересна ей вообще ни доля эта ее законная, ни денежное ее выражение…
– А вот это и странно, Оль! Тебя это разве не насторожило? Ну не дура же она совсем уж конченая… Нет-нет, что-то тут не так! Слушай, а может, она просто хитрая? Сядет на самолет, прилетит сюда да и рванет прямо к нотариусу! А что? Я б на ее месте так и поступил. Ни за что бы своего не отдал. Дураков сейчас нет, чтоб от денег отказываться. Даже самый распоследний лохушник выгоду свою знает. Кончился у нас в стране лимит на лохушников! Всех родная демократия умными быть научила. А жаль. Эх, были раньше времена – сплошное поле чудес под ногами… Так что вполне возможно, что твоя тетка эта сама сюда рванет…
Игорь будто задохнулся на последней своей фразе. Будто воздуху ему не хватило. Непривычны были ему такие вот длинные обличительные речи да никчемные философствования. Раздражали они его. И то – чего тут мудрить, скажите? Пока ты мудришь-философствуешь, другой тебя обскачет на повороте. А этого никак нельзя. Нельзя, чтоб обскакали! Жизненная гонка – вообще вещь жестокая. Потому что передышки никакой не дает. Потому что все совершается именно текущим днем, и надо успеть схватить свое именно в этом текущем дне. Гнать его, этот день, не жалея, гнать, гнать, гнать… И все время еще и по сторонам успевать посматривать: а вдруг уже в затылок тебе дышат? И остановиться ни в коем случае нельзя. Остановишься – пропадешь. Если не от бедности, то от сложившейся уже привычки просто гнать, гнать, гнать… Снова вдохнув побольше воздуху и кинув взгляд на часы, он переспросил уже совсем деловито:
– А? Оль? Как тебе такой вариант? Не рванет она сама по себе, чтоб на долю свою самостоятельно заявиться?
– Нет. Никуда она не рванет, Игорь.
– Да откуда ты знаешь-то, господи? Почему ты уверена так?
– Понимаешь, она другая. Она совсем, совсем на нас не похожа. Я не могу объяснить, но она другая совсем…
– Оль, да мне по фигу, какая она там есть, тетка ваша. Мне главное – вопрос решить побыстрее. А ты его не решила. В этом деле, знаешь, промедление может катастрофой обернуться. Ты сама-то не понимаешь, что ли? – начал тихо закипать от ее непонятливости Игорь.
– Ой, да понимаю, все я понимаю! – примирительно улыбнулась Ольга, расслышав в голосе мужа опасные для себя нотки. – Не психуй. Кофе лучше налей. Устала как собака… Спать сейчас завалюсь…
– Как это – спать? – сердито сверкнул на нее глазом Игорь. – Некогда нам с тобой сейчас спать, дорогая. Сейчас к маме своей поедешь…
– Зачем? Туда Никитка уехал! Мне-то зачем?
– А что, мне к ней прикажешь ехать, да? Слезы-сопли вытирать? Нет уж! Мое дело – с нужными людьми договориться. Я уже кому надо и на карман дал… В общем, моя миссия, считай, завершена. Теперь только твое осталось. Так что давай, вперед… Делай все четко и по-быстрому, в дискуссии ваши жалостливо-бабские не вступая.
– Это ты о чем, Игорь?
– Как это – о чем? Ничего себе… Не прикидывайся дурочкой, Оль! Ты знаешь, как трудно сейчас инвалида в специальный интернат пристроить? Там все места на пять лет вперед расписаны! Или ты думала, что я эти пять лет в общей очереди ждать буду? В общем, надо в течение трех дней место занять, иначе уйдет… Потому давай, Оль, пошевеливайся. Надо, чтоб мама твоя к этой мысли попривыкла как-то, поговори с ней заранее. Ну убеди, что ли, что там ей лучше будет… Еды с собой какой-нибудь вкусной привези… В общем, сделай так, чтоб, без лишних истерик обошлось.
– Игорь, ты что… Я не могу… – только и выдохнула испуганно Ольга.
– Что значит – не могу? Мы же вместе с тобой это решение принимали! Забыла, что ли?
– Нет, я не забыла… Просто… Просто все быстро так… Я не знала, что все будет так быстро! Я не готова пока, Игорь! И как я это маме скажу?
– Хм… А как надо такие дела делать? Медленно, что ли? По-моему, чем быстрее, тем для всех лучше будет. Да и покупателя на дом я нашел практически. Скоро смотреть еще раз приедет…
– Как – покупателя? Мы же даже наследство еще не оформили… Еще даже срок не вышел, Игорь!
– А мы с ним на предварительную сделку договор заключим. Так сказать, о намерениях. Он и цену за дом под нее полностью готов заплатить! Так что с мамой твоей побыстрее разобраться надо. Давай-ка прямо сейчас и поезжай.
– Игорь, но я не могу! Понимаешь, мне отчего-то страшно, очень страшно… А нельзя как-нибудь отменить эту твою предварительную сделку, а? Нет-нет, Игорь, я точно не смогу… Прости меня… Я правда не знала, что это все так быстро будет…
Ольга вдруг заплакала навзрыд, спрятав лицо под напряженно дрожащими маленькими ладонями и боясь поднять на мужа глаза. Ей действительно было очень страшно. Как на войне. Когда выбора ни у одной из враждующих сторон нет. Когда знаешь, что ты убить должен. Иначе тебя убьют. А что? Если врагом выбрана сама жизнь, с которой за материальные свои трофеи бесконечно воевать приходится, только так и бывает. А что страшно тебе – не суть важно. Хочешь трофей поиметь – убивай…
– Ольга, прекрати! Прекрати истерику! Это глупо, в конце концов! Что ты из меня идиота жестокосердного делаешь? – взорвался наконец законным возмущением Игорь. – Ты сама, сама просила меня решить этот вопрос! А теперь обрыдалась она, видишь ли! Вспомнила, что она, оказывается, честная-благородная дочка… Где ж ты раньше-то была со своим благородством да честностью, доченька хренова?
– Игорь! Игорь, ну подожди… Я правда, правда не смогу! – подняв к нему голову, прокричала-прорыдала Ольга. – Я не думала, что это так… Так…
– Да как? Господи, ну что тут такого-то? – всплеснул в отчаянии руками Игорь. – Да она, может, только рада будет! Она же понимает, наверное, что даже здоровые в принципе родители – это уже отработанный для детей материал. А она – инвалид неходячий! Оль, ну не нами же это придумано! Каждый ребенок исполняет свой долг по-своему! Ты – вот так, кто-то – по-другому… Ты же не на улицу ее выкидываешь, в конце концов…
– Игорь, а может, она с нами…
– Что? Ты в своем уме вообще, Оль? Ну давай с тобой откроем у себя в квартире дом инвалидов… Моих стариков сюда притащим до кучи… И будем жить припеваючи, одной дружненькой старческо-инвалидной семейкой. Так, что ли?
– Господи, как это все мерзко! Мерзко! Какой же ты жестокий все-таки…
– Я? Я жестокий? Я не жестокий, Ольга, я честный. По крайней мере, честно говорю то, что на самом деле думаю. А не прикидываюсь благородным до тошнотворной красивости, как другие. А ты сама-то что, не жестокая разве? Ведь знаешь прекрасно, что все равно рано или поздно мать пристроишь куда-нибудь! Тем более сама меня об этом просила. А как до дела дошло, захотелось самой перед собой послюнявиться, да? Вот, мол, я какая! Видите – страдаю… Брось, Оль. Если честно, что-то никогда не замечал я в тебе особой какой душевности. Сколько тебя знаю, всегда напролом перла…
Ольга снова зарыдала отчаянно, опустив мокрое красное лицо в ладони. Еще горше прежнего. Оттого, наверное, что знала уже наперед – никуда она не денется, встанет сейчас и поедет в старый дом с мезонином, к несчастной своей матери, чтоб объявить ей об этой вот задуманной заранее и воплощенной теперь уже в жизнь собственной «гадости», как давеча назвал ее поступок Никитка. Игорь смотрел на нее по-прежнему сердито, потом лицо его смягчилось и даже губы чуть дрогнули к жене жалостью. Он подошел сзади, обхватил ладонями ее судорожно сжатые плечи, проговорил ласково:
– Ну ладно, Ольк… Ну все, успокойся. Ничего же страшного не происходит, сама подумай… Ничего, она привыкнет. А мы ее навещать часто будем. Да и вообще… Ты знаешь, каких мне нервов вся эта процедура устройства стоила? И денег сколько ушло… Все равно ведь выхода другого нет, сама понимаешь. Думаешь, уж так много мы за этот дом выручим? За эту рухлядь? Еще и братцу твоему целую треть отстегнуть придется…
– Почему треть? – перестав вдруг плакать, подняла на Игоря удивленное лицо Ольга. – Не поняла… Ведь если эта юридическая отцовская жена и впрямь от своей доли откажется, мы ж с Никиткой только вдвоем наследниками считаться будем… Маме, конечно, тоже, как иждивенцу, обязательная доля полагается, но она мизерная совсем…
– Да хватит ему и трети, братцу твоему чистоплюйскому! На однокомнатную квартиру точно хватит! Он, между прочим, и этого не заслуживает! Выродок какой-то он у вас, ей-богу… Точно – семейный выродок…
– В каком смысле выродок? – продолжая то ли удивленно, то ли сердито смотреть сквозь слезы в лицо Игорю и всхлипывая, переспросила Ольга.
– А в таком. Странный он у вас какой-то. Вернее, не странный. Он вообще никакой. В промежутке где-то между лохом-ботаником да нормальным пацаном завис. Ни вашим, ни нашим…
Она не нашлась даже, что и ответить ему на этот выпад в Никиткину сторону. Не нашлась, потому что сама, наверное, так же иногда с обидой думала о брате. Ей тоже казалось порой, что Никитка именно «завис» в какой-то человеческой неопределенности. Сложил ручки-ножки безвольно и плавает в ней, как биологическая простейшая инфузория-туфелька. Точнее и не скажешь. Причем завис по доброй своей воле, сам выбрал для себя непонятное это состояние. Ну ладно бы в какую гуманитарно-лирическую науку пошел – умом да интеллектом его наследственность не обидела, гены эти папины из него с детства прямо потоком перли. А в отрочестве и стихи, бывало, пописывал. Неплохие, между прочим. Отец его хвалил. А после школы рванул на биофак – с чего бы? Как теперь он этот биофак к жизни-то приспособит? Ни то ни се… И делового человека из Никитки тоже не получится – ленив для этого слишком. И хватки никакой. Вот и обидно получается – умный же парень-то! И фамилии известной – не слесаря Семенова сын… Но и не выродок, по крайней мере! И вообще… Если уж на то пошло, не Игорю, слесаря Семенова сыну, о наследнике профессора Званцева рассуждать…
– Он не выродок, Игорь! Не смей так о моем брате, слышишь? Не смей… – тихо проговорила Ольга, вытирая набежавшие снова слезы тыльной стороной ладоней.
– Ой, да больно надо! – фыркнул раздраженно Игорь. – А только обидно, знаешь… Он задницу свою лишний раз поднять не может, чтоб что-то для самого себя же сделать, а половину ему отдай и не греши? Так, что ли, получается? Я, значит, буду тут монстром этаким, вашей мамы главным обидчиком, а он половину ни за что ни про что отхапает? Нет уж, и трети с него многовато будет! Обойдется! А нам с тобой на ноги подниматься как-то надо!
– А как ты на ноги собрался подниматься, интересно? Только за счет моего наследства? Что, других мотиваций у тебя не имеется?
Игорь сердито отдернул руки от ее плеч и даже встряхнул ими слегка, будто пожалел о предыдущем своем сердечно-снисходительном жесте. Подойдя к окну, постоял минуту молча, перекатываясь с пятки на носок, потом бросил небрежно через плечо, будто сплюнул:
– Не забывай, милая, что ты пока на моей территории живешь! Поняла? И заметь, просто так живешь, без скидок на мотивации там всякие. Или ты против? Так ты только намекни – быстренько соскочишь с моей фамилии! Хочешь?
– Нет, не хочу.
– Ну так и молчи!
– А я и молчу…
«Господи, нашел чем гордиться – фамилией своей. Было бы чем… – с тоской подумала Ольга, всхлипывая тяжело и утирая последние слезы. – Вот она, противная плебейская чванливость…»
Вслух она этих ужасных слов, конечно же, не произнесла. Еще чего – против ветра плевать… Да и особой злобы у нее на мужа тоже не было по поводу этого самого чванства. Она где-то и понимала его даже. Выползти в этот мир из занюханной окраинной пятиэтажки, будучи при этом еще и сыном слесаря, да попасть сразу в престижный политехнический – этот факт Игоревой биографии уже сам по себе вызывал некоторое уважение! Без репетиторов, без блатных звонков в приемную комиссию, сразу на бюджетное место… Игорь тогда еще, в институте, именно этим ей и понравился – жестким напором своим. И еще – не знающей никаких сопливых сомнений наглостью, которая открыто в глаза смотрит, а не выглядывает из кармана тихой фигой. Почему-то она решила, что и в жизни он вот так же всего добьется – напролом через нее пойдет. Она же не знала тогда, что под гусеницами этими сама и окажется…
Да и вообще, как позже уже выяснилось, времена наглого «пролома» ушли сами собой в небытие. Потому что «пролома» этого в таких, как Игорь, было сколько угодно, а вот чего-то более важного не хватало. Не в жилу нынче стало нагло и напролом идти. Другие все это хозяйство формы приняло, более нежные. Вышли из моды жесткие орлиные взгляды да бычьи твердые шеи, пришли им на смену дорогие элегантные костюмы, галстуки, манеры утонченные… Да и ребятки – не слесаревы дети – понаехали обратно из своих Гарвардов да Кембриджей, свои порядки устанавливать начали. Но оглядываться назад было уже поздно. Что теперь поделаешь – придется с тем жить, кого сама выбрала. Как пелось когда-то, «я тебя слепила из того, что было…».
Постояв еще у окна, Игорь вдруг развернулся, быстро вышел из кухни. Пошуршав недолго в комнате, а затем и в прихожей, заглянул к ней, проговорил резко:
– Ты долго тут действительно не рассиживайся, Оль! Давай собирайся и дуй к матери! И смотри, чтоб никакого трагического спектакля она потом перед соседями не устроила! Чтоб все тихо-мирно обошлось. А то знаю я ее. Такое может выдать…
– Не бойся, Игорь. Ничего она уже не может. С тех пор как отца похоронили, она и пары лишних слов не сказала. А теперь и подавно не скажет. Человек, когда его жизнь окончательно добивает, помалкивает больше, не сопротивляется уже. Так что не бойся…
– Ой, хватит! Опять начинаешь? Сама себя изводишь только! Проблема выеденного яйца не стоит, а ты развела тут шекспировскую трагедию. Тоже мне артистка народная…
Он развернулся резко и вышел, громко хлопнув дверью. Ольга вздрогнула нервно, снова прижала руки к лицу. Сильно так прижала, запрокинув назад голову, будто и впрямь как артистка какая из телевизионного слезливого сериала. По крайней мере, ей самой так показалось. И тут же неловко стало за свой мелодраматический жест, будто увидела себя со стороны. Тем более что без Игоря как-то больше и не плакалось. Наоборот, полезли в голову рваными обрывками назойливо-оптимистические дурные мысли, похожие на пионерские лозунги. Вроде того, что «…надо пройти через все, чтоб чего-то в жизни добиться…». Только звучали они не по-пионерски оптимистично, а тоскливо как-то. А главное, слово-то какое противное в голову пришло – «добиться»! Как будто для этого добить кого-то нужно…
Ольга медленно поднялась со стула, подошла к окну, прислонилась горячим лбом к стеклу. Вот нельзя ей плакать совсем. После слез всегда такая тоска приходит… И поэтому надо не плакать, а надо жить! Жить! Не в серой толпе жить, а нормально жить! Жить, как она хочет! То есть все для себя основательно имея, как личность полностью состоявшись и гордо перед этой серой толпой блистая. Может, несколько и самоуверенно это звучит, но только так, и никак иначе. А с тоской всегда справиться можно, были бы деньги… Господи, и опять деньги… Замкнутый круг какой с этими деньгами…
Всхлипнув горько, она снова дала волю слезам, вцепившись зубами в судорожно сжатый кулак. Знакомый с детства жест, кстати. Жест одиночества. Точно так же и мама пихала в зубы кулак, когда плакала тогда, в машине, в темных ночных переулках, боясь разрыдаться слишком громко…
Глава 9
Ближе к обеду за воротами дома коротко гукнула машина Олега, и Анюта, подхватив на руки Сонечку, понеслась встречать приехавшего за ней из города мужа. Ловко справившись с замком, приоткрыла квадратные деревянные полотна и, одарив Олега широчайшей улыбкой, потянула их на себя, давая ему дорогу во двор. Он снова нажал на клаксон, приветствуя жену и дочь, коротко махнул рукой: отойдите в сторонку, мол… Сонечка, увидев отца, радостно затрепыхалась в Анютиных руках, завертелась направо-налево плотненьким своим тельцем. Заехав во двор, Олег выскочил из машины, протянул руки к дочери, сграбастал бережно, загукал-заворковал с ней ласково.
«Не сможет он сказать «нет», – с облегчением подумала Анюта, вспомнив про давешние свои сомнения. – Не сможет, и все. Он любит нас. Меня, Сонечку… И второго ребенка тоже будет любить…»
– Анька, у меня для тебя хорошие новости! – радостно повернул он голову к Анюте и потянулся губами, чтобы чмокнуть жену в подставленную розовую щеку. – Я тебе работу нашел!
– Какую работу? – осторожно отстранилась от него Анюта.
– Какую, какую! Классную, вот какую! У меня тут клиент один в специализированной фирме работает, они ландшафты на английский манер в богатых усадьбах насобачились оформлять. Представляешь? Говорят, это теперь модно. Жаловался, что заказов – море, а специалистов не хватает! Да и всякой другой работы невпроворот. Он обещал тебя взять…
– Так я же не ландшафтный специалист, Олег! Ты что! Я в этом мало что понимаю…
– Да какая разница, Аньк! Главное – зацепиться! А богатым – им все равно, за что деньги отдавать. Для них дорого – значит хорошо. А во всех этих тонкостях экстерьеров и не разбирается никто, хоть какой ты там ландшафт ему нарисуй. Хоть рязанский, хоть вологодский – ему без разницы. Главное, чтоб он уверен был, что ландшафт самый что ни на есть английский…
– Ну уж не скажи, – покачала головой, не соглашаясь с ним, Анюта, – сейчас все начали разбираться потихоньку.
– Да ни фига не начали! Я вот, например, такое, бывает, леплю клиенту несусветное, что самому смешно становится. А он ничего, кивает… В любом деле главное, Анька, – уверенность! Скажешь уверенно – обязательно поверят! А вот промямлишь – ни за что не поверят, если даже стопроцентно честным-правильным будешь. Так что давай дерзай… Ты с мамой, кстати, поговорила?
– О чем?
– Ну, чтоб она с Сонечкой осталась…
– Нет, Олег, не поговорила.
– Почему?!
– Некогда ей. Уезжает она. По делам.
– Куда? – округлил на нее глаза Олег. – Чего это вдруг? Что у нее за дела такие?
– Ой, я тебе потом расскажу, ладно? Сейчас не надо пока про это… – торопливо проговорила она ему, увидев вышедшую из дому на крыльцо мать.
– Аньк, а надолго она уезжает?
– Да не знаю, как получится… Потом, потом, Олег…
Тина, увидев приехавшего зятя, улыбнулась ему приветливо, медленно пошла по дорожке навстречу, вытирая мокрые руки о фартук.
– С приездом, Олег! Хорошо доехал? Ты не очень с голоду помираешь, скажи честно? До обеда полчасика продержишься? Сейчас Леня с Митей да с Маринкой должны подойти, все вместе и за стол сядем…
– Да ничего, Валентина Петровна, я потерплю, – вежливо улыбнулся теще Олег. – Вы обо мне не беспокойтесь, пожалуйста. Я сейчас вон в гамаке поваляюсь… Отдохну с дороги…
Он завалился в гамак, потянулся, сложил под головой ладони. Задрав подбородок, подставил лучам солнца бледное городское лицо, слегка, впрочем, обиженное. Он так торопился сюда, чтоб обрадовать жену хорошей новостью, а тут проблемы, видишь ли… Мама по делам уезжает! Приспичило ей будто так срочно… И вообще, какие у нее могут быть дела такие? Сидела бы в своем Белоречье… Туда же – дела…
Тина, взглянув мельком на растерянную Анюту и поняв, что вмешалась невзначай в супружеский разговор, быстро ушла в дом. А зайдя в кухню, вздрогнула, упершись взглядом в широкую Ленину спину. И тут же усмехнулась хитро, наблюдая, как Анюткин отец торопливо схватил с тарелки поджаристый пышный оладушек и потянул его в рот. Обернувшись, Леня подмигнул ей весело, прожевал быстро и потянулся было за следующим, да был шутливо ударен вошедшей хозяйкой по руке:
– Леня! Прекрати немедленно! Сейчас уже обедать будем! Ты когда вошел, я не видела? Испугал меня… С задней калитки, что ли?
– Ну, нам, Сивкам-Буркам, Тин, к внезапности своего появления вообще не привыкать, ты же знаешь. Положено нам так, в общем. А что, ты разве против?
– Нет. Не против. Анютка с утра тебя ждет.
– А ты?
Он быстро взглянул на нее и улыбнулся скромно-летуче, будто по щеке погладил. Только Леня умел так вот улыбаться – не губами, а глазами больше. Выстреливала вдруг из его карих глаз нежность, обволакивала ее тут же и заставляла краснеть от чего-то да опускать в землю глаза, как юная гимназистка какая. Хотя чего бы это ради? Давно уж решено меж ними было, что никаких таких нежностей-чувствований им не полагается, что объединяет их только материнство-отцовство по отношению к общей их дочери, и тем не менее… Всегда почему-то смущал Тину этот взгляд, как будто ей стыдно очень было. Как будто она какую ответственность несла за многолетнее чувство красивого этого мужика, появляющегося перед ней всю жизнь Сивкой-Буркой. А может, и правда несла…
Подняв глаза, она посмотрела на своего верного друга со стороны будто и снова – в который уже раз – подивилась этому удивительному сочетанию мужского обаяния и доброты. Леня и впрямь был красив той редкой мужской красотой, которая никоим образом не выражается в классически-строгих чертах лица или достоинствах телосложения. Все в нем было для классической мужской красоты в точности до наоборот – и ростом он был невелик, и чертами лица мелок, и шевелюра к возрасту поредела совсем, но почему-то сам Леня, весь, вместе взятый, женский взгляд несомненно притягивал. Шла от него мощным потоком веселая и добрая жизненная энергия, притягивала к себе магнитом и не желала поддаваться никаким объяснениям-определениям. Потому что невозможно дать объяснения человеческому обаянию – оно всегда неуловимо и трогательно, как талантливая нежная мелодия…
– А ты, Тинка? Ты меня не ждешь разве? – повторил свой тихий вопрос Леня. – Или мне так показалось?
– Почему не жду? Жду. Сейчас вот обедать будем. Да и вообще – ты в этом доме всегда желанный гость. Сам это знаешь!
– Знаю, Тин. И вообще, не обзывайся. Не порть настроение.
– Не поняла… Как я тебя обзываю? Ты что?
– А гостем обзываешь!
– Хм… А кто ты тогда?
– Кто я? А в самом деле – кто? И не знаю… Слова для меня здесь подходящего за столько лет и не найдено…
Он притворно-коротко вздохнул, потом улыбнулся будто бы трагически, и даже лоб наморщил слегка, и брови изогнул грустным смешным домиком. Потом медленно взял в руки тонкое Тинино запястье, профессионально-привычно сложил пальцы на том самом месте, где обычно медики определяют у больного частоту сердечных его колебаний. Тут же глаза его вмиг посерьезнели, и пробежала по лицу уже настоящая, совсем не смешливая озабоченность.
– Тинк, а с тобой все в порядке? Как ты себя чувствуешь? Не нравишься ты мне сегодня…
– А что такое?
– Да ничего… Бледная ты какая, помятая будто. Горох на тебе мололи всю ночь, что ли? Или опять не спала? Меня, ты знаешь, еще со вчерашнего дня смутные насчет тебя сомнения грызут…
– Ой, да ну тебя… С чего это ты вдруг?
– Не знаю, Тинка. Вчера будто сердце прыгнуло – случилось у тебя что-то. А поскольку я врач и знаю, что сердце человеческое ни с того ни с сего никуда прыгать не может, то и сделал вывод, что эти самые «того» и «сего» именно с тобой и приключились. От любимой женщины всякое мужское сердце способно вмиг импульс принять, знаешь…
– Леня! Прекрати! Чего это с тобой сегодня? Прекрати… – резко отмахнулась от него Тина и повернулась к плите. Открыв крышку большой жаровни, начала старательно помешивать в ней жаркое. Хотя чего там его помешивать – оно давно уже было готово к семейному за столом употреблению. И мясо было нежным и мягким, и картошка напиталась его соком вволю…
– Это ты чего прекратить требуешь, Тинк? На что рассердилась так? На «любимую женщину», что ли?
– Ну да… Договорились же…
– Да ладно… Далось тебе это «договорились». Сколько лет уже только и делаем, что договариваемся, и все никому не впрок…
Он замолчал на полуслове, досадливо поморщился и уставился обиженно куда-то сквозь нее. Потом, будто спохватившись, быстро улыбнулся и подмигнул ей весело. В самом деле, зачем ей знать, что впрок, а что не впрок? Зачем ей знать о мучительных его с Полиной домашних ссорах-диалогах? Пусть уж думает, что и впрямь эти «договоренности» помогли как-то бывшей ее подружке, а его законной, стало быть, жене. И не дай ей бог услышать хоть одну их такую ссору…
– …Поль! Ну ты же и тогда знала, что я ее люблю! Чего ты от меня хочешь-то? Ну давай я уйду, раз тебе так тяжело-невыносимо…
– Куда уйдешь? К Тинке? Совсем меня опозорить хочешь? – злобно на него глядя, тихострадальчески вопрошала Полина. – Нет уж, дорогой! И не мечтай даже! Не буду, не буду перед людьми брошенкой ходить, как Тинка твоя! Ведь муж-то ее тогда бросил! Бросил! Променял на Мисюську, помоложе себе выбрал! Ходит тут по Белоречью гордячкой, а на самом деле кто она? Обыкновенная мужняя брошенка! А я такого перед людьми позору не вынесу, не заслужила я его! Понял? Не заслужила! И не смей мне тут… Уйдет он, видишь ли…
– Поль, ну что ты несешь, ей-богу… Вы же подругами были…
– Ой, да при чем тут это! Я-то в чем виновата, что она матерью-одиночкой при живом муже оказалась? Это ж ты у нас такой добрый, пожалел… Он вот бросил, а ты и рад бы стараться подобрать, да? Ходишь вокруг нее кругами… Перед людьми же стыдно! Ладно бы перед молодой бабой какой выкаблучивался, я бы еще поняла… А что? Все мужики гуляют, ничего страшного в этом нет! А тут… Столько лет уже… Как телок ты к тому двору привязанный…
– Поля, прекрати! Ну зачем ты, да еще при Вовке!
– А пусть, пусть знает, какой у него отец бабник! Пусть знает, его отец от чужой бабы ребенка больше любит, чем от законной жены родного сына! Да тебе и всегда было на нас наплевать! Живешь с нами, как чужой гость какой… Не могу, не могу больше! Ненавижу, видеть тебя не могу! Так нельзя, нельзя больше…
А дальше происходило все так же одинаково грустно, как и повторяющийся из раза в раз и до оскомины уже приевшийся этот диалог. Полина начинала рыдать короткими и отчаянными всхлипами, а он, хлопнув дверью, уходил во двор. И в который уже раз принимал для себя решение – вот сейчас соберется с духом и уйдет. Пусть не к Тине, раз так святы для нее глупые эти «договоренности», пусть в никуда, но все равно уйдет! Так действительно больше нельзя, права Полина… А возвратившись домой, натыкаться взглядом на искательно-виноватую, робкую улыбку жены, замешенную то ли на любви, то ли на страхе перед женским горьким одиночеством, то ли на отчаянном нежелании быть героиней пресловутой людской молвы, называющей всякую безмужнюю женщину «брошенкой»… Кивнув головой в сторону кухни, Полина лишь произносила тихо:
– Там, на столе, банка козьего молока стоит. Возьми, я для Анютки Тининой приготовила. Вчера видела ее на улице – бледная такая…
Сердце у него тут же и сжималось – жалко становилось жену, хоть реви. Добрая ведь баба! Чего себя так изводит, зачем… Оно, конечно, понятно зачем. Любит она его. Но он-то в этой беде ей не помощник, получается. Единственное, что и может, – только «договоренности» эти дурацкие соблюдать…
– …Слушай, мать, а что у тебя все-таки случилось-то? Ведь случилось? – снова повернулся он к Тине, пытаясь заглянуть в зеленые ее глаза.
– Случилось, Лень. Только давай потом, ладно? Не могу я пока про это говорить. Просто… Мне ненадолго уехать надо… За домом присмотришь, ладно? А то Митеньке некогда – Марина вот-вот родит…
– Куда уехать? Зачем?
– Так надо, Лень. Не спрашивай меня больше ни о чем, а?
– Хорошо. Только скажи: ты к нему едешь?
– К кому?
– Ну… К Антону своему?
– Нет. Он умер, Леня. Еще два месяца назад.
Они коротко глянули друг другу в глаза, и будто перебежали-перетекли через этот быстрый взгляд все прошедшие здесь, в Белоречье, их годы. Может, горькие, может, счастливые, как-то они никогда не говорили об этом. Запретной была эта тема, потому как незримо и всегда присутствовал между ними неведомый для Лени Антон, Тинин муж. И Полинка тоже, конечно, присутствовала меж ними со своей многострадальной любовью, но все ж она была осязаема, видима и очень даже порой слышима. А вот Антон… Трудно, наверное, ревновать любимую женщину к человеку, которого никогда не видел. Еще труднее с этой ревностью на годы смириться. И научиться уважать чужую любовь, тебе не доставшуюся, тоже трудно. И потому все, все было в их взгляде: и Ленина неприкаянная любовь, и боль, и ожидание, и Тинино виноватое сожаление. Леня опустил глаза первым, даже попытался сделать, будто опомнившись, приличествующее случаю скорбное лицо. Только никакого такого лица у него не получилось, конечно же. А получилась, выплыла вдруг сама собой на лице дурацкая и тщательно скрываемая надежда-радость, которая вроде даже и нелепо, даже и кощунственно выглядит в сложившейся ситуации – человек умер все-таки… Такие же примерно лица бывают у скорбящих уставших родственников на похоронах старого богатого дядюшки, измучившего всех долгим своим умиранием, когда снаружи изо всех сил надо делать подобающее скорбной процедуре лицо, а внутри уже идет-производится напряженный расчет, как бы другие, чего доброго, с наследством не обошли… Впрочем, Тина на Леню за это лицо и не обиделась. На него вообще очень трудно было обидеться. Да и не обязан он вовсе скорбеть по поводу ухода в мир иной человека, которого не видел никогда…
Затянувшаяся пауза повисла в воздухе некоторой уже неловкостью, и Леня решил нарушить ее первым. Придав голосу чуть простоватой непринужденности, спросил осторожно:
– Значит, ты у нас теперь вдова, Тинка? Так получается? Я имею в виду – вдова юридическая…
– Да. Именно так и получается, – сердито ответила ему Тина. – Вчера сюда Антоновы дети приезжали, так они меня все юридической женой навеличивали. А ты вот теперь – юридической вдовой…
– Дети? Сюда? А чего они хотели-то? – И тут же, не дождавшись ответа, махнул рукой понимающе. – Понял! Понял, Тинка! Они наверняка приезжали договариваться насчет дележки наследства! Ведь так? Насколько я знаю, там есть что делить… Ты тогда еще говорила – там дом какой-то особенный… С этим… С как его…
– С мезонином.
– А! Ну да. И что, много они тебе отмусолить пообещали?
– Лень! Прекрати! Ну что у тебя за выражения такие, ей-богу? Отмусолить… Слово какое противное! Где ты его взял-то? Даже слух режет! И Анютка, видно, вся в тебя пошла – так иногда выскажется, что хоть стой, хоть падай…
– А что? Очень даже приличное выражение! Я думаю, литературное даже! – рассмеялся Леня, довольный тем, что неказистое это словцо вызвало в ней такую бурю эмоций. Пусть уж лучше эмоции будут, простые и человеческие, чем неловкое это молчание. – По-моему, я его в какой-то даже приличной книжке вычитал. Когда денег просят у кого, говорят: отмусоль, мол, немного…
– Не сочиняй! Говорю же: слух режет!
– Ладно, не буду. Не злись. Так, значит, ты у нас теперь богатая вдовушка?
– Леня, прекрати. Мне неприятно.
– А чего тебе неприятно, Тин? Лелеять годами свою боль неприятно? Да отпусти ты ее, в конце концов! Представь, что ушел человек навсегда и боль твою с собой унес… Ну, я понимаю, любила. Понимаю, раздвоиться не могла. Понимаю, что в этом цельность твоей бабской натуры и есть. Но иногда, знаешь, чтоб спасти человека, его резать-кромсать ух как приходится. Цельность цельностью, как говорится, а жизнь дороже. Это я тебе как врач говорю.
– Это ты к чему ведешь сейчас, не понимаю? – вскинула на него грустные глаза Тина.
– К чему веду? Да мысль у меня тут в голове одна проснулась. Старая такая мысль. Древняя, можно сказать. Все спала, спала и вдруг проснулась…
– Ну?
– Слушай, Тинк… Как думаешь, а не проявить ли мне сейчас мужицкую смекалку, да не сделать ли еще одну отчаянную попытку напроситься к тебе в мужья? А что? Ты теперь женщина свободная. Можно сказать – богатая. Грех, грех ее не проявить, смекалку-то! И детей мы с тобой, считай, вырастили.
– Леня! Прекрати! Мне не нравятся такие шутки, слышишь? Не к месту они!
– А я и не шучу, Тин. Я серьезен сейчас, как никогда в жизни. А за Полину не беспокойся. Она поймет. Да и то – сколько уж можно? И для всех наших «договоренностей» жизненно положенные сроки, я думаю, давно прошли. Да и помогу я ей всегда, если что… Ты же меня знаешь…
– Знаю, Лень. Только все равно не надо. Остановись. Ну куда тебя понесло опять? Да и насчет «богатой вдовушки» шутка твоя, считай, не прошла. Ничего мне там вовсе не полагается. Никто ничего мне отмусоливать, как ты говоришь, и не собирался вовсе. Так что мужицкая твоя смекалка подкачала. А насчет моей теперь свободы для нового замужества… Лень, ты, случаем, не забыл, в каком мы с тобой возрасте? Нам уже душевными делами заниматься надо, а не матримониальными… Странный ты какой, ей-богу! Как маньяк зацикленный, все время об одном и том же…
– Да, Тинк, ты права, – тихо и грустно вздохнул Леня. – А что? Маньяк, наверное, и есть. А вообще – интересная мысль какая… Всю жизнь любить одну женщину – разве это не мания? Мания и есть. Чистой воды. Надо бы с психиатром на этот счет посоветоваться…
– Ага! Давай! Давно пора… Иди лучше на стол накрывай, маньяк ты наш душещипательно-любвеобильный! Сейчас Митя с Мариной придут, обедать будем.
– Ой, а мы уже зде-е-есь… – послышался в дверях тоненький девчачий голосок.
Они дружно обернулись на эту нежную юную мелодию, расплылись оба в совершенно одинаковых улыбках. Маленькая женщина стояла в дверях, с гордостью выпятив вперед огромное пузо, улыбалась им навстречу. Светло-серые глаза ее сияли изнутри, как могут сиять глаза только у беременных женщин, которых к тому же и любят все кругом, и радуются вместе с ней священному ее ожиданию. Да и вся она, эта маленькая женщина, была воплощением сплошной человеческой радости, милое белобрысо-конопатое существо по имени Марина, беременно-неуклюжее и в то же время невесомое совсем, как залетевшее в июльское окно легчайшее птичье перышко. Славная девочка. Посмотришь на нее беглым первым взглядом – обыкновенная вроде мышка-норушка, никакой красотой не примечательная. А вторым взглядом посмотришь – и откроется тебе ее радость внутренняя, бриллиантом сверкающая. Тина ее давно разглядела, девочку эту. И Митенька, слава богу, разглядел…
– Мариночка! Здравствуй, моя девочка! – раскинув руки, пошла ей навстречу Тина. – Ну как ты себя чувствуешь?
– Да все хорошо, Валентина Петровна!
– А внук мой как?
– Тоже хорошо… Поговорить хотите? – хитро и понимающе улыбнувшись, спросила Марина, выпятив навстречу Тининым рукам свой живот.
– Хочу, конечно!
– Ну, поговорите…
Тина, присев на корточки, осторожно коснулась Марининого живота, проговорила ласково:
– Здравствуй, малыш. Это я…
Так уж заведено было с того самого дня, когда Митя с Мариной объявили ей о своей беременной радости, – Тина разговаривала с будущим своим внуком совершенно серьезно и на всяческие абсолютно темы, да еще и уверяла всех при этом, что он ее слышит, совершенно точно слышит и все понимает… И для Марины свекровина эта странная процедура превратилась постепенно в некий осмысленно необходимый ритуал, и она с удовольствием отдавала ей в руки свое драгоценное пузо.
– Малыш, ты меня слышишь? Ну как ты? Готов? Не бойся, все пройдет хорошо… Мы все тебя очень любим и ждем с нетерпением… И мама, и папа, и я, твоя бабка, и тетка твоя Анюта, и сестричка Сонечка…
– И я! Скажи: и я тоже жду! – тихо, но возмущенно проговорил Леня и подмигнул весело Маринке, и она улыбнулась ему от души, будто поблагодарив за желание сопричастности к общей их с Тиной радости.
– И Леня тебя тоже ждет, малыш… – поторопилась исправить свою ошибку Тина, поглаживая рукой Маринин живот. – Мы все, все тебя ждем…
– Марин, а когда? – спросила подошедшая сзади Анюта.
– Не знаю, Ань! Вообще-то уже пора… Может, сегодня, может, завтра… Слушай, а вот Сонечку твою так же все ждали?
– Конечно! Мама тоже с ней все время разговаривала, и я, и даже Митька твой… А что?
– Да нет, ничего. Хорошо просто. Знаешь, а я потом сразу и второго рожу. Чтоб росли вместе. Вам же с Митей хорошо вместе было?
– Ну да… – тихо улыбнулась ей Анюта, прислушиваясь одновременно и к себе. – Народим тут, на радость нашей бабке, целый детский сад… – И, обращаясь уже к матери, продолжила насмешливо: – Ну что, мам? Что он там тебе ответил-то? Поделись с нами!
– Что, что… – поднимаясь с корточек, весело произнесла Тина. – Сказал: ждите! Приду к вам, мол, скоро! Готовьтесь!
– Что, прямо так и сказал? – засмеялась весело Марина. Потом, всплеснув смешно ручками и обращаясь ко всем сразу, проговорила быстро-звонко: – Ой, а вы знаете, мне иногда кажется, что он родится и сразу меня спросит: а где та самая женщина, бабушка моя? Которая разговаривала со мной все время, которая так ждала меня сильно да любить обещала? А подать-ка ее немедленно сюда!
Все рассмеялись от души, радуясь этому голосу-звону маленькой женщины, и Тина рассмеялась, и обернулась навстречу вошедшему в дом Митеньке. Как всегда, ему пришлось согнуться, чтоб не удариться головой о притолоку – росту он был немалого, да и шири в плечах ему было не занимать – этакий красавец-молодец был ее Митенька… От девчонок в свое время отбою не было, она боялась даже, бывало, – избалуют парня своей липкостью приставучей, мозги на сторону свернут… Хоть и не было у Тины с племянником особых проблем – покладистым да спокойным рос, – но иногда мог и выдать что-нибудь из ряда вон. Потому что покладистость да спокойность любого человека – всего лишь обманка внешняя. За ее благополучным фасадом иногда такое творится, что может сразу и резко в беду вылиться. А что, бывает. Потом все только руками и разводят – такой тихий-спокойный вроде был человек… Потому и к Митеньке она прислушивалась-приглядывалась с самого детства особенно тщательно, стараясь уловить вовремя за благополучным этим фасадом болезненные душевно-опасные прыщики, и учила-любила, как могла. И он ее учил, конечно же. Потому что это родителям только кажется, что они детей своих учат да воспитывают. Иногда бывает и совсем наоборот…
– …Мить, что-то ты не нравишься мне в последнее время. Все молчишь, молчишь… Может, поговорим? – присаживалась она, бывало, к пятнадцатилетнему Мите за стол, за которым он делал уроки. – Посмотри на меня, Мить…
– А что такое, мам?
– Да ничего. Просто у тебя беспокойство в глазах плещется. Нехорошее такое. Уже будто на тоску взрослую смахивает. Что с тобой, Мить?
– Не знаю, мам. Но ты не волнуйся – у меня все в общем хорошо.
– Да я не о том, Митенька! Конечно же, у тебя все хорошо – ты вообще послушный и покладистый мальчик. Но вот внутри копится что-то, я же чувствую!
– А как? Как ты чувствуешь?
– Ну, этого не объяснить, в общем… Никто, Митенька, не может объяснить-расшифровать эту связующую ниточку под названием «мать – дитя». Ее просто признавать надо, доверять ей надо. Если она есть, конечно… Ведь есть?
– Да, мам, конечно.
– Значит, ты мне доверяешь?
– Да.
– Ну так и расскажи, что с тобой происходит, сынок. Тебе обязательно все внутри происходящее в слова облечь надо. Иначе оно будет расти, расти и грызть тебя…
– Да я и в самом деле не знаю, как это все обозвать, мам! Может, это просто недовольство собой… Или жизнью… Безнадега какая-то одолела. Ничего не хочется. Да и чего такого может хотеться человеку, живущему в маленьком поселке под названием Белоречье? Какая у нас тут жизнь, скажи? Дом, школа, снова дом…
– Значит, ты считаешь, только там жизнь, где яркий фон для нее есть?
– Ну да… А разве нет?
– Нет, сынок. Жизнь – это совсем другое. Она от фона не зависит. Если хочешь, она бежит от него даже, от фона этого.
– Ну да… Скажешь тоже… – усмехнулся грустно ей в ответ Митя. – Как это – бежит? Вот говорят же: надо прожить свою жизнь красиво, ярко!
– Так и правильно говорят, сынок! Только при этом яркость имеется в виду внутренняя, человечески драгоценная, а не внешняя блескучая мишура!
– Да? Может быть, ты и права… А только не получается у меня, мам. Нет у меня, наверное, никакой внутренней человеческой этой драгоценности.
– Так и не будет, если ты сам ее уничтожать станешь, мечтая о жизненных красивостях! Ты наоборот поступай, ты дорогу ей давай, своей внутренней драгоценности, освобождай от паутины всякой!
– А как? Как, мам? Я не умею…
– Да очень просто, Митенька. Цепляй себя за жизнь как таковую, за основу цепляй! За первостепенность жизни, а не за вторично-красивые ее признаки! Давай своей жизни каждодневные четкие определения, зацепки находи, точки опоры… Вот сегодня какой день, скажи?
– Ну, понедельник… Пятнадцатое февраля…
– Эк ты сейчас с тоской какой все это произнес! А ты найди в этом понедельнике пятнадцатого февраля свои собственные зацепки, опорные твердые точки, сосредоточься и зацепись за них в огромном пространстве и в текущем времени…
– Какие, мам?
– Какие? Ну, например, ключевыми словами зацепись… Зима. Февраль. Вьюга за окном. Горячий чай. В доме тепло… Прочувствуй их и зацепись!
– Что ж, попробую… – улыбнулся ей широко Митенька и, закрыв глаза и будто на чем в себе сосредоточившись, повторил: – Февраль. На улице холодно. В доме тепло. Хм… Нет, не цепляет… Мам, а может, они какие-то радостные должны быть, эти точки-зацепки? Может, надо за что-то особо приятное цепляться?
– Нет, сынок. Жизнь – она ведь не радостная воскресная прогулка в ожидании обязательных развлечений. Она штука более сложная. Самая большая человеческая ошибка в том и заключается, что все ждут от жизни только ярких радостных вспышек. Живут сегодняшний день в черновике будто, а чистовик сам собою завтра напишется. А если нет, то она и не удалась вроде. И смысла в ней никакого нет.
– А в чем, в чем тогда ее смысл?
– А смысл в том и есть, что надо просто жить, и все. Каждый день жить.
– Прозябать то есть?
– Нет, Митенька. Не знает жизнь такого понятия, как прозябание. Прозябает тот, кто о яркости жизни лишь мечтает завистливо. А кто принимает ее изо дня в день достойно, как самый большой подарок, тот не прозябает.
– Значит, ее смысл в достоинстве?
– Ну да, если хочешь. В достоинстве видеть-чувствовать каждый свой день, привязывать его к своей жизни, находить с ней общие точки соприкосновения… Ну подумай – ведь в самом деле сейчас февраль. И на улице вьюга. И сейчас придет Анютка, и мы будем пить чай. Это и есть ее величество Жизнь, Митенька! А завтра будет новый день. И снова будет жизнь. И ты в ней. И я. И Анютка. Надо просто научиться ее видеть, принимать, возвращать себя в нее постоянно через маленькие метки-зацепки. Научиться определяться в каждодневном ее пространстве, а не мчаться мимо в поисках ярких вспышек, будто ты слепой да глухой! Не надо искать в ней какой-то особенный смысл. Надо просто жить, и все. В этом и есть ее смысл…
– Хм… Интересно… Но ведь все кругом говорят, что надо все время стремиться куда-то, добиваться чего-то! И по телевизору вот тоже…
– Ну правильно! А представь на секунду, что все вдруг в одночасье возьмут и изо всех сил устремятся куда-то! Все наше Белоречье, например, снимется с места и устремится в какой-нибудь большой город в поисках ярких для себя жизненных вспышек? Нет, сынок. Жизнь – это не яростное устремление, это достойное течение. Течение в честности, в доброте, в умной потребности к самоограничению, в умении не искушаться попусту. В яростном устремлении она как раз меж пальцев и протекает быстро. А когда заимеешь то, к чему так яростно стремился, и понимаешь вдруг, что и не жил вовсе…
– Ладно, мам, я попробую. Как там, ты говоришь? Февраль, холодно, горячий чай? Хм… Ладно, пойду чайник поставлю… Сейчас Анютка придет…
После школы Митенька остался в Белоречье. Отслужил в армии, закончил институт строительный заочно. Женился на Маринке, построил свой дом на берегу реки. Основательный такой мужик из него вышел, крепко на ногах стоящий, рукастый да головастый. Но детская привычка к каждодневному своему в жизни определению осталась. Вот и сейчас, зайдя вслед за женой в дом и поймав на себе Тинин взгляд, он произнес, тихо ей улыбнувшись:
– Июль. Семья. Обед. Баня топится…
И Тина ему улыбнулась понимающе и кивнула в ответ: так, мол, сынок, все правильно. Зашедший вместе с ним Олег посмотрел на них очень удивленно, наклонился к Анюткиному уху, спросил шепотом:
– Чего это они, Аньк?
– Да так. Жизнь живут.
– Чего? Не понял…
– Ну, я тебе потом объясню, ладно? Попытаюсь, по крайней мере…
Тина, враз спохватившись, засуетилась быстро по хозяйству, собирая свою большую семью за стол. Перед сытным обедом мужики, как и полагается в больших дружных семьях, выпили по рюмке холодной водки, похрустели юным малосольным огурчиком, посмеялись над маленькой Сонечкой, скривившей выпившему отцу противную мордашку. И даже передернулась вся уморительно, будто на себе прочувствовала горечь ядреного взрослого напитка. Потом под этот же дружный смех еще и схватила цепкими пальчиками с тарелки огурец, быстро потащила его в рот. Июльское солнце, заглянувшее в большую столовую, тоже, казалось, улыбнулось им расслабленно, пройдясь ласковым теплым лучом по лицам – хорошо сидите, мол, люди…
Тине и впрямь было хорошо. Такие родные, такие любимые лица кругом. И пусть ее стол не ломится от дорогих пищевых изысков. Простая еда, приготовленная с любовью и для любимых, она всегда вкуснее и сытнее, чем самые отъявленно дорогие гурманские устрицы какие-нибудь или ананасы в шампанском. Олег Анютин, правда, несколько снисходительно на ее стол посматривает, ну да ничего, все равно ест с аппетитом. Все хорошо, только вот зря Митенька этот разговор вдруг завел…
– Мам, а ты правда поедешь туда, к нашим родственникам, да? Мне сейчас Анютка сказала…
– Поеду, Митенька. Но это не надолго, ты не беспокойся. А за домом Леня присмотрит.
– А зачем? Тебя ребята эти попросили, Анютка говорит…
– Ну да. Попросили.
– А какие они, наши брат и сестра? Расскажи!
– Не знаю, сынок. Я их и не разглядела толком. Как-то быстро все так произошло – опомниться не успела. Оля вроде на Мисюсь похожа, красивая очень. А Никита – тот на Антона…
Тина замолчала вдруг, опустила в свою тарелку голову. И за столом сразу повисла неловкая тишина, будто она невзначай коснулась запретной для всех темы. Было слышно, как звякают деликатно вилки о фарфор тарелок, как тихо вздохнула Анюта, кинув на Митю недовольный взгляд. На помощь тут же пришел Леня, прервал эту неловкую тишину, проговорив бодренько:
– А ну, мужики, давайте-ка по второй под горячее! Пока водка не согрелась!
Дружно чокнувшись, выпили. Однако разговор неожиданно продолжил молчавший до сих пор Олег, спросил очень заинтересованно:
– А кто, я не понял, приезжал-то? Родственники какие, что ли?
– Ну да. Родственники, – неохотно пояснил ему Митя.
– А я и не знал, что у вас где-то еще родственники есть. Анют, ты мне никогда о них ничего не рассказывала… – удивленно повернулся он к Анюте. И тут же переспросил деловито-заинтересованно: – А чем они занимаются, родственники ваши? Они кто вообще?
– В каком смысле – кто? – непонимающе уставился на него Митя. – Что ты имеешь в виду? Их социальное положение, что ли? Или степень родства? Или размер получаемого дохода?
– Да все, все я имею в виду! – так и не прочувствовал тщательно скрытой Митиной иронии Олег. – Родственники – это ж такое дело хорошее… Можно за них как-то же зацепиться при случае! Нет, это ж надо! У них, оказывается, родственники всякие-разные водятся, а они скрывают!
– Водятся тараканы за печкой, – добродушно улыбнулся ему в ответ Митя. – Только мы и сами, знаешь, не очень о их жизни осведомлены…
– А чего, чего они к вам приезжали-то? С какой такой целью?
– Ну как чего? Наследство делить, наверное, – вполне на первый взгляд серьезно ответил ему Леня. И, повернувшись к Тине и сверкнув насмешливо серым глазом, уточнил: – Правда, Тин? Ведь так? Я вот тоже давеча очень интересовался этим вопросом, насчет наследства этого…
– Ой, да хватит вам! – махнула в их сторону сердито рукой Анюта. – Что за любопытство такое на вас напало нездоровое?
– А что такого? – пожал плечами Олег. – Обычные дела, чего ты… Интересно же. И большое у вас наследство открылось, Валентина Петровна?
– Олег, прекрати! – снова сердито зашипела на мужа Анюта. – Чего это ты, в самом деле…
– Анютка, ты чего сегодня, не с той ноги встала? – весело повернулся к ней Митя. – Шипишь на мужа, как змеюка какая…
– Да ладно, Мить… И ты туда же… Ты лучше скажи – вы в новый свой дом переехали уже?
– Да! Да! Переехали! Вчера и переехали, – ответила ей вместо Мити Маринка, смешно и неуклюже пытаясь подпрыгнуть на стуле по старой девчачьей привычке. – Там так здорово, Аньк! Свежим деревом пахнет! А ночью я слышала, как тихо река течет… Представляешь?
– Как это – слышала? – недоверчиво-сердито переспросил у нее Олег. Даже слегка раздраженно переспросил, будто именно Маринка виноватой была в том, что ушел такой интересный разговор в сторону. – Как это можно слышать течение реки? Бред какой-то…
– И ничего не бред! – обиженно повернулась к нему Маринка. – Я слышу, слышу! Она шуршит так нежно-нежно по песку, едва слышно…
– Да уж, наш человек… – произнес Леня, глядя на нее с улыбкой. – Свекровка твоя слышит, как трава шуршит под ногами, а ты, значит, – как вода по песку… Вот не зря говорят, что сыновья себе жен по матери своей выбирают…
– И совсем не обязательно! – возразил ему с прежней, но уже более раздраженной горячностью Олег. – У меня вот мать, например, практичная очень женщина и целеустремленная. Всю жизнь работает много, карьеру неплохую сделала. И молодец, я считаю! На глупости всякие не позволяла себе отвлекаться, по крайней мере. И меня научила четко к цели идти. Видеть ее перед собой и идти, идти… Анюте в этом плане до моей мамы далеко. Анюта совсем, совсем не такая…
– А что, мама-то твоя дошла до своей цели? – тихо спросил Митя, осторожно подняв на Олега глаза.
Тина, тут же уловив в них некую искорку-смешинку, постаралась торопливо наступить под столом Митеньке на ногу – уймись, мол…
– Ну, не знаю… Она сейчас на пенсии уже вообще-то. Скучает очень. Не знает, куда себя деть. И здоровья нет, и характер совсем испортился. Скандальная стала, недовольная, злится на всех… Эх, да чего там…
Олег раздраженно бросил вилку на стол, допил оставшуюся в рюмке водку. Все посмотрели в его сторону с сочувствием, помолчали немного. Каждый из них нашел бы сейчас, что ответить ему, но все промолчали. Тина вспомнила свой недавний разговор с Анюткой о готовящемся для Олега сюрпризе и задумалась глубоко. Митя тихо радовался про себя подарку судьбы в Маринкином лице – и в самом деле, как же ему с женой-то повезло! И Маринка думала примерно о том же самом, молча глядя на Олега. А Лене отчего-то припомнилась юная совсем Тинка – она тоже очень нравилась его матери. Да она и не могла не нравиться – красивая, отчаянно-зеленоглазая и худенькая, похожая на мальчишку… Хотя и нынешняя, пожалуй, не хуже той, юной, выглядит. Ну померк немного изумруд в глазах, не таким ярким стал, зато светит глубоко теперь да благородно – залюбуешься. Ну разбила прежнее буйство светлых русых волос седина яркими прядками – подумаешь! Ее и не портит нисколько даже, только шарму придает! А вот худоба-гибкость девчоночья никуда не делась, так при ней и осталась. Иногда кажется – вот-вот подпрыгнет она на месте и понесется, как воздушный шарик, вдоль белого берега вслед за ветром… Он, бывало, в юности над ней так часто и подшучивал. Зачем, говорил, тебе, Тинка, пешком ходить? Послюнявь пальчик, поймай ветерок, подпрыгни чуть – и полетела! Она смеялась тогда звонко… Да и сейчас так умеет, если рассмешить хорошенько. Вот интересно, отчего некоторые женщины стареют очень красиво? Иная тетка все свои силы, бывает, бросит на бесконечную войну с морщинами, препараты-гормоны всяческие глотает чуть не пачками, а старость смеется только да делает изо дня в день черное свое дело. А иная несет морщинки свои так достойно, что и не видишь их совсем. Красоту видишь, а старость нет. Может, потому, что она ветер умеет слышать да шорох травы под ногами? Или как речная вода бежит ночью по белому песку? Загадка природы, да и только…
– Мам, а когда ты хочешь ехать? Надо ведь билет купить! – озабоченно проговорил Митя, быстро нарушив вновь возникшее за столом неловкое молчание. – Сейчас лето, не так-то просто это сделать…
– Я обещала им, что приеду на днях. А билет мне Леня купит. Завтра съездит в город и купит. Да, Лень?
– Да без проблем… Тебе на когда, Тинк?
– Я думаю, на послезавтра.
– На самолет, на поезд?
– Да без разницы, Лень. Надо быстрее с этим покончить, чтоб ребята там не волновались…
– Ой! Мама! – громко вдруг вскрикнула Маринка, схватившись за живот.
– Что?! – тут же прозвучал ей в ответ дружный слаженный хор мужских-женских голосов. Даже лица у всех на секунду стали вдруг одинаково перепуганными, глаза одинаково вытаращенными, рты одинаково открытыми…
– Ой, ну чего вы так перепугались-то? – дала им отмашку маленькой ручкой Маринка. – Да ну вас… Просто он меня ножкой подопнул под ребро так больно…
– Ты это… – полушутя-полусердито погрозил ей пальцем Леня. – Ты давай-ка, матушка, завтра в роддом приходи! Раз срок наступил, вот и приходи! Чего зря рисковать? Тина, скажи ей!
– Да все будет хорошо, Лень, не волнуйся! Мне вот внук мой сказал сегодня, чтоб я не волновалась, что он готов почти… – улыбнулась ему успокаивающе Тина.
– А-а-а… Ну, раз внук сам сказал… – уважительно-насмешливо произнес Леня и тоже улыбнулся ей широко и понимающе, подумав при этом: нет, никогда, никогда не постареет по-настоящему эта женщина…
– Кстати, ребята! У меня к вам просьба одна! Может, назовем его Антоном? А? Марин, ты не против? – спросила Тина, дотронувшись кончиками пальцев до плеча невестки.
– Это как Чехова, да? – хлопнула в нее длинными белыми ресницами Маринка. – Вообще-то мы Сашей хотели назвать… Ну ладно, можно и Антоном! Тоже хорошее имя! Мить, назовем Антоном?
– Давай. Антоном так Антоном, – покладисто согласился Митя. – Тем более что он уже наверняка заранее с бабкой своей об имени этом договорился…
Они засмеялись дружно, опять-таки слаженным семейным хором. Только Олег не смеялся. Со странным чувством смотрел он на этих людей. Чему так радуются – совершенно непонятно! Ну будет ребенок, подумаешь… Обычное житейское дело, куда от него денешься… Женщины беременеют иногда, бывает. Одного можно и завести, конечно. Хлопотно, правда… Но ребенок в семье нужен, как тут ни крути. Потому что без него не считается семья полноценной. А в успешной жизни все должно иметь полную, настоящую цену! Вчера вон приятеля одного встретил, так он ему порассказывал, через какие мытарства они с женой прошли, чтоб ребенка этого родить! Какие деньги пришлось бешеные заплатить… Да уж, чего только люди ни придумывают, чтоб не отстать от этой системы полноценности, – даже деньги за рождение детей платят! Тут уж, наверное, и не до разговоров с ребеночком, еще неродившимся, когда он тебе в копеечку влетает. Небось не устроила бы сегодня теща бесплатный концерт с этими разговорами, если б заплатила за этого Митькиного ребеночка. И с Анькиным пузом так же вот носилась, когда та беременная ходила…
Да и вообще, не нравится ему эта теща, мать Анькина! Полоумная какая-то тетка. Вот все у нее наоборот! Училка всего лишь школьная, а позволяет себе такие порой вольности… Несуразица какая-то выходит. А в жизни все должно всему соответствовать! Раз ты бедная училка – так и будь обычным, прибитым жизнью синим чулочком, как тебе по статусу и положено. Такой будь, какую тебе зарплату нищенскую платят. А не веди себя так смело-свободно, будто ты бизнесвумен успешная. Даже про свалившееся так неожиданно наследство не соизволила с ним переговорить, видите ли. Как будто и без того у нее денег водится – куры не клюют. Нет, точно полоумная… Да и вообще, все они тут такие, с прибабахом немного…
Глава 10
Выехали они из Белоречья только вечером. Пока в бане попарились, пока Анюта распрощалась с родственниками, уже и стемнело. Сонечка мирно спала на Анютиных руках, сложив кулачки на груди, – умаялась за день. Олег молча вел машину, чуть наклонив красивой формы черноволосую породисто-кудрявую голову, взглядывал на дорогу исподлобья. Анюте показалось – сердится будто.
– Эй, ты чего такой загадочно-молчаливый сегодня? – тронула она его за плечо. – Расстроен чем?
– Да так… Досадно просто. Так я того мужика уламывал, чтоб он тебя на фирму свою взял… И все зря…
– Олег… Ну чего ты, ей-богу! Сам же говоришь, они только открылись! Значит, у них работы невпроворот и там надо дневать-ночевать сутками…
– Ну и что?
– Да ничего! Я говорила тебе уже: Сонечка маленькая еще! И грудная! Ей мать сейчас, как никогда, нужна! Ты думаешь, мне, что ли, не хочется работать пойти? Еще как хочется! Но… Нельзя пока…
– Ну давай, превращайся в клушу, если тебе так нравится. Мне-то что, я как лучше сделать старался… Только не спохватись потом. Хотя не понимаю я этого, Аньк! Ведь вполне твоя мать может с Сонечкой посидеть! Ну съездит она за своим наследством на пару дней… Кстати, что там хоть за наследство такое, я не понял?
– Там дом…
– Дача, что ли?
– Нет, не дача. Я так понимаю, особнячок какой-то. Мама же с мужем своим юридически не разводилась, вот теперь там и образовалось после его смерти трое наследников. Его дети и она. И ей, выходит, положена от этого особнячка одна законная треть.
– Ну правильно… Так эти самые дети, значит, и приезжали наследство делить?
– Ну да…
– Погоди, Анька. Что-то я все равно не врубаюсь. А почему тогда их Митька братом да сестрой назвал?
– Потому что они наши брат и сестра. Двоюродные. Потому что их мать – мамина родная сестра.
– У-у-у… Вон оно в чем дело. Племянники, значит, тетушку обобрать решили… На родственных чувствах сыграть… Что ж, это и понятно. И не такое в жизни бывает. И сколько они ей отступного пообещали, интересно?
– Да ничего они ей как раз и не пообещали. Эти наши брат и сестра не хотят ей ничего отдавать. Специально за ней сюда и приехали, чтоб сразу к нотариусу увезти. Чтоб она там отказную собственноручно подписала. Так, говорят, положено юридически.
– Ну да… Конечно, конечно, положено так… – задумчиво подтвердил Олег, хищно-профессионально сузив глаза. – Именно к нотариусу, и именно собственноручно… А она с ними не поехала, значит?
– Нет, не поехала.
– Ну что ж, молодец, сообразила. А то б они ее по дороге как раз бы и обработали, и в самом деле отказную бы подписала! Молодец… А сейчас она зачем туда рванула? Заявиться на свою законную долю? Так хоть бы у меня сначала проконсультировалась, что да как… Может, и я бы с ней съездил…
– Почему – заявиться? Нет. Она решила и впрямь этот отказ подписать.
– Как это? Ты что… Погоди, Аньк, я не понял… Зачем?!
– Что – зачем?
– Да на фига ей отказ-то подписывать? Она что, совсем у тебя чокнутая?
– Эй, ты поосторожнее с выражениями!
– Ой, да ладно… Да и вообще, как по-другому-то скажешь? Сейчас альтруистами только ненормальных и признают!
– Олег, прекрати. Это, в конце концов, ее право. Она сама так решила.
– Да какое такое к чертовой матери право! – вдруг взорвался Олег яростно свистящим, даже немного рычащим шепотом, скосив глаз на закряхтевшую в Анютиных руках Сонечку. – Ты хоть понимаешь, в каких деньгах может эта ее доля выражаться? Или тоже под дурочку косить будешь?
– Нет, не буду. Понимаю я. Но повторяю: это ее право…
– Да нету, нету у нее никакого такого права! – снова яростно зашипел Олег и даже сделал попытку ударить в отчаянии несколько раз ладонями по рулю. – Господи, я скоро с вашим этим семейством с ума сойду… Ну скажи, что значит – ее право? Глупости! Какое такое право может быть у ничего в этой жизни не имеющего? Господи, слушать же противно! Мы из занюханного Белоречья, мы бедные, но такие, знаете ли, гордые… У нас есть право отказаться от законной доли в наследстве… Так, что ли?
– Да хотя бы и так! Тебе какое дело? Ты-то чего вдруг раскипятился?
– А что, я уже отношения ни к тебе, ни к твоей маме не имею? А может, твоей маме надо напомнить, что у нее, кроме различных прав, еще и обязанности имеются? Материнские, например? Она не желает ли, часом, дочери своей помочь?
– А в чем мне надо помогать, Олег?
– А что, не надо? У тебя что, уже все в этой жизни есть? Свой хороший дом, хорошие средства для достойной жизни, счет в швейцарском банке… Ты всего этого уже достигла, да? И тебе деньги больше ну никак не нужны! Ну просто складывать их уже некуда, все ресурсы для их приема исчерпались, да?
– А мне ничего из вышеперечисленного тобою и не нужно.
– Да? А вот мне, ты знаешь, нужно! Очень нужно! Да я бы на эти деньги фирму свою смог открыть и раскрутиться как-то! И жить! И зарабатывать! И человеком стать!
– И открыть счет в швейцарском банке… И дом купить в Монако… – насмешливо подстраиваясь под его горячие возмущенные интонации, тихо-весело произнесла Анюта.
– Да, Ань, именно так! Потому что я всего этого хочу! Потому что это и есть жизнь, когда у тебя есть и счет, и дом! А все остальное не имеет смысла!
– Нет, Олег. Жизнь – это не дом и не счет. Это понятие, знаешь ли, гораздо более объемное. А иначе все было бы очень просто…
– Замолчи, Ань! Вот не зли, не зли меня лучше, прошу тебя! А то я начинаю думать, что моя жена – всего лишь идиотка блаженная. Не придуривайся, Ань… Ты же не будешь мне сейчас доказывать, что деньги тебе вообще не нужны?
– Нет, не буду. Нужны, конечно. Как и всякому. Но только их величеству большому количеству я жизнь свою отдавать не хочу. Понимаешь, нельзя отдавать им свою жизнь целиком, никак нельзя. Ты только вдумайся – это ж настоящее убийство получается. Люди придумали деньги для чего? Для удобства просто. А не для того, чтобы они потом их медленно убивали. Или управляли ими, как марионетками.
– Это что, Аньк, мама тебя таким глупостям научила? – с ехидной какой-то горячностью спросил Олег, посмотрев на нее искоса.
– Да. И мама учила. И сама я училась, пока не поумнела. И с тобой я, кстати, тоже давно хочу поговорить на эту тему! – тоже вдруг загорячилась Анюта, разворачиваясь к Олегу и поудобнее перехватывая в руках Сонечку.
– Ну давай поговори, раз такой у нас спор философский зашел… – раздраженно-снисходительно усмехнулся вдруг Олег. – Расскажи мне, что такое жизнь. Расскажи, что деньги – это зло. Расскажи мне про добро, как надо ветер нюхать, как водичка песочком шуршит… Давай, давай…
– Знаешь, Олег, вот у Чехова рассказ один есть… Да ты помнишь, наверное, его в школе проходят. Там чиновник один так же вот всю жизнь свою положил на то, чтоб барскую усадьбу себе купить. Чтоб сидеть там и крыжовник есть. Ему все казалось, вот купит себе усадьбу – и сразу начнет жить. Работал, делал чего-то, суетился, деньги страстно копил…
– И что?
– А ничего. Он ее купил, конечно же. А потом тихо умер. И все. И жизни – как не бывало. И даже крыжовник вожделенный кислым оказался… Это я к тому, Олег, что желание другой, красиво-богатой Жизни может забрать целиком твою жизнь нынешнюю и вряд ли захочет вернуть ее обратно впоследствии. Красиво-богатая жизнь, она своих рабов крепко держит. Армия стремящихся к ней таких, как ты, преданных солдатиков-адептов неисчислима. А до вожделенного крыжовника тоже не каждый может дотянуться. Некоторые по дороге падают… Поэтому подумай, Олег, стоит ли овчинка выделки? Может, гораздо умнее полюбить эту жизнь? Принять ее такой, какая она есть? Не бежать за красивостями, не страдать от серых якобы будней, а принять жизнь как сам по себе существующий уже фактор? Ты подумай об этом, Олег!
– Глупости, Аньк. Вот глупости ты сейчас говоришь! Потому что все хотят жить красиво, все до единого! И все к этой красивой жизни одинаково стремятся, и когти себе рвут одинаково. Это закон такой, понимаешь? Кто не добежал, тот не живет. В пропасть нищеты-бедности сваливается. И, уже в этой пропасти сидя, из жалости к себе начинает сказки всякие рассказывать про ветер, про траву, про шуршание воды… Или глупо радоваться, как твой братец, новому дому в занюханном своем Белоречье. Оно, конечно, что ж… Морковка – тоже счастье, если ананасов не пробовал…
– А что, это так важно для счастья, что в данный момент в желудке у человека находится? Морковка или ананас?
– А что, не важно разве? Запах ветра и шелест травы важнее?
– Ну, это кому как… Спорить не буду. Жизнь материальную, как таковую, я, между прочим, тоже уважаю. Но уважаю – и только! Как вторичную составляющую. Только за первооснову ее брать не хочу. И вообще, давай на результат посмотрим. Во что в конце концов превратится ананас в желудке? А? Всего лишь в дурно пахнущую отхожую кучку? Так ведь и морковка в конечном результате в такую же кучку превратится… Получается, ты когти рвал для того, чтоб ананас этот сожрать во что бы то ни стало, а на деле та же самая кучка и вышла! А ты себя напрягал, чтоб денег на этот ананас добыть. А другой в это время жил. Ветру радовался, солнцу, каждый день свой благословлял, жизнь свою через себя пропускал радостно, на тщеславно-болезненные страсти не отвлекаясь! Страхами да нервами не изводился, не злился, ел себе свою морковку…
– Ну все, хватит! – резко перебил Анюту Олег. – Хватит чушь всякую нести! В общем, так порешим, Анька. Сейчас мы разворачиваемся и едем обратно, в Белоречье. И ты уговариваешь мать никуда без меня не ездить. Еще чего! Отказ она собралась подписывать… Это ее, ее законная доля! Ей деньги не нужны – да пожалуйста! Я ж не спорю! Пусть кушает себе дальше морковку да ветер нюхает, кто против? А деньги нам пусть отдаст! Нет, это ж надо… От таких денег она решила отказаться… Идиотка…
Он резко затормозил, оглянулся и приготовился уже с усилием выворачивать руль, пытаясь развернуться половчее на оживленной трассе. Анюта смотрела на него расширенными от удивления глазами, моргала растерянно. Опомнившись, заговорила резко:
– Прекрати, Олег! Постой, что ты делаешь? Не разворачивайся! Все равно я не буду ее уговаривать! Не буду! Остановись, Олег!
Съехав на обочину, он и в самом деле остановился. Откинулся сердито на спинку сиденья, прикрыл глаза, заходил желваками под твердой кожей щек. Сжав зубы, молчал сердито. И Анюта молчала, прижав к себе Сонечку. Странным и тяжелым получалось это их обоюдное молчание. И с каждой прошедшей минутой становилось все тяжелее, будто переходило постепенно за рамки обычной семейной неурядицы, превращалось во что-то более твердо-объемное и неприязненное. В настоящее противостояние превращалось. Противостояние людей разных, по сути, противоположных, не понимающих друг друга и не имеющих ни одной общей точки соприкосновения… Казалось бы, ну какое, какое такое противостояние может образоваться у людей, друг друга любящих, по факту этой любви поженившихся да еще и ребеночка себе родивших? Умно ли, в конце концов, так уж сопротивляться молодой жене тому, что муж ее решил? Они, мужья, трезво-положительные да к благополучию семейному стремящиеся, сейчас вообще вроде как большая редкость, на дороге не валяются…
Вздрогнула и проснулась, захныкала-закряхтела Сонечка, будто испугавшись родительского этого твердо-объемного противостояния, моргнула растерянно глазками. Олег скосил глаза на дочь, выпрямился на своем сиденье, решительно взялся за руль. И произнес тихо:
– Значит, так. Сейчас мы едем в Белоречье. А по дороге думай, Анька. И выбирай. Или ты уговариваешь мать на деньги, или нам не по пути. Я надеюсь, ты умная женщина и решишь все правильно. А если глупая, то и оставайся со своей мамой в Белоречье. Нюхай ветер. Думай, Анька, думай…
За окном пошел дождь. Зачертил пунктирами параллельные прямые на ветровом стекле, будто перечеркивая старательно все их прошлое. Олег молча развернулся и поехал в обратную сторону. Набычился весь, выглядывал исподлобья на дорогу орлиным сердитым взором. Анюте подумалось вдруг: вот бы посмеяться от души над этой нелепой ситуацией… Только не до смеха ей сейчас было. Жизнь семейная рушилась, какой уж тут смех. Но страха перед этим производящимся прямо у нее на глазах разрушением не было. Было просто грустно. Тоскливо даже. Так грустно и тоскливо – хоть плачь. Хоть вываливайся из жизни сию секунду, хоть в депрессию впадай… Она даже с усилием попыталась впихнуть себя в прежнюю жизнь обратно, по Митькиному методу, припоминая подходящие какие-нибудь точки-зацепки. Ну вот какие, какие тут точки придумаешь? Темно? Дождь? Грустно?
Больно? А что?.. В принципе тоже точки, тоже зацепки… Это тоже жизнь, что ж поделаешь… Пусть больно, пусть грустно, но жизнь же!
Захотелось вдруг ей и всплакнуть. Как ни крути, а для слез женских самое подходящее время. Темно. Дождь. Грустно. Больно… Она уж совсем было и собралась выпустить первую слезу, да не успела. Потому что долгожданная точка-зацепка вдруг вспыхнула в ней внутри где-то, пропищала тонюсеньким голоском: «А я? Ты что, забыла про меня разве? Я, я теперь твоя главная точка-зацепка! Я приду скоро, ты не плачь…»
Интуитивно вдруг выпрямившись, Анюта улыбнулась навстречу этому прозвучавшему в ней голоску. Потом заглянула сама в себя осторожно, ответила ласково: «Да ты не бойся, я жду! Конечно же, жду! Подумаешь, шесть месяцев каких-то и осталось…»
Она и сама не заметила, как быстро прошел этот обратный путь. Вот уже замелькали знакомые дома на родной белореченской улице, вот белый берег высветился между домами… У ворот Анюта открыла дверь машины и, собираясь уже выйти, повернула к мужу голову:
– Уезжай, Олег. Всего тебе доброго, береги себя. Ты прав, нам действительно не по пути…
– Аньк, постой! Ты что? Ты это серьезно? – тихо-испуганно спросил Олег, глядя на нее очень удивленно. – Ты что, и впрямь рехнулась, Аньк?
– Серьезнее некуда, Олег. Я здесь останусь. А ты уезжай.
Анюта осторожно вылезла из машины, держа на руках Сонечку, медленно пошла к калитке. Олег, чертыхнувшись, пружинисто соскочил со своего сиденья и, обогнав, встал у калитки, преградив ей путь.
– Аньк, ты что? Обиделась, что ли? Ну извини, я не хотел… А как, как еще тебя вразумлять надо было, скажи? Если ты не понимаешь ни черта? Я просто попугать хотел…
– А меня не надо вразумлять, Олег. Я и так умная. И пугать меня не надо. Знаешь, хорошо даже, что так произошло. Что мы действительно поняли – нам в жизни не по пути. Чем раньше это поймешь, тем лучше. А то стали бы потом изводить друг друга непониманием да бесполезными спорами…
– Анька, опомнись! Ты что?! Я же люблю тебя!
– Может, и правда любишь. Наверное. Может, и я тебя люблю. Но жить так, как ты хочешь, все рано не стану. Пропусти, пойду я.
– Ань, ну это же глупо… Погорячился, бывает. Из-за какого-то наследства… Ну съехала крыша от перспектив… Я же как лучше хотел, Анька!
– Пропусти, Олег. Ты же сам сказал – решай! Вот я и решила. Не по пути нам.
– Ну и иди! Иди-иди, слушай ветер вместе со своей шизоидной мамочкой! Прозябай дальше в нищете! Кушай свою морковку и радуйся! – злобно проговорил Олег, открывая перед ней калитку и глумливо прогнувшись в низком поклоне.
– Я не прозябаю, Олег. Я жизнь живу. Слава богу, я это делать умею. А вот ты не умеешь. И мне тебя очень жаль. И еще вот что – ты все-таки подумай надо всем этим на досуге. Ладно? Знаешь, как говорят? Если ты очень злишься, значит, ты очень не прав…
– Ага, сейчас… – пробормотал он раздраженно, садясь за руль и поворачивая ключ зажигания. – Вот немедленно брошу все и начну думать, знаете ли…
Закрыв за собой калитку, Анюта тихо ступила во двор, пошла по выложенной красным кирпичом дорожке меж свернувших на ночь свои лепестки цветов. Выскочившая на шум подъехавшей машины Тина уже тревожно поджидала ее на крыльце, кутаясь в ажурный платок. Спустившись быстро и легко со ступенек, осторожно приняла у нее из рук спящую Сонечку, спросила шепотом:
– Анют, что случилось?
– Да ничего, мам. Ничего такого страшного не случилось. Просто мы с Олегом сейчас расстались.
– Как это – расстались? Ты что, дочь?.. – испуганно распахнула на нее глаза Тина и даже присела слегка, будто подкосились вмиг у нее колени.
– Да ладно, мам! Проживу. Нет, не так. Буду жить! Я ведь тоже не умею себе изменять, мам. Как и ты не умеешь. Так что все нормально. Я и есть, наверное, то самое яблоко, которое от яблони недалеко падает…
– А про ребенка ты ему сказала, яблоко?
– Нет…
– О боже, дочка… – только и выдохнула Тина, испуганно прижав к себе Сонечку. – Ты хоть понимаешь, каково это – с двоими детьми на руках да без мужа остаться?
– Понимаю, мам. Но ты же нас с Митькой вырастила? И я своих выращу!
– Ну знаешь… Мне все-таки твой отец помогал…
– Так и мне поможет! И ты поможешь! И Митька с Маринкой! Проживем, мам! Ты за меня не бойся, ладно? Не пропаду я. Ну помаюсь тоской какое-то время, не без этого… А вообще, и маяться не буду. Нельзя мне. Твой внук мне этого не позволит, мамочка! Пойдем в дом, прохладно уже стало. И сыро. Ночью гроза будет. Чувствуешь, как дождем пахнет?
– Ой, дочка, дочка… Не знаю даже, что и сказать тебе… – вздохнула Тина, заходя вслед за Анютой в дом.
– Мам, ты уложи Сонечку, ладно? А я пока чайник поставлю. Как там у вас с Митькой это звучит-то всегда? Дай вспомнить… Ночь, на улице прохладно, горячий чай, пятнадцатое июля… Или уже шестнадцатое? Тогда здравствуй, шестнадцатое…
Сидя в полутемной столовой за большим семейным столом, они проговорили-прошептались всю ночь. И поплакали вместе, и посмеялись, и состроили даже некоторые планы… Ночная гроза и в самом деле закатила настоящий для них концерт – сильный, мощный, с фейерверками голубых молний, с проливным пахучим дождем, с потоком целительного озона в распахнутое по окончании этого природного праздника окно. Высунув в него голову, Анюта медленно вдохнула в себя влажный терпкий воздух, послушала тихий шелест падающих с деревьев и цветов в мокрую траву последних капель. За рекой занимался уже рассвет – новый рассвет нового дня, благословенного июля шестнадцатого числа сего года, двадцать пятого года ее счастливой жизни… Потом развернулась решительно к матери, осмотрелась, уперев руки в бока.
– Так, мам! С завтрашнего дня начинаем в доме ремонт! Все, все здесь переделаем! У меня куча соображений по этому поводу…
– Вот так, да? – рассмеялась, глядя на нее, Тина. – Ну что ж, все по правилам, дочь! Раз с мужем разошлась, пора и ремонтом заняться… Только давай не завтра. Вот вернусь, тогда и приступим к ремонту, и соображения все твои реализуем.
– Так ты уезжай себе на здоровье! Мы с отцом и без тебя начнем. Сейчас посплю и сяду за эскизы. Мы с тобой здесь такое сотворим – смерть холодному гламуру! Такое сотворим, что всяким там бизнес-ледям вместе с их крутыми бизнес-бойцами и в райском сне не приснится. А главное – детскую комнату веселой сделаем. Чем черт не шутит, может, я и на третьего когда решусь…
– Э! Э! Доченька! Куда тебя несет-то? Ты сначала второго роди…
– А что? Ты разве против третьего?
– Нет, не против. Я даже против четвертого не против…
Глава 11
А ровно через день ранним рассветным утром Леня вез Тину в аэропорт. Взглядывал сбоку не узнавая – как же меняет человека нарочитая эта ухоженность-тщательность! Нет, хуже не делает, конечно. Но все это: волосок к волоску аккуратная причесанность, чуть тронутое пудрой да румянами лицо, чуть подкрашенные ресницы – и другая, кажется, женщина рядом с тобой сидит. Такая же красивая, но другая. И кажется даже, заговорит сейчас не Тининым, а другим, тоже подретушированным слегка голосом…
– Лень, тебе Анютка говорила, что она с Олегом вусмерть поссорилась?
– Да, говорила.
– А из-за чего? Мне ведь так и не объяснила ничего толком… Сказала – расстались, и все. Как ты думаешь, это серьезно?
– Не знаю, Тин. Хотя… И я бы на ее месте, скорее всего, так поступил. А вообще, она сама в своей жизни разберется. Ты ее не спрашивай ни о чем, ладно? Она девушка самостоятельная и знает, как ей жить. А вообще, чего это я тебе объясняю… Уж кто-кто, а именно ты свою дочь понимать и принимать должна. Ты и сама такая…
– Какая, Лень?
– Цельная. Из одного куска жизни скроенная. И потому гармонично в нее вписаться можешь при любых обстоятельствах, даже пусть самых горестных.
– Ну, я – это я… Просто для Анютки мне ничего такого горестного не хотелось бы, сам понимаешь… А она тебе говорила, что второго ребенка ждет?
– Да ты что?! Вот здорово, Тинка! Значит, дважды будем с тобой бабкой-дедкой!
– Да будем-то будем… – вздохнула, улыбнувшись навстречу его радостным эмоциям, Тина. – И помогать будем, и растить будем…
– Ну вот и не вздыхай! Будешь вздыхать – ребенок Анюткин тебя услышит! Сама же научила нас всех, как надо ему искренне радоваться. Мы что, тебе зря поверили?
– Не буду, Лень, не буду больше! Прости! – улыбнулась уже веселее Тина. – И вздыхать не буду, и за Анютку бояться не буду…
– И правильно, и не бойся. Она у нас девушка крепкая. Всегда знает, чего хочет.
– А все-таки, Лень, что у них там с Олегом произошло? Просто поссорились или что-то более серьезное?
– Да как тебе сказать… Не знаю даже. Просто на компромисс идти не захотела. Трудно ей это. Не может, не умеет себя на части рвать. Даже ради любимого мужа не смогла этого сделать. Она ведь максималистка у нас. Такая же, как и ты…
– А что ты называешь максимализмом, Лень? Только это – отсутствие в человеке компромиссов?
– Ну да. Причем полное их отсутствие. Хотя я вот считаю, что это не очень уж и хорошо. И для максималиста нехорошо, и для его близких… Так тоже нельзя жить, Тинк! Я согласен – нельзя свою жизнь полностью на одних только компромиссах строить, но и без них тоже нельзя. Мы как раз на эту тему вчера с Полиной разговаривали. Она вот, например, заявила мне, что устала в этом вечном горестном раздвоении жить. Не может больше. Сказала: иди, куда хочешь. Не нужен ей вроде как больше ее замужний официальный статус. И Вовка тоже, как ни странно, в этом ее поддержал. Она ему звонила вчера, советовалась. Отпусти, говорит, мама, отца, наконец уже…
– Не поняла, Лень… Она тебя прогнала, что ли?
– Ну да.
– Ничего себе…
– Так что я теперь несчастный брошенный муж, Тинка. И податься мне, бедному, некуда. Разве что о твой максимализм еще раз лбом удариться?
– Да нет у меня никакого такого максимализма, Лень! Чего выдумываешь? Да во мне компромиссов этих всяческих – хоть отбавляй! – весело возмутилась вдруг Тина. – Забыл, что ли, как мы Вовке твоему четверки за контрольные сочинения добывали? Как я тайком, как шпионка какая, доставала из общей стопки его тетрадку и ошибки своей рукой исправляла? Это ж, по большому счету, и не компромисс даже, а преступление учительское! Хоть и оправданное, я считаю. Он же очень умный, сын твой. И в том не виноват совсем, что грамотность в него не заложена. Вот не определила в нем природа места для грамотности, и все тут. Мозги математические дала, а грамотности пожалела!
– Ты, Тинка, мне зубы Вовкой моим не заговаривай. Есть, есть у тебя этот максимализм, и не спорь. Внутренний, сокрытый ото всех, но есть. Я же знаю! Иначе ты не позволила бы тогда Мисюське счастье свое отобрать. Если ты любила так этого своего Антона, почему уступила без боя?
– А любовь не уступают, Лень. Она ж не вещь, чтоб ее передавали из рук в руки. И она всегда со мной жила, все эти годы. А только знаешь, вот узнала я, что нет больше Антона, и будто сломалось во мне что-то. Будто все я по-другому уже видеть стала…
– Так максимализм твой, наверное, и сломался!
– Что ж, может, ты и прав… Ты знаешь, я так часто о Мисюсь в последние дни думаю! А раньше все гнала и гнала от себя эти мысли. А тут вдруг чувствую – нет во мне никакой обиды. Как будто вчера мы только с ней расстались, и никакой такой нехорошей истории меж нами и не было.
– Тинк, а ты увидишься с ней?
– Не знаю, Лень. А ты как думаешь – надо?
– Конечно! Конечно, надо. Обязательно даже.
– Страшно…
– Чего тебе страшно?
– А вдруг я увижу ее, и во мне эта боль снова расти начнет?
– Не начнет, Тинка. Потому что хватит уже. Потому что и для боли твоей, и для максимализма, и даже для Полинкиного компромисса, как выяснилось, все сроки уже истекли. Потому что ушел в мир иной твой Антон – освободил нас всех от этих обоюдных страданий. И еще вот что – хочешь ты или не хочешь, а я к тебе сегодня переберусь. Мы решили с Анюткой сегодня ремонт начать. Все, все начнем с самого начала! Какие наши годы с тобой, Тинка? Все у нас еще впереди. Внуков поднимать будем, жить будем, радоваться будем… Я по-прежнему люблю тебя, Тинка! Ты – моя женщина-жизнь…
Уже сидя в самолете и глядя в узенький иллюминатор на белоснежную кудрявую плотность облаков под крылом, Тина все вспоминала, вновь и вновь прокручивала в голове этот разговор с Леней по дороге в аэропорт. Как он ее назвал интересно – моя женщина-жизнь! Она вдруг поймала себя на мысли, что впервые за долгие годы не сказала ему «нет»… Ей даже слово это и в голову не пришло, между прочим! Наверное, Леня прав: надо все начинать сначала. Смешно, конечно, начинать все сначала в пятьдесят пять лет. Хотя почему? Жизнь – она вообще никаких человеческих возрастов не признает. Течет себе и течет одинаково – и в двадцать, и в тридцать, и в пятьдесят пять… И еще – все время ей о Мисюсь думалось. Наверное, Леня прав: они обязательно должны встретиться. Хотя при чем тут Леня – она и сама для себя это уже решила. Интересно, какая она сейчас, ее беспокойная младшая сестренка? А вдруг она и видеть ее не захочет? Надо было Олю с Никитой расспросить поподробнее о их матери, когда приезжали. Зря она тогда так растерялась, будто душа вмиг онемела. Будто затаившаяся в ней на долгие годы обида напряглась в последней предсмертной судороге и сковала ее всю. А потом взяла и враз ушла куда-то, уступив свое место образовавшейся вдруг потребности увидеть, поговорить, простить… Нет, она обязательно, обязательно сразу поедет к Мисюсь! Если Оля ее не повезет, так и сама поедет! И бояться ничего не будет. Ни боли, ни памяти, ни призрака дома с мезонином…
Город счастливой молодости встретил ее совсем недоброжелательно, сереньким моросящим дождем, которого, казалось, и нет вовсе, однако лицо моментально стало влажным и тоже будто серым. Теплый сырой воздух аэропорта был по-городскому невкусным, отдавал асфальтом и суетливыми людскими буднями, все спешили куда-то с озабоченными лицами, с поднятыми домиком бровями, с тяжелой поклажей в руках, толкали друг друга нещадно…
В реденькой толпе встречающих Тина сразу разглядела Ольгу – она ей сама позвонила накануне, чтобы уточнить время прилета. Подхватив по-свойски Тину под руку и улыбнувшись почти по-родственному, повлекла бегом к машине, заботливо придерживая над головой зонтик.
– Спасибо, спасибо, Валентина Петровна, что вы приехали! Если только б знали, как вы вовремя… Завтра я, знаете, в командировку должна ехать, а на Никитку особо полагаться нельзя – вдруг бы не встретил? Вы ж его видели – совершенно несобранный мальчишка! Ну что, поедем сразу к нотариусу? Я уже договорилась, он нас примет… А у вас билет обратный уже есть? Может, сразу купить? На этом же самолете и обратно улетите…
– Погоди, Оля. У меня к тебе просьба одна есть…
– А! Ну конечно же! Чего это я! Конечно же, я взяла для вас несколько отцовских фотографий… Сейчас, сейчас…
Ольга принялась лихорадочно рыться в сумке, потом вытащила небольшой канцелярский конверт из жесткой серой бумаги, торопливо протянула его Тине:
– Вот, возьмите, пожалуйста… Еще ваша дочка просила, чтоб я на кладбище к отцу вас свозила. Хотите? У меня времени совсем в обрез, конечно, но после нотариуса можно и съездить. Правда, мы памятник еще не поставили, все как-то руки не доходят. Вернее, средства не позволяют. Но вот попозже обязательно, обязательно поставим. Хороший такой, из мрамора. Так я не поняла, хотите или нет?
Тина ничего ей не ответила. Рука ее, принявшая грубый канцелярский конверт, вдруг дрогнула отчаянно, будто сопротивлялась предстоящему путешествию в прошлое. У нее действительно не осталось ни одной фотографии Антона – Мисюсь, наверное, просто не догадалась тогда их положить в ту посылку с Тиниными вещами, что пришли четверть века назад на их белореченскую почту. Держа сейчас в руках этот конверт, она просто-напросто трусила туда заглянуть. А вдруг она не узнает Антона? Вдруг образ, хранящийся столько долгих лет в памяти, видоизменился каким-то образом и она увидит совсем чужого, незнакомого ей человека? А вдруг она просто придумывала все эти годы свою любовь? С самоотверженным максимализмом придумывала, как Леня сегодня выразился. Вот сейчас заглянет туда и поймет, что не было ничего…
Осторожно открыв конверт, она достала тоненькую пачечку фотографий, поднесла поближе к глазам первую, лежащую сверху. И сердце оборвалось – это был он… Именно он, ее Антон, взглянул на нее грустными и близорукими, такими добрыми, такими живыми и до боли знакомыми глазами. Все, все было в этих глазах для нее! И любовь, и тоска, и родство душ, и мягкая смешинка, и такая знакомая грусть… Чеховская грусть. Мудрая. Та самая, в которую она влюбилась так безоглядно тогда, в юности. Которую несла в себе долгие годы. Которая навсегда осталась, наверное, некоей основой ее внутренней жизни, хранительницей достоинства человеческого, не порушенного пошлостью да невежеством жизни внешней. Что ж, видно, судьба у нее такая. Любить и слышать Антона Павловича Чехова, любить и помнить Антона Павловича Званцева… А вот и другая фотография. Нет, таким она Антона уже не знала… Очень похудевшим, со стекшими будто вниз щеками, седым совсем. А глаза все равно те же! Глаза все равно улыбаются мудро и грустно. Прямо в душу смотрят, словно спрашивают ее: что ж ты, колокольчик мой Тин-Тин, не простила меня тогда?..
– Это папа к юбилею своему фотографировался. К семидесятилетию. Я помню. Мне тогда уже двадцать лет было… – тихо прокомментировала Ольга, заглядывая через Тинину руку на фотографию. – А мама тогда еще совсем, совсем молодая была. Конечно, нехорошо об этом спрашивать, Валентина Петровна, но что у вас тогда произошло все-таки? Вы же с мамой родные сестры… Мама у вас мужа увела, да? Отца нашего? Расскажите, Валентина Петровна!
– Ну что значит – увела… Нет, не увела, Оленька. Не то это слово. Тут одним словом всего и не объяснишь, пожалуй. Да и вообще – не хочется мне об этом говорить. Извини, – тихо и твердо произнесла Тина, убирая фотографии обратно в конверт. – Оленька, ты вот что… Ты отвези-ка меня сначала к Мисюсь…
– К кому? – удивленно вытаращила на нее глаза Ольга. – К кому вас отвезти, Валентина Петровна? Не поняла, извините…
– К Мисюсь. К маме твоей.
– Хм… А почему вы ее так странно назвали – Мисюсь? Это ведь что-то чеховское, да? Как же рассказ называется, я забыла? Нам с Никиткой отец все время его в детстве читал…
– «Дом с мезонином».
– А! Точно! Так вот откуда взялось это имя… От нашего дома, значит…
– Нет. Не от дома. Дом как раз тут ни при чем. Это я так маму твою с самого детства называла. Мы все ее так называли. И в памяти она осталась именно Мисюсь, а не Машей. А что, папа твой разве не звал ее так никогда?
– Нет. Впервые слышу. Нет, он и правда маму так никогда не называл! У них, знаете, вообще всегда были очень странные отношения. Натянутые будто. Мы жили все в одном доме, одной большой семьей, а будто и не жили. Все как-то сами по себе, знаете… И еще помню из детства – мама плакала все время. А отец из своей библиотеки не выходил практически. Там и умер…
– Да. Так бывает, Оленька. Людская близость – штука очень капризная. Ее в рамки одного дома, одного семейства загнать нельзя. Можно годами не видеть человека, а все равно он для тебя самым близким остается.
– Это вы про себя сейчас сказали, Валентина Петровна? Про себя и про отца?
– Неважно, Оля. Так что, отвезешь меня к Мисюсь?
– Хм… Странно как… Наша мама – и вдруг Мисюсь! Звучит даже нелепо. Всю жизнь она была Марией… Марией Петровной Артемовой… Она даже Званцевой не стала, так и прожила с отцом в гражданских женах. Теперь вот проблемы с наследством этим…
– Что ж, сочувствую. Хотя я бы против развода возражать не стала. Зря она ко мне не обратилась.
– Зря, конечно! И я о том же! Но ничего. Мы ведь с вами уже все решили, правда? Сейчас поедем к нотариусу, и вы все официально оформите…
– Сначала к Мисюсь, Оля. Она дома?
– Погодите, я не поняла… А зачем вы к ней хотите ехать?
– Да ни за чем. Просто так. Повидать.
– А к нотариусу?
– А потом к нотариусу.
– А что, наоборот нельзя?
– Нет, Оля. Нельзя, – сама удивляясь своей невесть откуда взявшейся настойчивости, твердо проговорила Тина. – Сначала поедем к Мисюсь.
– Но… Валентина Петровна… Это технически очень трудно сделать, понимаете? Это все так не по пути… А может, я вас лучше на кладбище к отцу завезу? Попрощаетесь по-человечески…
– Нет, Оля. Я прошу тебя – поедем сначала к Мисюсь, – тихо-железно произнесла Тина, четко разделяя слова. Знала она за собой такую вот учительскую слабость – так иногда могла сказать, громыхнув жестким железом в голосе, что все возражения у вредничающего оппонента отметались будто сами собой, и ничего уже этому бедному оппоненту и делать не оставалось, как автоматически подчиниться. Правда, пользовалась Тина этой своей то ли слабостью, то ли силой в исключительно редких случаях. Просто в этот момент что-то подсказало ее взволнованному сердцу, что как раз такой случай и наступил…
– Так. Это что же, условие ваше такое, Валентина Петровна? – испуганно переспросила Ольга, отчаянно уставившись на Тину.
– Да, если хочешь. Условие такое. Поехали.
– Ну что ж… К Мисюсь так к Мисюсь… Хм… Звучит-то как смешно! Наша мама – Мисюсь…
Всю длинную дорогу из аэропорта они молчали. Ольга сосредоточенно вела машину, покусывала острыми белыми зубками красивые, блестящие розовым прозрачным перламутром губы. Нервничала очень. Еще бы – что ни день, то потрясения какие-то… Ну чего вдруг вздумалось этой тетке ехать сейчас к матери? Она и не знает ничего про нее… Увидит – неизвестно еще как прореагирует. А вдруг еще и мать истерику закатит, как вчера, жаловаться начнет, что они ее в «богадельню» спроваживают? Хотя насчет «истерики» – это она сейчас погорячилась, это громко очень звучит, конечно. Вернее, неправильно звучит. Хотя такая ее реакция была бы более естественной. Или даже более желательной. Потому что не было на самом деле никакой истерики. Мать тихо заплакала только, и все. И ничего ей не сказала. Это она, Ольга, говорила и говорила без умолку, доказывая крайнюю необходимость ее устройства в «приличное очень место», а мать нет. Тихо плакала, и все. И даже слезы не вытирала. Они текли и текли тонкими дорожками по серым ее щекам, все текли и текли. А Ольга все говорила и говорила, будто старательно отвергала те самые, так и не прозвучавшие вслух материнские слова-обвинения, которые она, исходя из логики вещей, все-таки должна была произнести… Вот лучше бы и в самом деле она их произнесла, ей-богу! Лучше бы уж и впрямь закатила ей эту истерику…
Хотя без истерики в тот день тоже не обошлось. Совершенно для Ольги неожиданно слезный концерт с рыданиями закатил ей в тот день Никитка, когда она сообщила ему об их с Игорем насчет мамы решении. Если честно, не ожидала она от брата таких эмоций. Вот вам и инфузория-туфелька! Так на нее орал сквозь слезы свои и сопли, что она разозлилась даже. Чего орать-то? Сам ничего другого придумать не может, а туда же – стыдить ее начал… Оно, конечно, гораздо удобнее – другого стыдить. В этот момент и наобещать даже сгоряча можно всякого-разного: мол, маму к себе возьму, сам с ней жить буду… Ничего, и это пришлось стерпеть. Потому что она-то знает – сгоряча да на эмоциях чего только не пообещаешь. А потом жизнь все равно свое возьмет, и сто раз пожалеешь о своей дурацкой этой не к месту горячности…
Ольга вздохнула сердито и скосила глаза на притихшую свою пассажирку – все-таки непонятная какая эта сестра мамина… То с ходу все бумаги не глядя подписать хотела, а теперь, смотрите-ка, условия ставит… А что сделаешь? Ничего и не сделаешь. Придется подчиниться. Только вот предупредить бы ее как-то, что ли, чтоб сильно перед мамой не охала. Да и вообще… Оказывается, от нее всего ожидать можно. Игорь-то прав, выходит. Тетка-то оказалась непредсказуемая…
Когда въехали в знакомый район со старыми домами, сердце Тинино забухало в груди часто и болезненно, ударило мощным кровотоком в голову. Она узнала эту улицу, узнала! Вот там, за поворотом, будет маленький парк с небольшим озерцом посередине, а потом сразу откроется глазу красивый дом с мезонином… Вот сейчас… Еще немного…
Однако Ольга как раз это самое «немного» и не проехала. Остановила машину резко, отвалилась на спинку кресла, прикрыв глаза и продолжая нервно покусывать губы. Потом так же резко распрямилась вдруг, выстрелила в Тину сердитым взглядом.
– Извините меня, Валентина Петровна, но я должна была вас сразу предупредить, конечно…
– В чем дело, Оля? О чем ты меня должна была предупредить? Неужели… Мисюсь… Она жива, Оля?
– Да жива, жива… Только… Как бы это сказать правильнее? Наполовину жива…
– Как это – наполовину? Как это может быть человек жив наполовину?
– Понимаете ли, Валентина Петровна… – начала свой грустный рассказ Ольга. – Пять лет назад мама попала в автомобильную аварию. У нее нижняя часть тела вообще атрофирована. Ездит по дому в инвалидной коляске… Отец все эти годы за ней ухаживал, конечно. А сейчас, понимаете, совершенно некому… В общем, у нас с Никиткой не было, не было другого выхода!
– Какого выхода, Оля? Что-то не понимаю я… – с трудом вбирая в себя полученную информацию, глухо проговорила Тина. – О каком таком выходе ты говоришь?
– Да об обыкновенном… О нормальном говорю выходе для такого случая, Валентина Петровна! В общем, сегодня после обеда должна прийти за мамой машина… Но вы не беспокойтесь! Мы ее в очень, очень хорошее место определяем! Мой муж специально через всякий блат договаривался… Там природа, уход хороший, и прочее все тоже на должном уровне… Там такой интернат специализированный…
– А Мисюсь? Как она к этому вашему решению отнеслась?
– Да как… Плакала, конечно. Вещи собирала и плакала… Я только вчера ей об этом сказала. Но поверьте, у нас не было, и в самом деле не было другого выхода, Валентина Петровна!
Ольга вдруг уронила голову на руль, заплакала злыми, лающими какими-то рыданиями. Красивые белокурые волосы рассыпались по плечам тяжелой волной, прикрыв собой, как заботливой шалью, ее вздрагивающие худенькие плечи. Взглянув на нее сбоку, Тина аж лицо прикрыла испуганно от пронзившего ее иглой через толщу прошедших лет дежавю – это же Мисюсь перед ней сидит и так же плачет зло и сердито! Точно Мисюсь… Ей даже плохо стало на какое-то мгновение. Показалось, воздуха в закрытом маленьком пространстве машины совсем нет. Она торопливо нащупала рукой дверной рычажок, так же торопливо выскочила на улицу. Сделав несколько глубоких и жадных вдохов и ничего перед собой не видя, пошла по кромке дороги. Вот зря, зря она Леню не слушает – сердце-то и впрямь барахлить стало… И муть такая перед глазами стоит… Вздрогнув от длинно-возмущенного гудка проезжающей мимо на большой скорости машины, она встряхнулась будто и поспешила пройти через газон на тротуар, заросший по краям толстыми кленовыми стволами. Постояла, отдышалась. И снова медленно пошла вперед. Тут уже близко совсем должно быть… Вот, вот сейчас должен быть поворот… А там дом… Там Мисюсь…
– Валентина Петровна! Постойте! Куда же вы? Садитесь в машину! Извините меня, что я так глупо расплакалась! – проговорила-прокричала из открытого окна машины Ольга, догнав Тину на самом углу улицы.
– Нет, Оля. Я пройдусь. Ничего.
– Вы очень презираете меня, Валентина Петровна? Что я так с мамой…
– Не знаю, Оленька. Бог тебе судья. Ты поезжай, я сейчас приду…
Дом действительно открылся ей сразу за поворотом. Ничуть за эти годы не изменившись, гордо стоял, выпятив взору белые свои колонночки. Хороший дом. Красивый. Заросший вкруговую кленами. Скоро листья с них полетят, красиво будет… Кленовый желтый лист – вообще вещь в природе необычная. Она помнит, как ходила тогда вокруг дома, собирала в букеты эти словно неведомым мастером причудливо вырезанные, хрупкие и нежные в своем увядании листья, как вдыхала их сырой осенний аромат. А потом был первый снег, и они выглядывали из-под тонкого его белого слоя острыми желтыми концами, будто руки тянули, помощи просящие. Как все это, оказывается, живо и остро помнится. Хотя и не больно уже. Вот он, стоит перед ней, дом с белыми колоннами, мираж из прошлого, а ей и не больно. Наоборот, даже пустота какая-то странная внутри образовалась. А вон и окна мезонина сквозь зеленые пока ветви проглядывают – плотно задернуты черными шторами. Там Антонова библиотека была… Хотя почему была? Наверное, и сейчас есть… Все, все то же самое, ничего тут за долгое ее отсутствие не изменилось. Это она теперь стала другой, а дом – тот же самый…
Так и не смогла Тина до конца определиться в своих чувствах, глядя на этот красивый дом. Нет, ничего, ничего такого особенного она действительно сейчас по отношению к нему не чувствовала. Больше боялась, как говорится. Боялась – нахлынут воспоминания, всю душу напрочь перевернут-перемешают… Нет, не нахлынули никакие воспоминания. Ну, прошли, начиная отсчет от этого красивого дома, долгие годы. Что с того? Хорошие годы, между прочим. Годы с Митенькой, с Анюткой, с жизненными обычными трудностями вперемежку со счастливыми, не так уж и редко выпадающими ей днями, когда душа так здорово умеет летать между землей и небом, красиво расправив перышки… Годы жизни, в общем. Счастливой довольно жизни. Когда-то давно, в детстве еще, она вычитала в одной умной книжке, что счастливый по своей природе человек в любых обстоятельствах счастлив. И в красивом доме с мезонином в большом городе, и в простом бревенчатом доме на белом берегу реки. И рядом со своей любовью, и вдали от нее…
– Что, узнали знакомые места? – тихо спросила сзади подошедшая Ольга. – Сколько вы здесь с отцом прожили, пока… пока…
– Оля, а там, в мезонине, по-прежнему библиотека располагается? – не ответив на ее вопрос, повернулась к ней Тина.
– Ну да… Куда ж она денется-то? Куча пыльных старинных книг…
– Эк ты сейчас презрительно сказала: пыльных, старинных… Я же помню, там такие раритетные издания были!
– Ну да…
– И что теперь с ними будет?
– Как – что? Продам, наверное!
– Да? А может, я куплю у тебя пару собраний? Чтоб память осталась?
– Да ради бога! Только с ценами мне определиться надо. Вы выберите сейчас, что вам нужно, а я позвоню, проконсультируюсь. Если вас по стоимости устроит – забирайте, что ж…
– Спасибо, спасибо, Оля.
– Да ладно, чего там… Отец всю жизнь трясся над этими книгами, знаете ли. А мама также всю жизнь его к этим книгам ревновала… Ну что ж, пойдемте к маме, Валентина Петровна?
– Подожди, Оля. Я сейчас. Подожди…
Тина вдруг остановилась около высокого белого крыльца как вкопанная. Чувствовала – не может она сделать ни шагу. Страшно очень. Страшно посмотреть в глаза Мисюсь, страшно вообще ее не узнать… Такая вдруг паника в ней образовалась, что хоть разворачивайся да обратно беги от этого крыльца сломя голову. Положив руки на грудь, она моргнула нерешительно и, будто извиняясь за свое странное поведение, жалобно произнесла:
– Ой, я так боюсь, Оля…
– Боитесь? Чего? – встав на верхнюю ступеньку и снисходительно посмотрев на нее сверху вниз, торжествующе-насмешливо спросила Ольга. – Вы же так этого хотели, Валентина Петровна! Так решительно настаивали! А теперь испугались, значит? Чего вы испугались-то? Насколько я понимаю, это мама должна бояться встречи с вами. Ничего-ничего! Смелее, Валентина Петровна! Пойдемте, раз уж приехали. Попрощаетесь хоть. Теперь уж точно навсегда. Скоро уже машина за мамой придет…
– Да. Да, Оля. Пойдем.
Враз ослабевшими, подогнувшимися предательски в коленках ногами Тина с трудом одолела невысокие ступени, поднялась вслед за Ольгой на крыльцо. С трудом удержала дыхание. Страшно волнуясь, начала внимательно следить за торопливыми, но четкими действиями своей племянницы – вот она достала большой ключ от первой двери, вот поменьше – от второй… Странно, но даже ключи с тех пор остались теми же самыми. Или ей показалось с перепугу? И старинная дубовая дверь так же охотно-приветливо скрипнула, как когда-то, пропуская ее в этот дом…
– Мама! Мам! Ты где? К тебе тут гости, мама! – громко позвала Ольга, по-хозяйски заходя в широкий холл, выполняющий роль то ли гостиной, то ли очень большой прихожей. – Проходите, Валентина Петровна… Только я вас умоляю – не вздумайте плакать! Маму сейчас нельзя волновать. Она и так, знаете ли, вчера переволновалась очень сильно. Так болезненно восприняла свой отъезд…
– Хорошо, Оля. Я постараюсь не плакать.
Тина прошла в холл, остановилась, обвела вокруг себя взглядом такое большое, такое знакомое пространство. Странно, но и здесь, в доме, ничего особенно не изменилось. Все то же самое. Огромные окна с заглядывающими в них любопытно кленовыми ветками, лепные вычурно-строгие потолки, старый рояль в углу… Мебель, правда, другая. И еще – запах у дома стал другим. Не пахло здесь больше счастьем. Пахло болезнью, отчаянной безысходностью, пахло не выветриваемой никакими способами немощной человеческой физиологией…
От странного скрежещуще-шуршащего звука, раздавшегося у нее за спиной, прошел мороз по коже. Она обернулась резко, ткнувшись глазами сначала в большие колеса старой инвалидной коляски, потом подняла осторожно взгляд…
Мисюсь. Господи, неужели это и впрямь Мисюсь… Это худенькое, будто силой какой согбенное существо с жилистыми ладонями, вцепившимися в колеса инвалидной коляски – ее красавица сестра? Нет, не может быть. Эти матово-пепельные, неаккуратно зачесанные назад волосы, этот странный потухший взгляд… Блеклые болотные глаза на сером, слегка одутловатом лице сестры и в самом деле смотрели куда-то мимо нее – ничегошеньки в этих глазах не отражалось, кроме внутренней за саму себя стыдливости. Казалось, утекли из этих глаз слезы на много лет авансом, и эмоции все – и горестные, и радостные – вместе с ними. Один только стыд остался. Стыд быть обузой своим детям, стыд за свой физиологический запах, стыд за свою жизнь, которая хоть и в таком виде, но все же идет и идет, черт бы ее побрал… Так и смотрела Мисюсь мимо нее пыльным своим взглядом, вцепившись жилистыми руками в колеса инвалидной коляски. Потом лицо ее дрогнуло одутловатыми щеками, взгляд из равнодушно-серого перетек в живой, испуганно-загнанный…
– Оленька, кто это пришел? Извините, не узнаю… Где мои очки, Оленька? Принеси мне очки, пожалуйста… Извините…
Сердце у Тины сжалось. Так больно сжалось, что не могла она произнести ни слова. Да и не смогли бы пробиться сейчас никакие слова через перехваченное слезной волной горло.
– Здравствуй, Мисюсь… – только и смогла она прошептать хрипло-сдавленно и тут же закрыла предательски задрожавшее лицо руками. Отступив на полшага, без сил опустилась в большое кресло. Не сдержалась, заплакала все-таки, не выполнив данного Ольге обещания.
– Тина… Не может быть… Неужели это ты, Тина? Как же…
– Да. Да, это я, Мисюсь! Ты меня не узнала, сестренка? – сквозь слезы проговорила-проикала Тина.
– Узнала… Теперь узнала, Тиночка… Да ты и не изменилась совсем. Ты выглядишь как… как тогда… А меня, видишь, Бог наказал все-таки. За все со мной расквитался.
– Не надо, Мисюсь… Не говори так… Что ты…
– Обижаешься на меня, Тиночка?
– Нет, Мисюсь. Теперь уже нет.
– Обижаешься. Я знаю. Такое нельзя простить. Да я никогда и не надеялась, в общем… Ты знаешь, Тиночка, все на меня обижаются. И Антон мне всю жизнь простить не мог, и ты, и дети вот… А я ведь его и правда любила, знаешь! Честно любила. Как мужика, по-бабьи. По-простому, по-человечески. А ты нет, ты так не могла…
– Я тоже его любила, Мисюсь.
– Нет, Тиночка. Ты в нем писателя Чехова своего любила. Из головы любила, не из сердца. Потому что если б из сердца любила, то не пустила бы меня тогда к нему. Связала бы, а не отпустила. Потому что когда баба из сердца любит, у нее голова не работает. Ей, понимаешь ли, тогда все равно, какой образ в себе несет выбранный сердцем мужик. Чеховский образ, не чеховский…
– Нет, Мисюсь. Не права ты. Но спорить не буду. У каждого, видимо, на этот счет своя правда-спасительница припасена. А настоящей правды, наверное, действительно не знает никто. Потому и спорить с тобой не буду.
– Конечно, не будешь. Ты со мной вообще никогда умных своих споров-разговоров не заводила. Может, потому я тогда так по-детски жестоко с тобой и расправилась. Но поверь, я и правда его любила… И детей своих любила. А они теперь меня в богадельню сдают…
– Мама! Ну что ты говоришь такое, господи… Ну в какую богадельню? Там очень приличное место… – с надрывом проговорила Ольга, заламывая руки. – Не мучай меня, мамочка… Мы же вчера с тобой обо всем договорились! Я и так с ума скоро сойду от всего этого…
– Да. Ты прости меня, Оленька. Я все помню, я уже и вещи собрала. Не сердись, дочка. Я готова. Я даже и плакать не буду, как договорились… Куда меня пристроишь, туда и ладно. И ты меня прости, Тиночка! Спасибо, что попрощаться приехала. Теперь уж точно никогда не увидимся. Нехорошо я с тобой поступила, знаю. Нет, ты не думай, я и правда все, все понимаю! И всю жизнь виной этой мучаюсь. Ты прости, если можешь…
– Я простила, Мисюсь. Правда простила.
– Только ты не думай, Тиночка, что я у тебя твое счастье совсем отняла. Нет, неправда это. Мне от твоего счастья, знаешь ли, ни одной полной горсточки не досталось. Так, щепотки мелкие… Антон ведь тебя одну всю жизнь и любил! Не впрок мое детское коварство оказалось, никому не впрок… И сама я теперь никому не впрок…
– Ну что ты, Мисюсь! Не надо. Не надо так, прошу тебя! – снова не сдержалась Тина, заплакала горько. – И ты меня прости, сестренка… Я ведь не знала о тебе ничего…
– Тиночка, ты погоди, не плачь. Погоди, Тиночка… Тут у меня для тебя одна тетрадка есть… Где же… – засуетилась вдруг испуганно Мисюсь, крутя колеса своей коляски в сторону сваленных в углу комнаты сумок. – Куда же я ее сунула-то, господи… Дай бог памяти…
– А что за тетрадка, мам? – с интересом спросила Ольга, озадаченно глядя на мать.
– Да тебе неинтересно, доченька. Обыкновенная отцовская тетрадка, ценности никакой не представляет… Я ее нашла, когда архив Антона разбирали. Сейчас, сейчас покажу…
Дрожащими руками она полезла в боковой карман большой черной сумки, с трудом вытащила из его плотного нутра обыкновенную толстую тетрадку в коричневом дерматиновом переплете. Старую, помятую. Таких сейчас и не встретишь уже. Развернувшись к Тине, протянула ей свое сокровище, проговорила тихо:
– На, Тиночка. Возьми. Это дневник его…
Тина молча приняла из ее рук тетрадь, полистала нерешительно. Пожелтевшие от старости хрупкие страницы были исписаны бисерным, с наклоном чуть влево Антоновым почерком. Надо же, настоящий дневник. Она и не знала тогда, что Антон ведет дневник… А взглянув на дату первой записи, тут же и поняла, почему не знала. Дата была той самой давности, когда она не вернулась сюда из Белоречья, со Светиных похорон. Когда осталась в Белоречье воспитывать осиротевшего племянника Митеньку…
Сев в кресло и открыв тетрадь наугад, на самой ее середине, она стала вчитываться в такой знакомый, такой когда-то привычный почерк Антона. Острые с наклоном влево буквы хоть и попрыгали поначалу перед глазами, но потом послушно начали выстраиваться в четкий свой ряд, складывались в слова и предложения, смысл которых оседал даже и не в голове, а в сердце будто, заставляя его работать часто и тревожно, отчего в груди разлилась вдруг нехорошая горячая боль…
«…Скажи, мой зеленый колокольчик Тин-Тин, отчего такая тоска нападает временами? Я чувствую – она каким-то образом и не связана даже с той болью, которую я сам себе причинил, обидев твою любовь… Понимаешь, боль эта особого рода, и я свыкся с нею постепенно, стал носить в себе, как носят в себе сердечники исстрадавшееся инфарктами сердце. Привыкают к постоянной его боли и носят. Тоска же приходит сама, выползает медленно и незаметно из плотных корешков любимых книг, смотрит на меня твоими зелеными глазами. Тебе плохо, Тин-Тин? А ты знаешь, мне без тебя очень плохо… Иногда, ночью, засидевшись здесь, среди старых книг, я вижу тебя. Может, это похоже на сумасшествие, но в тот момент мне кажется, что я слышу даже и звук твоего голоса, звонкий и нежный, как звук зеленого колокольчика. И мне хочется жить дальше. Несмотря ни на что. Потому что где-то далеко есть ты. Пусть не со мной, но есть же! Что с тобою сейчас, мой маленький колокольчик? Где ты сейчас, Тин-Тин?..»
Тина торопливо захлопнула тетрадь, сглотнула набухший в горле слезный комок. Горячая боль из груди отступила тут же, и она вздохнула вольно и свободно. Потом подняла голову к Мисюсь, улыбнулась ей виновато. Подумалось совершенно некстати, что чеховский «Дом с мезонином» тоже заканчивается вот так – безысходным риторическим вопросом. Только звучит он по-другому. Не «где ты, Тин-Тин», а «где ты, Мисюсь»… Конечно же, не имел абсолютно никакого отношения к их истории чеховский рассказ. И тем не менее судьбе виднее. Не надо было ее гневить, не надо было называть с самого детства свою сестренку этим именем. Может, и не соблазнилась бы она тогда чужой любовью, не соблазнилась бы жизнью в большом доме с мезонином… Хотя и глупости все это, конечно же…
Вздохнув еще раз, Тина поднялась с кресла, повернулась всем корпусом к Ольге, произнесла решительно:
– Так, Оля. Ответь мне: когда машина за матерью подойдет, которая ее в интернат должна везти?
– Не знаю… – растерялась вдруг Ольга от этой Тининой решительности. – Скоро, должно быть… Игорь сказал, после обеда где-то…
– Она, я понимаю, специализированная какая-то?
– Не знаю… Наверное… Надо ведь коляску как-то перевезти, и вещи вон еще… Да и маму на носилках нести придется… А что? Почему вы об этом спрашиваете, Валентина Петровна? Вы не беспокойтесь, они все сами сделают! По крайней мере, Игорь, мой муж, с ними так договаривался. И деньги уже вперед заплатил… А двери им жильцы откроют. Не беспокойтесь об этом, Валентина Петровна…
– А я и не беспокоюсь уже. Просто это хорошо, что машина специализированная. До вокзала мы на ней как раз и доедем. Билеты тоже, я думаю, сразу купим. Вот еще кресло надо куда-то пристраивать… В товарный вагон, может… Ну да ничего, разберемся!
– А… Почему на вокзал-то, Валентина Петровна? Не поняла… Зачем на вокзал? Мы же хотели к нотариусу…
– К нотариусу по дороге заедем! Да не волнуйся ты так, откажусь я от своей доли! Я так понимаю, это немного времени займет? Ты позвони туда, пусть все бумаги приготовят, пока мы едем.
– Да? Ну хорошо… Я позвоню сейчас… Если так, то пожалуйста… – испуганно лепетала Ольга, хлопая красиво подкрашенными ресницами.
– Только я все равно не поняла, при чем тут вокзал…
– Мисюсь, это все твои вещи? – повернулась Тина к сестре, указывая пальцем на груду сумок, сваленных в углу комнаты.
– Да, Тиночка… А что такое? Я, если честно, тоже ничего не понимаю, Тиночка… Мы что, куда-то с тобой уезжаем?
– Да, Мисюсь, уезжаем.
– Куда, Тиночка?
– Домой, Мисюсь, домой! Куда же еще? Домой к себе поедем. В Белоречье…
Глава 12
За квадратным вагонным окном шел теплый мелкий дождь. Не надоедливый – слегка ленивый просто. Погода не была порченой – июль отдыхал от череды нескольких знойных своих дней. Да и ехать в такую погоду было хорошо. Не жарко. Они сидели обнявшись на нижней полке своего купе, говорили без умолку. Плакали, снова обнимались, снова говорили. Вместе со слезами – Тина могла поклясться, будто и видит это даже, – утекал из глаз сестры и многолетний за саму себя стыд. Его место, не имея сил терпеть человеческой этой пустоты, занимали искренние, вновь себя обретшие Тинины любовь и прощение. А как вы хотели? Каждому человеку нужна и любовь, и прощение тоже нужно, знаете ли. Необходимы просто. Такое вот обыкновенное, одно для всех общее жизненное правило. Если вы живете, конечно…
А поезд все мчал и мчал их на положенной ему скорости в Белоречье. В бревенчатый дом на белом берегу реки, где, склонившись над столом с разложенными на нем эскизами, яростно спорил с дочерью по поводу ее необычных дизайнерских решений Леня. И победу в этом споре, конечно же, одержала Анюта. Так что предстоял дому на белом берегу реки скорый и смелый ремонт – надо же как-то творческим идеям в жизни воплотиться! И вообще, надо детям всегда уступать в их порывах-фантазиях. Тоже такое вот есть жизненное правило. Если вы живете, конечно.
А на соседней улице Белоречья, уткнувшись в подушку, плакала слезами облегчения Полинка, ругая себя за прежнюю свою женскую нерешительность – давно надо было мужика к Тинке отпустить, не купаться в многолетней своей бабской нелюбви-униженности… А что – лучше поздно, чем никогда. И это тоже обыкновенное жизненное правило. Если вы живете, конечно!
По направлению к Белоречью мчался сейчас, однако, не только поезд с Тиной и Мисюсь. По направлению к Белоречью по мокрой от недавно прошедшего дождя дороге мчалась и Олегова машина, везя в себе расположившийся на заднем сиденье огромнейший букет алых роз, который должен был вскорости сыграть роль не просто букета – неким символом он должен был стать. Символом крепко истосковавшегося по молодой жене и виноватого сердца своего хозяина. А что вы хотите? Любовь, она и есть любовь. Ни один мужчина не может потерять свою женщину-жизнь. Такое вот еще одно обыкновенное жизненное правило. И никуда от него не денешься. Если вы живете, конечно!!!
А еще к бревенчатому дому на белом берегу реки, перепрыгивая через свежие лужи, мчался на всех парах Митенька, неся в себе счастливую весть. Только что появился на свет его сын Антон. Кричал требовательно, суча красными ножками и ручками. Жаль, Тины рядом с ним не было. Она б услышала обязательно, что он кричал: здравствуй, мол, Тина, я жить пришел! Это я, твой Антон! Ты ведь ждала меня? Вот я и пришел! Где ты сейчас, Тина, зеленый колокольчик?




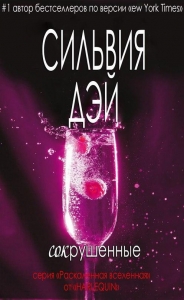
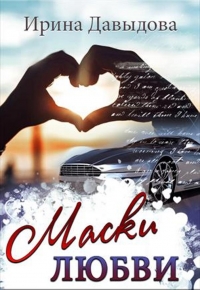


Комментарии к книге «Коварство, или Тайна дома с мезонином», Вера Александровна Колочкова
Всего 0 комментариев