Михаэль Крюгер Виолончелистка
1
— Никакого кладбища и в помине не было. В ответ на вопрос, куда ехать дальше, таксист, грузный ворчун с птичьей физиономией, лишь равнодушно отмахнулся, не проронив ни слова, хотя всю дорогу сюда с растущим раздражением реагировал на высказывания диктора по радио и искаженные эфиром призывы диспетчера. И почему только я не заставил чуточку обождать того, первого шофера такси, дружелюбного и услужливого, доставившего меня из будапештского аэропорта в отель? Тот готов был предложить решительно все: молодых красавиц, ночные заведения, цыганские оркестры — только скажите, будет сделано. Но мне хотелось хоть десяток минут опомниться перед тем, как отправиться на похороны, и я отпустил его.
— Где же это кладбище? — возопил я с заднего сиденья раздраженному водителю, который отрешенно прикуривал очередную сигарету от окурка предыдущей, обильно посыпая искрами заношенный свитер.
Машина стояла под каким-то растрепанным деревом, с безжизненных ветвей которого уныло свисали засохшие листья, а за ним взору открывался пустырь, усеянный вставшими на вечный прикол ржавыми фрагментами непонятного авто без колес, еще дальше — убогие домишки. Ни могил, ни людей не было видно в этом позабытом краю.
Слава Богу, хоть швейцар отеля накорябал на листке бумаги адрес треклятого погоста, и теперь я, задыхаясь в тесном прокуренном салоне такси, под угрюмо-недоверчивым взором водителя лихорадочно обшаривал карманы в поисках злополучного обрывка бумажки. Я весь взмок, но так и не находил его. У меня не было ни малейших сомнений, что основное занятие здешних таксистов — обман доверчивой клиентуры, в чем меня убедил еще швейцар, впрочем и сам не отказавшийся от щедрых чаевых за предоставленную информацию, однако перспектива оказаться у черта на куличках по милости смертоубийцы-водителя — такое было свыше моих сил. Нахамить ему я не мог — здесь, куда ни кинь, не то что такси, а вообще машины ни за что не отыщешь, как, впрочем, и самого кладбища.
И я продолжал рыскать по карманам в поисках клочка бумаги, а шофер мрачно затягивался едким дымом, кашлял разинутым ртом, после чего распахнул дверцу салона и отхаркнул загустевшую бурую мокроту прямо в пыль. Ситуация была возмутительной и вместе с тем унизительной, и я уже готов был выкрикнуть название отеля, чтобы он сию же минуту отвез меня назад, но тут окаянный клочок бумаги каким-то образом нашелся — в нагрудном кармане пиджака. Я победно протянул его своему вознице.
— Кладбище! — проорал я чуть ли не в ухо этому молчаливому типу, искоса изучавшему смятый листок и раздумчиво качавшему головой.
Мотор снова заурчал, вместе с ним пробудилась тяга к вербальному общению и у водителя, будто ключом зажигания он запустил не только двигатель, но и себя самого — он снова яростно бранился и бормотал. Факт обнаружения места назначения общую перспективу не улучшил, к тому же зарядил мелкий, похожий на аэрозоль дождь, разом затянувший и без того унылый пейзаж сероватой депрессивной кисеей.
Возможность притрястись в этой продымленной клетке на кладбище за полчаса до начала церемонии с тем, чтобы осмотреться, отыскать могилу и, с другой стороны, определить пути возможного отступления, постепенно становилась все призрачнее. Да и доберусь ли я туда вообще? Шофер, сопя и бубня, свернул к заправочной станции и остановил машину у малопривлекательной замызганной колонки. Выбравшись наружу, он направился к багажнику и довольно долго возился там. В поле зрения он возник довольно не скоро. В одной руке у него была початая бутыль с мутноватой жидкостью, скорее всего молодым вином, в другой исполинский сандвич, от которого он зубами отхватывал внушительные куски.
Шофер стоял у радиатора, сосредоточенно двигая челюстями и отхлебывая из бутыли. Только теперь я заметил, что левая половина его лица обезображена багровым бесформенным лишаем, протянувшимся от глаза до самой шеи, схваченной засаленным воротом свитера. И поскольку этот уродец не обнаруживал намерений залить в бак бензин, да и никто из служащих станции не показывался, я, поочередно оттянув рукав пальто, пиджака и рубашки, добрался наконец до часов и красноречиво постучал по стеклу, отчаянно надеясь, что и здесь, как и во всем мире, жест этот все-таки будет истолкован как подобает.
Ни один мускул не дрогнул на безучастной физиономии. Лишь когда в его пасти исчез последний кусочек хлеба, а бутыль была заботливо упрятана назад в багажник, шофер приступил к заправке. Но как только утихомирился счетчик колонки и забрезжила смутная надежда вопреки всему добраться до пункта назначения, куда я ехал уже битый час, шофер распахнул дверцу и отрывисто пролаял мне пару слов. Речь, конечно же, могла идти только о деньгах и ни о чем другом. Повинуясь его требованию, я извлек пачку купюр, еще не так давно врученных мне анемичной особой в окошечке обменной кассы отеля в обмен на стомарковую банкноту, и вложил в сунутую мне прямо под нос ладонь бумажку среднего достоинства. Пальцы оставались неподвижными, и ладонь не исчезала. Не дрогнули они и после того, как я накрыл первую купюру еще парой банкнот.
В этот момент к нам приблизилась стайка оборванцев, невесть откуда взявшихся здесь. Живо заключив водилу в полукруг, они с нескрываемым любопытством наблюдали за происходящим. Какая-то бабенка в вязаной шапочке бесцеремонно просунула нечесаную башку в салон машины и тоже жадно протянула раскрытую замызганную ладошку, норовя ухватить купюру.
Я представления не имел, сколько денег уже отдано мною и сколько еще оставалось, да и недвусмысленное поведение этой кодлы времени на раздумья не оставляло. Необходимо действовать. И выход был лишь один — атаковать. Опустив ноги на землю, я с зажатыми в кулаке купюрами выбрался из машины, после чего угрожающе выпрямился перед собравшимися подле водителя голодранцами, выдержал нужную паузу и завопил что было мочи:
— Если вы сию же минуту не отвезете меня к кладбищу, я вызову полицию, и вас всех упрячут!
Произнося эту тираду фельдфебельским тоном, распалявшим во мне ярость и отвагу, о которых до сей поры я просто и не подозревал, я для острастки ткнул кулаком в грудь кому-то из стоявших и походя смахнул шапочку с кудлатой головы наглой бабы.
Тут даже видавший виды таксист и тот приуныл. Теперь самое главное — не дать им всем спуску, не упустить инициативу. Когда я уже собрался схватить за грудки этого субъекта с птичьим лицом, между нами возник человечек в замасленной спецовке, который на безупречном немецком поинтересовался о причине столь эмоционального разбирательства.
— Мне нужно на кладбище, — бросил я в ответ, — на окаянный, неизвестно где запрятавшийся могильник, куда этот дебил никак не может или не желает отвезти, хотя уже вытащил из меня целую прорву денег! Стыд и позор, что в этой стране так беспардонно обходятся с приезжими, ставя ни во что элементарные нормы приличия и гостеприимства. Вся Венгрия кишит такими типами, для которых законы цивилизованного общения — пустой звук…
— Кладбище? Кладбище? — вопрошал человечек в спецовке. — Так вам надо на кладбище?
И, дружелюбно улыбаясь, как бы невзначай деликатно запихнул меня назад в салон, а лишайный шофер занял место за баранкой, под рукоплескания зевак выехал на дорогу, а несколько минут спустя мы уже подъезжали к кладбищу.
— Будете ждать меня здесь! — приказным тоном сообщил я водителю. — Понимаете меня, здесь. — Еще раз ткнул пальцем в часы, поднял два пальца и снова повторил: — Ждать здесь!
О деньгах уже речи не шло, а когда я, купив букет у обаятельной беззубой дамочки, метнул взгляд на такси, то увидел, что машина, кряхтя, выбирается за угол. Слава тебе Господи, мелькнуло у меня в голове, что и на сей раз все сошло благополучно. Поскольку мне отчего-то показалось, что вопреки всему деньги были сэкономлены, я без сожаления сунул в шершавую руку продавщицы еще купюру.
Дождь усиливался. Перед помещением, где прощаются с покойными, — шатким сооружением, — образовались огромные лужи, нечего было и пытаться прыжком преодолеть их. Оставалось форсировать. Мужчина в форменной одежде с видом перевозчика через Стикс весело поглядывал на тех, кто тщетно пытался, не замочив ног, преодолеть водную преграду. Какая добросовестность перед уходом в небытие!
Оказавшись в самом центре лужи, я все же попробовал перемахнуть остаток ее и, основательно промочив ноги, добрался до суши. Окончательно я пришел в себя, лишь преодолев изрядный кусок показавшегося мне бескрайним участка, отведенного тем, кого уже нет с нами. Безмолвная и строгая упорядоченность каменных плит, старых и покосившихся, под которыми покоились бренные останки многочисленных усопших, в том числе и австрияков, настроили меня на размеренный темп, сообщив мыслям некое подобие упорядоченности. И уже десяток минут спустя, заложив руки за спину, я мерно вышагивал, вступив со смертью в самые доверительные отношения, настолько доверительные, что даже смог опуститься на крохотную скамеечку у какой-то пригнетенной временем могилки, чтобы выкурить сигарету.
Дождь уже успел кончиться. Ветер придал будто посыпанным корицей облакам самые причудливые формы, прямо надо мной и над могилой они походили на стоящего на задних лапах медведя. Край плиты, прикрывшей то, что некогда было Мартой Лункевич, порос грибами, теми же, что и на берлинских кладбищах, только помясистее. Из них вполне можно было бы приготовить лакомое блюдо. Марта отдала Богу душу году в 1956-м, или же ее принудили отдать ее Всевышнему — в тот год вполне возможен был и такой вариант. Прожила она на этом свете девятнадцать лет. И почему только никто не удосужился высечь на могильном камне место ее рождения?
Невзирая на то что подсознательно я понимал: здесь мне искать нечего, я чувствовал себя на этой вросшей в землю скамеечке, уперев промокшие ноги в пятнистые листья плюща, более чем уютно. Пачку сигарет я водрузил на могильную плиту, оживив веселеньким красным цветом суровую серость камня. Окурки же тщательно вдавил в раскисшую от дождя землю. Вполне возможно, что Марта и Мария дружили. Отец Марты, по всей вероятности поляк, состоял в партии, мать была родом из Будапешта. Возможно, они были соседями и иногда вместе музицировали. Марта, старшая, в строгом бархатном платье, доставшемся ей от бабушки, с вышитой парчовой брошью, у рояля. Мария в беленьких носочках, чуточку приспущенных, играла на скрипке. Каждый вторник и пятницу от двух до четырех, чаще не вынесли бы соседи. Очень сосредоточенно, невзирая на безнадежно расстроенный инструмент, порой негодующе, если ее товарка помоложе не удерживала такт. Барток. Закончив играть, обе еще некоторое время стояли у окна и смотрели на пробегавшую внизу улицу.
— Что ты видишь? — спрашивала Мария.
— Ничего, — звучал ответ, — вообще ничего.
— А когда закончим консерваторию, как ты представляешь себе наше будущее?
— Будем жить в Париже, — отвечала Марта, — и там у нас перед дверями не будут торчать машины, в которых сидят, будто приклеенные, такие вот типы, как эти, которые каждые восемь минут опускают стекло, чтобы вышвырнуть на мостовую окурки. И почему это полицейские беспрерывно коптят?
Однажды я застал Марию — это было в одной из варшавских гостиниц, — когда она словно завороженная неотрывно глядела в окно. Согнув правую руку в локте, она уперлась ею в раму, а левой — в подоконник; создавалось впечатление, что калека застыл в нелепой позе. Уже едва войдя в комнату, я понял, что она плачет — стекло за рыжей копной волос запотевало от дыхания, молочно-белый кружок с каждым выдохом на мгновение увеличивался, чтобы в следующую секунду снова сузиться. Когда я, подойдя к ней сзади, поинтересовался, в чем дело, Мария молча кивнула на стоявший на противоположной стороне улицы автомобиль, в котором сидели мужчины и курили, и как раз в этот момент они опустили стекло дверцы, чтобы выбросить окурки, и те красненькими огоньками дотлевали в снежной кашице. Вот и все ее детство, больше из него ничего не вытянешь.
И Юдит тоже имела привычку подолгу стоять у окна, глазея на улицу, даже когда мы разговаривали. Какой-то присущий окнам магнетизм, передаваемая генетически неосознанная тяга влекла ее к окнам даже там и тогда, когда противник был не снаружи, а здесь, в той же комнате, за спиной, в считанных сантиметрах от нее. И тот, кто в ту минуту увидел бы Юдит, в момент ее дичайших и душераздирающих мук, снаружи, с улицы — застывшую у окна, с поднятыми руками и перекошенным лицом, непременно счел бы ее репетирующей роль Медеи или же попросту умалишенной. А если она, чтобы хоть чуточку отвлечься, прижималась ладонями или лбом к оконному стеклу, это довершало образ узницы. Однажды, когда мы о чем-то заспорили, она настолько энергично сопровождала свой разъяренный монолог постукиванием коробочкой от компакт-диска с фортепьянными концертами Бетховена, что стекло не выдержало и разлетелось вдребезги, как раз когда из динамиков звучало рондо Второго концерта.
Может быть, размышлял я, сидя у могилы незнакомой мне Марты, может быть, Юдит почувствовала, что из-за привязанности к своей матери, которая, по сути, была не чем иным, как зависимостью, временами приводившей к доведенному до абсурда копированию, ей так и не дано пойти своим путем в творчестве. Она была и оставалась точнейшей и добросовестнейшей копией, двойником своей гениальной матери. Вы, случайно, не дочь Марии? Может, и ее ипохондрическое высокомерие, побудившее Юдит ввести в свой круг общения именно меня, а не кого-нибудь еще, было не чем иным, как попыткой вырваться из тени, отбрасываемой Марией, не отрываясь от нее окончательно? Ведь она пребывала в твердой убежденности, что самому мне ни за что на свете недостанет мужества убраться подобру-поздорову со двора Марии ни ради другой женщины, ни по собственной воле. Я был заражен. Заражен неизлечимой болезнью, всю жизнь я оставался бациллоносителем. Вероятно, Юдит рассчитывала в моем обществе схорониться от Марии. Впрочем, она была слишком умна, чтобы позволить себе втянуться в подобные игрища.
Бедняжка Марта Лункевич. И ее втянул в разбирательство этих, не имеющих к ней касания отношений и путаное самокопание тот, кто, не в силах совладать с собой, вздумал выплеснуть их из себя, сидя у ее могилы. И даже этого ему мало. Над необозримым полем вопросов повис еще один, на который мне предстояло ответить: ну почему Юдит решила остановить свой выбор именно на мне? В жизни ее матери в избытке присутствовали те, кого она с успехом могла бы использовать в своих целях. Дирижеры, пианисты, композиторы, критики — все, кто бежал к Марии поплакаться в жилетку и неизменно обретал в ее обществе утешение, все эти незрелые недоделки, ныне перешедшие в разряд знаменитостей и благополучно пожинающие лавры успеха у готовой ломиться на их выступления публики. Все они были в ее распоряжении и, вне всякого сомнения, были бы только рады опекать Юдит. Почему она вышла именно на того, на ком оставил свою зловещую отметину демон разочарования и краха, на человека в известном смысле конченого, на того, кто обрел душевный покой, лишь избавившись от всяческих желаний?
Внезапно меня осенило: она всегда искала того, кому могла бы навязать свою концепцию победы. Неудачник был необходим ей в качестве некоего оселка, испытуемого, в состязании с которым неизменно оказываешься в выигрыше. А выигрывать ей было необходимо постоянно. Если мы шли на концерт и там не оказывалось никого из знакомых, Юдит так и продолжала стоять у своего кресла, дожидаясь, пока ее не заметят, в то время как я, усевшись, преспокойно изучал программку. В антракте я еще продолжал аплодировать, а она уже пробиралась в фойе, торопясь быть узнанной. И находя того, кто, еще не успев отойти от услышанного, пребывал в явном смятении чувств, она с ходу обрушивала на него свое мнение и об исполнителе, и о произведении и обрабатывала до тех пор, пока жертва с ней не соглашалась.
Мне припомнился один концерт, где исполнялся Штокхаузен и на который мы отправились вместе с ней. Концерт был явно сыроват, и даже отвага исполнителей не смогла скрепить рыхлость композиции. Но уже в антракте Юдит собрала вокруг себя компанию юнцов и принялась эмоционально вдалбливать им, сопровождая сказанное темпераментной жестикуляцией, что, дескать, мы присутствуем при рождении шедевра, и за отведенную ей четверть часа на самом деле сумела убедить в этом присутствующих, так что по завершении концерта музыканты слегка ошалели, сорвав бурные и совершенно незаслуженные овации.
Пачка «Мальборо» опустела. Я уже зажег было спичку, и она, упав на надгробие Марты Лункевич, с шипением погасла. Мир праху твоему. Сквозь пелену облачности пыталось прорваться блеклое солнышко. Поднимаясь со скамейки, я вдруг почувствовал, как хрустнули суставы. Пожилой человек на будапештском кладбище. С преувеличенной тщательностью я запахнул пальто, отвесил едва заметный поклон могиле, где покоилась та, кому невольно выпало стать свидетельницей этого странного акта самоанализа, так ни к чему и не приведшего. Мне предстояло день за днем воссоздавать в памяти всю эту историю, только так можно было найти ключ к ее разгадке. А ключ этот существовал.
Обернувшись, я сквозь поредевший кустарник различил приближающуюся ко мне траурную процессию. Это могли быть только они. Рой черных пчел вокруг убранного цветами гроба, возвышающегося на деревянной повозке. До меня донесся скрип колес по гравию дорожки. Проворно подняв воротник пальто, я спрятал в карман пустую пачку из-под «Мальборо» и поспешил в противоположном от скорбевших направлении — к выходу. Присоединись я к ним, оказался бы там не ко двору, это было ясно как день божий.
У входа с дымящейся сигаретой во рту меня дожидался водитель такси. Его лишай отливал алым в бледноватом свете солнца.
2
В сутках есть время, когда принимаются все жизненно важные решения, те из них, что поддаются осознанному планированию, не являясь итогом поспешных утрясок случайных событий. И это происходит утром, между шестью и семью часами. С ужасающей регулярностью я пробуждаюсь в шесть утра, иногда мне даже случается увидеть, как секундная стрелка наручных часов спеша подбирается к цифре двенадцать — единственной, которая представляется мне истинно четной в моей жизни.
Происходящее же после семи — не что иное, как завершение, суровая епитимья исполнения. Если утром в моей голове царит замысловатая звуковая последовательность, то за день она успевает раствориться, а к вечеру и окончательно исчезнуть. Если по утрам я принимаю решение освободить себя от всех смехотворных обязательств, перейдя от раздробленности к целостности, грядущий день готовит массу причин для того, чтобы сей переход осуществлялся безболезненно, и еще до ужина я прихожу к заключению, что все до поры до времени должно оставаться по-старому. Лишь в свой единственный час я ощущаю необходимую свободу, остаток же дня — сплошные муки, окаменелый отпечаток продуктивного непокоя, охватывающего меня, едва я просыпаюсь. Это еще одна из причин того, отчего меня никогда не волнуют мои сновидения, в то время как весь мир самым внимательнейшим образом приглядывается к своей душе в стремлении тем или иным способом поставить себе на службу театр теней души своей, на разные лады истолковывая его действо.
Психоанализ и музыка — сколько раз бегал я на эти лекции, привлекавшие самых очаровательных девушек-студенток. Отчего эта точеная блондинка избрала именно арфу, которую так нежно сжимает чреслами? Почему прыщавый тип из Мюнстера столь решительно вдувает воздух в свой тромбон? И по какой причине Бетховен в один прекрасный день решил не слушать больше собственных сочинений? Моему поколению не давал покоя вопрос и о том, действительно ли в Шуберте была предрасположенность к гомосексуализму? Воздействие отказа от призыва плоти на творческий потенциал — именно так звучало название семинара, на который записывались решительно все. Дескать, превращая публику в слушателей, композитор тем самым побуждает ее признать и разделить с ним ту же вину, что подвигла его засесть за создание произведения. Таким образом, мы становимся соучастниками. И если при прослушивании отдельных вещей Шуберта у нас на глаза наворачиваются слезы, мы таким образом дублируем вину, бремя которой взвалил на свои плечи этот композитор.
Интересно, а что же за вину взвалил на свои плечи Штокхаузен? Параллельно с этим жутким семинаром возник и еще один: марксизм и музыка, на который тоже студиозы валом валили, это превратилось в своего рода обязанность. А в довершение всего нам преподнесли смесь первого и второго: рассусоливания о влиянии психоанализа и марксизма на развитие и становление музыки. Сожительство звуков как выражение нечистой совести позднеиндустриального капитализма на примере Стравинского и Шёнберга. Оба, конечно же, страдали неврозом на сексуальной почве. Куда же подевались все эти расчудесные теории сейчас?
Вероятно, сегодня, по прошествии трех десятилетий, можно объявить тронутым любого, попытайся он всерьез провозгласить их. К тому же я лично не знаю ни одного музыканта, кто по доброй воле прочел хотя бы строчку из Маркса и Фрейда. А в те времена это было must, необходимо, иначе тебя навек занесли бы в проскрипционные списки невежд и посредственностей. В перерывах же между этими, ныне канувшими в Лету перлами гуманитарной науки все усаживались в кружок и принимались повествовать друг другу о сновидениях минувшей ночи. Вот только мне рассказать было нечего. Безмолвствовал я и тогда, когда меня пытались высмеять если уж не за чрезмерную приверженность к сублимации, то хотя бы за нежелание уступить большинству.
Нет такого, кто не кивнул бы понимающе, когда я сообщаю о наличии своих внутренних часов. Мол, знакомая песня! Друзья-физиологи посылали мне распечатки исследований биологических часов у птиц и насекомых. Однако никто не в состоянии дать оценку всего того досадного, что приносило с собой пресловутое пробуждение по четкому графику, пытки, заключавшейся в том, что ты вынужден в строго определенное время суток снова взирать на мир независимо от последствий, оказываемых этой биологической константой на события предстоящего дня, да и всей жизни. Ибо я не из тех, кто будто заведенный укладывается спать в одиннадцать вечера, загодя радуясь предстоящему раннему пробуждению, как и не из тех, кто намеренно и сознательно не допивает до конца бутылку вина, дабы утром подняться с ясной головой, и уж никак не из тех, кто способен поставить свои творческие устремления в какие-то варварские временные рамки, генами впечатанные в мой организм.
В результате долгого и мучительного тренинга мне еще в школьные годы удавалось снова смежить веки, едва открыв глаза, и еще с час не раскрывать их, я и до сих пор придерживаюсь этой привычки для обдумывания предстоящих дел и — по возможности — для принятия соответствующих решений. Все созданные мною произведения родились на свет именно в этот час, в последующие же шла уже доработка их. Доводка, оттачивание. Вероятно, это связано с тем, что я вбиваю себе в голову идею о том, что я, дескать, только в этот час и могу быть собой. Во все остальные, проводимые наяву, я вынужден прикидывать, отчего же по нескольку раз на дню меня посещает желание бросить все к чертовой матери. Каждый художник, композитор, писатель всегда в непрестанном поиске того, что отличит его от остальных. И поскольку уже очень скоро приходит к мысли, что практически ничем от них не отличается, он начинает изобретать все новые и новые способы выдать собственную заурядность за нечто уникальное. Некоторые пробавляются этим всю жизнь. Изобретают концерты для шести роялей и гобоев, но сетуют на то, что, мол, иногда забывают вынести мусор.
Лично я ничего не изобретал. Зато у меня есть то, чего не отобрать никому: а именно тот самый час от шести до семи. Остаток дня растекается и распыляется, и все попытки обретения самодисциплины — есть в одно и то же время, регулярно отправляться на вечерний моцион уже пару недель спустя шли прахом. Иногда я представлял себе, что бы произошло, если бы какая-нибудь неведомая болезнь уворовала у меня этот часик.
И своим решением дважды вступить в брак, как и дважды развестись, я обязан именно ему, как, разумеется, и всем тем, что касается моего творчества. Обе мои жены до трогательности заботливо пытались как-то упорядочить мою жизнь, придать ей форму, обе представляли мне неоспоримые и убедительные аргументы в пользу приема пищи в одно и то же время суток, строго фиксированного по времени ухода в летний отпуск, регулярных визитов к врачу, внимательного отношения к своему организму, однако все их героические потуги перевоспитать меня, как демонстративные, так и якобы скрытые, оказывались бесплодными — лишь стержень дня моего, мой тайный организатор, он один решал и определял, чем мне заняться, а от чего воздержаться. Если я утром в половине седьмого решал, что мне необходимо еще раз проработать пьесы для рояля, то результатом могло быть, что я двенадцать часов кряду занимался ими, а все остальное побоку; если же никаких срочных дел не имелось, я целый день мог валять дурака, либо вернуться к своим старым проектам, либо без разбору перелистывал книжки, число которых, казалось, росло не по дням, а по часам и которые после отбытия моей второй супруги благополучно появлялись там, где ранее их присутствие не допускалось — на кухне либо в ванной комнате.
Книги утвердились в моем жилище подобно неизлечимой хвори, и повсюду высказываемые нынче идеи о том, что, дескать, век книги близится к закату, казалось, только укрепляли их живучесть. Сколько раз я давал себе зарок привести их хотя бы в подобие порядка! Например, книги о музыке сосредоточить в комнате для музицирования, немецкую литературу — в спальне, римских классиков отнести в эркер, истории даровать место в прихожей, поэзию разместить в проходной столовой, вновь опустевшей после развода. Кончилось все тем, что я отвел пару ящиков для книг, не вошедших в перечисленные категории и ожидавших своей участи на полу, поскольку их просто некуда было поставить. И тогда Лукреций неожиданно отыскивался рядом с эссе Мандельштама, и я готов был поверить в то, что оба автора вопреки и в насмешку над любыми попытками классификации прекрасно уживались друг с другом. Вообще-то не было на свете ничего прекраснее, как днями рыться в книгах, и поскольку германское телевидение в обмен за парочку сочиненных мною для него так называемых «музыкальных заставок» давало мне такую возможность, я ей не противился.
Я с упоением вкушал свое безделье, что же касается успеха, на него мне было начхать. Разумеется, мне было малоприятно, что мои «Пересечения времени для рояля и гобоя» не находили признания, на которое вполне могли рассчитывать вследствие своей композиционной слаженности и мелодической замысловатости, меня явно не восторгало и то, что обе мои оперы лишь единожды были поставлены в Германии (и лишь урывками за ее пределами), но, с другой стороны, мне следовало вопить от радости, что отнюдь не иссякавший родник музыкальных телезаставок давал мне возможность уклониться от профессуры с ее неизбежной и докучливой регламентацией, столь привлекающей моих коллег, в подавляющем большинстве получавших желаемое. Я гордился тем, что я — свободный художник, что же касается обеспечения спокойной старости, здесь я имел все основания не беспокоиться до тех пор, пока обаятельный умница комиссар Михалке раз в неделю появлялся на телеэкранах, чтобы под аккомпанемент упорядоченных мною нот распутать очередное заковыристое дело.
Кроме моего жилища, мне принадлежали еще две приобретенные и сдаваемые внаем квартиры и, кроме того, летний домик во Франции, обеим экс-супругам регулярно отчислялись необходимые суммы, а детей у меня не было. Для той части своей музыки, которую считаю серьезной, я отыскал издателя, который более-менее сносно пристроил произведения, и самые значительные циклы песен, квартеты и пьесы для рояля вышли в продажу на компакт-дисках, а городские театры Нюрнберга заказали мне третью по счету оперу, которой я рассчитывал посвятить следующие два года. У меня имелась договоренность, правда, скорее, формальная, с одним живущим по соседству писателем написать либретто, однако пока что дальше поисков материала мы не продвинулись. Иногда он заходил ко мне после обеда, нагруженный книгами, выпить кофейку, а вечером имел обыкновение отправиться прямо от меня к какой-нибудь из своих многочисленных приятельниц. И хотя мы с ним не раз в своих фантазиях видели результат наших усилий в репертуарах театров мира, никаких конкретных сдвигов в этом направлении добиться пока что не удавалось. Он желал иметь дело с классикой, поскольку рассчитывал на свою долю прибыли, но до сих пор все его идеи отклика в моей душе не находили. Медее я партию давать не собирался. Моим замыслом было вывести на сцену самые трагичные фигуры современной поэзии — Цветаеву, Мандельштама, Пессоа, с тем чтобы до того, как поэзия канет в Лету, а их произведения — в архивную пыль забвения, отдать последнюю дань величию их таланта.
Однако идея эта моего компаньона не воспламеняла. Первое: вовсе не так уж очевидно, что поэзия канет в Лету; второе: проблема теоретического аспекта, которая вряд ли пригодна для инсценировки; третье: никто в Нюрнберге, не говоря уже о Нью-Йорке или Сан-Пауло, не способен заинтересоваться масками Пессоа, равно как и участью Мандельштама. Гибель Мандельштама как теоретическая проблема? Вот так и протекали наши послеобеденные встречи, не оставляя после себя ни строчки, а о нотах и говорить не приходилось. Ибо с самого начала было ясно, что опера должна быть посвящена Мандельштаму и о Мандельштаме — все это решил я, разумеется, в пресловутый утренний час. А остальное — чушь, говорильня, бесплодное убиение времени.
Многочисленные издания Мандельштама на всех мыслимых языках хранились в моем кабинете, куда не было доступа никому, за исключением меня и приходящей уборщицы. Его фотографиями были увешаны все полки, где стояла мемуаристика советского периода — биографии Сталина, книги по истории революции, кроме того, масса книг по эстетике и истории русской литературы, все с закладками, а также фотоальбомы, журналы, вырезки из периодики — даже программка к моей опере и та имелась, вот только с оперой дело не клеилось. Сирены что-то не запевали, даром что я велел привязать себя к мачте. Пока что с перевоплощением в Одиссея следовало повременить, оставалось принимать овации тех, чьи уши залиты воском.
Почему я никак не мог начать? Не потому, что Гюнтера, либреттиста, не увлекал мой замысел. Меня отвлекала иная проблема, также дожидавшаяся своего решения в утренний час. Незадолго до Рождества, то есть ровно полгода назад, если считать от сегодняшнего дня, я получил письмо от моей будапештской подруги, в котором она просила меня замолвить словечко за ее дочь в одной из здешних музыкальных школ. По завершении учебы по классу виолончели Юдит поступила в будапештскую консерваторию, однако по какой-то причине, по какой именно, понять из этого письма было невозможно, вынуждена была уехать в Германию и, так сказать, «доводить себя до ума» здесь. И пусть это будет жертвой, принесенной тобою на алтарь нашей любви, так писала Мария, и, несмотря на то что патетика послания явно претила мне, а ссылка на нашу прежнюю любовь воспринималась как шантаж, тем не менее я не остался безучастным — отыскал связи в учебном заведении, затребовал в соответствующих инстанциях необходимые бланки для заполнения, засвидетельствовал свое обязательство предоставить необходимую финансовую поддержку Юдит на тот случай, если она останется без стипендии.
И вот за день до кануна Рождества я в ужаснейшем настроении, в каком неизменно пребываю в это время года, все же нашел в себе силы сесть и написать Марии в Будапешт. В письме своем я подробнейшим образом информировал ее обо всех перспективах для Юдит, а в четыре часа пополудни передо мной предстала точная копия Марии, той, с которой я был близок пару десятков лет назад.
— Servus, — проговорила девушка-двойник — большего при таком невероятном сходстве и не требовалось.
Я словно заглянул в зеркало, увидев в нем сотни других зеркал, и в каждом были лишь мы — Мария и я. Мы были везде: в концертном зале и в постели, в музее и в заснеженном польском лесу, вскоре после оглушительно концерта, устроенного снегопадом, на берегу неторопливо несущего свои воды Дуная и на безлюдных улочках Лейпцига, и каждая из сценок разбудила во мне давно позабытые ощущения, а в конце этой безумно-насмешливой галереи меня ждала полнейшая растерянность.
— Входи, — вымолвил я наконец, — располагайся в любой из комнат и отдохни с дороги, а через час встретимся в кухне.
Мне и самому потребовалось время опомниться и подготовиться к участию в этом водевиле.
И вот миновало уже полгода. Юдит по-прежнему живет у меня, постоянно огорошивая меня все новыми и новыми претензиями и пожеланиями, и мне предстоит изыскать средство избавить себя и свою жизнь от нее.
3
Может быть, размышлял я, взять да сбегать за газетами? Просто так, от нечего делать, чтобы хоть немного разрядить обстановку? Спускаясь по неосвещенной лестнице и прокрадываясь мимо дверей, скрывавших принадлежавшие мне квартиры, я показался себе отважным путешественником, в одиночку отправившимся свершать великие географические открытия. Оказавшись на улице, я ощутил ее оазисом абсолютной свободы и раскрепощения. Слишком долго проторчал я, пленник собственного упрямства, в тесноте мансарды, в молочно-белом дыму бесчисленных сигарет, нашептывая про себя, будто слова заклинания, строчки Мандельштама:
И я выхожу из пространства В запущенный сад величин И мнимое рву постоянство И самосознанье причин. И твой, бесконечность, учебник Читаю один, без людей, — Безлиственный, дикий лечебник, Задачник огромных корней.Однако избавления это не даровало, пощады и снисхождения — тоже. Как и вдохновения. Их заслоняла участь Мандельштама, его печальный лик на последних фотографиях. Стихотворение жило своей жизнью, я — своей, и меж нами пролегла полоска трясины и знания, перескочить через которую можно было, лишь собрав в кулак всю свою ловкость и силу. Сколько бы я ни повторял про себя стихи, частью их так и не стал, и, оставаясь отъединенными от них, безмолвствовали и мои ноты. Будто противники на дуэли в ожидании сигнала «Сходитесь!», слова и звуки замирали в неподвижности до тех пор, пока в конце концов не утрачивали интерес друг к другу. На улице же звуки, соединившись сами собой, зазвучали во мне, и более всего мне вдруг захотелось снова взлететь вверх по ступенькам и броситься записывать интервал октав для флейты и рояля. Такому поэту, как Мандельштам, необходимо дать время, ни в коем случае нельзя наседать на него.
Меня спасут газеты, они, и только они.
Судя по всему, я накупил их целый ворох, поскольку хриплый голос из камеры-обскуры сквозь глянец цветных фото стребовал с меня целых двадцать марок и сорок пфеннигов. Владелица киоска была карлицей, но звалась фрау Штир[1], что всякий раз приводило меня в веселое недоумение.
Меня поразило, как быстро она подсчитала итоговую сумму покупки, хотя покупал я мало раскупаемые издания, такие как «Эль Паис», «Монд» и «Гардиан», кроме них и воскресные выпуски немецких газет. Естественно, мне не терпелось выяснить, упомянут ли в них некий небольшой фестиваль в Эскориале. Я жаждал увидеть свое имя напечатанным.
— О вас снова написали? — осведомилась карлица, узловатыми облупившимися пальцами сворачивая газеты и перетягивая их резинкой, издавшей характерный звук — словно цикада застрекотала было, да тут же раздумала.
Мне показалось, что у нее на руках рваные перчатки. Не удостаивая карлицу ответом, я выложил деньги на стеклянную тарелочку и, схватив рулон, испарился, оставив лежать полагавшиеся мне десять пфеннигов. Карлица. Интересно, а замужем ли она? В этом киоске я никогда не видел никого, кроме нее, только эту крохотулю фрау Штир с отчетливыми усиками над верхней губой, неизменно восседавшую на вертящемся стуле — последнее стало мне известно, поскольку она в летний зной держала дверь в киоск распахнутой. В первый момент я принял ее за ребенка, болтающего обутыми в кроссовки коротенькими толстенькими ножками. Иногда мне приходило в голову поместить этот киоск на сцене, представлявшей Красную площадь. А рядом на скамье сидел бы Мандельштам, декламируя о помешательстве этого мира:
Все чуждо нам в столице непотребной: Ее сухая черствая земля И буйный торг на Сухаревке хлебной, И страшный вид разбойного Кремля.Я уселся на одной из скамеек, полукругом стоявших подле фонтана в центре площади. Фонтан устало журчал. С каждым порывом ветра на брусчатку мостовой, на лица дожидавшихся автобуса людей падала тончайшая вуаль капель. Из входа в метрополитен выплескивался людской поток, каждые пять минут доставляемый наверх эскалатором. Едва очутившись на поверхности, люди тут же выходили из вынужденного состояния неподвижности и словно зачумленные проносились мимо тех, кто, подремывая, сидел на скамейках, нередко награждая их укоризненными взглядами. Чего расселись, казалось, вопрошали они, ну-ка, вставайте, не позволяйте безделью завладеть вашими обленившимися душами. Впрочем, сидевших эти призывы явно не трогали.
Довольно долго я был занят тем, что под бдительным взором водянистых глазок какого-то коротышки-оборванца отделял плевелы от зерен.
— Быстро вы читаете, — заключил он, когда я, покончив с лихорадочной спешкой, с которой сканировал заголовки газетных статей, вручал ему объемистую пачку ставшей для меня макулатурой прессы. — Благодарю, я уже успел обзавестись домиком в престижном районе, — проговорил он, после чего извлек из внутреннего кармана пиджака бутылочку коньяка и отпил солидный глоток.
Прежде чем засунуть ее обратно, оборванец вытянул руку, оценивающим взглядом смерил содержимое, явно прикидывая, как рациональнее распорядиться им до вечера.
— Ну-ну, — только и произнес он.
Теперь меня занимала изрядно отощавшая стопка, так сказать, сердцевина печатного слова; всякий раз натыкаясь на строчку, которая была явно не по нутру мне, я разочарованно-примирительно повторял «ну-ну», пока не сообразил, что беспрерывно нунукаю. Прохлада наступавшего вечера уже подбиралась ко мне сквозь железные перекладины скамейки, но я не мог прерваться. Движение мало-помалу затихало, на фоне гладкой поверхности мостовой выделялись редкие прохожие, коротышка давным-давно отчалил, пожелав мне доброго вечера. Ну-ну, произнес я, добравшись до последней страницы. Своей фамилии я не обнаружил.
Что станет с миром, если мое поколение надумает поставить крест на сочинительстве? Несомненно, мир обеднеет. И взмолится о пощаде, испустит крик: нет, нет, не бросайте, сочиняйте дальше, давайте нам еще музыки, она необходима нам как воздух. Даже если вы считаете, что все мыслимые вариации проиграны хотя бы в воображении, все равно работы остается по горло! И в музыке существует понятие поступательного движения, возникающего в результате обработки материала! За конструктивным сочинительством следует неконструктивное, стало быть, можно вновь вернуться прежним путем к первоистокам, и путь этот продуктивен. И ради этого государство задействует самых-самых из числа сочиняющих музыку роботов, доверии им разработку новейших теорий композиции, телевидение даст торжественный обет два раза на неделе транслировать оперы, депутатам бундестага перед очередным заседанием будет дозволено усладить слух ариями для баритона, пьесами для трубы и тромбона, и в каждый уик-энд на улицах зазвучат концерты по заявкам. Нет ведь ничего желаннее свежеиспеченной музыки, стоит лишь заглянуть в программку такого концерта: едва ли в ней отыщутся Бетховен, Моцарт или Шуберт, зато сколько угодно музыки новой. Дети в метро будут проглатывать партитуры опер Хенце, а пожилая часть населения благостно мурлыкать про себя «Opus ultimum» Шнебеля. Новая музыка станет подлинным событием, событием не одного дня или недели для ее почитателей, жаждущих обрести в ней отдохновение души и избавление от косной недвижности. Что окажется не под силу литературе, драматургии и искусству вообще, играючи одолеем мы. И если кто-то из приезжих осведомится, где у вас тут в Мюнхене «Зал Геркулеса», мы лишь небрежным кивком укажем на очередь, бесконечной змеей протянувшуюся через весь город, — вот, дескать, взгляните, это все желающие достать билетик, чтобы услышать новую симфонию Вольфганга Рима. Новая музыка превратится в болезненную страсть, повсюду расплодятся виртуозы звучания, способные извлекать ноту из всего, что звучит: из стука каблучков по тротуару, шума отъезжающего последнего трамвая, надсадного кашля отравленной озоном операторши у ксерокса… Все обратится в музыку, в звучание, в событие. Нет-нет, ставить крест на сочинительстве нам никак нельзя, нужно продолжать сочинять, мы еще пригодимся.
Я захлопнул свой блокнот, да так, что из него бросились наутек перепуганные ноты. Мир возник из приступа икоты, от него же и околеет. Точно так же, как в один прекрасный день Богу наскучила игра с неживой материей, с раскаленными до красноты сферами, обращавшимися вокруг его головы по более или менее предсказуемым и упорядоченным орбитам, ему однажды наскучит и череда все новых и новых маскарадов, без устали изобретаемых людьми. Что же касается самоновейшей музыки, то Бог в ней ничего не смыслит. Он зациклился на Бахе. Если ему доведется услышать нашу музыку, то он тут же вставит себе в уши исполинские затычки из облаков. Музыка Кейджа представляется ему верхом нарциссизма, какофонией эгоцентрика. А ведь именно он, Бог, а не кто-нибудь, заварил всю эту кашу! Он всегда жаждал перемен. Он открыл нам путь к непрерывному совершенствованию наших слушательских предпочтений. Ведь и после Баха должно быть нечто новое, и после Моцарта, и после Шумана, Шёнберга, после Штокхаузена, Буле, возопил он, обращаясь к нам. И нам ничего не оставалось, как снова раскрыть футляры и извлечь из них скрипки, снова настраивать их, снова водить смычками по струнам, потом ударять ими, как молотком, а после разбивать их в щепы — глядишь, и впрямь из хаоса шумов вычленилось нечто, еще одно крохотное подобие гармонии, микроскопическая секвенция, стенающее арпеджио, доселе никем не слышанное. Пожалуйста, сказали мы, вот здесь кое-что новое для вас, однако новое его не тронуло, его по-прежнему интересовал лишь хорошо темперированный клавир. И вот так, опрощая и обедняя свои арсеналы, он заставляет нас отыскивать новое, хотя отлично знает, чем все кончится. А кончится это скандалом, в котором будут участвовать все инструменты, это будет доселе неслыханный, доведенный до предела, вобравший в себя все на свете звуки хлопок. А потом на какое-то время воцарится покой. Конец концерта, никаких оваций. Наверное, на самом деле настала пора укладываться, захлопнуть крышку чемодана и больше не ждать. Перестать уповать на то, что эта что ни день меняющаяся мода надумает предпочесть приемлемый образ жизни. Я мог бы навечно осесть во Франции, и никто не заметил бы моего отсутствия.
В шестидесятые годы нам для описания общества и искусства вдруг потребовался новый язык. Нам никак было не обойтись без него, поскольку рождалась новизна, перед которой прежний язык оказался бессилен, она взрывала его допотопные рамки. Никто из нас не собирался дистанцироваться от прежнего языка и его носителей или кого-то там низвергать или уничтожать. Просто мы усмотрели нечто такое, чего кроме нас никто не замечал, и отчаянно пытались описать это нечто. Позже подоспел марксизм — тоже успевшая набить оскомину пластинка, — и стремительно продвигавшееся вперед новое уже никак нельзя было уразуметь. Марксизм в шестидесятых стал последней попыткой XIX столетия удержать в узде вторую половину XX.
Мне вспоминаются комичные попытки объяснить с марксистской точки зрения обнаженную виолончелистку, сидящую на сцене под прозрачной целлофановой пленкой и извлекавшую звуки из своего инструмента. Маркс, доведись ему увидеть подобное, вероятно, оглох и ослеп бы от ужаса, но мы бесстрашно расставались с барахлом вчерашнего дня. Сегодня новое уже не требует создания для себя новояза. Вероятно, в этом и заключается причина того, отчего умерщвление современности сопровождается столь огромными затратами риторики. Убивают злобно, вероломно и с усмешкой на устах. Поскольку впереди бездна, остается лишь шагать вспять. Цинизм, неуклюжие остроты, игра слов и слегка подновленные метафоры и образы никак не годятся для обрисовки уже миновавшего.
Проходящий мимо ребенок обеспокоенно взглянул на погруженного в чтение газеты человека, который, казалось, вмерз в обзоры культуры.
— Мотай отсюда, катись к чертям собачьим! — прошипел я сквозь зубы.
Ребенок играл в мячик, без конца швыряя его о каменное ограждение фонтана и вслух оценивая отскоки мяча: прыгай как следует, противный мяч, и мне показалось, что этот противный мяч изо всех сил старается угодить своему владельцу. Какое-то время спустя он подкатился ко мне под ноги, и я наконец получил долгожданную возможность зафутболить его далеко в театральный сад. Ребенок неторопливо подошел ко мне и широко раскрытыми глазами посмотрел на меня.
— Ладно, — как можно дружелюбнее сказал я, — давай сходим за твоим мячом.
Газеты так и остались на попечении ветра.
4
Юдит была ниспослана мне, это сомнений не вызывало. Но в чем состояла ее задача? Уже пару дней спустя выяснилось, что Юдит привело сюда не только стремление к совершенствованию навыков игры на виолончели. Вероятно, трудно было бы научиться у здешнего профессора тому, что достигается самостоятельной работой, упорной и каждодневной. Ее пребывание в моем доме сосредоточилось, если говорить без обиняков, позабыв о любой форме такта, на восстановлении давних отношений. Сначала, к моему великому изумлению, а вскоре и к ужасу, я заключил, что она во всем повторяет свою мать. Это особое сочетание спеси и тщеславия с примесью низости и злости было взято от матери. Изображалась и склонность Марии к эзотерике. Скопированы были и оттенки этой склонности, промежуточный их спектр, внезапные порывы нежности.
Юдит представляла собой имитатора, проигрывавшего передо мной времена, проведенные с Марией. Но к чему это все? Ведь в ее игре отчетливо просматривалась ложь, искусством которой Мария владела в совершенстве. И чем точнее и вдохновеннее копировала Юдит мать, тем отчетливее была заметна ложь. Юдит выступала в роли исполнительницы, в задачу которой входило разыгрывать правду, ибо правда истинная представлялась настолько банальной и унизительной, что никому не хотелось иметь с ней дело. А от меня, как и в молодые годы, требовали рукоплесканий. Я, как мужчина, должен был рукоплескать годам своей молодости, разыгранной передо мной Юдит в роли Марии.
Так в этом состояла ее задача?
5
На протяжении вот уже нескольких лет в июле месяце я выезжал в Мадрид преподавать в летней музыкальной школе. Проживал я в мрачной и великолепной коробке, расположенной где-то в центре города — два часа занятий в день в группе численностью в полдюжины учеников, королевский гонорар, бесплатный пропуск во все музеи и иные культурные учреждения. Однако главным было не это, а возможность на целые две недели ускользнуть из-под контроля, шляться по кабачкам, где пели и играли цыгане. Ни в одном из городов мне не удавалось забыться так, как в Мадриде. Когда в и без того сумрачных подвальчиках гасили электрический свет и цыганский ансамбль принимался распевать при свете нескольких свечей, я физически ощущал, как из меня улетучивается крохотный гран субстанции, и из обреченного на тихое увядание человека я превращался в страстного слушателя, стремящегося не упустить ни одного нюанса этой музыки.
Всеобщая и трудноопределимая ненависть, нередко преображавшаяся в постыднейшее равнодушие по причине явной недооценки себя, бесследно исчезала в этих пропахших пролитым вином катакомбах. Переизбыток скуки и уныния, временами посещавший меня над партитурой, постоянное самокопание, не дававшее мне наивно и без следа цинизма и всепожирающего скепсиса нарисовать ту или иную ноту, мгновенно сменялись вниманием, стоило только этим мистикам страсти наполнить зал щелканьем кастаньет или перезвоном гитары. В отличие от концертов современной музыки, которой я не позволял затронуть глубин своей души, в цыганских погребках Мадрида я всеми силами форсировал душевное потрясение. Остальное довершало вино. Как правило, ночные объезды этих заведений начинались в обществе моей покровительницы — директрисы летней музыкальной школы, которая не без оснований, как я считаю, носила имя Мерседес и лишь каждую третью ночь посвящала мне — на большее у нее просто не хватало сил. А когда сил хватало, мы с рассветом вместе направлялись в отель, где я проживал и перед входом в который каждый раз, поражаясь собственной смелости, приглашал ее подняться ко мне. Если она поднималась, то вгоняла меня в сон своими грустными балладами. Провела ли она со мной хоть одну ночь, этого с уверенностью я сказать никогда не мог, как не мог на следующий день прочесть в ее глазах ответ на свой немой вопрос. Если она не желала помочь мне в этом, я стыдился, как стыдился и замечая, что она вовсе не собирается затрагивать эту тему. Но едва заканчивались занятия, я тут же названивал ей, чтобы предложить в очередной раз составить мне компанию. Чуть отстраненная, чуть кокетливая, сидела она передо мной в каждом из десятка продымленных кабачков, по которым я ее таскал, слушала мои словоизлияния, пила вино, курила, периодически вставая из-за стола, чтобы по телефону успокоить членов своей оставшейся в Барселоне семьи, а потом, уже на рассвете, выпив на посошок вина, тащила меня по улицам еще не пробудившегося города к отелю.
Вероятно, наше с ней знакомство представляло собой патетическое сродство душ, гнавшее нас в дорогу каждое лето. Разумеется, это была прочная дружба, прекрасно обходившаяся без всякого рода никчемушных пристроек типа ожиданий. Поскольку отчитываться перед кем бы то ни было явно не в моем характере, ни одна живая душа не была в курсе моих зажигательных эскапад под аккомпанемент фламенко, и поскольку Мерседес не грозила перспектива разбить о меня свое сердечко, наши странные игры продолжались уже не один год. Средоточием нашей таинственности стал дар дивиться, а цыганская музыка заставляла дивиться. Более безобидный роман и измыслить трудно. Все заученное, превращающее таинственность в заурядную скукотищу, было нам чуждо. Если бы кто-то пригляделся к нам, он обязательно принял бы нас за оказавшуюся за этим столиком по чистой случайности парочку незнакомцев, которые вот-вот встанут и, расплатившись с официантом каждый за себя, разойдутся в разные стороны.
Но в то лето все было по-другому. Радости от предвкушения поездки в Мадрид не было, ее впитал в себя непокой оттого, что опера никак не желала получаться — ни я, ни мой либреттист по имени Гюнтер никак не могли разродиться, и, похоже, это был окончательный диагноз. К тому же Юдит упорно навязывалась мне в попутчицы. Все попытки отговорить ее от этого вояжа, ссылаясь на чрезвычайную его утомительность, к успеху не приводили. Все мои лживые заверения, что, мол, я целыми днями буду занят, а вечера собираюсь проводить в обществе коллег, разлетелись в пух и прах — Юдит с торжествующим видом помахала у меня перед носом по недосмотру оставшимся висеть на стене кухни расписанием моих мадридских занятий. И когда я, утомившись от бесконечных дискуссий, нередко сопровождавшихся ее истеричными подвываниями, преподнес ей последний аргумент: мне необходимо побыть какое-то время в одиночестве, а на свете нет другого места, где я мог бы этому одиночеству отдаться, — Мадрид, и только он, — Юдит упрекнула меня в том, что я, мол, желаю лишь отделаться от нее и сразу же по приезде в этот самый Мадрид моему одиночеству положит конец другая женщина.
Мне стало совсем невмоготу, я уже был готов просить Мерседес зарезервировать в отеле еще один номер, чтобы Юдит перестала изводить меня, но однажды вечером дочь Марии огорошила меня своим отказом от поездки. В тот вечер они с Гюнтером сходили на премьеру какого-то французского фильма, после чего забрели в какой-то бар. Юдит заявила мне, что она все как следует обдумала и пришла к выводу, что все же будет лучше, если я отправлюсь в Испанию один. Я сидел за кухонным столом, вцепившись в бокал с красным вином, она, скрестив руки и закинув ногу на ногу, стояла в обрамлении дверного проема — поза скорее всего была подсмотрена в том самом фильме.
— Но ведь номер на двоих в гостинице уже заказан, — вяло пытался протестовать я.
— Значит, у тебя будет масса возможностей не слишком удручать себя одиночеством, — злобно бросила она в ответ. Стекавшие с ее пальто капли дождя образовали мокрую кольцеобразную лужицу на кухонном полу. — Хочешь знать, что за фильм мы смотрели? — спросила Юдит и, несмотря на то что я отчетливо отнекивался, в деталях пересказала мне драму, в центре повествования которой стояла ревность и соорудить которую могли только французы — правдоподобную, лживую и вполне в католическом духе.
Разумеется, она завершалась двойным убийством: и нарушитель супружеской верности, и его возлюбленная отправились на тот свет, так и не разомкнув объятий на кровати в обшарпанной гостиничке.
— А что же с женой, овдовевшей особой, — ведь она после смерти супруга одна-одинешенька на этом свете? — полюбопытствовал я.
— А у нее все отлично, — парировала Юдит. — Отныне она спокойно могла посвятить себя своему любовнику — приятелю мужа.
— А он, случаем, не венгр, — деликатно поинтересовался я, — и не зовут ли его Яношем, как всех венгров, кого допустили поучаствовать во французском фильме?
Одной из причин ставшего для меня полнейшей неожиданностью отказа от поездки в Мадрид был день рождения Юдит. Стоило заговорить об этом, как лицо ее как-то неестественно светлело, чтобы уже в следующее мгновение смениться столь же наигранной озабоченностью. Что она желала доказать мне пресловутой озабоченностью, так и оставалось для меня загадкой, а в ответ на расспросы девушка отвечала какими-то полунамеками. А завершались эти путаные и загадочные объяснения детскими уверениями в том, что, мол, этот день рождения станет самым чудесным нашим с ней праздником. Мое предложение отметить дату в близлежащем итальянском ресторанчике — к чему ставить вверх дном квартиру? — было решительно отметено, как и моя идея вместо всех этих празднеств просто-напросто отправиться вдвоем в Париж. В Париж она может отправиться и потом, когда ее родня отъедет, ответила Юдит, и это прозвучало так, будто она рассчитывала, что родня ее торопиться с отъездом явно не собирается.
— А твоя мать, Мария, почтит ли она присутствием этот дом? — спросил я.
— Все будет зависеть от твоего поведения, — ответствовала Юдит, после чего снова уткнулась в анкеты для оформления приглашения, явно не расположенная к дальнейшим расспросам на данную тему.
Таким образом, в Испанию я поехал в одиночестве. На всякий случай я оставил Юдит номер телефона отеля, где собирался остановиться, и каждое утро, возвратившись вдребезги пьяным в свой номер, обнаруживал записку с просьбой перезвонить Юдит, она, мол, звонила несколько раз, начиная от полуночи и до двух часов ночи каждые полчаса, и все безуспешно. Иногда я долго сидел на кровати, но мне все не удавалось заставить себя снять трубку и набрать номер своего телефона в Германии. Завтра, бормотал я, завтра непременно тебе позвоню.
Но и назавтра не звонил. И когда до моего отъезда оставалось всего ничего, в класс во время занятий вошла Мерседес, которая по причине крайней загруженности на сей раз не могла составить мне компанию в ночных ресторанных странствиях, и с заговорщической миной попросила меня перезвонить домой некоему господину Яношу, через которого моя супруга по имени Юдит просила передать, что страшно за меня волнуется. Вот теперь у меня есть все основания не звонить, возликовал я. Теперь наконец они меня не достанут. Теперь наконец я ушел из-под опеки. Теперь наконец я больше не участвую в их играх.
С чувством явного облегчения я отправился в Мюнхен.
6
Вследствие того, что мое сотрудничество с Гюнтером так и не хотело сдвигаться с мертвой точки, я уговорился с одним знаменитым итальянцем-писателем, автором переводов на итальянский язык стихотворений Мандельштама и одной весьма солидной, если не лучшей монографии о поэте. Так как вечером ему предстояло выступить перед аудиторией с чтением отрывков из своих собственных произведений, а он никак не мог выступать натощак, в три часа пополудни я должен был заехать за итальянцем в отель, чтобы организовать для него поздний обед — перед намеченной на восемь вечера лекцией ему необходимо было насладиться и достаточно продолжительным послеобеденным сном — одним часом ограничиться было никак нельзя, ибо за пару часов перелета из Рима в Мюнхен итальянец умудрился истомиться настолько, что даже готов был отказаться от прочтения лекции в этот день.
Что касается меня, я тоже малость устал от краткой телефонной беседы, вылившейся в настоящую вакханалию объяснений и пояснений, приписав это, однако, тому, что все мои из без того скромные познания в итальянском вмиг куда-то улетучились. Я и связной фразы выговорить не смог, время от времени выкрикивая в трубку бессвязные обрывки. И даже вспотел, внезапно с досадой осознав, что донимаю своим бредом столь почтенного и измотанного перелетом человека потугами на язык, лишь отдаленно и исключительно мелодикой напоминавший итальянский. Впрочем, писатель, казалось, был настолько поглощен планированием, вплоть до пересчета остававшихся до авторского вечера часов, что, судя по всему, даже не удостоил вниманием мои огрехи. Святой, да и только.
В отличие от своих немецких собратьев и коллег, в отличие от Гюнтера, от которого я и узнал обо всех деталях частной жизни этого итальянца, последний, похоже, беспокоиться по поводу своего творчества явно не собирался. Он питал ненависть к публичным выступлениям, к авторским вечерам, обходя стороной чествования и юбилеи, требовавшие речений с трибун, отмахивался и от наград. Этот человек, которому перевалило за шестьдесят, жил со своей матушкой в квартире позади Пантеона. Он штопала ему носки, относила письма на почту, отвечала на телефонные звонки и убеждала собеседников на другом конце провода, что ее сыночка, дескать, нет дома, в то время как он, дрожа, стоял подле нее. Спали они в разных комнатах, но при распахнутых дверях. Я считал его выдающимся мастером юмора, чем-то вроде итальянского Гоголя, сам же он видел себя осененным перстом Божьим трагиком, что, собственно, одно и то же — если две на первый взгляд параллельные линии продолжать до бесконечности, они все же пересекутся.
Естественно, я намеревался склонить итальянца к участию в своем мандельштамовском проекте, и поскольку мне позарез был необходим переводчик для общения, в чем меня убедил телефонный разговор, за помощью я решил обратиться не к кому-нибудь, а к Гюнтеру, вот уже три месяца пытавшемуся отговорить меня от пресловутого проекта. Но Гюнтер будто в воду канул. Гюнтер страдал столь распространенным в писательских кругах недугом — ненадежностью. Вероятно, именно она и составляла его единственно надежный источник творчества. Так что я в одиночестве отправился в гостиницу, где расположился высокий гость, — в поразительно неопрятное здание в центре города, на котором и вывески-то не было, лишь домофон с расхлябанной кнопкой, которая тут же юркнула в пластмассовый корпус устройства, стоило мне лишь прикоснуться к ней. Будто зверек в норку.
Несколько минут спустя дверь раскрылась, и из нее нескончаемой чередой повалили японцы с сумками через плечо и тут же, зажимая уши, заполонили близлежащие улицы, подобно рою насекомых. Едва завидев их, я проворно отступил в сторону и вообще прикинулся случайным прохожим, но лишь только они исчезли из виду и дверь снова закрылась, как я вновь принялся хлопотать у злосчастной кнопки, которая так и не пожелала выбраться из своего убежища. Зато послышались истерические возгласы профессора Бевилаква, по-видимому пытавшегося переорать пронзительный звон.
— Это я! — пытался докричаться до него я. — Дожидаюсь вас внизу!
Вопил я, наверное, все же достаточно громко, во всяком случае, персонал расположенной поодаль аптеки услышал меня и, явно заинтересовавшись, стал приближаться ко мне вместе с посетителями той же аптеки, движимый отчасти любопытством — что же это за диво такое, когда взрослый человек криком пытается что-то втолковать стене дома, — отчасти раздражением, вызванным стремительным отливом потенциальных покупателей. Похоже, им не понравились мои вопли вроде «это я». Закричи я: «это не я», я имел бы все шансы остаться вне зоны их внимания.
Когда сгрудившаяся вокруг меня компания услышала крики профессора, более походившие на призывы о помощи, она, не раздумывая долго, как следует поднажала на дверь, и под предводительством аптекаря небольшой авангард устремился вверх по лестнице, чтобы стать свидетелем примерно той же картины, что и внизу, но интимнее: орущий в трубку профессор Бевилаква. Он все еще или, точнее сказать, уже пребывал в домашнем халате — небольшого роста человек на грани коллапса. И поскольку никто не смог отыскать щиток с пробками, аптекарь столь энергично двинул по звонилке, что та испустила дух. И тут же воцарилась ничем не нарушаемая тишина, народ вернулся к прерванной работе или просто разошелся, я же дожидался у дверей, пока не покажется профессор и поэт, презревший нашу договоренность ради полуденного сна и, как я надеялся, примется рассуждать со мной на тему Мандельштама.
Когда этот абсолютно лысый человечек все же появился, на лице у него застыла столь оскорбленная мина, что мне только и оставалось, что смиренно и безмолвно вышагивать рядом. Ибо любое слово бередило бы рану, ранее мною нанесенную.
— Простите, — заговорил я, но тут же осекся, отметив выражение его глаз. — Вот сюда, прямо.
Это единственная разумная фраза, что пришла мне на ум, и поскольку он все же умудрился понять ее, невзирая на мой чудовищно исковерканный итальянский, я повторял ее при каждом удобном случае. Сюда, прямо. Сюда, прямо. Сюда, прямо. И вот мы оказались перед пивнушкой, откуда доносился гомон голосов. Вытянув шею, профессор опасливо приблизился к входу, тут он очень напомнил мне собаку, желавшую убедиться, не вытурят ли ее оттуда, затем отпрянул, уступая дорогу выходящим посетителям, потом снова приблизился, втянул ноздрями дух, исходивший от поджаренной свинины, однако отобедать здесь не решился. Это своеобразное принюхивание повторилось у дверей еще нескольких заведений весьма различного кулинарного направления, но повсюду — стояли ли мы у входа в китайский, итальянский, португальский или германо-баварский ресторанчик — профессор неизменно отступал, и мы продолжали путь под мое методичное «сюда, прямо». И вот где-то в самый разгар этого блуждания он вдруг остановился и осведомился у меня, где купить нижнее белье. Нижнее белье? Да, но разве не Италия держава нижнего белья и не Рим — его столица?
Мне тут же припомнились бесчисленные лавки, торговавшие именно нижним бельем, виденные мною в Риме в переплетении улочек ниже Испанской лестницы, первоклассно убранные витрины, больше напоминавшие картинные галереи, где, однако, и выбрать было нечего, разве что смехотворные трусы ужасающих расцветок. Что возжелал приобрести этот исследователь Мандельштама?
— Нижнее белье?! — вскричал я, не позабыв возложить руки на причинное место, чтобы враз покончить с неясностью относительно вида пресловутого нижнего белья, которое вознамерился прикупить итальянец.
— Да, да, — согласно закивал профессор Бевилаква.
И мы направились в магазин мужской одежды, где профессор, как я имел возможность лицезреть сквозь витрину, досыта напримерявшись, остановил свой выбор на дюжине трусов, которые велел упаковать, тех самых, что со специфическим уплотнением спереди. Недурное помещение академического гонорара, с радостным удовлетворением подумал я, когда мы возобновили наши скитания по центру города. Время пока что не начавшегося собеседования на тему Мандельштама неуклонно иссякало, когда профессор резко затормозил у какого-то невзрачного ресторанчика и после продолжительного принюхивания решился все же войти внутрь, где нам предложил место у окна весьма приветливый чернокожий метрдотель, представившийся Джеймсом и, как мы впоследствии узнали, прибывший в Германию из Уганды. Впрочем, сразу же было решено поменять этот стол на другой, тот, что поближе к центру зала. А еще немного погодя, когда вошел еще один посетитель, занявший столик в непосредственной близости от нас, мы пересели к дверям, однако по причине жуткого сквозняка вынуждены были вновь сменить место, усевшись за крохотным, под стать кукольному домику, столиком подле клозета. После описанной свистопляски со столиками, продиктованной острейшим желанием исследователя творчества Мандельштама сохранить в добром здравии свое склонное к простуде ухо и вместе с тем избавить себя от пытки созерцать какой-то невинный пейзажик на стене, после того как продемонстрировавший воистину ангельское терпение Джеймс стоически выдержал и замену стульев на более мягкие, мы наконец получили возможность взять в руки меню. Меню изобиловало в первую очередь легкими блюдами из макарон по-итальянски, но в нем присутствовали и фирменные блюда, и, кроме того, рыба в великом изобилии сортов, о коих с присущей скорее владельцу сего заведения, нежели метрдотелю убежденностью не замедлил сообщить нам по-немецки и по-английски Джеймс. После затянувшегося до неприличия перевода и не менее продолжительных дискуссий по поводу в общем-то не особенно длинного меню профессор Бевилаква с озабоченным лицом остановил выбор на жарком из ягненка с горохом и картофелем, хотя нет, жаркого не надо, только картофель и соус, я же — на спагетти с чесноком и оливковым маслом.
— Solo piselli? Только горох? — пытался докричаться я до погруженного в глубокомысленное молчание поэта, но ответа так и не получил.
Профессор Бевилаква, уронив грушевидную главу свою на грудь, похоже, сладко спал. И лишь когда мистер Джеймс поставил подле так и нетронутого стакана с красным вином тарелку с горохом — ровно сотней зеленых горошин, — шарообразная фигура обнаружила признаки некоего движения. Профессор устало взялся за вилку и попытался — тщетно, если я могу взять на себя смелость кратко охарактеризовать его усилия по поглощению пищи — нанизывать одну горошину за другой на зубья вилки, против чего непокорные бобовые отчаянно протестовали, отпрыгивая в разные стороны. Вскоре они изумрудным венчиком окружили тарелку профессора, и любой забредший к нашему столику посетитель вполне мог бы поверить, что тарелку этого сидящего с несчастным видом профессора специально решили столь оригинальным образом украсить, дабы улестить его. Из опасений показаться невоспитанным я не решался притронуться к своим макаронам. Лишь когда профессор принялся толстоватыми пальцами собирать рассыпавшиеся по скатерти горошины, немилосердно давя их, и потом после тщательного визуального изучения отправлять их в рот, я все же решил умилостивить свой отчаянно напоминавший о себе желудок, подцепив на вилку чуточку макарон. Но тут же вынужден был прервать сие действо, поскольку итальянец, с которым я встретился исключительно ради возможности обсудить либретто к опере о Мандельштаме, принялся выплевывать на тарелку отделенную во рту кожицу бобовых от их содержимого, призвав на помощь пальцы для отделения особливо неподатливых частичек кожицы от неба, дабы потом обстоятельно отереть их о край тарелки.
Когда с этим занятием было покончено и мистер Джеймс, явно польщенный похвалами в адрес кухни ресторана из уст профессора Бевилаква, сменил загаженную тарелку на книгу почетных гостей, в которую было предусмотрительно вклеено явно только что вырезанное из местной вечерней газеты фото автора, я счел, что самое время заявить о своих планах относительно оперы. Так вы собрались писать оперу на стихи Мандельштама? — по-видимому, так должна была звучать фраза, произнесенная профессором, который на мгновение решил оторвать взор от книги почетных гостей мистера Джеймса. Во взгляде этом не было и следа доброжелательности, равно как и доверия, впрочем, как не было и презрения. Взгляд именитого профессора выражал лишь вопрос — как же я могу написать для вас оперу, если я и нот толком не различаю! И тут же, велев вызвать для себя такси, обстоятельно распрощался с Джеймсом, удостоив лишь кратким кивком меня — увидимся на моей лекции! — и вместе со своим пакетом трусов исчез.
Я стал названивать Гюнтеру, чтобы тот заехал за мной, но того не оказалось дома.
Мистер Джеймс поднес мне эспрессо и с настырностью истинного уроженца Центральной Африки принялся выспрашивать меня о моем итальянском приятеле. После кофе последовала граппа, после нее — самогон, который гнал его родитель в Уганде и через посольские каналы переправлял сыну. Затем ресторан заполнили гости, набросившиеся на мясо, от которого предпочел отказаться профессор Бевилаква. Около полуночи мне все же посчастливилось дозвониться до Юдит, побывавшей в обществе Гюнтера на лекции профессора и еще не успевшей опомниться, ибо выяснилось, что итальянец, который, по ее словам, изъяснялся на великолепном немецком, затащил их в какую-то чисто баварскую пивную. Гюнтер до сих пор пребывал у меня на квартире. Вскоре они за мной заехали и при помощи новообретенного друга-африканца и его супруги, оказавшейся уроженкой Швабии, всем удалось запихнуть меня на заднее сиденье моего же автомобиля. И мне впервые за этот насыщенный событиями день наконец-то выпала возможность всласть задуматься о своей не свершившейся пока опере, одновременно прислушиваясь к этой парочке на переднем сиденье, которая за время лекции о Мандельштаме, равно как и за часы, ей воспоследовавшие, преобразилась именно в парочку.
7
Временами мне становится тепло при мысли, что в один прекрасный день меня сочтут ненормальным. Жизни святого или грешника, циника, моралиста или же свободомыслящего, правдолюбца или глупца, втрескавшегося в саму любовь эротомана, человека таинственного или льстеца, простого человека или же загадочного, плута, шизофреника или одержимого страстью, мошенника или преисполненного искренних побуждений, подозреваемого в преступлении или хотя бы бунтаря, ярого приверженца той или иной идеи или противника той же идеи, презревшего все на свете или шарлатана, лица духовного или равнодушного ко всему, чудища, атеиста или же, напротив, фанатика веры, человека дряхлого и издержавшегося или человека, тяжелого на подъем, мистика, имитатора, жизнерадостного, распутника, фокусника, причисляющего себя к кругу избранных сноба, человеконенавистника, чудодея, жертвы, безответственного, свидетеля или кого-нибудь там еще, — этой состоящей сплошь из приписок жизни, на которую я, будучи человеком искусства, был обречен, следовало положить конец, с тем чтобы начать жить жизнью того, кем я являюсь на самом деле. Ужаснее для фанатика собственного «я» перспективы и быть не может. Нет уж, лучше быть и оставаться композитором, обреченным на заточение в четырех стенах.
8
Приготовления к предстоящему дню рождения Юдит начались еще за целую неделю до торжественной даты. Разговор о празднестве заходил уже не раз, обсуждалось, какое платье ей надеть, как и где разместятся гости, что предстоит сделать — эта тема стала центральной сразу же по моему возвращению из Мадрида. Поскольку я прекратил отмечать свой день рождения давным-давно, если быть точным, после смерти матери, все эти приготовления и перемены в моем жилище воспринимались мною с недоверием и скепсисом. В особенности что касается восторгов Юдит, не раз воображавшей, как ее родня торжественно ввалится в мою празднично украшенную квартиру — они неизменно наталкивали меня на мысль, что пресловутая родня заявится сюда не на день и не на два, а, как говорится, на веки вечные. Племянники и племянницы Юдит, ее тетки и дядья обоснуются здесь навечно и превратятся в семью.
Без малого два десятилетия мне более или менее стоически и без каких бы то ни было негативных последствий отказа от общества удавалось выдерживать свое одиночество, и я уже тешил себя надеждой, что все так и останется до конца дней моих. Но отныне мне предстояло и полюбить семейство Юдит: ненадолго — как уверяла меня она; навсегда — как предполагал я.
Инкубационный период, то есть время между проникновением в организм грозных бацилл и собственно наступлением заболевания, начался с приезда дядюшки Шандора, явившегося за неделю до торжеств. Так как упомянутый дядюшка Шандор являлся специалистом по социологии музыки, по мнению Юдит, именно он, а не кто-нибудь, должен был помочь мне снова войти в колею, он, и только он, сумел бы придать необходимую и строгую упорядоченность моим разбросанным концепциям и взглядам, с тем чтобы на вновь созданной основе приступить к созданию шедевров, коих Юдит вопреки всему ожидала от меня.
Естественно, я как мог противился этому слишком раннему визиту. Перспектива обсуждения с музыкальным социологом из школы Лукаша задуманной мною оперы о Мандельштаме, которая, собственно, и оперой-то не была, а так, проектом, причем обсуждать ее как нечто заранее обреченное на провал было противно мне не оттого, что я до сих пор сидел сложа руки, имея за душой парочку эскизов и идей. Просто меня не оставляло подозрение, что и дядюшка принадлежал к тому самому основанному Юдит синдикату, целью которого являлось похерить мой замысел. В публикациях шестидесятых годов я отыскал парочку его опусов, повергших меня в страшнейшую тоску, поскольку они содержали более или менее основательный материал для оправдания теории, тщившейся обратить живую и непосредственную спонтанность в педантичную упорядоченность. Прошедший марксистскую выучку дядя исходил из статистических данных, из соотношений чисел — размера заработной платы, добавленной стоимости, размеров прибыли, но никак не из того, к чему стремится музыка. Из представленных абстрактных цифр он скалькулировал мораль, эстетику и метафизику, если подобный термин вообще здесь уместен. Так, но не иначе, вы обязаны представлять себе музыку XVIII столетия, явно довольный собой, заключил он свои штудии, так, а не иначе, вы должны и слушать музыку, появившуюся на свет в означенный период.
У Юдит, которой я попытался объяснить, что ее дядюшка страдает отсутствием фантазии, и на это, разумеется, был ответ. Его сочинения, мол, стародавние, они предназначены исключительно для печати, в действительности же дядя Шандор человек совершенно иного склада — он куда глубже, мудрее, одухотвореннее, меня еще удивит, с каким знанием дела, спокойствием и уверенностью он вызволит меня из блужданий в потемках. Бессмысленно было даже пытаться оспорить пресловутую уверенность, спокойствие и знание дела, так что я, покорившись, отдался тошнотворной перспективе в течение недели пытаться втолковать венгерскому музыкальному социологу дядюшке Шандору замысел своей оперы о Мандельштаме.
Дядя Шандор, первая ласточка из ожидаемой родни, оказался и вправду не таким, как его описала Юдит. Во-первых, он был настоящим великаном, эдаким чудищем с бородищей, пришельцем из какого-то незнакомого мне мира, который даже сидя представлялся неестественно огромным, настолько, что во время беседы, повинуясь инстинкту казаться меньше, вжимался в кресло, так что голова его касалась спинки, отчего ему практически постоянно приходилось чуть ли не лежать, согнув в коленях невероятно длинные ноги, которые, будто горы, застили его костлявое туловище. И в этой чудовищно неудобной позе он бормотал окрашенные меланхолией фразы, воспринимавшиеся собеседником как пришелицы неизвестно откуда, но уж никоим образом не как элементы диалога.
Задрав голову, он вещал потолку. Вопиющий к потолкам. И каждая из его фраз представляла собой лишь отросток крохотного облачка табачного дыма, предварявшего ее. Без трубки в зубах дядюшку Шандора, с которым мы были, собственно, почти ровесниками, хотя выглядел он как дряхлый старик, и представить себе было нельзя. В этой связи он, едва успев прибыть, разместил во всех стратегически важных точках квартиры свои трубки, одна из которых непременно дымилась, вторая же в этот момент набивалась. Даже за едой — дядюшка Шандор, будучи желудочником, почти ничего не ел — он попыхивал коротенькой трубочкой, выпуская едкие облака над уставленным блюдами столом.
Когда я однажды попросил его хотя бы на время десерта прервать курительный процесс, чтобы дать нам с Юдит возможность, не закашлявшись, доесть засахаренную клубнику, дядюшка после моих слов в глубоком молчании возложил горящую трубку на скатерть, нимало не заботясь об источаемых ею искрах, которые вскоре черными веснушками усеяли поверхность льняной скатерти. Другой рукой извлек из жилетного кармана коротенький окурок сигары и безо всякого смущения задымил вновь. Пока я с раскрытым ртом взирал на него, ошарашенный столь невинной наглостью, дядюшка Шандор как ни в чем не бывало продолжил витийствования: мы, мол, вброшены в множественность, вещал он вслед за клубами смрада, на подходе новое искусство, поскольку истина, о которой грезил еще Лукаш, нам более не нужна.
В каждой его фразе незримо присутствовал Лукаш, через одну это имя упоминалось, а само выступление нередко завершалось оборотом типа: «То, о чем мыслил Лукаш, показалось бы ему сегодня не столь безоговорочным».
Минорное изложение воззрений Лукаша и курение трубки — между этими полюсами и протекала жизнь дядюшки Шандора. Схватившая трубку рука — единственный живой и непосредственный жест, все остальное — наигранность, для которой изобретались или заимствовались все новые и новые наименования, как, например, «болтливость на темы красоты», к которым он прибегал всякий раз, когда что-то казалось ему подозрительно гладким «в этом кромешном мраке беззвездной ночи, возмечтавшей о новой заре, которой надлежит вернуть миру утраченные во тьме очертания и ориентиры. Свежий утренний бриз ворвался в затхлую каморку, и едва забрезживший свет нового мира пал на крутые лбы тех, кто во мраке утратил веру в мир новизны — разумеется, несуществующий».
Странно было слышать, как посредством дядюшки Шандора, которого я втихомолку прозвал «замшелым карпом» из-за зеленовато-бурого и напоминавшего мох налета, толстым слоем покрывавшего его немногие из пока остававшихся зубов, в завязанный на практицизме и чисто утилитарный бытовой язык Юдит проникал столь высокопарный тезаурус. И в мой тоже, так как я в жалких попытках противостоять растущим претензиям и запросам Юдит ограничивался лишь односложными незамысловатыми фразами, к которым прибегал из боязни пространными пояснениями еще более усугубить царивший в доме бедлам, условно обозначаемый мною термином «порядок».
Дядя Шандор, который появился на свет в бедной семье будапештских евреев, создал свою особую языковую форму, которая была, с одной стороны, результатом его беспорядочного учения, а с другой — следствием овладения им марксистским понятийным аппаратом. Сия чуждая и интуитивно доступная пониманию, временами близкая и знакомая нашему тяготеющему к сжатости и ориентированному на отдачу приказов и на реакцию на таковые, хоть и запоздалую, языку форма врезалась в него. Скорее всего Юдит просто не понимает его, иногда мелькало у меня в голове, когда она с мечтательным видом внимала витиеватым тирадам дядюшки Шандора, в которых без труда увязывалась дефетишизирующая миссия искусства с лишенным формы, тяготеющим к себе многообразием духа, формировавшим искусство под недоверчивые взоры укреплявшей свои позиции буржуазии и деградировавшего дворянства.
Я ловил себя на мысли, что невольно тоже внимаю ему, так и не сумев вникнуть в смысл сказанного. И тут нас внезапно возвращали на грешную землю, в царство фактов, если в речи замшелого карпа в клубах дыма выплывало вдруг имя даровитого теоретика-марксиста Сталина, комментировавшего «сознательное» и «планомерное» в любовных похождениях Казановы, чтобы тут же резко смениться рассуждениями о функции покрова, складки которого вносят смятение, поскольку, по сути, куда больше говорят, нежели скрывают. В этих гиперконструкциях отсутствовали перекрытия, мостики и переходы, так сказать, радиорелейные станции, роль которых — упорядочить словесные потоки. Не было их у этого начитанного человека. И он странствовал через библиотеки, пробираясь с дымящейся трубкой в зубах между книжных полок, что-то выхватив, некоторое время не выпускал из рук, чтобы тут же бросить уже на другую полку, поражаясь эффекту столь сомнительного метода, в конечном итоге обреченного на забвение. Он вышел из-под надежного крова марксизма в чистое поле письменности, не ограниченное ни философским, ни историческим горизонтом, где единственной опорой оставалась его трубка. И еще история жизни. Она представляла собой лик нашего столетия.
История эта разыгрывалась и в Нью-Йорке, где проживал брат его отца, удачливый адвокат и спец по части джаза, и в Москве, где его мать некоторое время работала в Коминтерне, в оперных театрах Парижа и Берлина, которые сыграли роль ничуть не меньшую, чем прокуренные каморки в Палестине, в которых дядя Тибор разместил бюро руководимой им сионистской организации. Отец замшелого карпа был сотрудником еврейской газеты «Келет» и до последнего момента вел бесплодные переговоры с заместителем Эйхмана в Будапеште. Истории эти, как и все подобные, завершались в Освенциме. Злопыхатели предали семью, обобрали ее до гроша, после чего уничтожили. Только дядюшке Шандору, этому великану, удалось уцелеть — его загодя успели отправить к знакомым в деревню. Вот так он и стал стоящим на марксистских позициях социологом и семейным летописцем.
После первого общения с ним я установил для себя, что дядюшка Шандор никак не годится на роль моего чичероне. При его методике обучений и поучений я скоро вообще откажусь от сочинительства музыки, так что следовало держаться от дядюшки подальше. Тут открывалась возможность придерживаться такой линии поведения даже без дипломатических уверток, поскольку кроме меня его аудиторией мог быть и безмолвный Янош, как-то незаметно появившийся в моей квартире — я никак не мог понять, кем он приходится Юдит, — а кроме того, имелась еще одна вещица, способная удержать дядю Шандора от словоизлияний, — телевизор. В костюме-тройке он усаживался в своей уникальной позе перед ящиком, сосредоточенно прочесав бороду от застрявших в ней крошек, и с нарастающим интересом принимался увлеченно переключать каналы пультом дистанционного управления.
Пока мы с Юдит занимались приготовлениями к предстоящему дню рождения, уборкой квартиры, время от времени попадая в пространство между Шандором и телевизором, последний был целиком и полностью поглощен зрелищем. Я подозревал, что немецкое телевидение, во всяком случае, частные его каналы, с лихвой компенсировало его искаженное мировосприятие. В этом небольшом прямоугольнике мир вновь обретал желаемую цельность и упорядоченность многообразной структуры, каковых Шандору отчаянно недоставало в жизни. Телевидение было той разновидностью мирка, в котором он ориентировался вполне уверенно, его озвученной читальней, в которой он мог хвататься за что попало, черпая вдохновение для своего суженного разума. Он представлял собой самый старомодный и подкупающе ленивый тип современника из тех, кого мне выдалось встречать. Мы пахали, а он предпочитал оставаться в стороне.
К концу недели жилище наконец обрело вид, который устраивал Юдит. Уборщица-полька, которая вначале была на моей стороне и против всякого рода перестановок и нововведений, смекнув, сменила позицию в духе новой расстановки сил и теперь была заодно с Юдит, намеревавшейся превратить мой кабинет в спальню, и живо обсуждала с ней детали по-русски. Я очутился в фамилии полиглотов, которая свела меня до уровня разнорабочего. С прибытием тетушки и сопровождавшего ее лица — румына-врача — дни мои в собственной квартире были сочтены. Дядюшка — в гостиной, Янош — в комнате для гостей, румын со спущенными штанами, дабы впрыснуть себе инсулин, — в ванной, не удосужившись запереться, тетушка — в комнате, где стоял рояль, и где она, к великой радости Юдит, вовсю разучивала «Четырнадцать багателей» Бартока, а сама Юдит с подружками из консерватории — в кухне, чтобы замесить тесто, разложить фрукты. В моей же спальне — целая венгерская семья непонятного происхождения, за неимением иных кроватей завалившаяся в мою. Казалось, никто не мог разобраться, какой степенью родства связана с семейством Юдит пресловутая четверка, и по причине их самоустранения от общественной жизни не было никакой возможности поменяться с ними, посему было решено так и оставить их в моей спальне. Ни одна живая душа не была в курсе происходящего там. Иногда оттуда доносился детский плач, затем вступал отец, на повышенных тонах утверждавший, что, дескать, ему необходим покой для нормальной работы, иногда женский голос запевал сочиненные Бартоком крестьянские танцы, отсюда Юдит могла заключить, что и эти тоже «из наших».
Посему мне ничего не оставалось, как, прихватив кое-что из своих остававшихся в наличии пожитков, перебраться в расположенную в мансарде творческую мастерскую Юдит, некогда бывшую и моей творческой мастерской. Поразмыслив, я так и поступил, несмотря на не возможность вновь включиться в работу. Ибо даже если любой из присутствующих мог заключить, что между нами несколько иные отношения, нежели между просто пожилым приятелем семьи и дочерью оттуда, все же сообщнические жесты, которыми мы обменивались, необходимо было удерживать в определенных границах. С моим переходом из своей собственной в ее империю все обрело некую отчетливость, и я мог представить себе, какой потрясающий повод для сплетен ознаменовал мой жест.
— Да не будь ты таким лицемером, — заявила мне Юдит, когда мы вечером накануне дня рождения уселись на ее постель с бутылкой шампанского, — каждому понятно, что мы с тобой спим.
С этими словами, смеясь, она навзничь упала на подушки, после чего заботливо, будто за ней наблюдала вся Венгрия, уложила меня подле себя.
Слава Создателю, я пробудился, как и подобало, ровно в шесть утра, получив, таким образом, возможность рядом с мирно посапывавшей Юдит вновь как следует обдумать создавшуюся ситуацию. Если, как и было уговорено, в течение предстоящего дня прибудет мать Юдит, мне предстоит объяснение. Не могу же я просто так взять да и перестать разделять с Юдит постель и поблагодарить матушку за то, что решилась доверить мне свою дочь. Что мне сказать ей?
Я украдкой бросил взгляд на Юдит, которой предстояло пережить пробуждение в своем дне рождения, на это загадочное создание с худой шеей, к которой прилепился крохотный золотой крестик. Может, именно мне следует заговорить первым, дабы упредить худшее?
Меня вдруг осенила ужасная догадка, что Юдит в кульминационный момент торжества прямо за праздничным столом проинформирует родню о нашей с ней помолвке, и все показалось мне настолько правдоподобным — вся эта кутерьма, весь ажиотаж, настойчивость, с которой Юдит жаждала прибытия самых что ни на есть дальних родственников, которые, кстати сказать, поначалу и ехать-то не хотели — день рождения явно не тянул на серьезный повод, а вот помолвка — дело другое. Скажите на милость, а с какой стати вся эта голь перекатная, обменяв свои потом политые форинты на немецкие марки, сорвалась с места и ринулась сюда? Дело в том, что Юдит требовались свидетели. Заурядное торжество она жаждала превратить в церемониал, зрелище, на которое взирало бы затаив дыхание пол-Венгрии. А посмотреть есть на что: я в присутствии матери невесты вынужден буду кивнуть в знак согласия.
И пока Юдит, вытянувшись в постели, досматривала сны, я спросил себя, отчего она решила остановить свой выбор именно на мне. В последнее время она вовсю приглашала коллег-студентов, которые усаживались за моим кухонным столом, чтобы более или менее открыто покритиковать мою музыку, даже толком ее и не слышав ни разу. Выглядело так, будто Юдит науськивала их по-дружески унизить меня. Особую наглость продемонстрировал один студент, учившийся у моих знакомых по классу композиции. Его присутствие я стерпел лишь потому, что не желал выглядеть смешно в глазах Юдит, которая скорее всего и натравила его на меня. Он распинался о моих произведениях так, будто даже и я сам всерьез их не принимаю, хотя написаны они были всего лишь год назад.
— Ну признайтесь, вы же передрали эти композиции, — дружески-снисходительно осведомлялся он у меня.
Или:
— Свои песни вы ведь вряд ли решились бы включить в программу концерта?
Хотя я ничего не имел бы против того, чтобы мои песни передавали все радиостанции мира, тем не менее ощутил себя пойманным на месте преступления и тут же принялся уверять всех, что, мол, вообще-то они существуют лишь сугубо объема ради. С какой стати я открестился от своих работ, о том, естественно, речи не зашло. Этот всезнайка, засранец и дилетант, рассуждавший о теории дизайна, не скупясь на наукообразные термины, наверняка каких-то пару дней назад услышанные, этот преотвратный тип свято уверовал в то, что я не на том пути. А когда на десерт Юдит с самым невинным видом вбросила информацию о моем замысле создать оперу о Мандельштаме, юноша готов был расхохотаться — таким гротеском представился ему мой проект.
— Нет, быть того не может! — выдохнул он, поперхнувшись гуляшом. — Вам следовало бы подумать, прежде чем браться за такое.
И тут же снова исчез в облаке проблемного содержания и диагностики, хронометрически-критических исчислений потерь и трансцендентальной акустики, чтобы тут же перескочить к той смертельной опасности, которую несут в себе нотные знаки, — именно она, вероятнее всего, и препятствовала мне посягнуть на Мандельштама. А ни единой ноты между тем и не было начертано на бумаге. Одни лишь сухоразрядные потуги, сотрясение воздуха, одно лишь теоретизирование, фантазии и попытки обрести хоть шаткий мостик над бездной.
Мое упрямое молчание на фоне такого вербального недержания привело к тому, что Юдит в сопровождении этого изнеженного философа направилась к себе, где они на примере одной его пьесы для виолончели намеревались обсудить тему «моментаризма символического опыта» — так выразился молодой человек. Однако скорее всего они просто-напросто кинулись в постель, ту самую, в которой ныне находился я, ибо час спустя, за несколько минут до полуночи, когда я под каким-то благовидным предлогом позвонил у ее дверей, мне не соизволили отпереть. Я довольно долго стоял затаив дыхание, прислушиваясь к доносившимся изнутри звукам, истолковать которые можно было лишь однозначно, и исходившим явно не от виолончели.
Почему она не выбрала себе в мужья этого всезнайку Ласло, сына эмигранта из Венгрии, покинувшего страну в разгар событий 1956 года и удивительно быстро сколотившего состояние на торговле пушниной? А что, правдоискательница и спец по деконструированию — чем не пара? Как же его все-таки звали — Янош он или Ласло? Впрочем, не суть важно.
Во сне Юдит выпростала ногу из-под простыни и в непонятной позе разлеглась на моем одеяле. Сцена живо напомнила операционный стол. На щиколотке у Юдит красовалась тонкая золотая цепочка, которую я видел впервые. Осторожно, чтобы не разбудить ее, я склонился, чтобы получше рассмотреть украшение. Оно представляло собой изящную цепь, отполированные звенья которой плотно примыкали друг к другу, создавая узор наподобие зубцов пилы. От цепочки исходило непонятное очарование, и, не удержавшись, я протянул руку и прикоснулся к золоту, показавшемуся мне прохладным, куда холоднее кожи, которую я ненароком задел. Стало быть, кто-то уже до меня пытался окольцевать это создание. В комичной ярости я рванул на себя простыню в надежде обнаружить новые признаки чужих посягательств.
Именинница пробудилась. Не обычным способом, с трудом возвращаясь из мира ночных грез в повседневность. Сегодня мы проснулись в мгновение ока. И, словно раскусив мои намерения, Юдит тут же подогнула ноги под себя, одновременно раскрывая объятия, в которые я в статусе первого поздравителя и нырнул. И в этой неудобной позиции моментально забыл о своем намерении расспросить о происхождении бижутерии, присутствие которой ощутил кожей ноги, в то время как мой страстно полураскрытый рот припал к золотому крестику. Ухватив его губами, я удерживал крестик до тех пор, пока меня не соизволили выпустить из объятий. Надо было срочно заняться приготовлением завтрака для дожидавшейся внизу фамилии, и Юдит, резво оттолкнув меня, соскочила на пол и исчезла в ванной, где, вывернув решительно все краны и напевая, занялась утренним туалетом.
Я оставался в постели. Редко в жизни я чувствовал себя таким ничтожным и никому не нужным. Снедаемый чувством вины, ревностью с изрядной долей плаксивой жалости к себе, я и представить не мог, что вообще когда-нибудь поднимусь с этой постели. Если любой другой на моем месте за какую-то секунду ясно представил бы себе решительно все причинно-следственные связи этого мира, ощутил бы прилив энергии для решительных перемен, я чувствовал лишь жуткую усталость, сводившую на нет всякие причинно-следственные связи. Я обратился в камень. Сначала не пожелали подчиняться ноги, затем и голова наотрез отказалась руководить телом. Не остались в стороне и руки. Где-то глубоко во мне сидела в заточении идея о том, каким образом выбраться из ловушки, в которую я угодил, однако нечего было и пытаться выпустить ее на волю. Когда Юдит вернулась из ванной, обнаженная и с тюрбаном из полотенца на голове, ей, бросив на меня даже мимолетный взгляд, не составило бы труда угадать мое состояние, потому что, как ни в чем не бывало одеваясь, несколько раз она озабоченно повторила: мой дорогой камень, мой любимый камешек, после чего снова нырнула в постель и улеглась на веки вечные.
Я и вправду снова заснул, потому что, пробудившись после показавшегося мне вечностью сна, в котором я блуждал по странному кладбищу, где могильными плитами служили книги, я обнаружил сгрудившихся вокруг моего ложа людей, среди которых кроме Юдит знал только дядюшку Шандора — тот, попыхивая трубкой, собрался подать мне в постель завтрак на подносе. Вакханалия призраков, пляска смерти. Боязливо подтянув покрывало к подбородку, я отчаянно надеялся, что все происходящее мне тоже снится. Однако когда Юдит с поразившей меня обыденностью взяла у дяди поднос из рук, я внезапно понял, что это, увы, самая что ни на есть реальность. Жест сей она сопроводила словами: ну ешь, ешь, мой камешек. И плюхнула поднос прямо мне на живот.
Когда я взялся за вилку, вновь убедившись, что все происходит со мной на самом деле и что я — из плоти и крови, группка прибывших тронулась с места, явно собираясь обозреть и вторую комнату квартирки в мансарде. Лишь по прошествии какого-то времени до меня донесся хлопок двери. Стало быть, убрались, даже не удосужившись отпустить Юдит, чтобы она еще раз взглянула на своего пациента. Празднество завертелось без моего присутствия.
9
Спустившись вниз сразу же после полудня, я убедился, что квартира битком набита гостями. Точное их количество установить не удалось, поскольку они успели рассеяться по всему жилищу. Товарки Юдит разносили кофе, чай и пирожные, Янош хранил многозначительное молчание, две дебреценские тетки убирали со стола, обитавшая в моей спальне семья в полном составе переместилась в кухню, занявшись мытьем посуды, племянник Марии обходил с бутылкой палинки и подносом с рюмками столы, а между гостями фланировала Юдит, что-то на ходу переставляя, смеясь, без умолку говоря, подсаживаясь на минутку к кому-нибудь, чтобы тут же вскочить, последовав призыву из другого угла.
Она была сразу везде, не упуская из виду даже отдаленные закоулки квартиры. Так что здесь все было ей подконтрольно. Я вдруг показался себе свергнутым с престола королем, которого по инерции почитают и даже украдкой приветствуют, но которому решительно нечего сказать. Кроме того, по поведению присутствующих я ощутил, что обо мне уже вовсю циркулируют байки, ибо стоило мне приблизиться к какой-нибудь группе сидящих, как все будто по команде умолкали, а стоило сказать «пока» и снова отойти, как оживленный разговор возобновлялся. В империи Юдит общались по-венгерски. Немецкий, само собой разумеется, тоже был приемлем, но лишь в статусе проблемно-ориентированного языка.
В моем изуродованном кабинете в окружении молодежи в кресле возлегал дядюшка Шандор, с трагической миной потчевавший юношей анекдотическими историями периода веры в истину музыки, Ласло и его коллеги сосредоточенно внимали. Неисчерпаемая память «замшелого карпа» источала все новые и новые избитые истории, передаваемые к тому же языком, наверняка воспринимаемым молодой аудиторией примерно как латынь: утопичность подлинного примирения, обещание правды, исторический императив музыкальной дисциплинированности. Временами он извиняющимся тоном добавлял: если в теперешние времена подобное выражение уместно. Аудитория милостиво считала его уместным. Стоило мне присесть к этой компании — с одной стороны, меня притомила болтовня в других, с другой — хотелось просто разобраться в обстановке, — и непринужденности как не бывало.
По-видимому, я был столь безрассудно храбр, что и нынче отваживался иногда набросать сочинение, и столь неосторожен, осмеливаясь утверждать, что, дескать, и сегодня считаю тональный шедевр вполне на месте, и ко всему иному и прочему столь наивен, чтобы в открытую заявить о том, что, мол, нам всем радоваться надо, если то или иное произведение отзывается на действительность, и что упомянутая действительность куда отчетливее может быть передана электроникой, нежели средствами камерной музыки, что раздался вопль деланного негодования. В мгновение ока убежденный марксист в союзе с фанатиками-деконструктивистами набросились на меня с поучениями, результировавшимися в упреке — дескать, я в той или иной мере открыто проповедую музыкальный фашизм. Кто вместе с Кейджем и благодаря ему и его единомышленникам и последователям не удосужился усмотреть взрывной характер творчества музыкальной культуры Запада, тому уж никогда не вникнуть в суть иной музыки, не говоря уже о том, чтобы таковую сочинить. И так далее.
В отчаянии, истоки которого следовало искать отнюдь не в моей неуверенности или же некомпетентности, я ухватился за одну из немногих книг, которые еще можно было отыскать в занавешенной комнате, к произведениям Шёнберга и, захлебываясь от волнения, подняв руку, дабы утихомирить все насмешливые шепотки, зачитал предисловие автора к «Шести мелочам»: «Эти произведения доступны лишь тому, кто не побрезгует уверовать в то, что звуки передают только то, что иным способом передать невозможно. Противостоять критике шансов у них не больше и не меньше, чем у упомянутой веры, как и вообще у любой веры. Если вера сдвигает горы, то неверие не допускает факта существования упомянутых гор. Против подобного бессилия любая вера ничто. А разве известно исполнителю, как сыграть ту или иную вещь, а слушателю — как воспринять ее? Могут ли движимые верой исполнители и слушатели упустить из виду друг друга? А как же быть с язычниками? Огнем и мечом можно принудить их покориться, но удержать в узде можно лишь истинно верующих».
Я захлопнул книгу, да так, что всколыхнулось облако дыма трубки дядюшки Шандора, и тут же театральным жестом зашвырнул ее в угол. Теперь им всем следует крепко призадуматься. И я покинул сцену.
Миновало пять часов вечера, зарядил дождь. Я уселся на кухне у столика, уставленного мисками с лапшой. Венгры приветливо улыбались мне, тут же часть мисок была убрана, чтобы я мог возложить на столик и локти. Передо мной даже возник бокал красного вина. Где-то здесь, в этом доме, отмечалось торжество, во всяком случае, то и дело мимо сновали празднично одетые гости.
Я спокойно сидел, краем уха слыша возню на кухне и шелест дождя за распахнутым окном, но все еще не в силах избавиться от волнения, вызванного своим недавним выступлением. Странное это было настроение: смесь задиристости и беспомощности. Один вопрос вертелся у меня в голове, не давая покоя: неужели я нашел Юдит так, как вдруг увидев вещицу — несомненно, красивую вещицу, — поднимают ее и суют в карман лишь из нежелания, чтобы она просто валялась?
В моей квартире полно красивых вещиц, внешне казавшихся пылесобирателями, для меня же каждая из них преисполнена значимости. Иногда значимости этой поубавлялось настолько, что та или иная вещица спокойно могла перекочевать в мусорный ящик, другие со временем обретали еще большее значение, поднимаясь по иерархической лестнице моего внимания: они служили мне напоминанием о конкретных мгновениях моей жизни, и постепенно приоритеты внимания также менялись, причем не всегда в лучшую сторону.
В честь камешков, собранных когда-то мною на Сардинии, я однажды даже сочинил небольшую пьесу, в которой попытался подражать звукам волн, накатывавшихся на гальку. В Ганновере это произведение удостоилось публичного исполнения в большом зале, хоть тамошние музыканты явно переусердствовали по части меди, а один из критиков обратился ко мне с идеей использовать это сочинение в качестве музыки к детективному сериалу — для него, по его мнению, оно подходит куда лучше, чем для исполнения в концертных залах. (Того, что в нем была использована тема Сен-Санса, пресловутый критик, разумеется, не заметил.) Но разве можно найти человека, как находят вещь?
Или же она нежданно вошла в мою жизнь, чтобы свести меня с ума в один из тех моментов, когда рассудок уже впал в спячку или вовсе иссяк? Подобных примеров я знал множество. Моя первая жена, Хельга, повстречалась мне в один из самых мрачных периодов жизни в одном из берлинских кабаков. Когда я впервые увидел ее чуть поодаль в компании каких-то типов, во вздернутом состоянии, я понял, что непременно познакомлюсь с этой женщиной, что обязательно сойдусь с ней, невзирая ни на какие последствия. И как только я с ясностью осознал это, в баре появился один из моих знакомых. Поздоровавшись сначала со мной, он направился к столику, за которым расположилась моя будущая супруга, и тут же жестом пригласил и меня. За считанные минуты мне удалось каким-то образом сплавить прочь того, с кем она пришла, и воспользоваться ситуацией.
Вы встретились со мной, теперь действуйте! — вскричал тогда я, и не было аргумента, который смог бы убедить меня в обратном.
И тут же всю мою былую неприкаянность как рукой сняло — так избавляется от старой кожи пресмыкающееся. Три недели спустя мы поженились.
Но Юдит? Разве встречу с ней можно считать случайной?
Может, ее ко мне подослали? Мария? Неужели Мария до сих пор носилась с идеей подбросить мне свою дочь? Я был вынужден вновь отрывать в памяти полузабытую историю нашей с ней встречи — необходимо было избавить себя от беспочвенных подозрений. Потому что если на Юдит и в самом деле была возложена эта малопристойная миссия, рано или поздно она себя выдаст хотя бы по причине молодости и неискушенности. Ей не выдержать, убеждал я себя, двадцатитрехлетняя девушка, несмотря на всю энергию и кажущуюся опытность, непременно совершит промах и окажется в таком положении, из которого ей без чужой (моей) помощи никак не выпутаться. Мне придется вступить в битву с этим созданием, чтобы не пасть жертвой его чар. Так что предстояло спуститься на землю с сияющих высот собственного мнимого превосходства и бесстрашно поставить все на карту. Но на какую карту? Я страстно желал вновь увидеться с Марией, она, и только она, могла внести ясность. Если меня угораздит во второй раз втрескаться в мать Юдит, что в принципе исключать было нельзя, то дочери предстоит поднять забрало. Рассеять подозрение. Но с какой стати Юдит влюбляться в меня?
Я рассеянно мусолил пальцами напоминавшую раковинки сырую лапшу, взвешивая то один, то другой вариант подозрения — предательство или любовь? — пытаясь схематически представить эту головоломку в виде двух различных по форме кусочков теста, как в кухне появилась Юдит и вырвала меня из раздумий.
— Ага, это так ты относишься к своим гостям? Эгоист несчастный! У самого дорогого для тебя на свете человека сегодня день рождения, а ты торчишь на кухне и забавляешься с лапшой.
И тут же, обхватив мою голову руками, расцеловала меня в лоб. Естественно, все мои подозрения вмиг исчезли, все намерения о предстоявшей великой битве были тут же позабыты и отброшены. Сдавшись, я поднялся и будто заколдованный направился вслед за Юдит к заметно прибавившим в числе гостям — познакомиться с вновь прибывшими и осведомиться об их настроении и самочувствии. А лапшу я все-таки успел в буквальном смысле прикарманить и тайком поигрывал комочком теста, сунув руку в левый карман брюк.
Мы разговорились с одним престарелым врачом, другом отца Юдит по Будапешту. Он практиковал сначала в Италии, а позже в Англии, теперь же жил в Мюнхене с женой, которая была на сорок лет моложе его, и на протяжении последних лет писал мемуары.
— Наши с вами жизни весьма схожи, — торжествующе заверил он меня.
Бедняга, подумалось мне. Он пригласил меня к себе, я пообещал зайти, хотя отлично знал, что по доброй воле ни за что не стану с ним встречаться. В гости меня только силком затащить можно. Моя вторая жена обожала ходить по гостям, в результате чего второй брак превратился в череду визитов в дома импресарио, главных режиссеров, врачей, рядом со мной усаживались супруги крупных промышленников, владельцев конюшен скаковых лошадей, косметологи. Всех этих людей интересовало лишь одно — музыка, сочиненная мною для телевидения, на тех же нечастых концертах, где исполнялись мои произведения, не удосужился побывать никто из них. Вероятнее всего, людей этих интересовали лишь они сами, и все походы в оперу, на фестивали оперной музыки, на бенефисы ужасающих бездарностей из стран третьего мира предпринимались лишь затем, чтобы потом иметь возможность пригласить кого-либо к себе, либо самим оказаться в числе приглашенных к кому-либо. Многие доходили даже до того, что оповещали о своих планах газеты.
Однажды в рубрике светской хроники я натолкнулся на упоминание о том, что я был замечен в гостях у графини Саксонской и Веймарской в компании торговца автомобилями Петера Бруннталера, завсегдатая упомянутой рубрики сплетен. После этого эпизода я наотрез отказался от хождения по гостям, и моя вторая супруга в одиночестве появлялась на коктейлях и приемах, а пару дней спустя я узнавал из газет, в чьей компании она расточала радушие. И поныне ее снимки время от времени мелькают на страницах газет — ее нынешний муж, хирург, специализирующийся на пластических операциях, периодически клонирует зомби, в домах которых вращается моя бывшая. Иногда я ее просто не узнаю, иногда меня все же посещают смутные воспоминания. Да, я был женат на этой женщине. Да, сейчас она замужем за творцом красоты. Да, я вбиваю себе в голову, что некогда был влюблен в нее. Нет, теперь я ее не люблю.
Врач-венгр одарил меня визитной карточкой, которую я тут же похоронил в братской могиле моего бумажника вместе с десятком других. До скорого, сказал я ему, позволив Юдит оттащить меня к другой группке гостей, в центре которой восседал художник-венгр, с 1958 года живущий в Мюнхене и с тех пор возвысившийся до профессора здешней Академии художеств. Я вынужден был сделать над собой усилие и послушать о том, как этот оригинал-гном, воспользовавшись тем, что заполучил меня в качестве аудитории, принялся изрекать к всеобщему сведению прописные истины. Причем его гнусавый голосок был куда неприятнее изрекаемого им. Бедные студенты, невольно прошептал я про себя, всеобщий крах уже недалек.
После столь изнурительного обхода мы снова оказались там, где еще недавно находился мой рабочий кабинет. Эстеты, которых тем временем начали потчевать, с набитыми ртами по инерции продолжали расчленять нерасчленимое, толкуя о современности.
Хватит. Больше здесь оставаться незачем. Сделав вид, что собрался в туалет, я покинул торжество, сбегал наверх за плащом и отправился к Изару, где рассчитывал в этот вечерний час побыть в одиночестве.
10
Дождь разогнал всех по домам. Кроме велосипедиста, во все горло распевавшего нечто, напоминавшее «Болеро» Равеля, на трассе Томаса Манна мне не повстречался никто. Я шел вдоль течения, направляясь к водоподъемной плотине, рассчитывая, если выдержу темп, вернуться через Английский сад часа пару часов спустя.
Река, казалось, радовалась любой капельке влаги сверху, чтобы покрыть многочисленные куски суши, будто экзема усеявшие водную гладь. У ведущего к автобану туннеля валялся велосипед со спущенными шинами. В этом месте всегда пахло прелью, и, пройдя пару десятков метров, я с наслаждением вдохнул свежего воздуха. Сидевший вверху на металлической опоре голубь справил кляксу прямо мне под ноги. Повезло, подумалось мне, один лишний шаг, и тебе нагадили бы прямо на физиономию. При этой мысли я невольно ускорил шаг. Порыв ветра смахнул капли дождя с листвы, и я благодарно подставил им лицо.
С тех пор как в мою жизнь ворвалась Юдит, не важно в статусе подосланной или же случайно повстречавшейся, я впервые отправился на прогулку по этому маршруту. В некотором смысле Юдит, разумеется, разнообразила мое житие, ее молодость раскрыла мне глаза на многие вещи, на которые, не желая отвлекаться попусту, я перестал обращать внимание.
С другой стороны, она здорово стеснила меня, лишив привычной свободы действий и вырвав из дрейфа в океане собственных настроений своими постоянными «отчего» и «почему». Стоило мне захотеть прогуляться в одиночестве, как тут же следовал вопрос: «А что, ты уже успел заработаться?» А если я не удостаивал Юдит ответом, безмолвно накидывая пальто, следовала просьба помочь там-то и там-то, а когда я осведомлялся, нельзя ли это отложить, меня тут же осыпали упреками — мол, ты ужасный эгоист, тебе наплевать на мое образование.
И я снова стягивал пальто, слушал ее игру на виолончели, а если отваживался высказать критические замечания, Юдит со снисходительной улыбкой отвечала, что, мол, я проявляю поразительную для музыканта неосведомленность по части виолончели. Ей было необходимо лишь мое присутствие, я должен был сидеть и внимать, изображая благодарную публику, я обязан был присутствовать везде: за обедом, во время игры на виолончели, среди ее родственников, я должен быть очевидцем приступов ее вдохновения и даже сидеть подле мольберта, когда она рисовала, созерцая процесс ее рождения как художницы, впрочем, по ее же признанию, бесталанной.
Если так пойдет дальше, то недалек день, когда моя работа больше не доставит мне радости. Ибо Юдит не имела ничего против того, что я раз в две недели отправлялся суток на трое в студию за микшерский пульт ради весьма солидного приработка, в то время как все мои попытки заняться серьезной работой неизменно вызывали едкую иронию. Оказывается, она «проработала» мои сочинения, оставив на полях свои непрошеные и самоуверенно-наглые заметки. Тут и там она обнаруживала «творческий подход», иногда удостаивала похвалы тот или иной пассаж, но в целом произведение разругивалось.
Однажды Юдит принесла мне радостную весть о том, что костяк моего музыкального творчества — вокал, посвященный ее матери, хотя и в значительной степени навеян творчеством Ганса Эйслера, если не сказать переписан у него, тем не менее у меня есть все основания гордиться им — он пронизан ароматом той эпохи.
Юдит, вокал этот был написан в Берлине в год, когда ты появилась на свет. Откуда тебе вообще знать, каков он, «аромат той эпохи». Пресловутой эпохе было свойственно все, что угодно, кроме ароматов. Запах, вонь, вкус — но никак уж не аромат. После часа остервенелого и бесплодного спора эпоха, разумеется, все-таки обрела свой аромат, а вокал, который и слушать можно было лишь в исполнении самой Марии, причем именно в той, тогдашней манере, и явился музыкальным воплощением этого аромата. А все оставшееся я без долгих раздумий выбросил на помойку.
Я никогда не утверждал, что выступаю наравне с великими мастерами моего поколения. И всякого рода похвалы всегда досаждали мне, в особенности призы, которыми меня удостаивали, и когда похвалы и сравнения преподносились исключительно из благих побуждений. Когда мне, еще совсем молодому человеку, была вручена Поощрительная премия фестиваля искусств в Регенсбурге, я сидел рядом с лауреатом, удостоенным высшей награды этого фестиваля — тугоухим ваятелем по дереву, почерневшие руки которого будто кроты высовывались из снежно-белых манжет. Он попросил меня нашептать ему на ухо то, что говорил обо мне бургомистр в похвальном слове, а бургомистр на похвалы и комплименты не поскупился — его речь пестрела именами, которые сделали бы честь любому исполнителю или композитору.
— Так вы ученик Шёнберга! — вдруг возопил скульптор в притихшем зале. — Нет-нет, я, конечно, уважаю вас, но я вот как-то обошелся без наставников — кроил свое дерево по собственному усмотрению!
Бургомистр тем временем невозмутимо завершал речь, а молодой скульптор продолжал восторгаться по поводу того, что ему выпало счастье сидеть рядом с учеником самого Шёнберга, пока зал не расхохотался так, как не хохотал, по-видимому, с самого Средневековья.
Однако несмотря на жесткое, порою жестокое самоограничение по части похвал самому себе, если сравнивать упомянутый вокал с другими произведениями, можно заключить, что мне удалось создать нечто, отличное от них, то, чем я действительно мог гордиться. И произведение это нашло бы куда большее число почитателей, не остерегись я оказаться частью небывалого надувательства от имени культуры.
Как раз сегодня я прочел в одной из газет о том, что некий бывший кинорежиссер, взгромоздившись в какой-то конюшне на кучу навоза, вслух зачитал пару абзацев из Ницше. Ну разве можно пройти мимо такого события? Стоило бы мне озвучить пару цитат из «По ту сторону Добра и Зла» бренчанием бубенчиков, тех самых, что висят на шеях у коров, как об этом раструбили бы во всех газетах. Но я не желаю ни восседать на навозных кучах, ни озвучивать выдержки из Ницше коровьими бубенцами. И никогда не желал и не пожелаю.
Свое упрямое «не пожелаю!» я проорал во всю глотку — мне даже почудилось, что серебристая пелена дождя на фоне плотины дрогнула. Женщина, стоявшая в выемке плотины, которую я заметил, как только она изумленно обернулась и безвольно-писклявым голоском, пробиваясь сквозь волглую пелену, поинтересовалась:
— Чего вы не желаете?
— Не желаю больше сочинять музыку на определенных условиях, — ответил я в полном соответствии с истиной.
— Чем же вы в таком случае намерены заниматься? — спросила женщина.
Если бы я знал. Что могло захотеться человеку, ведущему такую жизнь, как я?
— Сочинять музыку, — сказал я в ответ, — сочинять, но на сей раз уже для себя.
— Но ведь никто не сочиняет ее только для себя, — не согласилась моя собеседница.
Насколько ей известно.
— А что вы здесь делаете? — желал знать я.
Она молчала, лишь мрачно уставившись перед собой.
— Пойдемте-ка отсюда, — предложил я, — а то стоите в одиночестве на мосту, да еще в дождь, так недолго и до депрессии, и до прыжка вниз. Здесь уже не раз происходило подобное. Прыгнул себе, и вдребезги — вода ведь не такая уж и мягкая. А на этом свете остаются те, кто тоже не ведает, что творят, поэтому сдуру и женятся или выходят замуж, приобретают профессию, а потом в один прекрасный день тоже умирают. И всегда с фотокарточкой любимого супруга в кармане и последней бумажкой в сотню марок. Почему бы нам с вами не отправиться в «Аумейстер», не выпить там по одной; поговорим, выясним, чего нам с вами ни при каких обстоятельствах не следует допускать, как вы на это смотрите?
Женщина медлила, но потом все же согласилась. Я продолжал трещать без умолку, будто заведенный, хотя вовсе не был уверен в том, что своей говорильней сумею отвратить ее от попытки наложить на себя руки, а не наоборот. В «Аумейстере» нам в первом зале подали по двойной водке, которую мы вынуждены были опрокинуть, даже не присев, прямо у переполненной стойки.
Когда новая знакомая представилась мне, я невольно рассмеялся: Мария. Промокшая до нитки Мария, пудель, которого окатили водой, именно мне выпало убеждать ее, что в жизни непременно сначала надо чего-то очень и очень захотеть, чтобы потом уже ничего не хотелось. За это мы решили выпить еще по одной. Потом я специально проследил, чтобы она вошла в свою квартиру на Кайзерштрассе. Стоя в освещенном окне, Мария помахала мне на прощание. Я был счастлив. Номер ее телефона и адрес я нацарапал на оборотной стороне визитной карточки врача-венгра.
— Мы можем встретиться, если вы пожелаете, — сказала она.
Мы встретимся.
Около одиннадцати я вернулся: переполненный счастьем и насквозь промокший человек вновь окунулся в венгерское гетто. Встречен я был довольно прохладно, стоило мне появиться в дверях, как все умолкли. Парочка гостей с раскрасневшимися физиономиями, уже основательно навеселе, поспешно юркнули в сторону, так что образовался проход, в конце которого застыли Мария и Юдит — мать стояла, возложив руку на плечо невинной дочери. Обе безмолвно и угрюмо взирали на закоренелого грешника.
Воистину находка для иконописца.
11
Были времена, когда считалось хорошим тоном, если молодой музыкант участвовал в фестивалях, проводившихся в государствах Варшавского договора. Такие фестивали способствовали росту взаимопонимания народов. И в самом деле, на этих сборищах всегда можно было встретить массу представителей самых разных наций, шел бойкий обмен адресами, совместно слушали музыку, пили и закусывали до самого рассвета.
Начиная с середины шестидесятых мне нравилось бывать в Варшаве. Польские музыканты оказались куда любознательнее моих западных коллег. И западные коллеги были куда переносимее в Варшаве Или Кракове, нежели в Кёльне или в Донауэшингене. Было и еще кое-что, нечто более важное. Все эти три-четыре дня, на которые мы раз в год приезжали в Варшаву, город принадлежал нам. Нас слушали, нас стремились услышать. Мы просиживали в прокуренных ресторациях до самого закрытия, после этого до зари общались уже на городских площадях. И если в Германии все касавшееся современной музыки звучало вымученно, напыщенно, то в эти польские ночи приобретало совершенно иную окраску: музыка вновь была на переднем плане, и не только она, но и общество.
В Варшаве и Кракове уже никого нельзя было увлечь призывами взорвать к чертям собачьим все оперные театры или же задумками загнать рабочий класс на хоровые спевки ради его объединения. Не желал польский рабочий класс драть горло на политических спевках, и все. Польскому рабочему подавай народную музыку или ходкие шлягеры, лучше всего Мирей Матье заодно с Вики Леандрес, вот им рабочий класс охотно подпевал. К тому времени немецкий рабочий уже был не тот, в отличие от польского, который все еще оставался и на самом деле рабочим — так полагали мои друзья, для которых искусство продолжало существовать. Но даже он, польский рабочий, как ни горько это было сознавать, не рвался к модерну, тем более к музыкальному.
Любопытна была реакция моих друзей на подобное равнодушие. Одним не терпелось всеми правдами и неправдами пробить свою идею социалистической музыкальной жизни, и они рано или поздно оказывались в объятиях спецслужб, которые из кожи лезли вон, чтобы, с одной стороны, укрепить их в своих намерениях, а с другой — заставить как можно быстрее убраться из страны подобру-поздорову еще до того, как семена их идеологической помешанности начнут давать всходы; другие, напротив, тем или иным способом приспосабливались к существовавшим условиям.
Один из подтипов подобного конформизма: они превращались в мечтателей, безоговорочно принимавших как музыкальный авангард, так и социализм, но первое всегда отдельно от второго, как и поклонники первого отделялись от поклонников второго — разве допустимо замарать белоснежную манишку равноудаленности, примкнув к одной из сторон. Другой подтип: его представители презирали как капиталистический музыкальный мир, так и социалистический, что, естественно, опять же не могло не заинтересовать спецслужбы. Один западно-немецкий музыкант, которого пригласили то ли в Краков, то ли в Варшаву, желая услышать его музыку, и который и сам отказывался исполнять ее, и другим не давал, тут же угодил в неблагонадежные.
Случалось так, что во время наших разгоряченных и непринужденных дискуссий за столом оказывался некий весьма внимательный слушатель, некто, о чьей принадлежности к спецслужбам мы не знали. Иногда нашим дискуссиям даровал бессмертие кто-нибудь из обожателей ГДР, он мог даже явиться сюда с Запада, будучи из тех, кто не гнушается «подработать» на Востоке и на благо Востока. И каждый раз, когда такой типаж отсутствовал на одной из наших последующих встреч в Будапеште, Праге или Восточном Берлине, становилось ясно, кто он и откуда, но поскольку среди присутствующих его не было, мы и впредь не проявляли особой сдержанности во время обсуждений.
Больше всего мне нравилось бывать в Будапеште. Там общение проходило в менее формальной обстановке, нежели в других городах и столицах восточного блока. Если западные неосхоласты от музыки пытались развивать там свои теории, последние воспринимались венграми с язвительной иронией. В особенности доставалось французским коллегам. Сколько бы они ни пыжились приспособить электронную музыку к диалектическому материализму, их попытки вызывали насмешку. Вернее, искренний смех. Ну как можно быть такими дураками, в конце концов! Это что же выходит — буржуазное общество, свет в окне для большинства из моих венгерских друзей, должно провалиться в тартарары ради того, чтобы буржуазная музыка развернула свой революционный потенциал?
Разумеется, мои венгерские друзья большей частью были выходцами если уж не из дворян, то из крупной буржуазии, в пользу этого говорили и их вежливость, и манеры. Тип заговорщика отсутствовал, как и тип комиссара от музыки, так что особой остроты дискуссии не приобретали, более всего наши встречи напоминали репетиции. Мы репетировали свою жизнь. В этих произведениях французам отводилась роль просвещенных негодяев, немцам — придурковатых революционеров, а оставшиеся довольствовались ролями статистов. Что же касалось венгров, те брали на себя музыкальную часть.
Среди венгерских композиторов был один, который меня очень заинтересовал. Мы познакомились с ним в Лейпциге у специалиста по истории музыки, автора официозного труда об Эйслере, явно обладавшем особым магнетизмом. Каждый желавший хоть что-то узнать об Эйслере, рано или поздно забредал в заставленную книгами пещеру этого Гельмута, человечка карликового роста, который каждый раз, если дискуссия затягивалась, вскакивал, мчался к роялю и каркающим голоском затягивал какую-нибудь песню Эйслера. Он и сам был Эйслером. Поскольку всем без исключения композиторам-революционерам так или иначе приходилось иметь дело с Эйслером, ибо кроме музыкального он сподобился оставить потомкам и кое-какое литературное наследие, где обсуждался столь пикантный вопрос, как передача опыта и знаний, молодой венгерский композитор не мог обойти стороной обиталище Гельмута.
Сдружились мы мгновенно. Конечно же, он великолепно говорил по-немецки. Но не оттого, что почти все венгерские композиторы владеют в том числе и немецким, а оттого, что происходил он из немецко-еврейской семьи, которая в составе краткого курса преподала единственному оставшемуся в живых отпрыску все, что наш брат вынужден был учить многие годы, а иногда и целую жизнь, причем порой без толку. Он все успел прочесть и запомнить. Пушкина и Рильке, историю философии, историю музыки, естественнонаучные труды и трактаты по оккультизму, Маркса и Фрейда. Большую часть написанного на тему игры на рояле он также держал в голове, причем не только самых известных авторов. И так как венгр не отличался способностью остановиться во время пития, то нередко пребывал в привычном для себя состоянии хмельной веселости, которая, впрочем, отнюдь не шла ему. Этот долговязый, худой, как скелет, человек мог часами сидеть за столом, не вымолвив ни слова. Окруженный ореолом особой меланхолии и отрешенности, он, дымя сигаретой, застывал в неподвижности, уставившись в одну точку, время от времени напевая про себя пару тактов, пришедших ему на память как раз в тот момент, вздыхал, массировал бурые от никотина пальцы — и молчал. Он молчал до тех пор, пока кто-нибудь, тронув его за локоть, не спрашивал о чем-либо. Венгр с доброжелательной готовностью давал справку на любую тему — о Шуберте, о Талмуде, об истории Венгрии. Завершив свой краткий доклад, он снова впадал в безмолвие, кое-кому представлявшееся признаком застенчивости, другим — недостатком уверенности в себе, а большинству — высокомерием специфической, неагрессивной разновидности.
Звали его Янош. В молодости он вступил в партию, позже оставил ее ряды, после этого расстался и с заветным местом доцента консерватории, а от предложенного ему поста музыкального редактора и вовсе отказался. К тридцати годам Янош успел написать довольно много, куда больше любого из нас, в подавляющем большинстве это были небольшие произведения, которые охотно транслировались западными радиостанциями. С них он и жил. Причем жил каким-то образом куда лучше своих венгерских коллег и ровесников — те, зарабатывая не бог весть сколько, корчили из себя толстосумов. А поскольку у него и с визами затруднений не возникало, Янош был частым гостем на крупных фестивалях современной музыки, в том числе и на Западе.
Это был непревзойденный слушатель, который усаживался за стол и молчал до тех пор, пока его не спросят. Естественно, такая модель поведения кого угодно насторожила бы, и не приходилось удивляться, что в конце концов и его записали в стукачи, предрекая нам участь в один прекрасный день оказаться отданными на заклание. Одним из ярых проповедников этой точки зрения был немецкий теоретик, товарищ-коммунист из Мюнхена, успевший утомить всех участников семинара дотошностью, с коей вскрывал суть классовых сражений в истории музыки, не скупясь при этом на антисемитские высказывания, которые стали притчей во языцех. По его милости этот деликатный молодой венгр вдруг превратился в молчуна-шпиона, который, сидя за нашим столом, все мотал на ус, чтобы тут же обратить против нас свеженькие факты.
Мне же при этом выпала роль разоблачить клеветника как агента «штази», что для меня в общем-то было не так уж и обременительно вследствие стойкой неприязни к этому бюрократическому типу людей. Но это никак не обелило и Яноша, не сняло с него клеймо недоверия, благополучно существующее и по сей день.
Что касается меня, то от общения с Яношем я извлек несомненную пользу. Так как он иногда неделями жил у меня, я в полной мере мог снять пенку с его щедрости и безыскусственности. Он помогал мне во всем. Если бы не он, долгий и мучительный процесс освобождения от смирительной рубашки материалистической философии оказался бы еще мучительнее.
Семью его матери-немки уничтожили в немецком концлагере, отца, известного коммуниста, тоже сгноили в концлагере, но уже на «родине мирового пролетариата». После него осталось тридцать пять писем, антология голода и допросов, авитаминоза и революционного пыла, свидетельство умерщвления его индивидуальности, где помимо депрессии, меланхолии, страхов и томления описана и дружба с двумя немецкими товарищами, медленно угасшими на его глазах. Янош знал эти письма наизусть слово в слово, и стоило кому-нибудь из его коллег по искусству, коммунистов из Кёльна, Парижа или Милана, попытаться обратить его в свою веру, как Янош тут же принимался бормотать очередной отрывок из писем отца. И моментально раскусывал любого, кто еще даже рта раскрыть не успел для агитации за вступление в ряды компартии.
Именно Янош при любой возможности тянул меня в Будапешт. Именно благодаря ему я и познакомился с Марией.
12
Когда неделю спустя после приезда домой вдруг обнаруживаешь выпавший из груды одежды клочок бумаги с нацарапанной на нем фамилией музыканта или композитора, нередко с трудом вспоминаешь, о ком же идет речь, и с трудом связываешь имя с внешностью. Приходилось встречаться не только с членами словацкого фольклорного коллектива, джазистами из Словении, скрипачами из России и флейтистками из Азербайджана, но и с молодыми коммунистически настроенными музыкантами Кубы, Парижа или Берега Слоновой Кости. У всех у них были имена, адреса, вопросы и надежды. И после того как ты успел оправиться от бесчисленных разговоров и неумеренных возлияний — кстати сказать, именно последние и помогали выдерживать эти ниагарские водопады словопрений, — и, усевшись за письменный стол, собрался наконец поработать на совесть, вот тут и начинали прибывать первые письма, напоминавшие о тех самых беседах и выданных обещаниях. Так что предстояло бегать по магазинам в поисках нот, партитур, редких грампластинок и книг, чтобы затем рассылать во все концы света, а когда сей утомительный, разорительный для кошелька и к тому же отвлекающий от выполнения основной задачи труд был позади, на горизонте уже появлялись очертания очередного грядущего фестиваля — пражского, варшавского или будапештского.
Часто в этой связи мне даже приходила в голову версия о некоем заговоре консерваторов против современной музыки. Ибо что взять с нас, западников, спецслужбам? Хоть нашу музыку время от времени и исполняли, хоть и вручали нам призы, но всерьез-то ее никто не принимал, так что до нас доходили лишь отзвуки великих событий в наших странах, да и то через газеты. Кому взбредет в голову приглашать к себе какого-то там композитора? Любой писатель, пусть даже автор кратеньких зарисовок расплывавшихся в знойном мареве пейзажей, мог с полным основанием рассчитывать на то, что его изберут в качестве эксперта по животрепещущим мировым проблемам, любой драматург или режиссер имел возможность изложить свое политическое кредо перед премьерой выпестованной им «Эмилии Галотти», журналисты и академики также имели массу возможностей заявить о своих пристрастиях, и в эру всеобщего отчуждения стало своего рода традицией, что политикам дозволялось говорить именно о том, в чем они менее всего смыслили.
Но к чему втягивать в обсуждение важных общественных проблем музыканта, который строчит ноты для пьес с арфой, ударными или варганом? Нас бы не поняли! Те правила введения в заблуждение, которые мы, композиторы, используем при написании своих музыкальных произведений, доступны пониманию лишь узкого круга избранных. Ничем не стесняемая гибкость звучания — загадка для большинства слушателей. Как же вам это удалось? — таков всегдашний вопрос, задаваемый нам. На Востоке все, конечно же, по-другому, там любой гобоист — носитель важных госсекретов, там каждая альтистка в курсе того, где у селедки хвост.
Поскольку от нас, практиков, пользы все равно никакой, постепенно пришли к мысли о необходимости приглашать хотя бы теоретиков, музыкальных философов и критиков, людей образованных — среди ночи подними, и враз тебе доклад на любую тему выдадут. Именно им выдали лицензию на разъяснение целей и задач нашей работы. Именно они оказались самым лакомым куском для спецслужб, вынужденных мобилизовать все свои интеллектуальные сливки, дабы не выглядеть смешнее некуда. И вот функционер компартии Франции, сурово наморщив лоб, втолковывает сотруднику польской разведки о премудростях «musique concrete», а в двух шагах от него, за соседним столиком молодой и даровитый редактор одной весьма серьезной газеты ФРГ поясняет, как именно следует понимать лозунг «Взорвать все оперные театры!».
Поскольку все чаще и чаще на фестивали стали приглашать немузыкантов, спецслужбы, коим отчаянно не хватало специалистов в области музыки, оказались не в состоянии опекать еще и нас, что открывало нам, музыкантам, возможности для относительно беспрепятственного общения. А то не избежать и нам вручений приветственных адресов, тостов за мир и дружбу между народами, экскурсий на музыкальные объекты различной величины и значимости, выслушиваний длиннейших и нуднейших речей местных сочинителей-патриархов.
Я сам был свидетелем тому, как однажды в Братиславе один из самых известных левых писателей на музыкальную тематику, профессор то ли из Мюнстера, то ли из Оснабрюка, поднимал и поднимал бокал в честь каждой из прибывших делегаций, пока к концу торжества его не отвезли на «скорой» в больницу, где врачи четверо суток вытаскивали его из могилы. И вытащили — в день отъезда профессор снова был как огурчик. А по пути в Мюнхен я раз в полчаса таскал его в туалет проблеваться — даже символического количества спиртного, принятого им на грудь во время прощания, с избытком хватило, чтобы превратить его в лепечущее и обвешанное слюной создание. Я очень многим обязан ему, так как по прибытии в родные пенаты профессор, протрезвев, накатал исступленно-восторженную статью в одну из ведущих немецких еженедельных газет, где возносил до небес и фестиваль, и представленный на нем музыкальный материал, равно как и высочайший уровень участников фестиваля — «и это в нашу эпоху всеобщего одичания, деградации и окостенения музыкальной культуры», — выставив меня неугасимой звездой братиславского музыкального форума, что обеспечило мне максимальный размер музыкальной стипендии, врученной лично министром культуры федеральной земли Бавария. Музыканты с чувством юмора — раритетный вид — тоже не остались внакладе, поскольку я был описан не только как профессионал-виртуоз, но и как тот, кто готов, если придет пора, исполнить высший долг перед искусством. Его бы слова да…
Я пребывал в смятении, когда мне пришло приглашение из Будапешта. С одной стороны, я был весь в работе и не имел ни малейших намерений прерывать ее, с другой — меня отчаянно привлекала страна, в ту пору считавшаяся символом прорыва. Вместе с тем в Мюнхене было в ту пору что-то неуступчиво-провинциальное, и я в конце концов, несмотря на отвращение к всякого рода поездкам, решил сняться с места. Может быть, меня подтолкнуло некое предчувствие не противиться приглашению, ощущение, что меня в этом городе что-то ожидает, стоит мне лишь протянуть руку.
Вот уже на протяжении целого лета я пытался побороть в себе непокой, с головой уходя в работу, новости из Берлина и Франкфурта бесили меня — пресыщение искусством с исчезновением политического давления начинало показывать свою истинную личину. Современное искусство уподобилось игрушке, ему уже теперь ни за что не избавиться от политически ангажированных нападок. Предметом особых пересудов стала современная музыка, смелость техники которой оставалась недоступной всем, кто бы ни отважился слушать нас, ибо ее лишили права решающего голоса в совете по выработке окончательных критериев хорошего вкуса.
Искусство наше нельзя было назвать ни декоративным, ни синтетическим. И уж явно не изящным. Я надеялся, что в Будапеште все окажется по-другому. И уже очень скоро ни о чем, кроме Будапешта, думать не мог. Будапешт, он сплотит последних серьезных молодых композиторов, я представлял себе это место неким чудодейственным целебным средством, великим образцом, первородной клеткой, дающей жизнь новому.
И я отправился — через Вену, где холодно и без любви было исполнено одно из моих произведений, что лишь распалило мои мечтания, связанные с венгерской столицей, — в Будапешт. Будто ради того, чтобы натянуть мои нервы до предела, зарядил дождь и не переставал до самого Будапешта, причем венгерский дождик оказался куда неприятнее австрийского, мокрее, непреходящее, если подобный термин здесь уместен, этот дождь пробирал до самых костей, от него нельзя было скрыться ни в каком закоулке. А поскольку небо представляло собой монолитный серый блок, лишенный прогалин, вскоре уже невозможно было понять, откуда изливался этот дождь, потому как изливался он отовсюду: и сверху, и снизу. Вот на фоне такого апокалиптического сценария я и добрался до Будапешта, то есть увидел здания, которые встретивший меня на вокзале молодой человек объявил будапештскими.
Я смотрел на машины, пробиравшиеся сквозь серую дождевую пелену, тут же прибивавшую выхлопные газы к асфальту, будто выброс отработанных газов был объявлен здесь преступлением, даже дым из труб домов шел здесь не к небу, а куда-то еще. Глядел на людей, неподвижно и враждебно застывших у края проезжей части, вероятно, в ожидании автобуса. При всем желании нельзя было вообразить себе, что этот самый автобус когда-нибудь увезет их. Но стояние задавалось правилами иллюзорного обмана. Воля к сопротивлению, к желанию сломать, одолеть окаянный уклад жизни парализовывалась. Когда-нибудь они просто обратятся в серую безликую массу, став ее частью, частью дождя.
Молодой студент консерватории, звали его Миклош, доставил меня туда, где мне предстояло жить в Будапеште. Временное мое жилище представляло собой нечто похожее на казарму, расположенную, по его словам, в центральной части города, где по традиции размещали всех иностранных гостей. Выходя из машины, я заметил глубокие щербины в стене дома, будто от ударов чем-то тяжелым. Внутри, в вестибюле, стал биваком комитет по встрече прибывших, члены его сердечно приветствовали гостей-музыкантов, которые, пробежав пару метров от машин до подъезда, успевали промокнуть до нитки.
От меня потребовали сдать паспорт и заполнить два каких-то бланка, затем поднесли одну из тех венгерских водок, которые ни с какими другими не спутаешь и которые способны привести в чувство любого, даже приговоренного к смертной казни. Они — лучшее средство от депрессии: выпив немного, ты готов пробежать марафон, влив в себя побольше, ты чувствуешь, как сорванная с тебя центрифугой жития плоть снова возвращается, компактно прирастая к костям. А каковы эти водки на вкус! В одной их крохотной капле воплощены вся сласть и горечь, накопленные за всю историю перегонки. Стоило мне снова поднять опустевшую рюмку, как пожилая угрюмая на вид дама незамедлительно наполнила ее. Стало быть, я в Будапеште, и, похоже, город этот изменит мою жизнь.
Окна моей комнаты выходили якобы на улицу. Оказалось, что мне предстояло делить ее с каким-то итальянцем, тромбонистом, но он, слава Богу, отказался. И на самом деле в этой клетушке стояли две кровати, почти без остатка занимавшие считанные квадратные метры. Для писания был определен откидной столик на стене, который требовалось опустить, в противном случае до кровати не доберешься. Зато можно было строчить прямо в постели. Я никогда не считал себя учеником Тёрлесса. Загадочная страна Венгрия!
Вечером после официального церемониала приветствия предстояло выслушать доклад литературоведа из Германии на тему «Высокие тона в современной немецкой лирике». Из чувства солидарности с докладчиком, Гертом Траресом, преподавателем немецкой литературы в торговом колледже городка Клаусталь-Целлерфельд — имя это до сих пор мне ни прочесть где-либо, ни слышать не приходилось, — я в жуткий ливень, исключавший даже малейшую возможность вступления в контакт с будапештцами, отправился к зданию философского факультета, где в большом зале должно было состояться мероприятие. Для гостей музыкального фестиваля были зарезервированы первые ряды, студенты располагались позади. В силу того, что опоздал, я вынужден был протискиваться между двумя чернокожими музыкантами-африканцами, занявшими добрую треть предназначавшегося мне пространства. Оба явно не были настроены потесниться.
Напялив наушники, африканцы собрались слушать выкладки профессора Трареса в английском переводе. А профессор тут же приступил к чтению лекции, будто только меня и дожидался. Начал он с перечисления нескольких имен, провинившихся в злоупотреблении высокими тонами. Так как аудитории имена обвиняемых ничего не говорили, уже с первых минут зал оживился, и поскольку профессор Трарес, по-видимому, куда-то задевал бумажку с обоснованиями выдвинутых обвинений, он решил повторно зачитать фамилии. Это вызвало столь непосредственную смеховую реакцию обеих африканцев, что в конце концов рассмешило и меня и, в свою очередь, стало заразительным примером для задних рядов. Можно было сказать, что мы послужили предтечей создания некоего островка жизнерадостно настроенных слушателей, похохатыванием встречавших каждую новую фамилию, произносимую лектором. Тишина вернулась ненадолго и лишь после того как докладчик зачитал несколько стихотворений, принадлежавших перу сторонников высоких тонов.
Эту краткую паузу я использовал для борьбы за территорию, сантиметр за сантиметром пытаясь оттеснить соседей. Публика редела, первыми пташками были французы, покинувшие зал, сокрушенно качая головами, к ним постепенно присоединились и другие представители западной части Европы. Азиаты, стянув наушники, клевали носом — сказывались разница часовых поясов и долгий перелет. Мой сосед справа, притомленный значимостью высоких тонов в немецкой поэзии, тяжко вздохнув, совершенно непринужденно притулился головой к моему плечу и засопел. Я спросил себя, неужели федеральное правительство экономит бюджетные средства, посылая на публику подобную профессуру — трудно представить, чтобы вот после такой лекции кто-то рискнул бы поступать в институт Гёте изучать немецкий язык, однако отточить мысль мне помешали — профессор Трарес провозгласил начало второго этапа изложения, перейдя к перечислению тех, кто не запятнал себя злоупотреблением высокими тонами. Этот этап оказался непосильным даже для фанатиков немецкого языка и немецкоязычной литературы. Часть из них, невзирая на вялые протесты, ушла из зала — Трарес как раз изгонял из немецкой литературы Пауля Селана и Ингеборг Бахман.
Докладчик переходил к кульминации повествования, приведя в качестве блестящего контрпримера поэта Клауса Коттвица. К несчастью, сей поэт пару лет назад отправился к праотцам по причине опоя, так и не завершив своих столь многообещающих произведений, к тому же все его стихотворения — а их насчитывалось двенадцать штук — представляли довольно разрозненное хозяйство, однако это не помешало профессору Траресу с плохо скрытым удовлетворением отметить, что, дескать, даже в результате скрупулезнейшего анализа в них не присутствует даже следа высоких тонов — ни единого высокого тона.
Поздний Гёте, Гейне, Коттвиц — именно так должна была представлять себе остававшаяся в зале будапештского философского факультета жалкая горстка слушателей развитие современной немецкой поэзии. Когда Траресу взбрело в голову зачитать одно из двенадцати имевшихся в наличии стихотворений Коттвица из какого-то растрепанного журнала, со своих мест поднялись последние из могикан, включая моего соседа-африканца, и я смог воочию убедиться в величественности его седалища.
— Коттвиц, Коттвиц! — громогласно произнес он, посмеиваясь, тряхнул могучей головой и исчез за дверями, откуда донесся мощный взрыв хохота.
Я устыдился, беспокойно заерзал на стуле, ощущая поднимающиеся во мне гнев и раздражение, но решил досидеть до конца, до тех пор, пока профессор Трарес, воздев очи горе и сняв очки, не поставил вопрос: а что же остается?
— Коттвиц, — звучно подсказал ему женский голос из задних рядов, грудное контральто принадлежало молодой женщине, венгерке, в числе последних решившей покинуть этот пантеон ужаса.
В первом ряду еще оставались двое молодых композиторов из ГДР, жаждавших обсудить с профессором возрастание тенденции к использованию высоких тонов. Откуда-то из глубины зала возник местный представитель в явном намерении положить конец безобразию. Больше оставаться здесь смысла не было.
Я с великим трудом пробрался через толпу, вовсю потешавшуюся над профессором. Траресом и его теорией заговора поэзии высоких тонов, жертвой которого стало западногерманское общество. Каждый, кто желал чокнуться бокалом или рюмкой с коллегой, восклицал: «Коттвиц! Коттвиц!» — Трарес на своей лекции ввел в обиход новый тост. Что ж, хорошо, что хоть таким способом было увековечено имя бедняги-поэта и безвинной жертвы пития.
Не имея ни малейшего желания извиняться за патетический бред своего соотечественника, я с поникшей головой проследовал через развеселившуюся людскую массу на свежий воздух. Хотя дождь чуть перестал, все вокруг казалось волглым. Перед зданием застыли в ожидании три автобуса с матово светившимися окнами — доставить участников назад в казарму, а я, сверившись с небольшой картой, обнаруженной среди врученных мне бумаг, решил самостоятельно отыскать путь в наше временное пристанище. В нерешительности оглядевшись, не зная, куда повернуть, я посмотрел направо, затем налево, потом на план. И тут рядом со мной возникла женщина, сидевшая в зале позади меня.
— Пойдемте-ка, у меня с собой зонт, — сказала она, тут же взяла меня под руку и потащила вниз по наружной лестнице к улице.
Мы и парой слов не перебросились. Вот здесь жил когда-то Бабиц, или: сюда заходил Барток, а вон там наверху, где горит свет, живет Лукач. Поскольку мы то и дело подходили к Дунаю и перебирались на другой берег, у меня создавалось впечатление, что мы ходим по кругу.
На одном из мостов она вдруг остановилась, посмотрела на меня и выложила:
— Надо найти какой-нибудь ресторан или пойти спать, мне необходимо к завтрашнему дню поберечь горло, иначе высоких нот не взять.
Разумеется, я отнюдь не возражал против какого-нибудь уютного ресторанчика — перспектива тащиться в одиночку в казарму вызывала ужас. И на каких-то будапештских задворках мы отыскали винный погребок, своего рода прибежище богемы, где она выпила чаю, я пива и рюмку водки и где мы смогли разглядеть друг друга.
— Не смотрите на меня так, — попросила она, — я от этого доклада на целую вечность постарела.
Однако я продолжал смотреть ей прямо в лицо, словно пытаясь запечатлеть его в памяти на века.
— Меня зовут Мария Зухач, и мне предстоит завтра исполнять ваши вокальные пьесы на стихи Мандельштама, — вдруг выпалила она.
— Ах, что вы, они и есть все то, что я сподобился сочинить.
И даже это сознательное принижение отчего-то показалось мне досадным и неуместным. Поздно ночью, после того как она выложила передо мной всю свою жизнь, а я ей половину своей, она отвезла меня на такси в казарму.
— До завтра, — сказала она на прощание.
— До завтра, — ответил я.
В мрачном холле несколько человек засиделись за бутылкой вина, среди них я заметил своего африканского приятеля, товарища по несчастью, пережитому в лекционном зале. Тот обеими руками помахал мне, выкрикнув:
— Коттвиц! Коттвиц!
— Коттвиц! — выкрикнул и я в ответ, опрометью бросившись вверх по лестнице, будто за мной гналась толпа убийц.
Все эти четыре дня мы с Марией были неразлучны, если не считать кратких ночей. Так как она жила вместе с родителями в большой семье, мы хоть и на рассвете, но все же вынуждены были расставаться. Два вечера Мария выступала в опере статисткой, вечером после нашего знакомства она исполняла мои вокалы. Я сидел в последнем ряду, пытаясь побороть слезы, поскольку внушил себе, что мои вокалы на стихи Мандельштама (в переводе Селана) никогда еще не звучали прекраснее. Затем директор театра пригласил меня на сцену пожинать овации, что дало возможность прилюдно заключить Марию в объятия и расцеловать ее. Трогательный был момент, как впоследствии признался мне африканец, пожаловавший в оперу во всем великолепии своего национального наряда, нет, очень, очень трогательный.
На субботу и воскресенье Мария умудрилась снять квартирку, в которой мы наедине отпраздновали совместный триумф, загодя объявленный кульминационным моментом фестиваля. Квартира принадлежала какому-то поэту, хорошему знакомому Марии и лауреату национальной премии.
— Он наш венгерский Коттвиц, — так охарактеризовала она его, — он написал всего одно, но эпохальное произведение.
Мария снабдила меня целой связкой ключей, присовокупив к ним точнейшую инструкцию по отпиранию многочисленных дверей и дверец. Улица, на которой располагалось жилище Пала Фридриха, так, оказывается, звали сочинителя панегириков из Паннонии, спускалась к Дунаю. Если как следует высунуться из окна, можно даже узреть, что творится в спальне Лукача, известила меня Мария, но что касалось меня, мне в эти выходные менее всего хотелось высовываться из окон. Мне хотелось жениться на Марии.
13
Чтобы видеться без помех, мы уговорились встречаться в Национальном музее — в его полутемных залах можно было часами беседовать перед полотнами художников. Уроки с экскурсионным уклоном в ту пору еще не добрались до Будапешта, и казалось, все картины погружены в летаргический сон, прервать который не могли даже редкие посетители. Многие из экспонатов подверглись реставрации, однако, несмотря на это, можно было беспрепятственно приближаться к ним, не опасаясь окрика смотрителя, тоже в полудреме восседавшего на низеньком стульчике. Ни о каких кражах предметов искусства в ту пору мы не слышали.
Стены музея были увешаны крохотными картинами, к любой из них можно было приблизиться вплотную и изучать творение сколь угодно долго. В полдень, незадолго до обеденного перерыва, и вечером, перед закрытием, эти погруженные в летаргию залы слегка оживлялись: смотрители пробуждались от дремы, поднимались со своих стульчиков и шаркающей походкой обходили залы в поисках зазевавшихся экскурсантов, которые не в силах были оторваться от созерцания фламандской роскоши натюрмортов — голубей, окороков, фазанов, дичи, сыров и иных яств, едва ли доступных в этом городе. Полная величавого достоинства безотрадность окружающей обстановки, в которой произведения искусства соперничали друг с другом по части изобразительной мощи, и составляла декорацию и сцену, где шепотом произносились наши с Марией диалоги.
— Давай пойдем в картинную галерею, — вполголоса бросала мне Мария в коридоре консерватории, когда нас непробиваемой стеной обступили музыканты из Румынии и Болгарии, будто окутанные горестью, развеять которую не в силах были ни мужество, ни ненависть, одно лишь совершенство.
Каждый из этих переростков, одетых в плохо сидящие костюмы, грезил лишь об одном — о призе, открывавшем дорогу на подмостки Варшавы, а потом и Нью-Йорка, о жизни в хоромах на Парк-авеню, стены которых сплошь увешаны контрактами фирм грамзаписи. Нам же, пришельцам с Запада, вероятно, отводилась роль игольного ушка, сквозь которое брезжила земля обетованная, именно нам, тем, кто явился в Будапешт примирять музыку с обществом. Мы должны были помогать. А мы не могли ничего, разве что рассказать этим коллегам с покрасневшими глазами и девицам в шуршащих платьях из тафты, почему «исчезновение субстанции, задача которой слить ноты воедино», — необходимая часть развития.
И, конечно же, находился тот, кто безмолвно стоял и слушал, не встревая в общий разговор, играя роль всеслышащего уха, по крупицам собирающего всю эту безнадегу, выливавшуюся в конце концов в триумф партитуры, распределявшего ее по значимости, чтобы передать вышестоящей инстанции, уху повыше, работавшему на некую костлявую руку, ставившую соответствующий штемпель в загранпаспорта.
— Давай пойдем в картинную галерею, — шептала мне Мария, и я тут же, приведя какую-то несуразную отговорку, улетучивался из этого здания и кружным — кружнее некуда — путем добирался до музея.
Тот день сохранился у меня в памяти как знойный. Люди жались к стенам домов, стенам, исцарапанным следами пуль то ли минувшей войны, то ли восстания, либо шныряли в поисках прохлады в тень деревьев. У киосков, где продавались прохладительные напитки, образовались длиннющие очереди — вспотевшая детвора в сопровождении разомлевших от жары матерей, солдаты с фуражками под мышкой, глазевшие на проходящих женщин.
Добираться до музея нужно было на двух трамваях, так что я решил пойти пешком. На одной из малолюдных улочек, путь по которой был короче, я увидел неподалеку пожилого человека, прислонившегося к дереву. Старик медленно опускался на землю. Быстро подбежав к нему, я предложил помощь — я видел, что самому ему ни за что не подняться с покрытой пылью мостовой, на которой, задыхаясь, сидел старик.
— Где вы живете? — осведомился я, глядя прямо в его широко раскрытые глаза.
Пожилой человек, положив руку мне на плечо, к моему удивлению, ответил на безупречном немецком, указав на двери в доме напротив. Подхватив его на руки, я направился к указанной двери, после чего вынул по его просьбе ключ из кармана его пиджака и отпер дверь. Когда мы входили в прохладный подъезд, я краем глаза заметил Марию, стоявшую на улице неподалеку, однако никак не мог подать ей сигнал о своем местонахождении — старик, кряхтя, тут же потянул руку и захлопнул за нами дверь подъезда. Жил он на третьем этаже, лифт не работал. Он с незапамятных времен не работает, пояснил старик. Я каким-то образом ухитрялся подниматься по лестнице с ним на руках. Слава Богу, что хоть не тучный. Тогда я уже вряд ли отпер бы дверь — еще бы, с такой ношей. Перебрав с добрый десяток ключей, я все же заставил сложный запор поддаться.
А потом все предельно упростилось. Когда я возложил престарелого хозяина квартиры на софу, притащил лекарства из спальни, приготовил чай, жизнь снова вернулась к нему, и когда я сумел убедить его, что он, отбросив в сторону всякого рода угрызения совести и противоречия, вполне может рассчитывать на помощь незнакомца, старик сразу же принялся повествовать о своей жизни. Хоть он и знал многих, сам же известности так и не сумел добиться. И слава Богу, как он выразился, иначе не жить бы ему на этом свете. Выставлять себя на всеобщее обозрение ему мешала трусость, хотя он с младых ногтей был членом партии, вначале в Вене, а потом и в Берлине. С Артуром Кёстлером, с которым старик не так давно встречался, они вместе участвовали в гражданской войне в Испании. Он попросил меня взять с письменного стола книгу. «Дорогому Андрашу на память о гражд. войне в Испании».
О Лукаче он был нелестного мнения (отвратительный характер и мерзкий предатель), рассказал он мне и о показательных процессах, и о Бела Балаше, с которым в 1925 году они вместе написали сценарий фильма, который хоть и был продан, но так и не был снят, об Эгоне Эрвине Кише и Гансе Эйслере, хрипловатому и оптимистичному голосу которого он даже попытался подражать — при этом старик закашлялся, да так, что я, будучи его временным эскулапом, срочно потребовал сделать паузу в повествовании, однако старик лишь махнул рукой. Было видно, что в течение немалого времени он был обречен на молчание. И я видел, что костлявый старичок обрел во мне аудиторию, которой он вновь мог бы выложить свою биографию, предостеречь меня от нагромождения начатых и незавершенных дел, избавиться от которых потом не так-то просто. Все, по его мнению, имело политическую мотивацию — и ничто так и не доведено до конца. Жизнь, сплошь состоявшая из планов, идей социализма времен его юности, начиная от надежд на то, что в Америке фильм по его сценарию позволит ему встать на ноги и кончая деятельностью на венгерском радио, впрочем насчитывавшей всего три месяца. Тут нужна не одна жизнь, а целых сто, чтобы совершить нечто — сто к одному.
Я сидел в кресле, внимая ему. Открыл окно, чтобы впустить в затхлую комнату хоть чуть-чуть воздуха. Хоть на небе и были облака, ничто не предвещало грозы, которая избавила бы нас от зноя. Пока престарелый господин Андраш темпераментно излагал мне теории заката мира, на улице заметно прояснилось, и когда мне было дозволено подать суп, а себе бутылочку вина, жаркое повествование биографии охладилось вечерней прохладой.
— Всю мою жизнь я был вынужден общаться с мошенниками, переживать падения, унижения, — сообщил господин Андраш, — и сейчас мне ничего уже не остается, как убивать время, перечитывая мною же написанные книги. У власти сейчас безголовые, ленивые, бессердечнейшие и эгоистичные типы, безалаберная свора, спихнувшая историю на порочный путь.
Когда в голосе господина Андраша зазвучали сипловатые нотки, я стал прощаться. И тут мне вспомнилась Мария — она ведь уже не один час прождала меня у музея.
— Мне надо идти, — сказал я, — меня ждут, хотя вечерний концерт уже давно начался.
Я помог старику подняться на ноги, проводить меня до дверей с тем, чтобы он мог накрепко запереть их, и спросил его, что он думает о семье Марии.
Старик невольно присел, так огорошил его мой вопрос и так труден оказался для него ответ.
— Будьте осторожны, — дрожащим голосом выдавил он, — вся эта семейка в самых добрых отношениях с секретной службой. И если хотите избавить ее от несчастья, вам придется не отходить от нее.
Проговорив эту шифрованную фразу, господин Андраш попрощался со мной. Она продолжала звучать у меня в ушах, когда я пробирался по остывавшей мостовой будапештских улочек. Она преследовала меня, когда я входил в наше общежитие, она не отпускала меня и после того, как с переданным мне вахтершей посланием Марии в руках я тщетно пытался уснуть. Лишь на рассвете сон избавил меня от нее.
14
Я помнил, что улица, где располагался дом и квартира Пала Фридриха, идет от Дуная, то есть лежит буквально в паре шагов от дома, где проживал Лукач. Вот только отыскать ее мне никак не удавалось. Уже в третий раз после двух неудачных попыток я пытался разобраться в лабиринте улочек, каждый раз оказываясь на берегу Дуная, укутанный в плащ и преследуемый отнюдь не радостными мыслями о грядущем, которые изгонял, прислонившись к серому парапету набережной.
Я уже стал подумывать, уж не утопиться ли мне. И по мере того как перспектива отыскания нужной улицы таяла, вся моя затея, которую я еще утром возвысил в своем воображении до уровня беспримерной акции по спасению жизни, стала казаться мне ужасно комичной, поскольку втуне я вопреки здравому смыслу надеялся рассмотреть себя же самого с иной точки зрения. Все за и против, все эти метания то вперед, то снова вспять, грозившие разорвать меня на части, надлежало рассматривать в иной перспективе, лишь так можно было отыскать объяснение.
Кое-кто отправлялся ради обретения крохотного участка своей души в Индию, я же поехал в Будапешт и встретил там исполнительницу, будоражащая или, наоборот, умиротворяющая натура которой, как мне думалось, могла бы помочь мне расставить акценты внутренних самоограничений. И вот теперь, прислонившись к холодному камню и уставившись в черные воды, которые, покойно журча, бежали внизу, я заключил, что добился как раз обратного: я в известной степени вновь возвратился к своему прежнему «я» и поражался, с каким же малодушием и безволием я подвергал анализу последствия того, что мне предстояло, пока это предстоящее не рассыпалось на множество деталей, вдруг показавшихся мне до ужаса ошибочными, убогими и аморальными, и я уже был готов сломя голову бежать в свою казарму-общагу ради того, чтобы в привычном кругу продолжить дискуссию о связи музыки с общественными условиями.
И все же я жаждал предпринять еще одну попытку. Было начало одиннадцатого, стало быть, если аплодисменты не затянутся до неприличия, через час Мария появится. А до тех пор мне предстояло протопить наше временное жилище и приготовить поесть, создав, таким образом, все условия для того, что ныне воспринималось мною как тяжкое бремя, как нечто недопустимое, как проявление моральной беспечности. Мысль об издержках, связанных с наймом этого воскресного жилища, вызывала досаду, и еще большую досаду вызывало то, что я наговорил Марии в попытке убедить ее провести нынешние выходные вместе.
В своих посулах и заверениях я зашел так далеко, что мне уже и самому казалось, что поведение мое будет расценено ею Не иначе как клоунада, минутное лицедейство пришельца с «Золотого Запада», прекрасно понимающего, что уже неделю спустя он благополучно удерет. С другой стороны, я пришел к мысли, что было бы куда желаннее, если бы Марии удалось уговорить меня позаботиться до весны о новой визе, с тем чтобы, выждав время и спокойно все обдумав, предстать перед ней в образе решительного и трезвомыслящего человека, имеющего четкий план действий и реальную жизненную концепцию. Вместо этого она привела в движение все, что можно, дабы заполучить для нас на выходные эту квартиру, наше любовное гнездышко, как она, к моему вящему ужасу, окрестила ее, будто я не предпринял все возможное для того, чтобы мои экзальтированные домогательства выглядели бы преднамеренно фальшивыми и послужили бы для нее предостережением — мол, ты что, ослепла, не видишь, с кем связалась?
Впрочем, как часто случалось в моей жизни, вся моя клоунада, раскусить которую особого труда не составляло, была использована как предлог посвятить себя человеку, который строит из себя дурачка, а по сути своей серьезный человек и серьезный музыкант — естественно, ранимый музыкант, — нацепляющий на себя карнавальное барахло, исключительно чтобы не пасть жертвой равнодушного к современной музыке общества. Что же касается меня, я прекрасно сознавал, что без гипертрофированной, приступообразной велеречивости мне ни за что бы не обратить на себя внимание Марии и что ей, не будь этого маскарада и лицедейства, ни за что бы не пришло в голову усмотреть во мне того, с кем можно ввязаться, скажем так, в авантюру. Сейчас я даже слегка презирал ее за неумение отличить зерна от плевел, за то, что она поддалась обаянию этой маски, но, не успев начать презирать ее, тут же возненавидел себя за то, что столь банально трактую эту женщину. Ведь она в миллион раз умнее меня, думал я, вперив взор в мутные водовороты и мелкую зыбь Дуная, стало быть, она не могла не видеть загодя все докучливые обстоятельства, которые свалятся на меня в преддверии нынешних выходных; значит, она предпримет все, чтобы упомянутые обстоятельства на этих самых выходных никак не отразились.
И пока я размышлял над тем, какой предлог избрать для четвертой по счету вылазки по отысканию злополучного дома, ко мне привязалась собачка, изъедаемый паршой экземпляр с оттопыренными ушами, казавшимися привинченными к голове. Пес не мог не обратить внимания на авоську со съестными припасами, заготовленными мною для предстоящего ужина, одним глазом взирая на рыбу, овощи, а также на припасенную для завтрака колбасу, другим — как мне подумалось — он оценивал мучившие меня проблемы, так что неясное дружелюбие, мелькнувшее в глазу под номером два, явно предназначалось отчаявшемуся буке, то есть мне. Поскольку мы очутились напротив дома Лукача, я дал псу имя Дьёрдь, против которого он явно не возражал, ибо принялся прясть своими нелепыми ушами.
Пока я по кусочку скармливал ему колбасу, пес, усевшись на задние лапы, рассказал мне свою жуткую историю, она, несмотря на явные преувеличения и необъективность, на которые способна изнуренная бродяжничеством дворняга, все же пришлась мне по душе, и мне не оставалось иного выхода, как бросить ему в пасть последний кусочек колбасы.
— Дьёрдь, ты явно преувеличиваешь, — сказал ему я, когда пес стал заверять меня, что знает в этой респектабельной округе всех и вся, до самого распоследнего кошака, — все венгерские собаки склонны к преувеличениям, если речь заходит о колбаске, однако твои переходят все разумные границы. Но если уж ты такой умный, как склонен утверждать, тогда возьми да покажи мне дом, где располагается квартира писателя и преданного коммуниста Пала Фридриха.
Дьёрдь поднялся, потянулся, повел носом и отправился в путь-дорогу мимо погруженных в спячку домов, уже знакомых мне, словно я вырос на этой мрачной улице, затем свернул налево, еще раз налево, пока мы не оказались именно на той улочке, на поиски которой я убил столько времени, остановившись перед дверью с номером 16, то есть там, где проживал ныне убывший на съезд литераторов в Москву писатель Пал Фридрих, который, будучи заслуженным деятелем искусств своей державы, на радость представителям рабочего класса насобачился преображать сопутствующие творчеству муки в излучавшие оптимизм строфы. Мария вручила мне изданный в ГДР сборник его эссе с посвящением автора, которое последний размахал аж на всю страницу, снабдив его криво начертанным сердечком, красовавшимся подле фамилии. Вчера вечером я пролистал книжку, однако пресловутое сердечко так занимало меня, что уже не хватило сил вникнуть в тонкости дифференциаций между городской и сельской субкультурами в творчестве Шандора Петефи. Наутро я обнаружил книгу возле своей подушки — она так и осталась нечитаной, ядовитая зелень переплета предостерегла меня от дальнейших попыток раскрыть ее.
— Спасибо тебе, Дьёрдь, — поблагодарил я пса, после чего плотно прикрыл и запер дверь в соответствии с предписаниями Марии, которая, судя по всему, неплохо разбиралась в местной специфике, и, словно непрошеный визитер, стал неторопливо подниматься по лестнице до третьего этажа, где в тусклом свете нескольких лампочек отыскал квартиру 32, в которой мне предстояло пережить приобретавшие в моем воображении все более зримые формы ужасы предстоящих выходных.
Дом дышал, это явственно ощущалось. Перегнувшись через перила и склонив набок голову, я стал вслушиваться, пытаясь вглядеться в темень уходящей вниз шахты, будто в желании удостовериться, что никто за мной не следит. В глубине подъезда раздался чей-то смех, затем послышалась музыка, секунду спустя чей-то голос стал призывать кого-то по имени, громко и отчаянно, как пытаешься во сне дозваться до человека, уже ушедшего. Как выйти из этого положения, я не знал и не понимал. И поскольку ничего другого не оставалось, вставил ключ в замок и как можно медленнее повернул его. С одной стороны, я представлялся себе законченным подонком, с другой — коварным взломщиком, пробравшимся сюда с Запада и намеревавшимся проникнуть в средоточие восточноевропейского искусства, с третьей — кем-то еще, о ком у меня имелось лишь смутное представление; мой внутренний голос предостерегал меня: ты угодишь в ловушку.
Тупоумие, с которым я совершал упомянутый взлом, было настолько очевидным, что, коль дело дойдет до обвинения, для меня, чего доброго, отыщется куча смягчающих обстоятельств. Впрочем, какие там обвинения, пристрелят на месте, да и дело с концом. Во всяком случае, я в компании ободранного пса попал совершенно не туда, куда следовало, в совершенно неподходящее место, однако, несмотря на неизбавимые тяготы, мне в голову не приходило ни одной мысли, которую я с легким сердцем мог бы привести своему гипотетическому обвинителю. Неприятно звучно колотилось сердце, в голове шумела кровь, меня колотило так, что того и гляди плоть оторвется от костей. Даже дисциплинированный Дьёрдь и тот оказался подвластен этому отнюдь не комфортному состоянию и, вдруг улегшись, будто скатанный в рулон ковер, прижался к дверям и стал жадно принюхиваться к щели, словно за ней располагался некий изобилующий мясом рай. Неожиданно меня стал разбирать смех — видимо, мои истерзанные нервы нуждались в расслаблении. На мгновение я взглянул на себя глазами сотрудника тайной полиции: угодливо прильнувший к чужой замочной скважине композитор из Берлина, трясущийся всем телом, весь в поту, готовый вот-вот хлопнуться в обморок, да еще в сопровождении жадно скулящей местной дворняги.
Когда я осторожно приоткрывал уже отпертую дверь, чтобы, не дай Бог, не скрипнуть, в нос мне ударила такая жуткая вонь, что мы с Дьёрдем в ужасе отпрянули, при этом я, в панике позабыв обо всем, наступил своему четвероногому приятелю на лапу, и тот пронзительно взвизгнул.
Какой-то бородач в огромных роговых очках, заметно увеличивавших его и без того огромные глазищи, вынырнувший из дверей квартиры № 31, обнаружил на лестничной площадке незнакомца, который, склонившись над подозрительного вида псом, пытался успокоить животное ласковыми словами на немецком языке. То ли вследствие специфики жизненной закалки, приучившей его не принимать близко к сердцу подобные инциденты, то ли не ожидая ничего иного от приятелей своего именитого соседа, бородач, похоже, не собирался возмущаться по поводу шума на лестничной площадке.
— Чем могу служить? — со старонемецкой учтивостью осведомился он, и я в ответ сподобился лишь безмолвно кивнуть на распахнутую дверь в квартиру Пала Фридриха, откуда по-прежнему устремлялся на волю смрад, из-за которого, собственно, и разгорелся весь сыр-бор.
Бородач — как выяснилось вскоре, провинившийся перед университетом приват-доцент, душа которого тяготела к герменевтике, что, несомненно, не могло не притупить его чувств, в том числе и обоняния — семенящими шажками страдающего близорукостью человека проследовал в квартиру, отыскал выключатель, затем жестом пригласил меня и пса войти. В довольно скудно освещенной прихожей, как и следовало ожидать, высились книжные полки, на которых кроме бессистемно расставленных книг в жутком беспорядке громоздились камни, фотографии и прочая дребедень — пылесобиратели, вероятно, чувствовавшие себя вольготно в этом скопище пыли. Пока доцент-расстрига застыл у двери, мы с псом, точно двое разведчиков, продвигались по штольне, прорытой в книжной стихии, при этом я старательно обмахивался сначала ладошками, потом свидетельством о вручении Государственной премии — иначе вони было просто не вынести.
Пес вдруг остановился, явно не желая двигаться дальше; обнюхав плетеную из рогожи дорожку, он возложил голову на лапы и стал боязливо повизгивать. Добравшись до конца коридора, я повернулся и, будто через перевернутый бинокль, увидел растянувшегося на полу пса и чуть поодаль бородатого философа, который, странно жестикулируя, пытался что-то сообщить мне. Распахнув в гостиной окно, я впустил в квартиру прохладный влажный воздух. Потом опустился в кожаное кресло у распахнутого окна и, считая на пальцах, сделал десять глубоких вдохов и выдохов. Возможно, у меня недостает опыта по части приключений, мелькнуло у меня в голове, как, впрочем, и особого таланта быть счастливым, способности к расточительной самоотдаче, и, возможно, все пресловутые авантюры и приключения — или же то, что я впоследствии принимал за таковые — лишь предпринятые кем-либо акции, целью которых было повергнуть меня в состояние полнейшего смятения. Кто же дирижировал ими сейчас? Уж не Мария ли? Не она ли заманила меня в эту вонючую берлогу обласканного властью писатели, чтобы подвергнуть мой характер суровому испытанию?
Досчитав до десяти, я снова поднялся и стал один за другим включать все источники света, имевшиеся в квартире — нужно было хотя бы осветить это царство теней, но и свет не мог изгнать отсюда духов абсолютного зла. Зло бесцеремонно пронизало все — тахту, кресла, картины, книги, и чудовищный смрад был его провозвестником. Ко мне с убитым видом приблизился Дьёрдь; просеменив к буроватой, увешанной выцветшими плакатами двери, он принялся скрести по ней здоровой лапой. Приблизившись, я открыл и эту дверь, хотя мне уже полагалось бы знать, что рискнувшего ступить в сей некрополь за любой из дверей поджидает ужаснейшее фиаско. Матовый луч света упал на темное покрывало кровати, на которой обосновалась перепуганная, жалобно скулящая троица вконец изголодавшихся кошек, стеклянными глазами уставившихся на невесть откуда возникший свет, будто раздраженных тем, что неведомые пришельцы отнимают у них последнюю возможность угодить в их особый кошачий рай.
Ужаснее зрелища мне не доводилось видеть ни в Будапеште, ни где-либо еще. В ответ на мои робкие призывы животные стали подниматься со своего перепоганенного лежбища, но, едва став на лапы, тут же снова повалились, сбившись в беспорядочную кучку. Даже Дьёрдь и тот был шокирован представшей перед нами картиной. Окаменев, он взирал на несчастных животных — живое воплощение благородного возмущения. И это пропитанное кошачьей уриной ложе Мария решила избрать в качестве нашего свадебного, пронеслось у меня в голове.
А где же она сама?
По пути в кухню мне пришлось вновь миновать коридор, на освещенном конце которого до сих пор виднелся силуэт будто обратившегося в камень приват-доцента.
— Идите сюда, помогите же! — крикнул я ему. — Посмотрите, что здесь делается!
Однако этот устрашенный или заторможенный тип, по-видимому, счел мою панику дурью.
— А что случилось? — недоумевал он. — И чем я могу помочь?
Я вынужден был пройти мимо всех представителей соцреализма в литературе к дверям и силой затащить близорукого приват-доцента в логово врага, поскольку он, о чем позже сам мне признался, принял происходящее за подлую и коварную инсценировку, устроенную спецслужбой — ее сотрудники, воспользовавшись отсутствием доцента, вполне могли проникнуть и в его квартиру, получив, таким образом, возможность вволю порыться в его герменевтических писаниях, которые беззащитно — именно так он и выразился! — лежали в его комнате. Тем не менее толкователь древних текстов продемонстрировал готовность помочь мне разобраться с несчастными кошками, хотя толку от него все равно было мало. По прошествии какого-то времени мы отмыли кошек от грязи, накормили моей любимой рыбой и разместили в пустом ящике от письменного стола у батареи отопления, предварительно освободив его от бумаг, принадлежавших мастеру социалистических сонетов.
Укутанные в полотенца кошки любопытно взирали на наши продиктованные не одним лишь милосердием, но и изрядной долей тщеславия усилия по наведению порядка в квартире. Белье и покрывало были сняты и выброшены на уставленный ящичной тарой для винных бутылок балкон. Но поскольку мы решили заняться наведением порядка основательно и прекрасно сработались, не останавливаясь на достигнутом, то спровадили на балкон и белье, и покрывало, а за ними и матрац. Ничего, пусть как следует проветрится на свежем будапештском воздухе. Господин Бела, так просил называть себя герменевтик, с энтузиазмом отдался деятельности, так что мне не составило труда уговорить его перетащить всю раздражавшую меня утварь в спальню, в результате чего в гостиной остались лишь кресла, диванный столик и опустевший письменный стол. Интерьер приобрел хоть и спартанский, но вполне жилой вид. Покончив с этим, мы извлекли из холодильника две бутылки токайского и, не снимая пальто, устроились в креслах. Дьёрдю была выдана банка болгарских сардин в масле, господин Бела сбегал за своей трубкой, я же решил угоститься гаванской сигарой из коробки на книжной полке. Кто из нас мог бы подумать, что вечер завершится столь удачно?
Бела бессвязно стал излагать о своих исследованиях, представив трагикомическую хронику отлучения его от университета — событие, которое, по его мнению, не могло быть не чем иным, как изгнанием метода герменевтики из венгерской философии. Себе Бела отвел роль статиста в этой жалкой истории, представлявшей в миниатюре незавидную судьбу всей венгерской философии послевоенного периода; ему самому пришлось представить пункты, согласно которым профессура поедала его. Однако постепенно, по мере изложения одного за другим свидетельств пережитых им унижений, господин Бела непредумышленно возвысил себя до уровня центральной фигуры, но никак не статиста, сумев в конце концов почти убедить меня в том, что венгерская философия выжила исключительно благодаря ему. Именно бескомпромиссность и выдержка Белы обеспечила это выживание, именно из его отказа последовать генеральной линии и черпала она жизненную силу.
Интересно, а стал бы я помогать ему, ныне приводившему вполне марксистскую аргументацию герменевтику найти место университетского преподавателя где-нибудь в Федеративной Республике, подумалось мне, если бы случилось так, что венгерская система образования внезапно рухнула? Короче, именно потому, что господин Бела уже вряд ли мог рассчитывать на роль индикатора пусть и малозначительного, но все-таки прогресса, он тешил себя иллюзиями существования марксистской венгерской философии. Концепция либерально-марксистской эстетики (наспех изобретенный мною термин) привела его в истый восторг — Бела расхохотался так, что даже пес недоуменно поднял голову и беспокойно задвигались полусдохшие от голода кошки. Риторика его состояла в непрерывной постановке вопросов, на которые он сам же и отвечал. Казалось, в этой игре экс-приват-доцент успел здорово поднатореть за время своего вынужденного и длительного одиночества.
— Можно ли представить себе, при условии наличия хоть какого-то понимания, марксистскую эстетику? — вопросил он и тут же отрицательно проблеял: — Не-е-ет! — взмахнув своей величавой бородой. — Кто не в силах более желать неосуществимого, тому остается лишь свершать возможное, — провозгласил он, — вы только взгляните на наше искусство, на наше выпестованное марксизмом искусство, и увидите если не затхлость и тяжеловесность, то уж непременно инертность и половинчатость, какую-то нездоровую активность, стряхнувшую с себя всю мощь души, и пока мы рассуждаем, что в результате коммунистической революции на свет появится нечто, до сих пор невиданное и неслыханное, в картинных галереях мы наблюдаем лишь никудышно суммированное продолжение на самом низком уровне, но никак не решительный поворот, никак не преображение. Замкнутая, неотчетливая, непроницаемая картина. Жизни духовной, то есть философской жизни, ныне ничего общего с философией не имеющей, не достичь за счет простого продолжения плохого и посредственного, путем относительного и постепенного ухудшения мыслительных средств и средств искусства, путем выбора решения в пользу возможного, а только через излом, через раскол пустых, обезлюдевших по нашей милости небес. Что же остается нам после того, как мы загородили все пути к прошлому, как не отправиться в неизведанное? Но неизведанное устрашило нас, заставило вновь вернуться к недоброму, но старому, к привычному, к дурным причудам искусства. Мы с вами сидим сейчас в креслах, принадлежащих никуда не годному писаке, распиваем вино этого никуда не годного писаки, искусство которого в том и состоит, чтобы наполнить великий сонет мизерным социалистическим содержанием.
Разве я приехал Венгрию не для того, чтобы рассуждать с коллегами на тему марксистской эстетики? И вот я сижу здесь и спокойно выслушиваю сладкоголосые напевы этого эрудита в духе староевропейских традиций, наблюдаю эту понятийную пляску на канате, натянутом над бездной между двумя диаметрально противоположными и непримиримыми точками зрения.
Алкоголь помог мне уследить за водопадом слов доцента, и чем больше токайского вливал я в себя, тем легче мне было проникнуть во внутренний мир господина Белы, где он давал выход своему буйному и замешенному на мифологии воображению. Когда он делал секундные паузы, умолкая на середине фразы, мне казалось, что он вот-вот о чем-то попросит меня, и во взоре его была мольба о том, чтобы я предвосхитил эту просьбу; но я безмолвно продолжал сидеть в кожаном кресле, время от времени кивая головой, и доцент вновь делал очередной вдох и с новыми силами продолжал. И откуда только брались в нем силы для столь экзальтированного выступления, было мне неясно, но меня отнюдь не удивило, когда он после очередной длиннющей и заковыристой фразы вдруг заговаривал о Боге. К Богу следовало обращаться беспрестанно, в противном случае он позабудет о нашем существовании.
— Это все, что в наших силах! — выкрикнул он, задумчиво пожевывая бородищу. — Мы обязаны сказать свое слово в истории, свое, а не партийное. Мы должны признать прошлое, как предысторию в том числе и своей жизни, ради осмысления развития искусства как средства выражения нашего существования. Ведь мы существуем не с Октябрьской революции, друг мой, как считают профессора, вытурившие меня из университета! Банда полуобразованных уголовников, увязавшая возвышенное с низостью, выдающееся с постыдным. Как нам, скажите на милость, завоевывать будущее? — вопросил он, пыхнув трубкой.
Ответить мне было нечего. Будто парализованный припечатался я к липкой коже кресла, силясь изобразить заинтересованность. Понятие «подпитывающее единение», неоднократно прозвучавшее из его уст для обозначения синтеза Платона и Канта, эхом отдавалось у меня в голове, будто поддразнивая и вынуждая положить его на музыку. А каково было бы мое «подпитывающее единение», знай я о таковом? Что подпитывало меня? Музыка? Допустим. Но следовало ли, если мне уж так не терпелось поверить моему другу-философу, выкладывать перед ним этот свой последний и единственный идеологический источник?
— Лишь христианство, — вырвал меня господин Бела из размышлений, — лишь оно в состоянии призвать чудо и вселить его в человека, лишь христианству известна метафора безымянного, отличающая великие религиозные учения. Никакому искусству, тем более марксистскому, не заполнить ту лакуну, что возникла в результате бездумного искоренения христианства. И авангардистскому искусству тоже не сравниться в первородной силе с этим великим учением. Впрочем, все великие учения зародились на Востоке, — хихикнул Бела. — Нет-нет, не на нашем Востоке, а на том, который располагается куда восточнее стран Варшавского договора. От нас уж ничего не поступит. Нам нечего предложить. Единственные, кто еще едет к нам, это западные интеллектуалы, они являются сюда на поиски истины. Боже Великий, какие же они глупцы, какие дураки! Долго это не продлится, придет время, и Восток сам пожалует к ним, друг мой, и если у вас нечего показать за исключением парочки музеев или переделанных под музеи церквей, парочки философов-марксистов и чуточки карманных денег, тогда — да будет Господь милостив к вам.
По-видимому, в какой-то момент меня все же притомили эти словопрения. Во всяком случае, я внезапно словно очнулся после какого-то кошмара и так заехал по столику, что опрокинул все три опустошенные нами бутылки токайского — одна из них рухнула прямо на пса, сладко спавшего под аккомпанемент тирад об оскудении западной культуры. Он повернул ко мне свою кривоватую мордочку, уши Дьёрдя оттопырились настолько минорно, что я, кряхтя, выскользнул из кресла на пол и погладил его. Только тут я заметил, что кресло напротив опустело. Герменевтик решил вернуться в родные пенаты работнуть над своей теорией излома — по его представлению, лишь излом в состоянии вдохнуть жизнь в эскиз мира, оставленный нам Богом.
Обдумывая эти последние слова, которые решил специально запомнить, я вдруг услышал смех, доносящийся из соседней комнаты. Это была Мария. Когда я наконец поднялся, собираясь вместе с псом отыскать хохотунью, та в сопровождении философа показалась в дверях. Я бессильно упал в кресло. Значит, инструктаж продолжится. И если бы Мария, восторженно крича, не бросилась ко мне целоваться, герменевтик, тем временем откупоривавший четвертую и пятую бутылки вина, продолжил бы проклятия в адрес мрачного преходящего, которое он столь блистательно отличал от вечного.
Меня так захватила речь господина Белы, что непрекращавшиеся лобзания и чмоканья Марии, которые, вероятно, служили своего рода оплатой за долгое ожидание, даже показались мне излишними, если не сказать неуместными, и я, чувствуя ее влажные губы на шее, отчаянными кивками призывал философа продолжать. Но ситуация оказалась непоправима. Какое-то время спустя Мария наконец выпустила меня из объятий — их, во всяком случае, хватило, чтобы отбить у меня охоту к философии. Да и Беле, вероятно, пришлась кстати эта кратковременная разгрузочная пауза — он, вытянув ноги, блаженствовал в кресле отсутствующего и презираемого коммунистического стихотворца, попивая густое токайское, а Мария тем временем выспрашивала меня, чего это ради мы сидим в пальто у открытого окна. Дьёрдь и кошки внимали нам.
Если верить моим часам, было уже три с четвертью, когда Бела мгновенно уснул. Мария, поняв всю безнадежность попыток пробудить его, вытащила меня из кресла, выудила ключ от квартиры из пиджака Белы, закрыла окна, погасила свет и повела меня в соседнюю квартиру, где мы запросто, будто в сотый раз, улеглись на уже разобранную постель герменевтика.
15
После своего с моральной точки зрения не совсем удавшегося отъезда из Будапешта я получил первую весточку от Марии, причем уже в Мюнхене, куда меня неожиданно потянуло на поиски лучшей жизни. Берлинский климат был во вред моей музыке. Переизбыток революционности и острая нехватка скрипичных квартетов. Так как мы с Марией уговорились, что ни в коем случае не станем доверять искренность наших отношений почте, которая, по ее глубочайшему убеждению, работала исключительно на службу безопасности, что, впрочем, не особенно и скрывалось последней, роль почты приходилось брать на себя частным лицам. Но поскольку и им мы не решались доверить всего, объяснялись мы друг с другом посредством поэзии или газетных вырезок, так что нередко приходилось корпеть, разгадывая смысл скверно переведенных текстов Петефи или Ади, поскольку, несмотря на некоторые навыки толкования, я не всегда мог экстраполировать описанную автором боль на нас с Марией.
В особенности это относилось к сборнику стихов Ади, в котором Мария в определенных местах между страницами вложила засушенные цветы. Кончилось тем, что я выучивал целые поэмы наизусть, так и не поняв, какое, собственно, отношение они имеют к переживаемым нами чувствам. И мне не оставалось иного выхода, как избрать в качестве основы нашей вынужденной разлуки совокупную всемирную скорбь, благодаря отваге одного переводчика из ГДР ставшую доступной и для немцев. Поскольку в нашем положении мы были склонны толковать решительно все, даже внешнеполитические события, исключительно сквозь призму своих отношений, патетически-невинные вирши Эндре Ади служили еще более невинным примером наших тайных любовных посланий.
В один прекрасный и довольно знойный для весны день меня вызвонил некий музыкальный критик, пожелавший безотлагательно встретиться — ему необходимо передать для меня срочное послание из Будапешта. Звонок от него стал для меня полной неожиданностью. Хотя критик успел опубликовать в парочке малоизвестных у нас журналов несколько кратких статей, да и то выдержанных в столь пригнетенной риторике, что дочитать их до конца могли лишь фанатики, эффект от этой подчеркнуто малоформатной публикации был поразителен. Где бы критик ни появлялся, его встречали с чувством подавленного восхищения. Его миссию с ходу описать крайне сложно, но устно передать ее можно в двух словах: история музыки завершилась, музыкальный материал исчерпан. Просвещенная ирония, намертво въедавшаяся во все, к чему он прикасался и что могло с натяжкой служить примером законченности композиции, умерщвляла любое мало-мальски многообещающее произведение. И мне никак не светило вымолить у него пощаду; уже во время телефонной беседы я весьма пессимистично оценил перспективы едва начатого скрипичного квартета, наброски которого как раз покоились на моем письменном столе.
Местом встречи критик избрал пивную на открытом воздухе, она приглянулась ему во время ранних визитов в Мюнхен своим весьма недурным выбором вин. Что касалось меня, я всегда избегал пивных на открытом воздухе и ни за что не додумался бы использовать их в качестве дегустационного зала. Я почти не сомневался, что критик примется грузить меня своей тягомотиной, но так как встреча с ним позарез нужна была мне, я тут же согласился. Естественно, после этого звонка ни о какой работе и речи быть не могло — необходимо было срочно разобраться в его намеках и параллелях.
Критик ездил в Краков на фестиваль новой музыки. Разумеется, все бездарно, все бесцветно, все потуги не стоят и выеденного яйца, тем не менее любопытно, ведь именно в Кракове жил последний из европейских специалистов по кабалистике, профессор Петеркевич, вот с ним потолковать было истинным удовольствием. После встречи с Петеркевичем запланированный доклад о капитализме и музыке отодвинулся на второй план по причине явной бессодержательности, вместо этого критик предпочел на публике обсудить с Петеркевичем понятие «тешуба» (поворот), значение которого, по мнению моего телефонного собеседника, было чрезвычайно важно для грядущих перспектив в музыке, на кои, строго говоря, и рассчитывать было трудно, причем как капитализму, так и социализму, в чем он убедился из бесед с немногими по-настоящему интересными композиторами и исполнителями, собравшимися в Кракове.
— Полагаю, вам известно, что скрывается за термином «тешуба»? — осведомился он и, поскольку я мог ответить лишь невнятными междометиями, тут же проявил готовность вывести меня из мрака невежества как раз в той самой пивной на открытом воздухе, ознакомив с некоторыми мыслями, которыми они в Кракове делились с профессором Петеркевичем.
Среди горячо поддержавших его слушателей была и Мария, за вечер до этого давшая концерт — жалкое и эфемерное зрелище, — но затем в узком кругу посвященных они отправились к Петеркевичу, где все вместе в библиотеке профессора, этом лучшем в Европе собрании книг по кабалистике, до рассвета внимали знаменитому специалисту. По пути от Петеркевича в гостиницу Мария доверила моему собеседнику некую устную информацию, которую последний готов детально и так же в устной форме представить мне как можно скорее, если я выражу желание выслушать его.
Я отправился на встречу за три с лишним часа до назначенного срока. Есть на свете люди, способные невероятно утомить тебя всего лишь одним телефонным разговором, в особенности когда действуют из самых благих побуждений и говорят тебе именно то, что ты жаждешь услышать. Тем не менее слушающий их обрекает себя на суровые муки. В случае со знаменитым музыкальным критиком беседа наша представляла собой удивительную смесь музыки и кабалистики, я весь взмок от пота, так вымотала меня эта говорильня. Не будь он вестником от Марии, я давно бросил бы трубку. Сказанное им не позволяло написать ни единой ноты.
Улица выглядела непривычно опустевшей. Фрау Кёлер, комендантша дома, прислонясь к стене, с сигаретой во рту нежилась на солнце и кивнула мне как-то виновато и подобострастно. Мне так и осталось непонятным, за что она желала извиниться — то ли за курение, то ли за демонстративное ничегонеделание. Киоскер со вздохом подал мне газеты и пачку сигарет. Он принадлежал к числу перманентных вздыхателей, каждый раз сопровождая звучное «ах!» скорбным жестом, словно извиняясь за продаваемые им в розницу плохие новости. Сегодня рука его, просунувшаяся из темного мрака киоска, напомнила мне перепуганного насмерть зверька — она дрожала так, что пришлось собирать просыпавшиеся монеты с газет. Мне никогда не доводилось по-настоящему разглядеть этого человека, я видел лишь изъеденную грибком трясущуюся кисть его правой руки и слышал вздохи, выражение безмерной боли, тоски или же отвращения. Деньги он принимал со вздохом, со вздохом отсчитывал сдачу. Бессловесное общение с покупателями газет и сигарет не раз представлялось мне неким итогом всех возможных бесед; обреченный на вечное заточение вздыхатель был первопричиной всех мыслимых известий из мира политики, экономики, культуры и спорта — и тем, что оставалось после всех интеллектуальных сражений: нейтральным, лишенным содержания, кратким. Если мы, те, кто приходил к нему, еще хоть как-то, но все же различались в запросах — требовали у него кто «Франкфуртер альгемайне цайтунг», «Зюддойче цайтунг» или «Шпигель», кто «Геральд трибюн» или «Монд», кто «Ротхэндле» или «Петер Стойвезант», — при этом изъясняясь хоть и не настоящим языком, а его культями, обрубками, киоскер, не утруждая себя артикуляцией, отделывался, по сути, мало что значащими вздохами, контурами языка, расплывчатыми его очертаниями.
В кафе сидели несколько девушек в форме — береты поверх кудряшек. Вероятно, студентки колледжа модельеров-дизайнеров, учебного заведения, весьма способствовавшего продвижению модных веяний в нашей части города. Девушки потягивали через соломинку кока-колу, от души хохоча, отчего напиток попадал им в нос. Но едва оправившись от маленькой неприятности, они снова смеялись, покатывались со смеху, пока, в конце концов, не выскочив со слезами на глазах из кафе, бессильно не припали к подернутому зеленоватым налетом мха стволу липы, продолжая корчиться в судорогах. Я уже успел выпить заказанный мною кофе, как одна из девушек вдруг вернулась заплатить за три порции кока-колы. Отважно и непринужденно расставив ноги в форменных полусапожках у стойки, она объясняла барменше причину приступа неудержимого веселья, напавшего на нее и ее подружек — да просто так, ни с того ни с сего, дурость нашла на нас, только и всего. По выражению лица барменши я заключил, что объяснение ее явно не удовлетворило. Она бы с удовольствием посмеялась сама, даже если и смеяться было не над чем. Барменша через стойку бросила взгляд на меня, единственного посетителя кафе в это время дня, в попытке обнаружить хотя бы улыбку на моей физиономии, однако тщетно — я сидел, с суровым видом уткнувшись в «Цайт».
За полчаса до назначенного времени я уже был в небольшой пивной под открытым небом. Солнце больше не грело, так что публика предпочитала теперь сидеть не на свежем воздухе, а в помещении. Кроме официанта, который тщательно, но довольно неуклюже протирал разлохмаченной губкой столики, здесь находилось еще двое мужчин, которых я не мог как следует разглядеть из-за бившего прямо в глаза заходящего солнца. Они вели между собой оживленный разговор — это можно было заметить по темпераментной жестикуляции. Мужчинами оказались внушавший всеобщий ужас, но не написавший ни одной разгромной статьи музыкальный критик Хорст Ляйзеганг и внушавший ничуть не меньший ужас и посему не дирижировавший дирижер Гюнтер Софски, к столику которых я подошел с неким непокоем в душе, так и не уразумев, что Ляйзеганг и Софски — неразлучные друзья-приятели, словом, парочка. Оба культивировали в поведении старомодную обходительность, что существенно облегчало общение с ними, как бы нейтрализуя исходившие от них пакости. Между ними царило полное единодушие взглядов, что выражалось в том, что один начинал, а другой заканчивал за первого фразу.
Судя по всему, засели они здесь уже довольно давно, о чем свидетельствовала внушительная батарея пустых бутылок из-под легкого баденского, что не могло не оживить беседы. Очень скоро первые камни в фундамент нашего общения были заложены: в Мюнхене нет ни одного оркестра, достойного сыграть Пфифферлинга, ни одному дирижеру не вытянуть из этих ветхозаветных инструментов приличного звучания, музыкальную школу давно пора закрыть, а преподавателей рассовать по заводам, местным критикам необходимо сломя голову мчаться на переучивание, а публике следует воспретить ходить на концерты.
С преувеличенной вежливостью мне было рекомендовано также приостановить работу, поскольку в ближайшее время никакого существенного улучшения ситуации не предвидится. И коллегам, которых мы одного за другим перебрали, также следует подумать о том, чтобы сменить специальность, причем в качестве альтернативы неизменно выдвигалось преподавание музыки в школе. Нам всем надо идти в учителя, растолковывать детворе премудрости нотной грамоты, но ни в коем случае не вдохновлять молодежь на самостоятельное творчество.
— И вообще композиторам надлежит исчезнуть! — радостно вскричал дирижер, без околичностей представив мнение своего единомышленника, склонявшегося к заковыристо-ученым речениям.
Пресловутое сочинительство, дескать, отдалило людей от общества, и с тех пор как для любого открылась возможность податься в композиторы, все только и стремятся ими стать, а государство и общество сложило перед этими сочинителями оружие и только и знает, что открывать все новые и новые институты и разные там заведения, чтобы хоть как-то управляться с уймищей желающих посочинительствовать, которые уже по прошествии восьми семестров тычут себя в грудь — я, мол, профессиональный сочинитель! А сам до от ми не отличит! Вот и получается, что гостям из-за рубежа скармливают сочиненную и исполняемую немцами музыку, и каждый понимает, что ни композиторы, ни исполнители не ведают, что музыка может быть и предметом для дискуссий. Премьер-министр республики Того, живописал дирижер, возвращается к себе в Африку в твердой убежденности, что слышал живую немецкую музыку, насладился живым немецким искусством, на самом же деле ему поднесли здоровенный кусок добротной немецкой халтуры, и теперь он на каждом углу будет вопить, что, мол, там, в Мюнхене, ему довелось услышать самую настоящую немецкую музыку, а это полнейшее заблуждение. Я помню, что еще долго размышлял над тем, а наличествует ли в природе такое государство — Того — и, соответственно, могло ли так получиться, что премьер-министра этой страны потащили в Мюнхене на концерт. Все это представлялось мне абсолютно неправдоподобным, но я благоразумно решил промолчать. Того! Что позабыл премьер-министр Того на концерте? При условии, что вообще есть на Земле государство под названием Того и, следовательно, премьер-министр упомянутого государства. Если же да, то этот субъект явился в Мюнхен уж никак не бегать по концертам, а скорее выклянчивать вспомоществование на выгодных условиях.
Я почувствовал, что легкое винцо довольно ощутимо ударило в голову. И настолько отупило меня, что слова моих визави уже с трудом доходили до меня. Теоретик, подавшись вперед величавой, напоминавшей гегелевскую головой, лишь иногда более или менее отчетливо изрекал свои мистические заклятия; дирижер, говоривший пока что связно, никак не мог выискать нужное место на столе для своего бокала, все время норовя отодвинуть его подальше от края, причем делал это неторопливо, и невольно начинало казаться, что он совершает некий преисполненный загадочного смысла эксперимент. После того как бокал оказался в подобающем месте, рука дирижера трепетно замерла над ним, затем снова схватила бокал, словно последний мог исчезнуть непонятно куда.
Я позвал официанта, ни на секунду не спускавшего со своего наблюдательного пункта у входа бдительного взора со странноватой подвыпившей компании, и потребовал счет, но вместо того чтобы аккуратно добавить десять бутылок вина и пять корзинок с хлебом, приветливый господин из Ниша, как мы выяснили после пятой бутылки, решил округлить сумму к нашей выгоде — так будет по справедливости, решил он, да и он не прогадает. Поскольку в этом заведении чек, к великому изумлению теоретика, не считался приемлемой формой оплаты, оплачивать счет выпало мне, и поскольку оба явились в Мюнхен явно не только из-за музыки, но и для того, чтобы, хоть и весьма сбивчиво, передать мне привет от Марии, я без долгих дискуссий решил заплатить.
К моему удивлению, вскоре официант вернулся не только со сдачей — зажатой в зубах десятимарковой бумажкой, — но и с двумя кожаными чемоданами и несколькими пластиковыми пакетами в руках, которые после моего отказа принять десять марок так и продолжал держать, пока мы не поднялись и не были готовы отбыть. Теоретик от носки устранился, дирижер вооружился пакетами, а на мою долю достались чемоданы, судя по весу, явно набитые фолиантами из библиотеки профессора Петеркевича.
Когда мы с дирижером спотыкаясь добрались до улицы, теоретик уже оккупировал переднее сиденье нанятого такси. Двери и багажник машины были гостеприимно распахнуты. Назовите ваш точный адрес и район, допытывался я у теоретика, поскольку водитель не очень хорошо ориентировался в городе, такое случается все чаще в последнее время, как добавил он сам.
Я велел пакистанцу ехать в направлении Швабинга, где в доме на Герцогштрассе занимал трехкомнатную квартиру. Шоферу было настоятельно рекомендовано не только приглушить музыку, но и поднять все стекла так, чтобы не оставалось ни щелочки — и теоретик, и дирижер смертельно боялись сквозняков и связанных с ними простуд, в памяти обоих были свежи краковские такси — машины восточногерманского производства, продуваемые насквозь и, вероятно, созданные специально для маньяков по части свежего воздуха, словом, орудия смертоубийства, да и только. Непостижимо! Непостижимо в особенности в городе, где так почитают музыку! И почему это при социализме никак не могут создать машины без щелей, без надоедливого радио — над этим ребусом ломал голову теоретик, пока в конце концов не передал его для решения молчаливому пакистанцу, который упорно отмалчивался после того, как все же ответил на один вопрос — что его больше всего интересует в Германии. Бисмарк — таков был ответ пакистанца. И всю оставшуюся дорогу он оставался нем как рыба.
Расплатившись с таксистом, я поволок чемоданы на четвертый этаж. Ну и что теперь? Может, продолжить вечер в компании за скромным ужином? Предложение поступило от теоретика, в то время как дирижер высказался в пользу горячей ванны.
Я занялся приготовлением лапши, теоретик забылся мертвым сном на моей тахте, дирижер, распевая в ванной, читал роман Набокова, который сам снял с полки.
— Его переоценивают, — бормотал он про себя, стоя уже в трусах, — переоценивают, но тем не менее он занятен, надо отдать ему должное.
Поедая лапшу, я читал Георга Шиммеля, получив наконец возможность выпить действительно стоящего вина — это была последняя бутылка «бароло». Дирижер предстал передо мной, укутавшись в мое огромное белое полотенце, которое я прихватил на память в одном из венецианских отелей. Он на цыпочках проследовал в кухню, осведомившись, не найдется ли у меня повязки для глаз, а то свет спать не дает — жалюзи заело. Не было у меня никакой повязки для глаз. Носовой платок был с презрением отвергнут.
Наконец мы уложили похрапывающего теоретика на одеяло и отволокли в мою спальню, где он обрел покой на моем лежбище, а рядом, тяжело посапывая, прилег его истомленный за богатый событиями день приятель и единомышленник. Я все же опустил жалюзи, закрыл окно и, пожелав всем спокойной ночи, удалился в свой кабинет, чтобы хоть часок поработать над скрипичным квартетом.
Но о работе нечего было и думать, и я в стопке журналов отыскал сочинения теоретика, желая понять, почему, черт побери, этого человека так бесит сам факт, что в наше время люди еще пытаются сочинять и слушать музыку. Три часа спустя я устроился на освободившейся тахте, обреченно потушил свет и уснул.
На следующее утро, это была пятница, все было спокойно. Оба планировали сесть на поезд в Рим, отходивший во второй половине дня, сам я намеревался отправиться за покупками, дабы спокойно посвятить предстоящие два с половиной дня работе над композицией. Я рассчитывал вернуться домой часам к одиннадцати и за кофе разузнать от них новости от Марии, затем усадить обоих гостей в такси и вздохнуть с облегчением.
Я погромче захлопнул за собой дверь, рассчитывая, что оба проснутся. Фрау Кёлер, как обычно по пятницам подметавшая в подъезде, сердито взглянула на меня — во взгляде этом сквозила несокрушимая уверенность, что по возвращении я снова принесу на обуви порцию грязи. Однорукий актер, проживавший этажом ниже, который тоже решил отправиться за покупками, сообщил мне, что ему предложили сыграть роль однорукого в каком-то детективе; будто специально для меня ее писали, усмехнулся он, а фрау Кёлер сверху осведомилась, когда ей включить телевизор. Если случалось, что нашего соседа показывали по телевизору, он загодя информировал об этом всех жильцов, приглашая оценить его умения на телеэкране всех, кроме фрау Кёлер, как-то позволившую себе критические высказывания в адрес его актерского мастерства. Муж фрау Кёлер вот уже несколько лет как исчез из ее жизни, сын сидел в тюрьме за повторный угон машины, так что у нее было времени хоть отбавляй на изучение телепрограмм и выработку мнений, которые, насколько я мог заключить, в общем-то попадали в точку. В особенности это касалось Харальда Лейпница, которого обожал однорукий, — фрау Кёлер терпеть его не могла. Нуль без палочки — этим и ограничивался ее комментарий.
Купив у газетчика с трясущимися руками прессу, я направился в «Херти», где приобрел курицу, пару упаковок отбивных из молодой баранины, морковь, картофель, фасоль, молоко и кофе, еще кое-что по мелочи, пока в портмоне не осталась лишь двадцатимарковая купюра, которой я в книжном магазине Лемкуля расплатился за томик издания «Библиотечка Зуркамп». Сдачу я отнес в расположенное тут же кафе-мороженое, владела которым целиком рыжеволосая семья, там Эмилио готовил для меня лучший в Мюнхене капуччино. За столиком у входа корпел над сценарием мой приятель Ганс Нефер, стремившийся фундаментально пересмотреть существующий киноязык — задача явно непосильная, поскольку в кафе поминутно забегали симпатичные представительницы противоположного пола. Напротив меня, забившись в темный уголок, сидел художник по фамилии Штамм, непрерывно черкавший шариковой ручкой в своем блокноте, словно стараясь что-то вымарать, кроме него здесь сидела компания студентов, затем множество ухоженных и симпатичных женщин — отличительная черта нашего района. При виде их никому не пришло бы в голову связывать их облик с работой, нудным исполнением служебных обязанностей — это были на удивление безыскусственные особы с книгами по эзотерике или номером «Бригитты» под мышкой. Они входили, оглядывали заведение и публику, затем либо поворачивались и уходили, либо оставались, а им на смену словно из некоего неисчерпаемого хранилища тут же приходили другие подобные создания. И здесь тоже преобладали сапожки и форменные платья, но встречались и неброские обычные наряды.
Я просматривал прессу, пролистал «Следы» Эрнста Блоха, только что купленную мной книгу, но так и не сумел ни на чем сосредоточиться. Патетическая ненависть к искусству двух живущих на этом свете ради искусства и близких к музыке субъектов начисто исчерпала мои силы. Будто окаменев, сидел я за столиком, на котором остывал заказанный капуччино. Во мне волной поднималась неведомая мне до сих пор ярость, смертельная ненависть, побороть которую я смог лишь быстрой ходьбой. Рассчитавшись, я кивнул на прощание художнику и своему приятелю Гансу и, прихватив объемистые пластиковые пакеты, до одиннадцати часов шел по Леопольдштрассе.
В квартире было тихо. Оба чемодана так и стояли в прихожей, дверь в ванную была приоткрыта. Едва ощутимый аромат кофе говорил о том, что оба или, как минимум, один из моих гостей уже на ногах. Пройдя в кухню, я сгрузил там пакеты и с особой тщательностью расставил в холодильнике съестные припасы. Пусть хотя бы здесь все будет в порядке. Поскольку в кухне делать было больше нечего, я, нарочито звучно откашлявшись, направился через прихожую в кабинет, положив томик Блоха и периодику на подоконник, и невольно загляделся на крыши домов, не в силах двинуться с места. Я насчитал примерно два десятка печных труб, из одной из них прямо к синему, подернутому редкими кучевыми облаками небу тонкой струйкой поднимался дым.
И тут за моей спиной появился дирижер, все еще или уже укутанный в мое полотенце. Вид у него был, надо сказать, неважнецкий, помятый. Их разбудил телефон, неприветливо сообщил он мне, и, к сожалению, они пропустили римский поезд. Со мной хотел поговорить некто из Института Гёте, господин доктор Арнхейм, речь идет о неделе камерной музыки в Чикаго; он пока в Мюнхене и зайдет около четырех. Не буду ли я против, если они с товарищем, осведомился дирижер, тоже поучаствуют в разговоре, вот уже несколько лет они носятся с идеей, как улучшить положение с музыкой в Институте Гёте, а тут такая возможность. Вообще-то его товарищ сейчас поднимется, и, если я буду так добр, не мог ли он рассчитывать на стаканчик вина, так сказать, нейтрализовать специфическую жажду.
До четырех часов мы просидели на кухне, то есть без малого пять часов. Цыпленок был съеден, выпито и принесенное мною вино (о том, что сие вино было закуплено в «Херти» я, разумеется, промолчал). Дирижер собственноручно побрил критика, сделал ему горячий компресс из полотенец. Критик читал вслух выдержки из моего томика Блоха, комментируя прочитанное. На каждой странице речь шла о вожделенной и в то же время ненавистной революции. Фашизм, он тут, рядом, он притаился у самых дверей, но вломиться пока что не решается. Идею эту горячо поддержал и доктор Арнхейм, обрадованный тем, что застал у меня столь выдающегося музыкального теоретика, который, в свою очередь, путано и сбивчиво внес идею об открытии филиала Института Гёте в Венеции, о чем доктор Арнхейм незамедлительно сделал пометку в своей записной книжке. Без нескольких минут шесть дебаты пришлось на некоторое время прервать, поскольку дирижеру и теоретику предстояло заполнить карточки лото — последние необходимо было сдать до шести, и процедура эта протекала с воистину научным, если не сказать кабалистическим тщанием. Поскольку ни у них, ни у меня наличных не оказалось, обратились к доктору Арнхейму с просьбой ссудить полсотни марок. Проезжую знаменитость заверили, что в случае выигрыша ему отдадут все сто, что и было торжественно обещано в письменной форме. Доктор Арнхейм аккуратно сложил листок и торжественно, будто ценнейший свиток, поместил к себе в бумажник, поразивший всех обилием находящихся там крупных купюр.
Описанная церемония повергла меня в дикое уныние. Невероятная амбициозность двух деятелей от музыки никак не вязалась с самой настоящей мещанской расчетливостью — заполнением пресловутых карточек лото и дебильным упованием на хитроумно-чудодейственные комбинации цифр. Да еще — клоунада с отведением роли банка пришлому доктору Арнхейму! И это все при том, что оба со всей серьезностью чуть ли не умоляли его самолично взять на себя руководство упомянутым венецианским филиалом Института Гёте — «для этого у вас есть соответствующие кадровые резервы».
Себе же дирижер и критик отвели скромные роли «консультантов». Стало быть, они горят желанием заделаться консультантами. Ведь в мире музыки ступить некуда от руководителей, всем только и дай поруководить. А вот консультантов отчаянная нехватка. Поскольку они, будучи в Венеции, успели приглядеть подходящий палаццо, по их мнению, как нельзя лучше подходящий для музыкального консультпункта, было предложено — уже после того как карточки были отнесены куда подобает — верхний этаж палаццо отвести под служебные апартаменты — это, мол, обеспечит надлежащую близость к объекту деятельности и соответственно духовную подпитку. К тому же верхний этаж обставлен великолепной старинной венецианской мебелью, что, конечно же, позволит использовать упомянутое помещение в репрезентативных целях.
— Вы и не предполагаете, — вскричал теоретик, обращаясь к доктору Арнхейму как к истинному знатоку и ценителю, — как велик и непоправим урон, нанесенный Федеративной Республике именно неверно подобранными интерьерами ее зарубежных представительств!
Мне на ум тут же пришла страна под названием Того, однако мои гости привели в качестве примера наше посольство в Варшаве, ужасающая мебель в котором вполне могла служить причиной черепашьего продвижения к взаимопониманию между ФРГ и Польшей. Деятели культуры вынуждены были слушать докладчика, согнувшись в три погибели — разве такое допустимо?!
— Мы демонстративно уселись бы на полу, дорогой доктор Арнхейм, если бы не этот жуткий ковер цвета застоявшейся мочи, — с оскорбленной миной вымолвил дирижер.
Что понудило доктора Арнхейма тут же настрочить очередную памятку: «Проверить цвет ковра в каб. советника по вопр. культуры в помещ. посольства в Польше», снабдив ее аж тремя восклицательными знаками.
— Ничего, проверим! — громогласно заверил присутствующих доктор Арнхейм. — Вы скоро услышите обо мне. Я лично отправлюсь в Венецию и займусь там недвижимостью.
Позже мы за счет Института Гёте отчалили в «Остерию» на Шеллингштрассе, любимое заведение Гитлера, как утверждал, бия себя в грудь, дирижер.
— Столько ценных указаний и продуктивных идей, — оправдывался доктор Арнхейм, — как сегодня, мне и за год собрать не приходилось.
Оправдание свое он подтвердил внушительным заказом, им же и оплаченным. На мой же взгляд, никаких действительно ценных указаний или продуктивных идей он так и не получил. Разумеется, тема музыки так и не была затронута, разве что в связи с бюджетом и штатным расписанием будущего венецианского филиала в случае одобрения проекта министром иностранных дел и президентом Института Гёте, в чем доктор Арнхейм после пятого по счету литра вина ничуть не сомневался. Естественно, оба советника могут претендовать на участие в выработке упомянутого расписания.
Довершал комедию гротескный акт: уже основательно набравшийся доктор Арнхейм внезапно вскочил из-за стола и проковылял к двери, через которую как раз входил тоже подвыпивший премьер-министр Баварии в окружении своих вассалов — сплошь бандитские рожи с массивными подбородками. И действительно, вся верхушка Христианско-социального союза, сопровождаемая исступленно жестикулирующим доктором Арнхеймом, нетвердо шагая, приближалась к нашему столику, где дирижер и теоретик были представлены как будущие консультанты основываемого в Венеции филиала Института Гёте, а я — как профессор композиции, тесно сотрудничающий с упомянутым институтом.
— Солидно, — похвалил начинание господин доктор Тандлер.
— Честь и хвала, — выразился господин доктор Ридль.
— Только не позабудьте представить баварскую культуру как самостоятельный вклад в составе культуры Федеративной Республики, — изрек доктор Штраус, потом мы подняли бокалы и — кто навытяжку, а кто угодливо согнувшись — выпили.
Господа поставили опустевшие бокалы на наш столик и тут же повернулись к своему, с тем чтобы спокойно и, разумеется, вполголоса обсудить связанные с получением взяток скандалы.
— Мне кажется, дело в шляпе, — пробормотал доктор Арнхейм, когда мне наконец с помощью хозяина заведения удалось разыскать такси, шофер которого согласился не только довезти назюзюкавшегося госслужащего, но и за внушительную сумму, извлеченную из неиссякаемого портмоне доктора Арнхейма, лично препроводить пассажира до его квартиры.
16
Деятели от музыки гостевали у меня до следующего вторника. Я поставил будильник на шесть утра. Едва он зазвонил, я сорвался с места, еще не проснувшись, в спальню, распахнул настежь окна, и едва оба поднялись, как я принялся лихорадочно стаскивать постельное белье с кровати, дабы отрезать им все пути к отступлению. И на самом деле, еще не пробило и одиннадцати, а физиономия теоретика уже была выбрита, отмассирована, сам он попотчеван кофе, так что можно было смело приступать к транспортировке ручной клади, что хоть и не без ворчания, но все-таки было принято.
Дирижер выпросил у меня в дорогу Кафку, из кармана пиджака теоретика торчал томик Блоха «Следы», мне было обещано лично вернуть обе книги в следующий приезд в Мюнхен. Выигранные ими в лото четыре марки тридцать пфеннигов они доверили получить мне с условием, что я вновь поставлю указанную сумму, зачеркнув в нужных клетках числа, соответствующие дню рождения каждого из них, каковые и были мне сообщены.
Когда оба наконец вымелись, я спустился вниз купить пару булочек и газет, вернулся к себе в квартиру, показавшуюся мне вдруг чужой и неуютной, будто я здесь никогда не жил и не творил.
У машины теоретик, нагнув мою голову, шепнул мне в ухо:
— Да, чуть было не забыл, фрау Мария попросила меня обязательно связаться с вами вот по какому делу — она ожидает ребенка.
17
У меня нет сил описывать, каких невыразимых мук стоило мне завершение скрипичного квартета на текст Анны Ахматовой, премьера которого состоялась в кёльнском Доме радио. Мария получила приглашение наговорить тексты, хотя ничего подобного вначале не планировалось. Лишь после того как я пообещал из своего кармана выплатить полагавшийся ей гонорар, равно как и возместить все расходы по поездке, сверху спустили разрешение послать ей телеграмму и оформить с ней договор.
Но Мария ехать отказалась. Она, мол, беременна, и ей, дескать, не к лицу ставить себя в нелепое положение — как воспримет кёльнская публика беременную женщину, навзрыд читающую стихи со сцены!
Премьера вышла отнюдь не радостной. Слишком мало было репетиций, музыканты нервничали — голос был записан на пленку, мой голос. Ни о какой отточенности и внутренней целостности и речи не могло быть, все растекалось, расплывалось и в конце концов результировалось в жидких аплодисментах притомившейся публики, явно ожидавшей нечто куда более значительного.
Переломить ситуацию я не смог и на полагавшемся в те времена обсуждении. Редактор, сам по себе человек, несомненно, доброжелательный, пригласивший меня ради того, чтобы избежать засилья кёльнской школы и ее американских образцов, недвусмысленно дал понять, что находит мое сочинение старомодным, если не реакционным, а третий в связке, один музыкальный критик из Кёльна, ни о чем другом, кроме как на тему «Музыка и общество», говорить не желал, причем без моего участия. Оказывается, они многого ожидали от общества, того самого, которое в душе презирали. До сих пор помню, как я, откинувшись на спинку стула, окунулся во мглу, где изредка мелькали термины «музыкальный фашизм», «отжившая свой век музыкальная риторика», и не было у меня ни защитников, ни единомышленников.
Поскольку о моем квартете речи более не шло, поскольку никто и слыхом не слыхал о какой-то там Ахматовой, не говоря уже о том, чтобы прочесть ее, я не предпринимал никаких шагов для того, чтобы вернуться в аскетическое однообразие Дома радио, что одним именитым критиком в появившейся пару дней спустя газетной статье было определено как мелкобуржуазно-снобистское отношение к великим темам современности. Остается добавить, что сей критик почти все время не отходил от меня в Кёльне.
Когда в конце концов эта изощренная пытка под названием «концерт» миновала, когда публике вновь было дозволено говорить на нормальном человеческом языке и она отправилась в расположенный по соседству ресторанчик, я скрылся в туалете, откуда вышел лишь тогда, когда был в полной уверенности, что меня никто не дожидается. Наверняка здесь я явно переборщил с мерами предосторожности, поскольку и так было ясно, что никто не ищет общества неудачника, по чьей милости вечер оказался загублен. Чутье на неудачников в особенности сильно выражено в провинции, тут уж пресловутое чутье маху не даст. Кёльнская музыкальная клака давно выработала свой собственный жаргон и жестикуляцию, и к каждому, кто ими в недостаточной степени владел, автоматически припечатывалось клеймо неудачника.
Таким образом на первичном этапе я угодил в респектабельную группу, имеющую право назвать себя «некёльнской школой», но и она снова разбивалась на подгруппы, и в самой нижней и непрезентабельной из упомянутых подгрупп собрались те, кого за приличные деньги можно было затащить в Кёльн, поскольку они не ведали, как привести к общему знаменателю чистую музыку и нечистую публику. Я сей наукой не овладел, это сомнений не внушало. Мне оставалось лишь предпринимать дальнейшие попытки, но уже вне границ кёльнской школы, что было непросто, либо снова приехать в Кёльн и вновь подвергать себя унижениям, что более чем устраивало редактора. Ведь в соответствии с законом о радиовещании он был обязан отводить в программе некий процент некёльнским, и поскольку редактор был искренен в оценке и меня, и моей готовности страдать, он продолжал приглашать меня в Кёльн, снабжая поручениями на сочинение произведений, ибо подсознательно скорее всего был убежден, что мои периодические фиаско в Кёльне будут служить доказательством явного превосходства кёльнской школы.
Во всяком случае, мои небольшие пьесы для фортепьяно, ударных и альта на стихи Осипа Мандельштама, которые кёльнская школа охарактеризовала сентиментальной чепухой, пользовались в самом Кёльне устойчивым успехом, хотя сегодня, после того как кёльнская школа тихо почила в бозе, практически там не исполняются, хотя, если верить критикам, они вполне могут быть отнесены к самым заметным произведениям периода современного ренессанса песни.
Сквозь тьму я шагал вдоль Рейна, от напева вод которого было никуда не деться. В тот предполуночный час я и не сказал бы с определенностью, смогу ли и впредь заниматься сочинительством. Разумеется, я и дальше буду получать заказы на сочинение произведений, стипендии, премии — мое имя уже стало известным. Слишком уж часто склоняли меня, чтобы просто так взять да позабыть. И, в конце концов, почему бы мне не податься в преподаватели, в профессора, чему я столь упорно противился? Это дало бы возможность засесть за главное произведение жизни. Что касается добычи средств к существованию, тут мне тревожиться не приходилось. За свой социальный статус я мог быть совершенно спокоен — одни лишь летние курсы в Айове вот уже несколько лет обеспечивали мне гонорары, позволявшие жить вполне сносно.
Естественно, мысли о Марии не оставляли меня в эти ночные минуты у Рейна. И именно в период разлуки она была куда ближе мне, чем в те несколько дней, когда мы были действительно вместе. В ту ночь я ощутил это со всей отчетливостью. Стоило мне остановиться, как Мария забегала на несколько шагов вперед и, раскрыв объятия, дожидалась меня. Когда я вопрошал в темноту, мой ли это ребенок, она хохотала, да так, что я испуганно оборачивался — уж не наблюдает ли кто-нибудь за нами. Когда я, охваченный безумным страхом, был близок к тому, чтобы спрыгнуть с парапета набережной, Мария предостерегающе хватала меня за рукав. Может, мне отправиться в Будапешт и в кругу родственников просить ее руки, как принято в тех буржуазных еврейских кругах, из которых она происходила? Но что, если именно эти круги взяли бы да отвергли мое предложение?
Марии была уготована большая музыкальная карьера, а не участь супруги какого-то там второразрядного сочинителя музыки из Германии, который за пару купюр в твердой валюте умыкнул бы их дочь. А что, если ребенок не мой? Что, если это всего лишь способ обеспечить таким образом стабильное будущее для него? А потом со спокойной душой отдаться карьере в Нью-Йорке, в то время как я продолжал бы торчать в двухкомнатной квартирке, натаскивая свое чадо по части скрипки, математики, может, еще по латыни и по физике. Мамаша присылала бы комбинезончик для малютки, а раз в году и билет на самолет — надо же в конце концов ребенку хотя бы на месяц-два вырваться из тесного Мюнхена! А за это я обретал бы право показывать ее родителям достопримечательности баварской столицы и тешить их оперой. А что, если это и не любовь вовсе, а лишь страсть, родившаяся в убогих городах Восточной Европы из веселья и чувства свободы музыкальных фестивалей? А что, если и Мария вовсе не любит меня, а лишь отдавалась мне в Будапеште и Варшаве в порыве той самой сиюминутной страсти, очарованная моей безграничной наивностью?
Я уселся на холодный металлический парапет у берега, но воды реки были неразличимы в этой темени. Черный Рейн. Может, и Мария сейчас сидит, уставившись в черные воды Дуная, и ее одолевают те же мысли, что и меня. В таком случае что-то должно произойти, и не важно что.
Возвращался я тем же путем, что и пришел сюда. Из-за сгустившегося тумана я ничего не видел, время от времени попадая в лужи, а пару раз даже растянулся, отчего мой элегантный светлый плащ, специально приобретенный для визита в Кёльн, окончательно потерял вид. Завсегдатаи пивнушки, попавшейся мне в Старом городе, приняли меня уж конечно не за молодого композитора, а за себе подобного и посему были настроены весьма дружелюбно.
Вдруг откуда-то из полумрака возникла фигура: высоченный парень с медового цвета длинными волосами, чуточку узкоглазый, который протянул мне руку для приветствия. Крепко пожав мою, он потащил меня за свой столик, заказал «кёльш» и водки и тут же втянул меня в разговор о музыке. Я долго соображал, кто это мог быть. Мой новый знакомый жил в Мюнхене, по его словам, оттуда он меня и знает, неоднократно видел меня на всех этих демонстрациях, акциях и дискуссиях, сегодня он побывал на моем концерте, а после они с друзьями прошлись по пивным, а уже потом он, отделившись от компании, потащился сюда, в Старый город.
С подкупающей искренностью и непринужденностью он перечислил все оскорбления в адрес моих произведений, которые ему довелось сегодня выслушать от других. Все в точности соответствовало моим прогнозам, и все же я был шокирован и возмущен. Выяснилось, что на моей стороне никого, даже музыканты, благодаря мне имевшие возможность сыграть на премьере, и те показали себя в столь невыгодном свете, и те не поддержали меня.
— Тебе с твоей музыкой, — заключил Грюцмахер — именно так звали моего собеседника, — далеко не уехать. Пойми, ты и не элитарный, и не попса, — вразумлял он меня, — у тебя нет ни настоящих сторонников, ни убежденных противников, ты не из левых и в то же время уж явно не из аристократов, твоя позиция скорее чистое упрямство, чем активная оборона, ты не способен ни изолировать себя от них, ни интегрироваться в них. Но самое плохое то, что о твоей музыке даже не поспоришь! То есть с тобой нельзя примириться после всех нанесенных тебе оскорблений. А те, кто после снесенных оскорблений не предпринимают никаких шагов к примирению, идут явно вразрез с чувством меры, тем самым, которое и служит регулятором человеческих отношений. Усек?
То, что ты делаешь, ничего не дает, таково дружеское резюме. Сам он давно покончил с современной музыкой, спаялся с рок-музыкантами, потрясающими ребятами, как он выразился, у него в Мюнхене собственная студия и он работает для Южнонемецкого радио в Штутгарте, пишет для них музыку к телесериалам, в которых снимаются однорукие типы вроде моего соседа и которые так обожает смотреть фрау Кёлер. И тут у меня в руках оказалась его визитная карточка — студия звукозаписи располагалась в Грюнвальде, жил он этажом выше в том же доме.
— Ты должен ко мне зайти, — настаивал Грюцмахер, — и я все тебе покажу и расскажу. У меня ты сможешь заработать настоящие бабки, причем не перетягиваясь и безо всяких переживаний.
Мы выпили еще по кружке «кёльша», и Грюцмахер, взъерошив свою медовую гриву, извлек из кармана пиджака стомарковую банкноту и отказался от сдачи.
По пути к отелю я попытался объяснить далекой и недосягаемой Марии, что совершил акт предательства по отношению к моему искусству, но та, которая больше не желала исполнять мои вокалы, и слушать меня не стала.
Брезгливо оглядев мой изгаженный макинтош, ночной портье потребовал от меня назвать себя и только потом вручил мне ключ от номера.
— Спокойной ночи, — пожелал я ему, уже стоя в лифте, однако портье ничего не ответил.
В ту ночь меня не баловали ответами.
18
Временами на меня нападает неудержимая страсть к воспоминаниям, в прямом смысле неудержимая. Я отчаянно пытаюсь припомнить лица, фамилии, имена, обстановку гостиничных номеров, разговоры. В голове моей разрастается опухоль воспоминаний, норовящая вновь коснуться всех и каждого, прежде чем окончательно стереть их. Но воспоминания эти неотчетливы, размыты, далеки.
Сараево. Пьер Файе исполнял произведения Шарля Ива. Где же это было? В облицованном деревом зале Национальной библиотеки или же в зале мэрии? Вступительное слово произнес поэт, имя его было Анте или Антон, пожилой человек, вышедший к публике в изрядном подпитии, который, решительно и могуче распахнув кулисы риторики, жестикулируя, рассказывал о партизанах, об их героической борьбе, позволившей нам всем собраться здесь и слушать музыку раннего периода авангарда. И вдруг человек этот запел! Звучным голосом он спел нам песню о партизанах, и мы увидели перед собой молодого парня из уже минувшей жизни, готовившегося дать отпор атаковавшему врагу. Но старик есть старик, и лишь невероятным усилием воли он смог допеть до конца растрогавшую его песню своей молодости. Со слезами на глазах раскланялся он перед музыкантами, которые, оцепенев от охватившего их смущения, намертво вцепились в свои инструменты. Потом он сошел со сцены, и его сразу же окружила публика, словно диковинного дрессированного зверя в цирке. И вспоминая о том, как все эти ценители искусства, по сути, спешили отделаться от одетого в несуразный мешковатый костюм престарелого партизана, я вспоминаю и о том, как с бьющимся сердцем сидел на стуле, кипя от негодования, не находя себе места от вопиющей нелепости, несуразности происходящего. Сбивчиво и непонятно я все же сумел убедить Марию, что мне необходимо уйти. И ушел, а она оставалась в зале. Наверное, из чувства долга по отношению к искусству.
Я ушел.
Пытаюсь в точности припомнить, как уходил из зала, потому что хорошо помню, что мой жест не мог остаться незамеченным и даже вызвал некоторое недоумение. Люди не могли взять в толк, из-за чего я все-таки решил убраться: то ли из нежелания видеть этого полупьяного Анте-Антона, то ли по причине размолвки с Марией, которая приподнялась было с места, когда я уже приоткрыл массивную дверь, раздраженно крикнула мне что-то вслед и снова уселась.
Записная книжка! Куда подевалась записная книжка в обложке из красной искусственной кожи, презент Марии, куда я записывал то, о чем не имел права забыть. Туда я записал адрес и телефон того самого Анте-Антона, как сейчас помню, на левой странице сверху. Потому что едва я вышел из филармонии или же из зала Национальной библиотеки, где шел концерт, передо мной возникла странно колышущаяся фигура исполнителя партизанских песен. Темпераментно размахивая руками, Анте-Антон вел оживленную дискуссию с самим собой. Помню, что представился ему, и мы тут же отправились в какую-то шашлычную и, изъясняясь сразу на нескольких языках, каким-то образом разговорились за водкой и дымящимся ароматным мясом на вертелах.
Он поведал мне всю свою жизнь, каждая фраза — мемориальная доска, с которой постепенно буква за буквой опадал прежний текст, уступая место новому, доступному лишь добросовестному исследователю глубин памяти: Москва, Ленинская премия, Куба, Крым, Тито, ГДР, его и так уже ослабевшая, подточенная спиртным память через неравномерные интервалы выдавала слова, которые он заплетающимся языком доносил до меня.
Я вспоминаю, что в тот вечер над Сараево взошла белесая полная луна, одного нашего скептически настроенного попутчика, которому выпал неблагодарный труд поводыря при отыскании нами жилища поэта в многоэтажке на городской окраине. Помню, как я позвонил в дверь на четвертом этаже, потому что мне было неудобно обрекать пожилого человека на утомительные поиски ключа, помню, как нам открыла молодая женщина, как выяснилось позже, его дочь, имя которой тоже угодило в записную книжку в обложке из красной искусственной кожи. Только вот фамилию его я запамятовал. Куда же, черт побери, делась записная книжка в обложке из красной искусственной кожи?
Мы усадили поэта в кресло, сами уселись за обеденным столом, после чего дочь в приступе одержимости пересказала мне биографию отца — на сей раз я слышал ее по-французски, хотя сам поэт поведал мне ее на итальянском языке. Позже мы перебрались в кухню, она все время вскакивала и бегала в гостиную то за книжками с дарственными надписями, то за письмами, то еще за какой-нибудь реликвией. Вскоре передо мной высилась целая гора их.
— Отец хочет умереть! — восклицала она, глядя на меня поверх стены славы. — Он уже собрался умереть. Вот напишет одно-два стихотворения и покинет меня. Он уже и ходит с трудом, воспоминания пригнули его к земле, и после смерти матери я служу для него своего рода эрзац-напоминанием о ней. Я изобретаю для него жизнь. Изобретаю славу. На мне лежит ответственность за его достойный уход. Потому что он всего лишь поэт. И всегда был только поэтом, и никем иным. Поэтом-коммунистом, расправиться с которым немцам так и не удалось.
Зыбкое существование. Лентяй, которого старательно обходит фортуна. Еще пара стихотворений, и с почетом можно лечь в могилу, а последние из партизан споют над могилой песни. Полное собрание сочинений его произведений уже готово для печати, потому что если оно не выйдет в свет сразу же после его смерти, он обречен на забвение. Такова наша участь.
Вспоминаю о том, как она сидела передо мной за крохотным кухонным столом. Потом мы услышали, как поэт, шаркая, прошел в туалет, потом снова наступила тишина, прерываемая лишь неторопливыми рассуждениями дочери.
«Я позвоню вам», — пообещал я ей утром, записав фамилию ее и Анте-Антона. И уже внизу, на улице — я только теперь вспомнил об этом, — я наблюдал, как солнце медленно переползает с балкона на балкон, и как раз в тот момент добралось до их балкона. Она помахала, будто из другого мира, я даже не мог сказать с определенностью, мне ли был адресован ее жест. О печальной миссии взмахов я делал заметку позже, собираясь сделать этот момент исходным для создания пьесы для фортепьяно и виолончели. Посвященной Анте-Антону. И все-таки — как же звали его дочь?
И куда делась записная книжка в обложке из красной искусственной кожи?
19
Итак, начиная со знаменательной кёльнской встречи я стал писать музыку для сериалов Грюцмахера, естественно, под псевдонимом, и не переставал удивляться существенному приросту материальных средств. Нет ничего легче, чем подобрать мелодийку к фильму о жертве наркотиков из высшего общества или случайно погибшей супруге какого-нибудь магната. Поскольку эти сериалы непрестанно повторялись, причем не только в Германии, Австрии или Швейцарии, с тем чтобы решительно все могли увидеть их и в других странах Европы, и не только ее, звон монет, сыпавшихся в мой кошелек, временами бывал настолько звучным, что лишал меня необходимого для серьезной работы покоя.
Грюцмахер был гением по части сбыта на рынке и все же оставался для меня другом, забиравшим свои честно заработанные 25 %, а 75 % аккуратно перечислял на мой счет. Впервые в жизни объектом моего интереса стали консультанты по вопросам налогообложения и по вложению финансовых средств, а налоговое управление стало искоса поглядывать на меня. И я не стал корчить из себя бессребреника, когда Грюцмахер предложил мне приобрести часть фирмы и функционировать в дальнейшем в статусе ее вице-президента.
Четыре раза в год мы в компании экспертов по налоговым вопросам оговаривали ежеквартальные итоги и распределяли прибыль; я освоил науку исчисления амортизации новых микшерских пультов, разъезжал на принадлежавшем фирме авто, а вскоре перебрался и в квартиру побольше — разумеется, она была моей собственностью. Пописывая коротенькие музыкальные заставки для детективных или детских сериалов, которые Грюцмахер тут же выгодно сбывал, я познал самую лучшую сторону капитализма. Даже обедая с кем-нибудь из своих немногочисленных друзей, я не тратился — фирма оплачивала не только обеды, но и вино, которое я попивал по вечерам — это способствовало творческому вдохновению, следовательно, проходило по статье накладных расходов.
Поскольку самому Грюцмахеру фантазия была несвойственна, зато он прекрасно управлял вверенным ему механизмом, разделение труда никаких проблем не вызвало. Я сочинял, он продавал, вел переговоры и прочее. К моему ужасу, наши музыкальные пустячки завоевывали даже какие-то там премии, национальные и международные, вручались они, правда, всегда самому Грюцмахеру. Для этой цели он приобрел целую кучу смокингов, естественно, тоже за счет фирмы. Мелодии, сочиненные мною для популярных ток-шоу, завоевали широчайшую известность — их даже насвистывали на улице, впрочем чаще всего безнадежно фальшивя.
Чем больше становилось музыки, тем труднее людям становилось обращаться с нею. И меня всегда задевало, когда приходилось иной раз слышать в каком-нибудь супермаркете свои вещи, сочиненные для скрипки и безжалостно исковерканные монтажом. Так как телевизора у меня не было, в своих четырех стенах я был надежно защищен от своих рыночных творений и слышать их мог лишь в общественных местах.
Доходившие до меня сведения о Марии были крайне скудны. У нее родилась дочь, о чем мне сообщили открыткой. «Однажды ты с ней познакомишься, — вкривь и вкось было выведено на самом краю, — и она тебе понравится». О том, кто же все-таки отец ребенка, я так и не узнал из ее писем, большая часть которых посвящалась восторженным описаниям дочери, хотя я не раз и не два напрямик спрашивал Марию об этом.
Мария вышла замуж, потом развелась, повстречала другого мужчину, режиссера, имя которого было мне знакомо, хотя ни единого его фильма я не видел. Какое-то время спустя разведясь и с ним, она писала мне, что скорее всего никогда меня не забудет. Первый ее муж — пианист-венгр, второй — француз, постановщик опер, теперь спасать ее должен был, по-видимому, сочинитель мелодий к «мыльным операм» из Германии.
Случалось, Мария выступала с концертами и в Германии, пожиная восторженные отзывы критиков, но Мюнхен всегда старательно обходила стороной. У меня имелась и карточка ребенка, расплывчатое любительское фото, присланное мне на память Марией. Иногда я вглядывался в темные, похожие на кнопки глаза этой маленькой куколки, силясь отыскать черты сходства, но безрезультатно. Претендовать на отцовство этой девочки могла вся мужская половина представителей европеоидной расы.
В те времена у меня случилось несколько романов, в основном это были женщины, так или иначе связанные с музыкой, с которыми я знакомился у Грюцмахера и которые, сойдясь со мной, рассчитывали сделать карьеру. Но они редко оставались у меня после ужина из-за того, что мои сочинения, которые я, как правило, исполнял на фортепьяно, представлялись им ужасными. Некоторые после дискотеки за полночь забегали ко мне, заметив свет в окнах, укладывались в мою постель и крепко спали, когда я уже на рассвете ложился рядом.
Досадно, что я никак не мог запомнить их всех по именам. Они просто проходили через мою не слишком упорядоченную жизнь, некоторые из них хотя бы умели готовить, но большинство — только пить. Когда по утрам они, успев прихорошиться, заглядывали мне в лицо с выражением искреннего материнского сожаления по поводу моей, как они считали, бытовой неустроенности, меня охватывала жуткая злость, побороть которую можно было, лишь мгновенно перевернувшись на живот. И если следующим вечером какая-нибудь Сильвия или Таня названивала мне, интересуясь, что я поделываю, я просил ее прийти как можно скорее, потому что как раз сейчас готовлю еду. Таким образом, я имел возможность отужинать в компании и понаблюдать за разнообразными физиономиями.
Лишь одна из них не походила на своих коллег — русская с миленьким, напоминавшим грушу личиком, изо всех сил старавшаяся испортить свое приятное и мелодичное контральто у Грюцмахера. Она не убегала из комнаты, когда я начинал играть свои сочинения, читала мне в подлиннике Ахматову и Мандельштама, а когда я усаживался за свои коммерческие мелодии, недовольно морщилась и уходила в другую комнату. Всегда, когда я наталкивался на нее в длинном, уставленном книжными полками коридоре, выходя туда, чтобы размяться и почерпнуть вдохновения, она таким скорбным голосом осведомлялась, почему мне грустно, что я не выдерживал и тут же принимался хохотать.
— А тебе, — спрашивал я каждый раз, — почему тебе грустно?
В ответ она, тряхнув своей ежедневно менявшей цвет кудлатой головой, пела какую-нибудь светлую, будто пронизанную лучами солнца песенку, и все вставало на свои места.
Однажды она попросила меня дать ей взаймы десять тысяч марок. Деньги понадобились ей, чтобы переправить своего восьмидесятилетнего дядюшку из Киева на Запад. Нам предстояло отправиться в Пассау и дожидаться его у места переправы. По пути, в машине, поджав ноги под себя и обхватив меня за шею, она рассказывала мне о своей жизни — это была изобиловавшая хитросплетениями и грустная история, то обрывавшаяся, то начинавшаяся вновь и не имевшая конца.
В Пассау я должен был дожидаться ее в машине, а она с какой-то бумажкой в руке убежала. Я видел, как ее рыжеволосая голова исчезла в толпе, и сразу же почувствовал себя очень одиноким и брошенным, что со мной случалось крайне редко, то было одиночество, складывавшееся из печали и стыда. Но не успел я задержаться в этом состоянии одиночества, как раздалось тихое постукивание по ветровому стеклу, и когда я, перепугавшись до смерти, повернул голову, то увидел рядом с ней боязливо съежившегося старичка с потертым чемоданчиком и портфелем в руках.
Не скупясь на поклоны, мы познакомились, потом дядя и племянница уселись на заднее сиденье, где неподвижно и безмолвно просидели до самого Мюнхена. Лишь раз я почувствовал ее руку у себя на затылке, но не успел дотронуться до нее, как она снова исчезла в полумраке салона.
Деньги были возвращены мне постепенно, в десять приемов, а саму девушку я больше не видел. И Грюцмахер понятия не имел, куда она девалась. На память о себе она оставила один вопрос. Иногда проходя мимо книжных полок, я задаю его себе: «Тебе грустно?» И каждый раз после этого по пути в кухню запеваю ту самую веселую песенку.
Среди моих знакомых была и одна моя истинная почитательница. Себя она видела художницей и внушила себе, что своими рисунками сумеет придать моей музыке зримое воплощение. Она появлялась на всех моих немногих концертах, требовала с меня автографы и всегда бесстрашно и дружелюбно выкладывала мне о том, какое впечатление произвели на нее мои произведения, так что уже очень скоро я просто не мог не пригласить ее поужинать со мной после выступления. Очень многие принимали ее за мою жену и, если она опаздывала, всегда спрашивали, где моя супруга.
Звали ее Соня, она была высокой, ладно сложенной и располагала копной светлых волос, даже слегка шокировавшей меня — точно такая же была у моей матери. Ко всему иному и прочему ей вдруг вздумалось написать мой портрет, и она как-то уговорила меня целый день позировать ей. Из Карлсруэ Соня явилась с двумя чемоданами, словно одержавший победу полководец, вошла в мою квартиру и легким движением руки преобразила унылую атмосферу в искусственную радость — там что-то задрапировала, здесь подвязала, стратегически верно разместила привезенные цветы, на книжные полки водрузила нормальные винные бутылки, вообще вела себя так, будто остаток жизни собралась провести здесь, в моем логове.
Когда с приготовлениями для написания портрета было покончено, мне велели поставить записи моих сочинений, они были необходимы ей для вдохновения. После этого Соня заставила меня несколько раз кряду переодеться, я перепробовал с десяток рубашек и шесть брюк, успевших поднакопиться в моем гардеробе. Пока я вертелся перед зеркалом, она критическим взором оглядывала меня. Раз-два-три, подбадривала она меня, видя жалкие попытки поскорее натянуть брюки, при этом отчаянно изворачиваясь, чтобы от ее пронырливого взора ушло то, чего я не желал выставлять напоказ. Комментарий: завтра покупаем тебе новые трусы. Тут едва теплившаяся во мне воля к сопротивлению и вовсе упала до нуля. И чем сильнее я старался не подчиниться Соне, тем большую ее озабоченность это вызывало, и моя молчаливость лишь распалила ее красноречие.
Своими сумасбродными и в тех обстоятельствах эффективными акциями она сломила мое упрямство. Например, она не чуралась иногда и коснуться меня, положить ладошку на живот с тем, чтобы я правильно дышал все эти долгие часы сидения в неподвижности, обеспечить адекватную технику дыхания, как она выразилась: нам же не нужно, чтобы вы в один прекрасный момент взяли да свалились с кресла. И, намеренно употребив вежливую форму обращения, намеренно же удерживала руку между солнечным сплетением и областью гениталий до тех пор, пока у меня буквально голова не шла кругом. Но главное оружие было введено в бой, когда мы оба достигли состояния обманчивого спокойствия: я будто мертвец застыл в кресле, а она напротив меня с альбомом для рисования на коленях.
Вдруг она вскочила, вне себя от злости, и принялась распекать меня за то, что она, дескать, видеть не может мою физиономию.
— Это не вы! — вопила она, сжав кулаки. — Передо мной какой-то слизняк, жалкая тряпка, но никак не художник, не композитор — ни полета фантазии, ни глубины, ни намека на метафизическое! Хотя бы взглянули на меня, что ли!
В ее голосе чувствовалась угроза, а я тем временем уставился на носки своих туфель, и в этот момент и произошло то, чего я вот уже несколько часов с растущим непокоем ждал: Соня извлекла из своей роскошной гривы один за другим гребни, поочередно зажимая их в зубах, затем содрала с себя свитер и швырнула его куда-то в угол. Я, будучи совершенно сбит с толку, не знал, что делать, внезапно мне почудилось, что я вижу перед собой мою мать в невиданном и непозволительном виде: в виде обнаженной натуры. Одному Богу известно, каким же образом ей удалось столь стремительно освободиться от всего, что скрывает женское тело от чужих взоров, но внезапно Соня оказалась передо мной в чем мать родила, причем рядом — протяни руку и дотронешься.
Но о том, чтобы дотрагиваться, и речи быть не могло. Куда там, я — в своем лучшем костюме, омертвелый — сидел в кресле, а особа из Карлсруэ, супруга некоего мелкопромышленника (тоже ее выражение), отрасль — машиностроение, монополист, — яростно набрасывала на лежащем у нее на коленях ватмане, периодически покрикивая: сейчас, сейчас мы покончим с этим. Мне было строжайше воспрещено и шевельнуться, не говоря уже о том, чтобы зажечь свет. Предметы, находившиеся в комнате, на мгновение пробуждались, затем снова погружались в коматозную спячку. Каким-то чудесным образом запасы ватмана в альбоме истощились, сидение завершилось. Больше сегодня все равно не удастся ничего сделать, со вздохом подытожила художница. Она даже вздыхала точь-в-точь как моя мать. В результате всех этих стечений обстоятельств я был не в силах и пошевелиться, однако блондинка проворно извлекла меня из кресла, оттащила в ванную, где с грехом пополам ополоснула, после чего раздела и дотащила до постели. Все остальное — на совести ночи.
Спустя неделю портрет был закончен. Изображенный на нем человек сильно смахивал на черепаху, боязливо высунувшую голову из панциря. Если приглядеться, среди темных тонов заднего плана можно было различить обнаженную женщину с мощной грудью, заклинающе поднявшую руку. Муза, лаконично пояснила художница из Карлсруэ. Она была удовлетворена: ее лучшая картина. К сожалению, продавать ее Соня отказалась, иначе я просто поставил бы ее на вечное хранение в какой-нибудь запасник, где она благополучно истлела бы.
Слава Создателю, из картины никак нельзя было установить то, как именно она создавалась, и то, что в краски якобы были добавлены какие-то там магические компоненты. Когда я несколько лет спустя прочел в одном из журналов о том, что некая американская художница из концептуальных соображений в качестве красок использовала свои ежемесячные выделения, я невольно вспомнил о своей почитательнице из Карлсруэ, которой наверняка пришелся бы по душе подобный авангардистский прием.
Через неделю Соня, прихватив шедевр, навсегда испарилась из моей жизни. От ее знакомых, тоже художников, я впоследствии узнал, что при написании портретов она всегда использовала подобный подход, пока в один прекрасный день не нарвалась на какого-то ваятеля по камню, который на четвертый день творчества отметелил ее так, что она загремела в больницу. Суд счел возможным оправдать его.
Мой портрет до сих пор можно увидеть на почтовых открытках.
Кроме вот таких, по сути, поверхностных знакомств особым разнообразием моя жизнь не отличалась, поскольку меня мало интересовало и стремительное, не отличавшееся новаторскими тенденциями развитие современного искусства, и развитие общества. А разве пресловутое общество могло кого-нибудь заинтересовать? Как ни прискорбно, но все вновь уверовали в государство. Неужели искусство хоть что-то могло мне дать? Я много читал, много сочинял, много бездельничал. Было ли это счастьем или печалью?
О Марии я почти ничего не слышал.
20
Уже неделю спустя после завершения празднества и два дня спустя после отъезда Марии я напрочь позабыл ее лицо. Иногда меня даже охватывало чувство, что мы с ней вообще не виделись. Волосы, глаза, раскрытые объятия — так встречала она меня, когда я проделал мучительно долгий путь от входной двери, пройдя сквозь строй венгерских авторов, аромат ее кожи, цвет ее платья — все это я помнил, но детали не давали цельного представления о человеке, о личности. Та, прежняя, Мария, двадцатилетней давности, была мне куда ближе, чем странная женщина, которая с видом собственницы и несколько шумливее, чем полагалось, проследовала через мое жилище. Все здесь мое, как бы говорила она, ноты, книги, рояль, а дочь моя — моя наместница здесь, и задача ее — уберечь от распада дорогие ей вещи.
Еще остававшиеся в моей квартире мадьяры: дядюшка Шандор, Янош и двое отпрысков, происхождение которых мне оставалось неясным, держались на почтительном расстоянии, проявляя на удивление мало заинтересованности. Очевидно, успели привыкнуть к подобным шоу. Дядюшка Шандор покуривал трубку перед телевизором, за что и получил выговор; Янош беспрерывно читал комментарии к Талмуду, постоянно выслушивая упреки в том, что, дескать, загубил в себе этим бессмысленным чтением музыканта; оба ребенка, девочка лет четырнадцати и ее младший брат, который был для нее чем-то вроде раба, скрылись в моей библиотеке и громко по слогам читали подписи к иллюстрациям в истории эротической живописи, приобретенной мною за какую-то смехотворную цену в Рамше.
— Чьи вы? — как-то поинтересовался я у этих детей, которые в полураздетом виде шныряли по квартире, убедившись, что Мария меня не слышит.
— Оставь детей в покое, — прошипела Юдит, — какое тебе дело до них, тебе всюду свой нос надо сунуть.
Может, об этих детях просто забыли? Дядюшка с Яношем, у которых я пытался установить принадлежность детей, также не могли сказать ничего определенного. Отца их звали Миклошем, мать Магдой, но о том, где в настоящий момент находятся их родители, ни брат, ни сестра сказать не могли.
Мария отправилась за покупками. У Марии назначен визит к парикмахеру. Марии делали маску — убрать эти противные морщины, оставшиеся после праздничных треволнений. Мария вела со всем миром продолжительные телефонные разговоры на разных языках. Но главным занятием Марии с тех пор, как она очутилась у меня, были долгие беседы с Юдит, из которых я, разумеется, был исключен. До меня доносился громкий хохот, злобное шипение, всхлипывания, успокаивающие внушения — словом, все регистры, доступные певице, были опробованы. Да, но для чего понадобилось задействовать все упомянутые регистры?
Когда на второй день после торжества у меня пропал аппетит, я уговорился с Гюнтером, рассчитывая, что откровенный разговор на немецком языке без свидетелей поможет мне вновь обрести почву под ногами. Я уже стоял у двери, взявшись за ручку, за которой лежала свобода, когда Юдит, промчавшись через полутемную переднюю, набросилась на меня.
— Куда это ты собрался? — выкрикнула она.
— Мы договорились с Гюнтером поужинать вместе, — ответил я, и это было чистейшей правдой, но легкость, с которой я выпалил ей ответ, заставила меня усомниться в правдивости сказанного.
— Выходит, по-твоему, твои гости должны подыхать с голоду?
Не успела она еще докончить фразу, как я заметил, что дверь комнаты, в которой они только что обсуждали насущные проблемы, чуть приоткрылась, и на паркет упала полоска света.
— То, что ты, вместо того чтобы заниматься нами с Марией, бежишь куда-то, еще можно объяснить. Но то, что обрекаешь на полуголодное существование дядю Шандора, Яноша и детей, такого я от тебя никак не ожидала.
— В столовой полно еды, она осталась от праздника, — вяло аргументировал я.
— Выходит, твои родственники должны копаться в объедках! — возопила она, да так, что точь-в-точь, как в дурацкой комедии, двери одна за другой стали открываться, и все проживавшие на моей жилплощади венгры уставились на диковинного мужчину, который стоял в прихожей, ухватившись за дверную ручку.
— Ладно, давайте пойдем все вместе, — уступил я, и мы отправились в ресторанчик к Марио значительно возросшей компанией: дядя Шандор, Янош, оба отпрыска и я.
Мария и Юдит предпочли остаться. Хозяин тут же заверил дядюшку Юдит, что в свое время был по уши влюблен в одну венгерку, которой по части искушенности в эротике не было равных.
Из всего из этого получился наиотвратительнейший вечер встречи представителей искусства. Гюнтер принялся разыгрывать из себя известного, но до сих пор не снискавшего должного признания литератора, дядюшка, как обычно, курил, Янош безмолвствовал, а я, как цивилизованный человек, пытался вкусить спагетти, что, согласитесь, не совсем удобно, если к тебе с обеих сторон притулились дети, которых сморил сон.
Около одиннадцати мы вернулись домой. Гюнтер вызвался проводить нас, неся на руках малыша, поскольку уже никто из земляков ребенка не был способен на такого рода физические усилия. Я же нес на руках девочку, которая негромко бормотала про себя, иногда дрожащим голосом напевая. Странная ноша. В моей квартире обрели кров три поколения венгров, причем сам я был основательно урезан в правах, равно как и в жилой площади.
Едва мы переступили порог, как я понял: дома что-то не так. Квартира лежала погруженная во тьму. Так как я при всем желании не мог с девочкой на руках шарить по стенам в поисках выключателя, а по неосмотрительности Гюнтера мальчик ударился головой о перила, потому что дядюшка Шандор испытывал патологический страх перед неосвещенными помещениями и, тяжело дыша, сидел на лестнице, зажечь свет было поручено Яношу, что после неоднократных неудачных попыток ему все же удалось.
Ни матери, ни дочери в квартире не было. Не могу сказать, что это сильно опечалило меня, напротив, стоило нам, уложив подрастающее поколение спать, усесться вчетвером за круглым столом в кухне, как в квартиру словно вернулся прежний уют. Можно было спокойно обсудить отсутствующих. В особенности постарался Гюнтер, которому, оставаясь и восторженным, и вместе с тем задиристым, удалось вытянуть из моих венгерских приятелей столько неведомых мне деталей касательно Марии и ее жизни, что за эту ночь монументальная эпопея любви, в которой Марии и мне до сих пор отводилась роль главных действующих лиц, укоротилась до скромной новеллы с еще не наступившими кульминацией и развязкой.
Мария, об этом я слышал впервые, была членом партии, причем уже к моменту нашей первой с ней встречи. Иными словами, наш роман с самого начала стал достоянием спецслужбы, что, разумеется, вело к легкоугадываемым последствиям. Янош, знавший и понимавший все и охотно сейчас на эту тему распространявшийся, и Шандор, тоже немало знавший, но предпочитавший помалкивать, разгоряченные первоклассной граппой, за бешеную цену навязанной нам на дорожку владельцем заведения Марио, теперь старались перещеголять друг друга по части объяснения, как же все-таки в жизни Марии любовь к музыке трансформировалась в любовь к идеологии. Так что Гюнтер к началу третьего, когда мы без помех имели возможность продолжать эту вивисекцию, пьяно поблескивая глазами, задал главный вопрос: не я ли, если учесть все изложенные обстоятельства, в таком случае отец Юдит? После того как это было произнесено вслух, за столом повисла тишина, нарушаемая лишь потрескиванием трубки дядюшки Шандора.
До сей поры жизнь моя протекала вполне беззаботно. Я представлял собой тип дурака, но дурака тихого, не лишенного кое-какого таланта, не обремененного ни завистью, ни великим тщеславием. Я в той или иной мере продолжал хранить верность своей эгоцентричной привязанности идеалам социализма, только нынче уже сделал выбор в пользу одной из наших партий социал-демократической направленности: богатые должны богатеть еще больше, чтобы бедные не нищали. Из всего континуума бытия я урвал для себя микрочастицу, где мог жить, иногда слушать музыку или пролистать одну-две книги.
Все мною достигнутое приумножалось незаметно, в полном соответствии со сложившимися в западной части Германии традициями. Я никогда не рвался к чему-либо, попирая всех и вся, — точнее, не ощущал необходимости рваться к чему-либо. Пресловутая потребность в самовыражении была мне чужда, всякого рода приступов витальности я тоже старался избегать. Вероятно, мой обманчиво-безобидный психогабитус был лишь внешне признаком глупости. Вероятно, по примеру Гюнтера мне следовало почаще появляться на всякого рода престижных сборищах — будь то новогодний прием у премьер-министра Баварии, ежемесячная встреча у канцлера, «круглый стол» по социальным проблемам при премьер-министре страны, заседания союза литераторов, членство в совете Института Гёте, общества Гумбольдта, комитета по делам культуры профсоюзов, фонда культуры фирм «Сименс» или «Мерседес».
Я всегда старался, по возможности незаметно, раскусить собственные замыслы, именно по этой причине мне и приходилось в жизни нелегко. И то, что не кого-нибудь, а именно меня угораздило под бдительным оком венгерских спецслужб втрескаться в Марию и, как предполагают некоторые, сделать ее матерью моего ребенка, было просто дичью, и мне ничего не стоило разнести в пух и прах любой аргумент Гюнтера — дело в том, что стать отцом Юдит я никак не мог по чисто временным причинам.
— Дистанционное оплодотворение! — вскричал я. — Может, ты веришь в дистанционное оплодотворение?
И в тот момент, когда я подливал всем граппы, на мое счастье в кухню вошла девочка — ей захотелось пить.
Девочкой занялись дядюшка Шандор и Янош, и даже Гюнтер, как правило весьма редко расстававшийся с недопитой бутылкой, и тот сообразил, что мне сейчас лучше побыть одному. Я проводил его вниз к такси. Мы вместе дождались машины, и когда та подъехала, Гюнтер напоследок решил добить меня:
— А может, и твой дядя Шандор с этим Яношем — тоже сотрудники спецслужбы, а если нет, откуда им известны все детали этой любви-предательства, жертвой которого ты стал?
— А как со мной, быть может, и я был участником этого заговора? — не выдержал я.
Но такси уже отъезжало.
Я в раздумье продолжал стоять на улице, понятия не имея, как впредь соотноситься со шпионьем, свившим гнездо под моим кровом, и тут уже с другой стороны снова подъехало такси. Наверное, Гюнтер, мелькнуло у меня в голове, небось снова не оказалось денег. Но это оказался не Гюнтер, а Юдит. Одна. Мария, по ее словам, предпочла провести последнюю перед отъездом ночь в отеле «Четыре времени года», подальше от меня, дядюшки Шандора и Яноша, показавшихся ей ее судьями. Я выступал обвинителем, ну а венгры — членами суда.
— Но если она невиновна, чего ей в таком случае бояться? — резонно поинтересовался я.
— А кто сегодня с полным правом может считать себя невиновным? — вопросом на вопрос ответила Юдит. — Ты — нет, к тому же ты еще и пьян.
Мы решили обойти квартал, мне необходимо было вдохнуть свежего воздуха. Я внес предложение сразу же после отъезда дядюшки Шандора и Яноша прокатиться во Францию. Мне три дня необходимо поработать в студии, а затем можем и отвалить. Во Франции я намерен начать свою оперу о Мандельштаме, если получится, конечно.
Как и следовало ожидать, отъезд затянулся. Оказалось весьма непростым делом разыскать родителей подброшенных детей, находившихся в Париже, а когда мы их разыскали, те явно не торопились в Мюнхен. Лишь ценой невероятных усилий мне удалось отговорить Марию от идеи передать им детей в Париже с рук на руки, невзирая ни на какие ее доводы о том, что, мол, настоящие друзья только так и поступают. Все шло без осложнений — дядюшка с Яношем явно не горели желанием вновь увидеть берега Дуная, дядюшка был в восторге от перспективы без всяких помех часами торчать у телевизора, а Яноша порадовал неограниченный доступ к библиотеке, да еще при полном отсутствии оппонентов по дискуссионным вопросам.
Итак, в солидных количествах было закуплено так называемое пастеризованное молоко для детей и целые корзины лапши для взрослых, домработница получила весьма обстоятельный инструктаж относительно форм и количества приготовления еды, дядюшка Шандор был строжайше предупрежден о недопустимости рассыпания искр из трубки, Янош ознакомлен с мерами противопожарной безопасности, оказавшиеся на грани сиротства дети получили в подарок от Юдит антологию венгерской поэзии — в обмен им пришлось расстаться с альбомом эротической живописи, с которым они по доброй воле ни за что бы не расстались, — а кроме того кучу наставлений о том, как вести себя до приезда родителей. После этого, забив авто до отказа и в твердой убежденности, что в таком виде мы мое жилище более не увидим, мы отчалили во Францию.
Уже на границе Мюнхена и Баварии я живо представил себе, как Янош взахлеб читает мои письма к Марии, скопившиеся в незапертом потайном ящике письменного стола; представил себе и как дядюшка Шандор упивается сериалом «Розыск» с музыкой моего сочинения, в то время как гардины занимаются ярким пламенем, перед глазами моими возникла картина полуодетых детей, дурачащихся на лестничной площадке, что никак не могло остаться незамеченным для соседей и, соответственно, полиции. К Брегенцу я уже успел пресытиться этими картинами всеобщего разрушения; на границе Швейцарии и Франции вполне зримо представил себе конец моего тихого, мелкобуржуазного, добропорядочного существования.
Когда мы стали на привал в Ниме, я был твердо уверен, что нужно начинать работать. И я был счастлив — да-да, меня переполнило чувство именно инфантильной безмятежности, бездумного счастья, — едва моему взору предстал наш домик. Я прибыл на место.
21
Не успели мы разгрузиться, как вверх дном был перевернут сначала дом, а потом и садик. Юдит весьма экономно расходовала свой талант вызывать у людей раздражение. Я был просто ошарашен тем, что кто-то может вот так, едва и впервые оказавшись на пороге дома, с ходу начать фундаментальные перемены. Все здесь должно быть по-другому, и конец. Сию же минуту все переменить, перевесить, переставить, передвинуть. Она была несокрушимо уверена, что я должен придать саду иной вид, мол, сад — зеркало дома. Иной вид! Не спорю, сад выглядел неухоженным, опутавший все на свете вьюнок, бурьян, кусты, загораживавшие вид на весьма живописные окрестности.
Дом этот был приобретен мною десять лет назад, и с тех пор я и пальцем не шевельнул ради благоустройства территории, если не считать разбивки небольшого огородика. Мне всегда импонировали дикие заросли, буйство неукрощенной флоры, по моему мнению, идеально сочетавшееся со светлым песчаником стен дома. Я любил густой плющ, покрывавший почти все стены, хотя выпущенные на волю растения грозили разрушить черепицу крыши. А что касалось шиповника, заросли которого кое-где давке перемахнули ограду, в него я был просто влюблен без оглядки. Сколько раз в этом призрачном саду, воплощении нарушения всех норм цивилизованного садоводства, в этом хаотичном, дремлющем за высокими стенами раю животных и растений в часы невыразимой пустоты на меня снисходило истинное вдохновение. Именно здесь я, покуривая на скрипучем плетеном стуле, наблюдал закат солнца, окрашивавший в багрянец словно намалеванные грубой кистью облака, делал зарисовки в лежащем на коленях блокноте, поражавшие меня завершенностью и ясностью линий и абсолютно бесцельные. Как же они отличались от возникавших в суматохе и тесноте моего городского житья-бытья!
И в этом же доме, в этом приветливом доме я работал над своими сочинениями, они рождались в полутемной и прохладной комнате первого этажа, где я нередко просиживал до самого утра и заставал первые трели пробуждавшихся птиц. Только тогда я, отложив ноты, прикрывал ставни и укладывался спать. Ни один городской дом, ни одна городская квартира не способны даровать ощущение всеобъемлющего и совершенного счастья, будто сложенного из кирпичиков, каждому из которых отведено свое, лишь ему отведенное место. Иногда требуется целая жизнь для обретения этого счастья, и ты уже не в состоянии им воспользоваться, ибо ослеп в бесконечных поисках и бессилен подлинно оценить его. Но мне в жизни выпало счастье, редкостное счастье. Ибо дом этот, со всей его ужасающей неразберихой, был моей территорией. И до сего дня ни один из представителей рода людского не отваживался подвергнуть его реформам. Никто из моих гостей или просто заезжих путешественников, заворачивавших сюда на пару дней, а то и на целую неделю по пути в Прованс или к морю, не посягал на неписаное правило, царившее здесь: ничего не переделывать! Даже даваемые из самых лучших побуждений рекомендации, какие водится давать хозяину, попав к нему на постой, так и оставались без последствий.
А теперь я, автор и хранитель правила, на протяжении десятилетия остававшегося незыблемым, должен был по чьей-то милости это правило сам же и нарушить. То есть выступить в роли ниспровергателя прописанных самим же законов. Якобы вредные и опасные вьющиеся растения были выкорчеваны, кустарник прорежен — теперь долина была как на ладони. Два деревца, вольно произраставшие в моем саду, безжалостно спилены, раскидистые кроны крупных деревьев подрезаны — особенно досталось ореху, — живые изгороди подстрижены, палочки для подвязки цветов заменены или воткнуты в другое место.
Целыми днями я не выпускал из рук тяпку, пилу или грабли, словно пытаясь за неделю наверстать упущенное за предыдущий десяток лет. И хотя на душе у меня было премерзко и муки совести изводили меня, я незаметно для себя подцепил эту хворь, этот вирус усекновения — вовсю подрезал, спиливал, выкорчевывал, полол, да так яростно, что временами вынужден был давать себе око-рот, иначе весь сад до единого кустика, до последней травинки пал бы жертвой клокотавшей во мне ярости.
Каждый вечер я, поскрипывая плетеным стулом, сидел за приготовленным Юдит ужином, не чуя ни рук, ни ног, и в страхе поглядывал на постепенно скудевший пейзаж вокруг. Взгляду открывались холмы на противоположной стороне долины, цепью протянувшиеся на восток. Густая полоса лесов зеленела на горизонте, она походила на утомленных зверей, дремлющих в сухом, переливавшемся маревом воздухе. По краям желтоватых полей были разбросаны домики, сквозь завесу деревьев виднелись время от времени проносившиеся автомобили, будто чья-то исполинская рука тянула их на шнуре. Мир по ту сторону сада обрел зримые очертания, отныне и я был открыт для обозрения мира. Впервые бросив взор на смежную территорию, я заметил сидевшего в кресле-коляске соседа, а он — меня: человек, склонившись, в неверном свете сумерек дожидался, пока его накормят. Из милости, пронеслось у меня в голове, и я на зудящих от бесчисленных комариных укусов ногах проследовал на кухню — пока что я был в состоянии сам о себе позаботиться.
Юдит была довольна моей работой: вот здесь еще надо заменить подпорочку, а эти цветы убрать в тень — они не переносят солнца, между домом и стенкой надо проложить гравийную дорожку, а в конце ее поставить что-то вроде беседки, по вечерам будем ужинать и смотреть на панораму. В общем и целом сделанное мною понемногу начинало соответствовать ее представлению о южном саде, разумеется почерпнутому из книг и рекламных пособий. Юдит впервые была во Франции!
Когда я после десятидневной епитимьи робко попытался заняться сочинительством, чтобы хоть частично запечатлеть на бумаге пришедшие мне в голову за дни физического труда идеи, Юдит заставила меня и дом приводить в порядок.
— Как-нибудь мы приедем сюда, а здесь одни развалины, — предостерегала она.
Мы? А почему — мы? Но я снова покорился, съездил в Невак и привез оттуда целый багажник краски, кистей, щеток. По прошествии недели все деревянные элементы, двери и оконные переплеты были выкрашены в серый цвет, тяжелые балки, подпиравшие крышу, пропитаны особым составом против древоточца, убраны старые осиные гнезда, трое усталых работяг, которых мы приглашали обедать с нами, отрыли колодец и облицевали его камнем. Водопроводная вода вполне удовлетворительного качества, поступавшая сюда под вполне удовлетворительным напором, это сплошь пестициды, предостерегала меня Юдит. Трещины в стенах залили бетоном, деревянный козырек над входом заменили на новый. Даже безобидным кротам, усеявшим причудливыми нотами земляных куч поверхность травы, пришлось убраться из сада подобру-поздорову. Только нам было дозволено оставаться здесь, остальные пожалуйте прочь.
Венцом инициированных Юдит перемен стали заказанные ею у какого-то столяра новые полки, на которых она расположила сразу все книги, чего мне никогда не удавалось, на смену старой посуде тоже пришла новая, стоившая «всего ничего» в лавчонке. Та же участь ждала и вышитые покрывала постелей, и продырявленные матрацы, из которых клочьями торчал конский волос — все это перекочевало на помойку.
— Ну как можно спать на таких матрацах и не болеть? — искренне недоумевала Юдит. — Вот поэтому ты уже сейчас еле ходишь, согнулся в три погибели, как древний старик.
И мы обзавелись щадившими хребты матрацами известной фирмы, которым к тому же понадобилась и новая основа — только в этом случае они могли полностью развернуть свою чудодейственную мощь.
— Тебе необходимо подумать о старости, — сказала мне Юдит в один из вечеров, когда мы спокойно сидели на террасе и глазели на закат (подправить закат ей было уже не под силу), — не всегда же я буду за тобой ухаживать. Между концертами я еще могу забежать и справиться, как дела, но остальное время тебе придется самому заботиться о себе.
Она уже почти дозрела до того, чтобы подыскать для меня в деревне женщину, которая приглядывала бы за садом и за мной, готовила и обстирывала меня, пожилую тетку, которая бы меня не «отвлекала».
— Мне пятьдесят, — объявил я, — и до сих пор я как-то сам справлялся, так что мне ловчее в одиночестве.
— Верно, — ответила Юдит, — но через десять лет тебе уже стукнет шестьдесят — эдакий старичок, любящий красное винцо, все впечатления которого складываются из телевизионного музыкального китча и пролистывания пожелтевших от времени нот, которые он считает наилучшим из всего, что пишется. Старичок, дожидающийся отчислений от «Общества по охране авторских прав, прав на воспроизведение и тиражирование музыкальных произведений», ведь его детективный сериал с успехом показывают и в Болгарии. Старичок, который прикнопливает в туалете оперные афиши, чтобы, как минимум, дважды в день иметь возможность увидеть свою фамилию напечатанной. А когда тебе будет шестьдесят, мне — тридцать два, я буду играть Лиджети и Куртага, которым уже сейчас по семьдесят, но когда им будет восемьдесят, о них все равно не перестанут говорить, потому что они верили в свою музыку и трудились над ней. И еще вопрос, будет ли мне интересно печься о каком-то старом цинике, который торчит в своей развалюхе во Франции, глазея на ящериц, забирающихся на его босые ноги.
И прежде чем я успел что-то ответить на сей патетический прогноз, Юдит исчезла в моем пока что вполне прочном домике, откуда вскоре донеслись звуки виолончели.
Завтра начинаю оперу о Мандельштаме, лихорадочно думал я, тогда придется самому позаботиться и о доме, и обо всем. Изогнувшаяся в виде буквы «S» дорога на противоположном холме сияла, будто начертанное предзнаменование. По ней ехала машина с синими сигнальными огнями, оставляя за собой пыльный след, какое-то время висевший в воздухе. Было начало одиннадцатого, время ложиться спать, а завтра в шесть предстояло ответить на все вопросы, которые обрушила на меня Юдит, а затем склониться над нотной бумагой.
Чтобы Юдит не видела, что я собрался лечь, я решил проскользнуть в дом через главный вход. Зачерпнув из нового колодца пригоршню еще не успевшей остыть воды, я осторожно, аки тать в нощи, отворил дверь и на цыпочках стал взбираться по деревянной лестнице. Юдит вовсю репетировала. Раздевшись до трусов, я опустился на новый матрац, натянул одеяло, повернулся на бок и стал прислушиваться. «В душах наших сады произрастают», пришло на ум мне, но сосредоточиться на этой мысли я не смог. Слишком уж близко расположилась Юдит. А ее близость исключала любую попытку мыслить самостоятельно.
Возможно, она и права. Возможно, я и десять лет спустя предпочту вот так же валяться на боку, вслушиваясь в темноту, а она, разъезжая по миру, будет давать концерт за концертом. Раз в три недели почтальон принесет от нее открытку, где будут перечисляться только что одержанные победы. Открытку, которую я аккуратно приколю рядом с десятком других над раковиной в кухне. А раз в году мы после концерта в Мюнхене будем отправляться на ужин, все будут глазеть на нас и ломать голову, кто же я такой: ее родитель или все-таки импресарио. И она, смеясь, спросит, не собираюсь ли я что-нибудь и для нее сочинить, нечто прекрасное, легкое, ничего общего с вымученными опусами времен моей молодости не имеющее.
Вдруг я ощутил, как во мне жаркой волной поднимается ярость, мгновенно перешедшая в чистейшую ненависть. Вот сломай она завтра руку, грохнись с велосипеда или отравись какими-нибудь мерзкими ягодами, которые она без разбору срывает и тут же сует в рот. Ведь тут же разноется и будет умолять помочь ей. А я наплюю на нее! С той же язвительностью, с которой она нападала на меня, я буду отвергать все ее мольбы и просьбы. Буду вести себя с ней как с брошенной пассией, как человек, совершенно ей посторонний, стану неузнаваемым в ее глазах.
В эту секунду я услышал, как Юдит позвала меня, причем интонация была явно вопросительной. Я уже привык к тому, что она называла меня на венгерский манер — Дьёрдь? — и это, вероятно, должно было служить признаком особого ко мне расположения. «Дьёрдь?» — повторила она. Я затаил дыхание. Через щели в полу я разглядел мелькнувший силуэт, потом услышал, как она, тихонько насвистывая, стала укладывать виолончель в чехол, как хлопнула крышка, потом послышался глуховатый шум — Юдит задвинула инструмент в угол. И еще раз — Дьёрдь?
Нетушки, нет твоего Дьёрдя, и все тут. Был, да весь вышел. Теперь отправится к телефону, подумалось мне, и станет названивать своей мамочке, и на самом деле я услышал, как завертелся допотопный диск. И вертелся довольно долго.
— Мария? — спросила она в трубку спустя целую вечность, затем последовало продолжительное шептание по-венгерски, причем каждые две секунды повторялось мое имя.
Я бесился, потел от бешеной ревности, когда она вдобавок еще и прохихикала: Дьёрдь. Kekmatchmo$gvatalassam, и так далее, и тому подобное до тех пор, пока не выдохнула в трубку Servus, на прощание.
Что было делать? Так как добром к ней не подступишься, оставалось дать волю ненависти. Ненависть заставляет противника покинуть свое убежище, доброта склоняет к бездействию. Может, просто, без обиняков, указать ей на дверь?
Юдит спала внизу, в комнатке для гостей, у кухни. Она еще раз обошла вокруг дома, что я мог заключить по шуршанию гравия, и по непонятным мне причинам захлопнула ставни, после чего вернулась в дом, скрипнув дверью, зашла в ванную (надо будет смазать дверь), и когда дверь снова скрипнула, до меня донесся звук спущенной в унитазе воды. Потом Юдит открыла еще одну дверь, я не понял какую. И когда я уже стал изгонять все мысли из головы, чтобы наконец уснуть, внезапно обнаружил ее на краю моей постели.
— Спишь уже? — осведомилась Юдит.
— Нет, думаю, — ответил я.
— А о чем может думать мужчина среди ночи?
— Ни о чем.
— Ты, часом, не буддист? Только те могут ни о чем не думать.
— Нет, — ответил я, — я влюбленный в усталость Христос, спрашивающий себя, за какие грехи он позволяет двадцатидвухлетней дочери своей старой подружки так изводить себя.
— Я только сказала то, что есть на самом деле, — пояснила Юдит. — И Мария так же считает. Я должна присматривать за тобой, велела она, иначе ты пропадешь. Тебе надо сочинять.
— Как я могу сочинять, Юдит, если по твоей милости с утра до вечера должен ковыряться в земле, размалевывать окна, рыть колодцы и сносить подковырки и оскорбления?
— Дома ты тоже ни ноты не написал. Сидишь со своими никчемными книжками и палец о палец не ударишь, ведь это правда.
— Никакой правды нет и быть не может, — парировал я, — как раз об этом и написано в моих никчемных книжках!
— Если в них утверждают подобную ерунду, то их надо выбросить. Нет, правда искусства была и есть!
— Прекрасно, — устало согласился я, — но она порой нацепляет на себя столько масок, что и не поймешь, где правда, а где ложь.
— Отыскать ее, ведь в том и состоит твой долг. Посредством своей музыки.
— Мою музыку никто не желает слушать, — раздраженно бросил я. — Моя опера о Мандельштаме будет трижды поставлена в Нюрнберге, если художественный руководитель театра останется на своем посту, и кончим на этом.
— Какой ты плакса, самый настоящий маленький мальчик, — заключила Юдит, погладив меня по руке, которая, будто странный зверек, вытянулась на простыне. — К тому же Мандельштам — неверный выбор. Двадцать лет назад, когда вы с мамой познакомились, тогда тебе и следовало написать оперу о Мандельштаме. Она была бы революционной. Но теперь? Теперь уже легко и просто взять да обвинить загубленного Сталиным поэта на нюрнбергских подмостках.
— Я не собираюсь его обвинять, Юдит, напротив, я стремлюсь выставить его в качестве образца.
— Ну и выставляй на здоровье, — ответила Юдит, — только смотри, чтобы он не развалился.
И позже той же нескончаемой ночью, когда за окнами стало светлеть и когда защебетали птицы, я, весь в поту, с саднящими глазами, уселся в постели и, патетически расставив руки, воскликнул:
— Я хочу спать! Я в своем доме, приобретенном за честно заработанные мною деньги, и я имею право в три утра после дня тяжелой физической работы в конце концов уснуть! Если, конечно, смогу после всех этих дебатов, — преисполненный жалости к себе, добавил я.
— Конечно, уснешь, мой дорогой Дьёрдь, — проговорила Юдит, улеглась позади меня в кровать, прикрыла мне ладонями глаза и вполголоса стала напевать колыбельную, тут же сморившую меня.
Этому не смог помешать даже комар, описывавший круги над моей головой.
— Добудь причитающееся тебе, — шептал я про себя, — добудь каплю крови, она твоя, возьми ее и умолкни.
22
Проснувшись, ощутив позади себя непривычно теплое тело, взглянув на часы, я обнаружил, что уже половина седьмого. Жизнь моя переживала драматический поворот.
Я осторожно выбрался из постели. Все это было мне явно поперек души. Обнаженная Юдит, ее руки, вдруг попытавшиеся ухватить пустоту, после чего снова прильнули к груди, неестественно вывернутые ноги, едва заметно подрагивавшие во сне — этот образ молодой девушки, на которую я уставился, уподобившись какому-нибудь вуайеристу, явно был далек от невинности.
Проскользнув в кухню, я сварил кофе, уселся в плетеном кресле в саду и попытался все как следует обмозговать. Все вокруг было подернуто тонкой пеленой тумана, которая сантиметр за сантиметром исчезала, уступая место солнцу. Ящерицы давно проснулись, неуклюже скользя, прошествовала влюбленная парочка бабочек, птицы сварливо пожелали мне доброго утра — ведь именно я, а не кто-нибудь урезал полюбившуюся им живую изгородь. Мимо моих босых ног нервозно устремлялись по своим делам нагруженные поклажей муравьи — им явно невдомек события минувшей ночи. Я уже ухватился было за ниточку, готовясь распутать огромный клубок ночного разговора, на свежую голову проанализировать его, но тут заметил в дверях Юдит со стаканом холодного молока в руке.
— Давай пройдемся немного, — предложила она, — пока не жарко. Сейчас все равно нет смысла мусолить вчерашнее.
— А я ничего не мусолю, я просто мечтаю, — ответил я, но отправился за ней.
На гребне холма, откуда мы, двигаясь строго на запад, спустились в долину, притулились крестьянские подворья. Их было довольно много. За нами увязалась собачонка, охотничий пес, каких полно в округе. Вдруг собака забежала вперед — черно-белое создание с будто рассеченной надвое, на черную и белую половинки, головой. Тело ее хозяева посыпали противоблошиным порошком огненного цвета. И все-таки пес этот вызывал у меня непонятное чувство гордости, я внушил себе, что он увязался именно за мной. Бросив вперед какую-то палочку, я скрылся за стволом дерева, и когда собака в недоумении застыла, вертя головой в поисках хозяина, я испытал тайную радость.
Назло Юдит я окрестил четвероногого Осипом, она с самого начала была настроена отправить его восвояси.
— Иди домой! — крикнула она, агрессивно хлопнув в ладоши, но пес этот, немало испытавший на своей шкуре, причем отнюдь не в переносном смысле, не обращал на нее ровным счетом никакого внимания и стоял, не сводя с меня умных и печальных глаз, повиливая растрепанным хвостиком, и продолжал семенить за нами.
Храбрец Осип.
— На обратном пути мы заведем эту животину домой, — пообещал я, с удовольствием ввернув словечко «животина».
Еще на подходе к возвышавшейся в долине мельнице мы заметили парочку черных собак, которые будто дожидались нас. Юдит была настроена повернуть, когда они с громким лаем подбежали к нам, но я продолжал идти. Собаки кусают тех, кто их боится. Осип не даст нас в обиду. Однако тот словно испарился. Наш защитник по имени Осип умотал, оставив нас на произвол судьбы, явно не собиравшейся проявить излишнее милосердие — оба черных чудища, злобно ощерившись и выставив напоказ во всем своем великолепии клыки, перегородили дорогу. Они, прыгая, становясь чуть ли не на дыбы, плясали вокруг, не давая ни малейшей возможности для отступления. Но тут откуда ни возьмись возник мусорщик, стоило ему лишь негромко свистнуть, как мы были посрамлены и спасены.
— Ну и трус же ты, — сообщила Юдит, изрядно напуганная эпизодом, нашему провожатому, когда тот снова присоединился к нам, выбравшись из-за мельницы.
Я ждал продолжения, но так и не дождался. Последовало оно, лишь когда мы уселись под орехом передохнуть. Сладко потянувшись, я закурил, внимательно глядя на тающий среди ветвей дым; мой новый приятель, посапывая, лежал рядом черной половиной тела ко мне.
— Ты и сам, как этот пес, — изрекла Юдит, — в самый решающий момент обязательно сдрейфишь.
Я не отвечал.
Все произошло именно так, как и предрекала Юдит. Так как обратно мы пошли уже другим путем, не мимо мельницы, Осип сопровождал нас до самого дома. Испив водицы, которую я зачерпнул для него из колодца, пес, будто у себя дома, спокойно улегся под столом, на котором я все-таки решился разложить свои бумаги — надо все же поработать.
— Отведу его домой завтра, — заверил я Юдит, — пусть побудет денек в гостях, раз ему здесь нравится.
Я разложил перед собой всю массу тетрадей, куда записывал отдельные факты касательно жизни в Советском Союзе после убийства Кирова и до конца Второй мировой войны, которые считал наиболее существенными для будущей оперы. Тетрадям этим суждено было стать основой для написания либретто, поскольку я имел весьма печальный опыт убедиться, что авторы либретто, как правило, упорно игнорируют книги по теме, а если уж и снисходят до печатного слова, то разве что до убогих брошюрок, откуда исправно передирают не стоящие внимания факты. При таком подходе вполне можно обойтись без книжек, в особенности если выставлять на первый план биографии исполнителей.
Одна тетрадь, желтая, была выделена для записей о жизни в сталинских лагерях. Поначалу меня поразило, насколько же мало об этом материала. В сравнении с аналогичными мемуарами о германских концлагерях их было на удивление мало. Естественно предположить, что в тех странах, где коммунистические партии оставались вне запрета и имели сторонников, воспоминания тех, кто пережил лагерь, особой любовью читателей не пользовались и комментировались весьма неохотно. Что вполне объяснимо. Кому, скажите, приятно в открытую заявить о том, что его дом возведен на костях. Вот потому ни во французской партийной печати, ни в итальянской ни на что ценное рассчитывать не приходилось. Даже если и допускалось, что нечто имело место и безвинным жертвам отдавался долг памяти, тем не менее авторы ограничивались в основном абстрактными рассуждениями.
Другие народы куда прохладнее относятся к мемуаристике на подобные темы, даже прохладнее нас. Вряд ли в них сильна неизбывная боль за судьбу народа. И все же за многие годы мне посчастливилось насобирать пару сотен страничек, соответствующим образом систематизировав и оценив их, хотя, признаться, даже просто списывать голые факты было очень и очень нелегко. Иногда приходилось добавлять к тексту в желтой тетрадке вырезанные отовсюду фотографии — я был просто не в силах описать словами творимые ужасы. И чем глубже я окунался в описание лагерного быта, лагерной системы, тем труднее мне было сосредоточиться исключительно на музыке, которая лишь в ничтожной мере способна передать эти невыразимые муки.
В отличие от Германии, где враг, ответственный за период мучений немецкого народа, был идентифицирован сразу и давно, а его образ разобран по косточкам, в советских концлагерях томились сторонники и члены одной и той же партии, предпочитавшей объявить одну часть своих членов «врагами народа», чтобы было на кого свалить вину за собственные неблаговидные деяния. Самое любопытное, что эти люди, объявленные врагами Советского Союза, отнюдь не считали себя таковыми, более того, в момент страшнейшего унижения, попрания их как личностей они втуне считали это справедливой карой за некую, пусть даже неосознанную ими вину. Быть может, они надеялись, что в будущем это поможет им вновь занять подобающее место в обществе? Может, признание лагеря являлось частью некой стратегии выживания — ведь никто из них, лагерников, не рассчитывал интегрироваться после гипотетического освобождения в какую-то другую общественную систему?
Какие думы могли одолевать художника масштаба Мандельштама? Что испытывали другие, узнавшие вдруг, что Сталин проявил интерес к их участи? Рассчитывали они на то, что и после освобождения их книги станут печатать, а пьесы ставить на сцене? Ни один из тех, кого расстреляли или обрекли на голодную смерть в лагере, не участвовал ни в каких контрреволюционных заговорах, никто не выкрикивал в московском метро лозунги вроде «Долой Сталина!», никто не усыпал брусчатку Красной площади листовками, ни один из оказавшихся в Москве немецких коммунистов не поддерживал социал-демократов — нет, все они служили Сталину не за страх, а за совесть, чтобы в один прекрасный день пасть жертвами себе же подобных, тоже беззаветно служивших тирану.
А Мандельштам?
Я попытался каким-то образом упорядочить свои записки. Должен присутствовать некий принцип упорядоченности, который зиждется на минимальных требованиях, с тем чтобы подчиняться реалиям. Только через полнейшее отсутствие на сцене всякой лагерной атрибутики зритель почувствует атмосферу лагеря.
В разделе «Инструментарий писателя» я собрал все очерки, повествующие о том, как люди доставали карандаши, бумагу, как использовали для написания поля присланных им редких писем, обратную сторону выданных лагмедпунктом рецептов. В этом же разделе помещены воспоминания о писателях, об их стихотворениях, о «лагерном университете», в котором иногда наличествовал один-единственный студент, о лекциях на тему французской литературы, о Пушкине и Гончарове. Другая рубрика носила название «Культура и игры», в ней описывались музыкальные и киновечера, шахматные вечера с игрой в самодельные шахматы. Далее я решил ввести раздел «Сцены», которой посвятил описанию наиболее ярких проявлений бесчеловечности: в некоторых лагерях за отказ выйти на работы расстреливали не сразу, а выставляли виновного на ночь на мороз до тех пор, пока он либо не соглашался возобновить работу, либо не погибал от переохлаждения. Сюда же я включил и описания лагеря после отбоя: произносимые полушепотом молитвы, крики мучимых кошмарами спящих заключенных. Был раздел «Молитвы» — сюда попали самые откровенные обращения к Богу, продолжительные мистические тирады, которые довелось услышать тем, кто вместе с приговоренными дожидался казни.
Одна сцена была более или менее разработана мною — о том, как тайком праздновались запрещенные новым государством христианские и иудейские праздники. Одна группа узников готовит праздничный обед — краюха хлеба и чашка кипятку, другая декламирует стихотворения. Затем они преподносят друг другу подарки — некурящий дарит курящему самокрутку, а тот, в свою очередь, одаривает товарища пуговицей от штанов — воистину царский подарок, когда одежда сползает! В финале все собираются для молитвы. Жалкая, внушающая ужас и в то же время полная величавого достоинства сцена — как, как в таком аду, в таком дремотном угасании возможно упование на продолжение жизни?
Едва листки этих пяти тетрадок были заполнены густотой моих каракулей, меня охватил такой жуткий, испепеляющий стыд, что я готов был сжечь их, несмотря на то что они были единственной связующей нитью между мной и почитаемым мною Осипом Мандельштамом, если не считать его произведений, доступных мне, к великому сожалению, лишь в виде переводов. Фразы, запечатленные мной на бумаге, признания, в письменном виде повторенные мной, болезни, о которых пришлось справляться в соответствующих энциклопедических источниках — весь этот невообразимый безумный водопад до такой степени повлиял на мой рассудок и настроение, что я какое-то время и прикоснуться не мог к тетрадям. И все же это описание убиения духа и плоти обладало некоей непонятной притягательностью, противоестественным и непреоборимым очарованием, заставлявшими меня вновь и вновь обращаться к документальным свидетельствам: «Вернувшись в Польшу, я узнал, что никого из моей семьи в живых не осталось, все мои родственники, включая самых дальних, погибли. И все эти бессонные ночи я взывал к кому-нибудь, тому, кто понял бы меня, потому что тоже прошел через ад советских лагерей… Мне было тогда нелегко исполнять обязанности прораба. Как тебе известно, в России ведь за все приходится платить. В феврале 1942 года, как раз месяц спустя после того, как меня перевели в барак техсостава, меня в одну из ночей потащили в НКВД. Это был период, когда русские даже в лагерях отыгрывались на заключенных за свои поражения на фронтах. В моей бригаде было четверо немцев, двое из Поволжья, их и немцами-то не назовешь — обрусевшие, и двое коммунистов, убежавших в Россию в 1935 году. Работали они добросовестно, никаких претензий у меня к ним не было, может, разве кроме одной: они будто чумы боялись оказаться вовлеченными в политические дискуссии. Ну а энкавэдэшники сунули мне донос, где утверждалось, что якобы в моем присутствии они по-немецки утверждали, что, мол, скоро сюда доберется Гитлер. И я вынужден был в письменном виде подтвердить, что все так и было. Ах, Боже мой, самая жуть советской системы заключается в ее безумном стремлении отделаться от тех, кого они избрали своей жертвой, да еще призвав на помощь все юридически доступные средства. Им ведь мало просто пустить пулю в затылок, нет, им еще и суд подавай, и на этом суде сам обвиняемый должен выклянчивать себе смертный приговор. Им мало подло обвинить кого-то в преступлении, которого тот не совершал, им требуются и свидетели, которые все подтвердят. Энкавэдэшники ясно дали мне понять, что откажись я… и меня снова упекут на лесоповал… Так что пришлось выбирать — либо я, либо те четверо… Я и выбрал. Лесоповалом я был сыт по горло — меня доконала каждодневная борьба за жизнь, я хотел жить. И подписал. А два дня спустя их вывели из лагеря и расстреляли».
23
До сих пор в отношении приблудившихся животных Юдит еще соблюдала дружественный нейтралитет, лишь на людей распространялось незыблемое правило — от ворот поворот. С чего бы это она так окрысилась на Осипа? За недолгий период нашего пребывания на моем участке поселилось множество всякой живности, куда больше, чем следовало. Почему выпавшие из гнезда птенцы сороки должны встать на крыло у нас, этого я вытащить у Юдит так и не мог. Пираты, разбойники, высказал я свое мнение, засовывая в разверстые, будто пасти, клювы очередную порцию дождевых червей.
Далеко не все приблудившиеся кошки, по утверждению Юдит, были посланцами из страны Невинность. По утрам они злобно шипели над трупиками загрызенных мышей, а насытившись, оставляли недоеденные их останки в кухне на полу. Лишь поведение ежей удостоилось высокого звания приемлемого. Их не могли вывести из равновесия ни злобные крики птиц, ни вероломные атаки собак, норовивших лишить ежей весьма скудной трапезы — вылакать чашечку налитого для них молока.
Даже улитки, облюбовавшие овощи на огороде и усердно поедавшие их, не перебрасывались через соседский забор, как этому меня учили еще в детстве, а переселялись в старую детскую кроватку с решеткой за кучей компоста, куда мне рекомендовалось выкладывать для их пропитания недоеденную лапшу. Раз в неделю почтальон заботливо отбирал из этой мерзкой кучи наиболее упитанные экземпляры, чтобы дома полакомиться обжаренными в чесночном масле моллюсками.
Почему же Юдит — во всех отношениях дитя цивилизации и выходец из семьи, для которой, несмотря на перенесенные ею политические, как утверждалось, преследования, все, олицетворяющее цивилизованность, ставилось превыше всего, — оказавшись здесь, в деревне, так сильно привязывалась ко всему, что олицетворяло природу? Это оставалось для меня загадкой, прежде всего потому, что Юдит беспрестанно хныкала: дескать, зверье только пожирает дорогое отведенное для творчества время — то есть категорию, занимавшую в приоритетах Юдит место куда более высокое, нежели упомянутые четвероногие твари.
По-видимому, у нее имелся особый код доступа в самые различные миры, и она без особых усилий вживалась в каждый из них. Исключением оставалось лишь искусство, это было воистину священное мерило. Иногда ненависть Юдит ко всему, что, по ее мнению, шло вразрез с искусством, принимала ветхозаветные черты, что в столь юной особе выглядело забавно. Почта вызывала ее нарекания за ужасный рисунок почтовых марок. Явно сбитому с толку старосте деревни Юдит досконально растолковала, почему следует снести только что построенный новомодный колодец — он, видите ли, не гармонирует с домами на центральной площади. Владелец табачной лавки получил нагоняй за безвкусно оформленную витрину. Отправив старые образцы в урну, Юдит вместо них собственноручно инсталлировала новые — владелец был настолько шокирован, что даже почти и не возражал против столь бесцеремонного вмешательства в бизнес.
Юдит была свято убеждена, что люди обретают право называть себя людьми лишь при условии, что жизнь их протекает в окружении красивых вещей. А вот какие из них могут считаться красивыми, это уж определять ей. Я готов был согласиться, что колодец в стиле «техно», мягко говоря, никудышно сочетался с кирпичными стенами домов, что самые ходовые почтовые марки Франции вряд ли могут претендовать на шедевр и что крохотная витринка мсье Обрийе не способна навести на мысль о прекрасном.
Меня озадачивала полнейшая нетерпимость, с которой Юдит стояла на своем. Здесь природа, о ней следует не забывать никогда, мы обязаны считаться с ней, принимать ее во внимание и оберегать от посягательств, там — превращенное в религию искусство, его обрядовость должна соблюдаться неукоснительно. Мы совершили по отношению к мсье Обрийе акт спасения, утверждала Юдит, а владелец табачной лавчонки тем временем с кислым видом обозревал свою порядком опустевшую витрину. Желал ли бедняга спасения, Юдит уже не интересовало, равно как и то, что теперь кое-кто из постоянных покупателей, до сей поры чувствовавших себя комфортно в его темной клетушке, возьмет да и перекинется на супермаркет.
Тот, кто носит в себе столь взаимоисключающие тенденции, должен быть мастером по части перевоплощений. Возможно, эта девушка до сих пор так и не разобралась в своем характере. Или же передо мной решили представить все маски враз, чтобы я мог выбрать наиболее мне подходящую и признать ее раз и навсегда?
Я предпочитал помалкивать.
До сих пор я ощущал лишь одно чувство внутри себя — пустоту, приятную ласкающую тело пустоту, некое лишенное обстановки пространство, на котором можно было соорудить что угодно, дайте только время. Юдит своими многообразнейшими интересами, заботами обо всех и вся, своими склонностями и привязанностями сумела дать в известной степени верное представление о себе, и отныне у меня уже не оставалось сомнений, что передо мной тип женщины, агрессивно противопоставляющей себя любому, кто попытается претендовать на самостоятельность. Так и возникали смешения, накладки, неадекватные взрывы чувств, нередко весьма досадные.
Досадные в первую очередь для меня, но и для нее тоже.
Одним из ее многочисленных святилищ была кухня. И хотя, собственно, кухня принадлежала мне и была обустроена в соответствии с моими желаниями и предпочтениями, сформировавшимися за долгие годы, Юдит со свойственной ей стремительностью овладела и этим участком пространства. Ножи, испокон веку лежавшие справа в корзине, что куда удобнее при частом их употреблении, внезапно переместились налево, а ложки, которые предпочитала Юдит, занимали теперь отведенный ножам отсек. Подобная участь ожидала и чашки, и тарелки, и кастрюли. Даже моя любимая чашка, уникальная посудина, всегда стоявшая у плиты, стала жертвой принудительного перемещения — Юдит настырно добивалась от меня, чтобы мы с ней пили из одинаковых чашек, а поскольку в шкафу двух одинаковых не отыскалось, они были срочно приобретены.
Каждый вечер Юдит полчаса уделяла дневниковым записям. Дневник представлял собой маленькую бесформенную записную книжку с волнистыми от обилия разнообразных чернил страницами, которая не захлопывалась плотно, что придавало ей фривольно-откровенный вид. Впрочем, Юдит не было нужды соблюдать конспирацию — история ее полной страданий борьбы с эгоцентричным, неразговорчивым и своевольным композитором доверялась бумаге на венгерском языке. Напротив, нередко она специально бросала дневник на кухне раскрытым, дабы подстегнуть мое естественное любопытство.
Поскольку каждая его страница пестрела моим именем, не составляло труда догадаться, кто же все-таки служил Юдит источником вдохновения, и поскольку вербальные доказательства моего упрямства и своеволия часто приводились, так сказать, в подлиннике, то есть по-немецки, мои догадки подтверждались. Без сомнений, это была повесть обо мне. Но что же все-таки побудило ее с таким рвением фиксировать мое мнение о ней, Юдит, и об остальной части человечества? К чему потомкам знать, что я предал анафеме сам принцип сосуществования двух человеческих душ? Ежедневные записи служили Юдит молитвой, но к кому эта молитва была обращена? Она посвятила дневник моей особе, чтобы представить Марии доказательства моей несостоятельности как композитора?
Странно было сознавать, что в длинных и непонятных венгерских фразах отображены мои угрозы, страхи, насмешки, крохотные частички, из которых слагается тело того, кто горел желанием угробить и себя, и заодно весь мир. Ни единого доброго словечка по-немецки, которое свидетельствовало бы о человеческой адекватности, одни только угрозы, обвинения, оскорбления, выражения пренебрежения. И среди всей этой писанины мне вдруг попалось приписываемая мне фраза: «Если ты так поступишь, я тебя убью». Она была повторена в двух местах и наверняка сопровождалась комментариями Юдит.
Когда же я мог сказать подобное? Если судить по дате, в одно из воскресений, второе по счету из совместно проведенных нами. Неужели я и вправду так сказал? Я попытался припомнить то воскресенье, возникший между нами спор на тему музыки, из которого я предпочел выйти со словами «Тебе уже ничем не поможешь» — фраза эта была помещена на следующей странице. Но в какой связи я грозил ей убийством? После того злополучного спора я ушел из дома И отправился в город с намерением где-нибудь выпить. Вернулся ночью и, насколько помнится, тут же ушел к себе в кабинет и завалился на тахту, во всяком случае, на следующее утро я проснулся именно на тахте. Следующий день был отмечен именно этой цитатой, хотя я, убей Бог, вспомнить не могу, что, впрочем, вполне можно отнести на счет утреннего похмелья. Так что она все-таки задумала?
Черт бы побрал и ее саму, и ее окаянную писанину!
24
Я считаюсь музыкантом XX столетия; и если мне удастся дожить до XXI, что, в общем и целом, вполне осуществимо, в воспоминаниях обо мне и некрологах можно будет прочесть следующее: он был типичным представителем музыки последней трети XX века, который хоть и сознавал наличие новых тенденций, однако так и не сумел отдать им должное. Его воистину панический страх затронуть понятие ауры музыкального произведения и обусловил его двойную жизнь. С одной стороны, он — и это в первую очередь относится к его операм — достиг умеренного модернизма, с другой — зарабатывал себе на жизнь, запродав свой несомненно незаурядный талант телевизионщикам, для которых написал бесчисленное множество композиций, большинство из которых стали назойливыми хитами. Нет сомнения в том, что главным проектом его жизни был замысел написать оперу о Мандельштаме, посредством которой он всеми имеющимися средствами, вдохновенно и искренне попытался собрать воедино центробежные силы столетия, господствовавшие как в искусстве, так и в политике. Вопрос о том, удалось ли ему преодолеть разрыв, отделяющий намерение представить ход истории как социально-политическую необходимость и практические шаги по воплощению в действительность этого намерения, так и остается открытым. Однако нюрнбергская премьера оперы и последующие ее постановки в Варшаве, Москве и Будапеште могут считаться последними яркими моментами в истории умирающей оперной культуры. Подводя итог, можно утверждать, что музыкальная жизнь восточной части Европы притягивала его сильнее, нежели музыкальная жизнь западной. Последние годы можно обозначить как период творческого затишья. Композитор, живущий в отдаленной деревушке на юге Франции, был редким гостем в музыкальных метрополиях мира, хотя отдельные «фрагменты» его произведений всегда находили исполнителя. Тем большим шоком является факт, что несколько дней назад он повесился в своем домике во Франции.
Вот такой, к примеру, вариант. Или чуть отличный. Данную схему всегда можно подработать в соответствии с веяниями времени, однако суть ее останется неизменной.
25
Тем летом полуразрушенный шато вблизи моего жилища вновь стал обитаемым. Парижский адвокат из дворян, выдвинувшийся на защите в последних процессах над бывшими нацистами, войдя во владение домиком, решил подвергнуть его основательному ремонту. Мастеровые и бюрократия городка в восторге — судя по всему, пришлый мсье пухнет от денег и к тому же стремится восстановить некогда импозантную постройку в первозданном ее виде.
Живописные развалины шато неизменно настраивали меня на романтические размышления, и предстоящий ремонт вызывает раздражение и недоверие, поскольку, принимая во внимание величину объекта недвижимости, недалек час, когда здесь станут отмечать летние празднества и, вполне вероятно, под танцевальную музыку. Ко всему иному и прочему у графа имеются трое детей, пребывающих как раз в том возрасте, когда принято устраивать вечеринки с танцульками, и я издали обозреваю их с чувством растущей ненависти.
Нет ничего ужаснее, чем заполучить в соседи представителя французской аристократии, ибо этот люд непременно притянет себе подобных. Вероятно, французский аристократ кое в чем куда ужаснее своего немецкого собрата, которому нет равных по части узколобого провинциального консерватизма. Все эти собиратели тарелочек, восседающие на колченогих стульчиках и корпеющие над изучением генеалогических порослей. Так называемые любители антиквариата, чей и без того скудный разум решил устроить себе каникулы. Желанные гости на приемах и коктейлях. Если им становится уж совсем невмоготу, они бросаются организовывать вечера камерной музыки, куда допускаются собиратели тарелочек, увешанные остатками былой фамильной бижутерии. Некоторые из них прилетают аж из самой из Южной Африки, где промышляют организацией охоты на весьма крупную дичь, и все лишь ради того, чтобы показаться на этом вечере. Они обожают разглагольствовать на тему ненадежности черных, поскольку слово «негр» включено в проскрипционные списки, свято собирателями тарелочек чтимые.
Французские собиратели тарелочек непрестанно сталкиваются с проблемами, связанными с выходцами из северной части Африки, чье искусство также иногда может представлять интерес для собирателей, но исключительно истинное искусство. Так что европейский представитель племени голубой крови, если только его не занимают вечера камерной музыки, непременно должен заниматься Африкой.
Мысль о том, что им подобные вскоре в статусе соседей угробят твою отъединенность от мира, невыносима, но тут уж ничего не попишешь. Видимо, следует подумать над тем, как сделать живую изгородь повыше. Если же отпрыски благородного семейства посмеют шуметь на одной из своих вечеринок, я сию же минуту обращусь к полиции. У той наверняка есть средства приструнить слишком уж инициативных любителей шумных празднеств.
Мысли мои занимала стратегия грядущей борьбы с соседями, а тем временем противник сам оказался на территории моего сада. Сынок. Довольно симпатичный, вопреки раздражению заключил я. Благородной формы нос, светлые глаза, гель в волосах, белая рубашка, короткие штаны, босиком. Он, мол, проживает по соседству, нельзя ли воспользоваться телефоном. Жак, здешний электрик, чего-то там напортачил с проводами.
— Извольте, — ответил я вне себя от бешенства и кивнул на распахнутую дверь в дом, — аппарат на рояле.
Трясясь от злости, я сидел в своем плетеном кресле, не в силах сосредоточиться на книге. Завтра вы попросите у меня разрешения сделать врезку в мой водопровод, послезавтра вам вздумается одолжить у меня садовый инвентарь, а пару недель спустя я извлеку из своего почтового ящика предложение отдать свой дом под бедлам для их североафриканских невольников. Нет-нет, мебель можете оставить, садовник потом вынесет ту, что не понадобилась тунисцам. В случае если вы не примете наше любезное предложение, мы будем вынуждены предпринять соответствующие правовые процедуры, мсье, которые в будущем…
По-видимому, я настолько углубился в злобные переживания, что Юдит вынуждена была тронуть меня за плечо.
— Филипп хочет поблагодарить тебя, — сообщила она, и когда я наконец открыл глаза, то увидел опаленную солнцем протянутую руку Филиппа, которую не без легкого отвращения все же пожал.
— Значит, этого балбеса в детстве обозвали Филиппом, — процедил я сквозь зубы, обращаясь к Юдит, когда молодой человек отошел на почтительное расстояние. — Будем надеяться, что он не явится сюда через полчаса вынюхивать и обирать нас дочиста.
— Ты отвратителен, — сказала Юдит. — И в отличие от тебя у Филиппа хорошие манеры. Вот пригласим его на ужин, и ты расскажешь ему о здешних местах.
— Я?
— Да, ты. Он изучает в Сорбонне экономику производства и интересуется литературой и искусством, его сестры играют на скрипке и на рояле. Можем как-нибудь поиграть вместе.
— Юдит, — обратился я к ней, — я не желаю видеть в своем доме никаких там производственных экономистов и не имею ни малейшего желания музицировать с дочерьми соседей. Единственное, чего я хочу, так это спокойно поработать.
— Поработать? — недоумевала Юдит. — Но мы же завтра приглашены на праздник по случаю окончания строительства дома, и все твои друзья из деревни тоже там будут.
Я лишился дара речи. Этот молодой человек, воспользовавшись предлогом позвонить, успел натравить Юдит на меня. Наверняка оба уже давным-давно познакомились и вовсю встречаются за моей спиной. Филипп! Вероятно, уже есть и договоренность, как выкурить меня из дома. Может, они надумали воспользоваться моим отсутствием дома на время торжества, чтобы прикарманить мой участок! В прошлом году владелец единственной в деревне гостиницы был арестован за то, что передавал заполненные гостями бланки, где эти наивные люди указывали свой настоящий адрес, бандитам, которые в отсутствие хозяев спокойно обирали квартиры. Выяснилось все, когда год назад одна парочка из Аахена надумала вновь поселиться в том же отельчике и, к своему ужасу, увидела, что на стене холла провинциальной гостиницы красуется украденная у них картина, ранний Базелиц. Владельцы за неимением покупателя решили вывесить ее на всеобщее обозрение. Кто знает, может, к конце года и мой рояль обречен изнемогать под ударами рук дочери адвокатишки-француза?
— Я не против, если ты побежишь на празднество наших врагов, только без меня.
— Но я уже всем сказала, что приду вместе с отцом, — возмутилась Юдит. — А что мне еще оставалось сказать?
С отцом? Всю оставшуюся вторую половину дня я пытался опомниться от сказанного Юдит.
На следующий день ближе к вечеру Юдит действительно пошла на праздник по случаю окончания строительства дома. Я же остался сидеть в саду и, заткнув уши звукопоглощающими пробками, пытался работать. Ночью я спал отвратительно, поскольку голова гудела от мыслей, внушенных мне дочерью Марии, и теперь мне было куда труднее сосредоточиться. Я безучастно прочитывал историю сталинских преступлений, ужасную историю пыток, издевательств и расправ. Необходимо сорвать со слов бюрократический покров. Череда фамилий. Один провинциальный партийный князек за другим подавали списки с кандидатами на убой, список одобрялся, потом без суда и следствия людей казнили. Правда, в книге так и не было ни слова о том, что партийные бонзы, если только их самих не отправили на тот свет, впоследствии предстали перед нормальным судом, имея защитников, подобных моему соседу, ибо любой, даже самый отпетый массовый убийца должен иметь на суде защитника. Если верить этой книге, в конце все оказались на том свете, исключая Сталина. Вспомнилось, как однажды отец сообщил за завтраком: Сталин умер. Никто не рассмеялся от радости, не стал танцевать, прихлопывая в ладоши. Вся семья чинно восседала за столом и молчала. Умер злобный, одолеваемый недугами, уставший от вечной борьбы государственный муж.
В один прекрасный момент я не выдержал. Вынув затычки из ушей, я вплотную приблизился к живой изгороди, откуда мог невидимкой наблюдать за весельем на другой стороне. За большим столом сидел почтальон, затем каменотес с супругой, далее электрик, тот самый, что напортачил с телефонным проводом, старьевщик с неизменной улыбкой на физиономии, явно дожидавшийся благой возможности сбыть свои поддельные тарелки представителю дворянства, после того как потерпел неудачу при попытке всучить эти черепки за двадцать франков мне, зеленщица, владелец сырной лавочки и другие, которых я знал лишь наглядно.
Юдит, само собой, занимала место на дворянской половине стола и, конечно же, подле Филиппа, все время самозабвенно хохотавшего, наверняка по поводу рассказанных ею историй о придурковатом отчиме. А все-таки что она могла рассказать такого, что до колик насмешило аристократическую семейку? Больше всего мне хотелось сейчас перемахнуть через изгородь и за волосы утащить Юдит из этого бомонда назад, в свою жизнь.
Я продолжал стоять, изводимый комарами, у живой изгороди, когда вдруг ярко вспыхнули лампионы, небольшой ансамбль заиграл нечто танцевальное, и первыми на траве под радостные аплодисменты присутствующих закружились в танце, разумеется, Юдит и ее новый воздыхатель. Это уже было не просто торжество по поводу окончания строительства, а самая настоящая свадьба. Впечатление усугубилось и тем, что и второй танец открывала никак не супружеская чета — хозяева только что отремонтированного дома, — а опять же Юдит, на сей раз с адвокатом.
Свекор явно был в ударе в обществе молодой и симпатичной невестки-венгерки, поскольку весьма неохотно вернул ее в объятия женишка, который, встав из-за стола, демонстрировал крайнее нетерпение вновь притиснуть свой трофей к груди. Неужели Юдит махнула мне рукой, желая подать знак и притом не обидеть своего партнера, или же это просто плод моего больного воображения?
Около девяти вечера я с воспаленными от напряжения глазами покинул свой неудобный наблюдательный пункт, взял книгу и направился в дом, где плотно прикрыл окна и двери. Я никого не ждал, да и не желал никого впускать. В конце концов в мире полно незанятых кроватей. Поев хлеба с салями и парочкой оливок, я, чтобы побыстрее заснуть, выпил бутылку густого красного вина.
В одиннадцать музыка смолкла.
В полночь до меня донесся тихий смех у дверей, смех то становился громче, то вновь затихал.
Утром, продрав глаза по сигналу своего внутреннего будильника, я увидел, что Юдит спит в своей постели. Я стоял и разглядывал ее с нежностью и умиротворенностью и одновременно готов был прикончить ее.
Будто окаменев, я прошагал в кухню, окно которой было распахнуто, заварил кофе и уселся за стол. В дневнике Юдит, который, топорщась страницами, лежал на столе, среди длинных венгерских слов, накорябанных, по-видимому, ночью, я прочел имя: Филипп де Галлар.
26
Филипп появлялся чуть ли не ежедневно. Иногда заходил с утра выпить с нами эспрессо. Иногда к обеду, и совсем уже редко можно было услышать его голос по вечерам. Иногда он прихватывал для меня очередную книжку или газетную статью на музыкальные темы. Похоже, газеты составляли его ежедневное чтиво. Юдит попросила у Филиппа консультации насчет вложений моих находящихся во Франции средств — по ее мнению, приращение процентов могло быть значительно больше, — так что у него появился еще один предлог искать моего общества. Иногда с Филиппом появлялись и его сестрички, сильно смахивающие на «синие чулки», желавшие сыграть вместе со мной и Юдит несколько камерных пьес. Лето выходило приятным и умиротворенным.
Все, похоже, были всем довольны, лишь Юдит доставляла хлопоты. Ее гибкость и пластичность день ото дня прибавлялись прямо пропорционально стремлению угодить решительно всем: мне, Филиппу, адвокату, своей музыке. Вечерами, когда снисходил покой, на лице ее появлялось похоронное выражение. Ночами, когда я, следуя новоприобретенной привычке, наблюдал, как она спит, у меня складывалось впечатление, что ее подушка набита кактусами.
В воздухе ощущалось дыхание осени. Каштаны лопались, роняя на землю коричневые плоды, а по утрам над долиной висела белесая дымка, с каждым днем становившаяся все гуще. Крестьяне занимались сбором подсолнухов, безжизненно опустивших побуревшие головы, кукурузные поля проредились, красноватые венчики проса жадно улавливали последние теплые солнечные лучи. Над уже перепаханными полями повисала сизоватая мгла, а на другой стороне долины в небо повсюду поднимался дымок от костров. Лишь шелковица у дома сохранила темную, глянцевую листву, будто не ведавшую смены времен года.
— Надо бы подумать об отъезде, — напомнил я Юдит, которая, сидя у кухонного стола, уткнулась в партитуру, — лето ведь на исходе.
Перед началом занятий она хотела ненадолго съездить в Будапешт, на восьмидесятилетний юбилей своего дядюшки, пропустить который было никак нельзя.
— Тебе тоже надо поехать, — вдруг заявила она, — без тебя я не поеду. И если ты откажешься, я с тобой перестану разговаривать.
Что я потерял в Будапеште? Еще раз обойти тот самый, ныне явно отремонтированный и вылизанный квартальчик? Забежать в недавно открытый «Макдоналдс»? Перспектива отмечать юбилей в кругу родственников Юдит казалась мне просто невыносимой. А Мария? Что она скажет, если я заявлюсь в Будапешт в статусе сопровождающего лица Юдит? С двадцатилетним опозданием? Старичок-пришелец с благословенного Запада, из тех, что останавливаются в «Геллерте» и расплачиваются кредитными карточками?
— Не могу я ехать ни в какой Будапешт, мне надо работать, — вяло возразил я. — Может, на будущий год, когда закончу оперу.
Юдит ничего не ответила. Плечи ее задрожали, потом дрожь перешла на тело. Она словно из последних сил вскочила, отбросила стул, закрыла лицо руками и зарыдала, да так, будто сам дьявол вселился в нее. Я не реагировал. Не в том она была состоянии, чтобы воспринимать слова утешения. И я стал немым зрителем горя, которым Юдит не могла или не желала поделиться со мной.
С самого детства меня пугали подобные сцены. И мать моя, и тетки имели склонность в определенных ситуациях биться в истерике, а членам семьи только и оставалось, что молча дожидаться окончания припадка. Позже, когда они успокаивались, об этом не вспоминали, во всяком случае, при мне. Не мог я противодействовать и тому, что мою любимую тетушку поместили в закрытое отделение психиатрической лечебницы, где она пару лет жила под строгим надзором. Во время моих визитов она неизменно проявляла дружелюбие, будучи в то же время где-то далеко-далеко. Темное дно ее детства разверзлось, заявил мой отец, война затребовала последнюю жертву, сказала мать, сама страдавшая периодическими депрессиями и нередко проводившая не одну неделю в постели.
Потом Юдит вышла. Я остался сидеть у стола, пил вино, курил и слушал тишину. Внезапно обнаружив перед собой Филиппа — тот явился пригласить Юдит на прогулку, — я не сказал ни слова, лишь сделал жест в сторону ее комнаты, поскольку не сомневался, что Юдит легла в постель, но юноша тут же вернулся — ее у себя не было. Какое-то время мы сидели в кухне вдвоем и ждали ее, потом Филипп предложил отправиться на поиски.
От дома мы, расставшись, решили идти в двух направлениях. Филипп повернул к деревне, я направился к реке. Луна спряталась за тучами, и я передвигался почти что на ощупь. В воздухе носились летучие мыши и ночные пернатые, где-то хрипло кричала сова. В кустах по обочине дороги что-то трещало, шла тихая возня, там шла своя особая жизнь. Миновало немало времени, пока я добрался до реки. Юдит здесь и в помине не было. Вполголоса я позвал ее, но в ответ до меня донеслось лишь тихое бормотание речки, явно довольной тем, что после летнего зноя ей наконец посчастливилось заполучить по милости гроз чуточку свежей водицы. В воздухе стоял терпкий, гнилостный запах осени. Сколько же миллионов световых лет отделяют меня от Юдит и ее мира? — мелькнул в натруженном разуме вопрос. Даже отыскав ее, мне все равно никогда не заполучить ее назад.
В конце концов я оказался у небольшого пешеходного мостика, по которому перебрался на другой берег, откуда узкая и скользкая тропинка вела в деревню. Там я надеялся встретить Филиппа — наверняка он зайдет в «Кафе де спор» на рю Гамбетта, если только уже не обнаружил Юдит и не препроводил ее домой.
— Юдит… — шепнул я разлегшимся поперек дороги теням — луна на минутку выскочила из-за завесы облаков.
Передо мной темной крепостью возвышалась рощица, за ней лежала деревня, бледным заревом отражавшаяся на затянутом густыми облаками небе.
Юдит не было. Я уже добрался до мастерской жестянщика и до примыкавших к ней домиков, где обитали арабы. Окна светились призрачно-голубоватым — работал телевизор. В дверях стоял мужчина и курил, он приветствовал меня взмахом руки с сигаретой, я тоже махнул в ответ, так и не поняв, кто же это. Сквозь раскрытое окно я разглядел голову премьер-министра на весь экран, звук, вероятно, был благоразумно убавлен до минимума. Я сам неоднократно пользовался подобной методикой, дабы оградить свой разум от вторжения политики. На светлом камне церковных ступенек сидела пара и самозабвенно целовалась, за ними, беспокойно юля, наблюдала собака. Не отрываясь от подружки, молодой человек вдруг запустил вверх мячом, мяч, упав на брусчатку, подпрыгнул несколько раз и покатился ко мне, бросившийся вдогонку пес слегка задел меня хвостиком.
Выставив ногу, я придержал мяч, затем, дав отмашку, свирепо запустил им в стену церкви. Отскочив, мяч исчез во тьме. Собака так и осталась стоять в недоумении, я же свернул на рю Гамбетта, на другом конце которой еще светилась вывеска-реклама пива «Хайнекен». Юдит не было и там. Хозяин не видел ее вот уже несколько дней. И другие гости, немногословные Пьер и Жан, соответствующей жестикуляцией подтвердили слова хозяина. Оба несколько лет работали в Африке на каком-то строительстве и теперь, так и не вписавшись в деревенский быт, коротали вечера в этом заведении или же отправлялись на охоту. Я выпил с ними перно, затем бокал вина, потом чашку кофе. То, что Филипп так и не показался здесь, могло означать, что он все-таки встретился с Юдит. Так хотелось думать.
После того как я настоял на том, чтобы заплатить за всех, Жан на своей «веспе» доставил меня домой. Уже сидя на заднем сиденье с охотничьим ружьем Жана на коленях, я услышал, как хозяин с грохотом опустил железную решетку. Будто за мной захлопнулись двери тюрьмы.
Еще издали я заметил, что и у Филиппа, и у меня во всех окнах горит свет. В голове зазвучала мелодия Шуберта, повторяясь и повторяясь, как звуковая кольцовка, вот только слов я припомнить никак не мог. Оба дома возвышались в полуночном мраке кострами, на которых в прежние времена предавали огню грешников — двумя огромными факелами.
Жан ссадил меня у ворот в сад и тут же, будто спасаясь от преследователей, укатил. Я даже не успел отдать ему его ружье, роскошный инструмент убиения, который осторожно повесил на плечо. Рядом с воротами стоял неизвестный автомобиль, видавший виды «пежо». Из-под капота доносилось деликатное побулькивание — двигатель охлаждался после тяжких трудов. Как безумные заливались цикады.
Я прошел на кухню. Филипп, тут же вскочив, бросился мне навстречу, виновато разводя руками, но замер как вкопанный, заметив ружье у меня на плече. Поднялся со стула и другой гость, незнакомый мне мужчина, и лаконично представился: Брико. Врач из Овиля, вызванный Филиппом, поскольку местный эскулап в настоящее время где-то в районе Вогез проходил курс лечения от алкоголизма, после которого он, как все надеялись, уже сюда не возвратится. Доктор Брико, молодой, преуспевающий, стройный, желавший заставить каждую фразу звучать оригинально, влюбленный в оригинальность врачеватель, несмотря на молодость, погрязший в оригинальности субъект, распускающий вокруг важность и запах парфюма, доктор Брико усадил меня на мой стул, вернее, на стул Юдит, и принялся выпытывать с таким видом, будто и я, сам того не ведая, мучим некоей неизлечимой хворью, и весь дом мой обречен на погибель, а ему, дескать, выпала участь сообщить мне обо всем этом, став, таким образом, дурным вестником.
Филипп, по-видимому почувствовав, как во мне разливается желчь, украдкой поглядывая на ружье, усадил уже теперь доктора Брико на стул и в сжатой форме изложил мне о происшедшем, а то, чего я не понимал, они оба повторили хором чуть ли не по слогам. Все оказалось очень просто. Филипп обнаружил Юдит в рощице метрах в ста или того меньше от нашего дома. Лишившееся рассудка потерянное создание, всхлипывавшее и не желавшее последовать за Филиппом, который, видя, что в одиночку ему не управиться, вызвал по телефону из своего дома врача, то есть доктора Брико, а тот первым делом вкатил Юдит успокоительное — успокоительное? — да-да, укол для расслабления, понимаете, при этом врач ловко прищелкнул пальцами, очень живо изобразив шприц, потом они отнесли Юдит домой и уложили в постель.
Так выглядела часть, которую я понял.
Тут на передний план выступил врач и изложил драматические события уже на языке медицины, что, разумеется, лишило их трагизма и новизны. В любом случае речь шла о нервном срыве, припадке слабости худшего свойства, который никак нельзя купировать одной лишь инъекцией. Брико, вне себя от радости, ибо наконец заимел дело не с какими-нибудь нагноениями или воспалением миндалин, с ходу прописал клинику. Покой, покой, покой, разумеется, под наблюдением врача, восстановление сил, ибо Юдит доведена до предела. Выжатый лимон, тряпка, ни грамма сил в запасе. И если мы сейчас ничего не предпримем, кто знает, как это отразится…
Я попросился взглянуть на Юдит, такая возможность была мне предоставлена после того, как я уже по второму кругу выслушал разъяснения д-ра Брико по поводу неутешительного состояния больной. Если она откроет глаза, вам надлежит незамедлительно выйти. И пожалуйста, никаких разговоров, ни единого слова.
Мы на цыпочках прошествовали в комнату Юдит. Погруженная в полумрак спальня производила необычное впечатление, будто лежавшее на постели молодое существо с заострившимся носом и белым как мел лицом только что обрело на ней вечный покой. Впрочем, существо это продолжало жить, что можно было заключить по вздрагиванию руки, торчавшей из-под белого покрывала. Своей рукой я предпочел опереться о столешницу, чтобы случаем не загреметь на пол.
Сколько же наша мужская троица простояла в безмолвии у постели больной? С минуту, наверное, а быть может, и вечность. Филипп с выражением крайней озабоченности на красивом лице — вероятный возлюбленный и потенциальный будущий супруг, если, конечно, высший законодательный орган в лице его родственничков голубых кровей соизволит дать согласие. Доктор Брико, человек милостью Флоберовской. А я? Я уже давным-давно перестал понимать, что за роль была уготована мне, но наверняка отнюдь не второстепенная. В данный же момент я выступал в образе дьявола, вампира, впившегося своими клыками в непорочную белизну шеи жертвы. После того как мне милостиво разрешили за лето испытать себя в самых различных ипостасях, теперь мне надлежало завершить свою карьеру, став олицетворением всех зол. Никаких аплодисментов, никаких комплиментов, никаких ангажементов.
Я уже собрался разлепить свой будто перехваченный скотчем рот, чтобы произнести хотя бы имя Юдит, заметив ее дрогнувшие веки, как тут же почувствовал, как доктор Брико мягко выпроваживает меня к двери. Мое присутствие стало нежелательным. Более того, оба этих мсье решили вывезти пациента в больницу, куда-нибудь в нейтральное местечко, как выразился Брико, где Юдит предстояло самой решить, куда ей затем пойти и что предпринять. Места для меня в этом сценарии не предусматривалось, меня просто стерли, исключили, упразднили. Однако отпускной билет я должен был, разумеется, подписать сам, таковы были правила игры.
27
Одним удается все, другим почти ничего. В эту схему вполне укладывается вся история музыки. Из сотни музыкантов, исполнителей и композиторов, с которыми судьба сводила меня, троим удалось все. Остальные же канули в забытье. Некоторые из них стали профессорами, иногда в свободное от тяжких трудов время набрасывавшими парочку нот, другие сгинули, оказавшись на радио, кое-кто сумел выгодно жениться и получить, таким образом, позволение развлекать родню на музыкальных вечерах.
Один поляк, которого я считал самым даровитым композитором нашего варшавского кружка, благодаря мне устроился концертмейстером в Мюнхенскую оперу. Его величественное творение пылится у него дома в ящиках под роялем. Венгр, пьесы которого по произведениям Андре Ади вызывали в шестидесятые годы настоящий фурор, преподавал на так называемых летних курсах на юге Франции, где я и встретил его и где он потчевал туристов Второй симфонией Бетховена вперемежку с барбекю и воем реактивных двигателей стартовавших с близлежащего аэродрома лайнеров. Два дня он прожил у меня, потом уехал на очередной «концерт», а месяц спустя покончил с собой. Это был музыкальный гений, рискнувший всем и всего лишившийся. В продаже нет ни одного его компакт-диска, вообще ни одной его ноты. Я написал некролог, который никто не рискнул опубликовать. Лишь когда я предъявил его сочинение о Карле Вайгле, ответственные лица нехотя признали моего друга реально существующим человеком, но поскольку и сам Карл Вайгль пребывал в забвении, они с чистой совестью постарались вытравить из памяти и Пала. Я отослал некролог по будапештскому адресу, однако письмо вернулось с пометкой «Адресат выбыл». Какое-то время его музыка существовала, ее слушали, ныне же она исчезла навсегда. Кроме факта смерти этого человека не осталось ничего.
28
Снова оказаться в одиночестве было отнюдь не неприятно. Вся неизбежная при сожительстве двух человеческих особей возня, сутолока, все извечные вопросы и предостережения исчезли. Я работал, подкармливал животных, ходил на прогулки. Если тебе приходится самому обслуживать себя, то непременно придет в голову нечто такое, до чего бы ты ни за что не додумался, являясь членом группы. Одни ищут общения, другие довольствуются браком, а некоторые ходят на футбольные матчи или в театр, что дает им возможность ощутить свою принадлежность к племени себе подобных. Есть люди, которые считают вполне естественным повелевать ближними. И есть такие, кто обуреваем желанием помочь ближним. Но существуют немногие, для кого одиночество — насущная потребность. А поскольку их очень и очень немного, они неизбежно оказываются объектом чужих подозрений. Я и сам подозревал, что угодил под подозрение.
В кафе, в магазинах, на прогулках люди хоть и продолжали здороваться со мной, но вели себя так, будто доктор Брико строго-настрого предупредил их не якшаться со мной. Заразный больной. Впрочем, чем меньше они жаждали пообщаться со мной, тем реже мне приходилось представлять им разного рода объяснения — вот единственный вывод, который я сделал для себя в свете произошедших перемен. В первую очередь я был избавлен выслушивать череду соболезнований. Коль я довел несчастную женщину до сумасшествия, какие уж тут могут быть соболезнования. Не представляло никаких сомнений, кто жертва, а кто преступник — вот такая простота царила в этих столь любимых мною местах. Отягощающим обстоятельством в моем случае являлось и то, что люди были лишены возможности лицезреть жертву. Ни тебе кровавых луж, ни стреляных гильз, ни могильной плиты. Один только мой вновь заросший травой домик и его обитатель, однажды открывший миру свое истинное лицо. И слухи, циркулировала масса слухов, о чем не без гордости поведал мне Филипп.
С Филиппом я сумел даже чуточку сблизиться, он, если не считать Грюцмахера, с которым я регулярно созванивался, был единственным связующим звеном с остальным светом. Филипп оказался талантливым, остроумным рассказчиком, от которого я узнал массу забавных историй о его тетушках благородных кровей, о том, как они в наивной вере, что в нынешние времена происхождение хоть что-то означает, до блеска отполировали ствол генеалогического дерева своими бесконечными карабканиями. Но они были просто-напросто наивными, тщеславными, никчемными тетушками, случайными созданиями, ничего, кроме звучных фамилий, не имевшими, и страшно возмущались, что не вызывают ни у кого ровным счетом никакого интереса.
Семья в свое время слишком лояльно отнеслась к немцам, за что ей и приходится расплачиваться, и отец семейства наперекор всем стал адвокатом, специализировавшимся на защите коллаборационистов, хотя был самым настоящим слабаком, трусишкой и брюзгой. Мать же — ее я видел несколько раз лишь издали — в противоположность супругу была женщиной талантливой, получившей музыкальное образование по классу фортепьяно, именно благодаря ей в семью проникла музыкальность. Жизненные планы ее перечеркнула подагра. Частью от скуки, частью из тщеславия она, будучи не в силах подавить в себе стремление играть, к ужасу мужа, решила организовать частную музыкальную школу, так что идея приобретения дома в этой Богом позабытой местности и его реставрации появилась на свет из стремления держать мать подальше от Парижа.
Именно Филипп взял на себя хлопоты по переводу Юдит из здешней больницы в мюнхенскую, он же самолично и перевез ее туда. Непростым делом оказалось перевезти гражданку Венгрии из Франции в Германию. Филипп с Грюцмахером выхлопотал для Юдит место в клинике, Филипп ввел в курс дела лечащего врача Юдит, он же несколько раз в неделю сносился с ней по телефону, он же уговорил ее взять академический отпуск и на полгода вернуться в Венгрию.
Если начальный период пребывания Юдит в Германии проходил под моим шефством, то нынешний непростой этап курировал единственно Филипп. Так как молодой человек наотрез отказался в любой форме принять от меня компенсацию за свои усилия, мне оставалось оплатить лишь больничные счета Юдит, что я с великой охотой сделал, к тому же Филипп сподобился наконец удачно пристроить мои деньги, что, по мнению Юдит, следовало сделать уже давно, с тем чтобы они приносили ощутимые проценты, как того и требует капиталистическая этика. Разве мог я додуматься до чего-нибудь в таком духе? Филипп же направлял деньги именно туда, куда следовало, и они неизменно возвращались ко мне с изрядной приплатой. Директор «Банк насьонал попюлэр», вероятно, оставался единственным в деревне человеком, проявлявшим уважение ко мне или хотя бы к моему счету.
В середине октября последним из семьи в Париж вернулся и Филипп. По телефону он сообщил мне, что Юдит чувствует себя куда лучше. Однако запрет на мое общение с ней пока что оставался в силе. Мне не позволялось даже письма ей написать. Если бы не доктор Брико, забредавший иногда сыграть партию в шахматы, я был бы обречен на полнейшее одиночество, каковое весьма положительно сказывалось на работе над оперой. Наконец-то я получил возможность без остатка сконцентрировать внимание на моих внутренних голосах, с каждым днем звучавших все отчетливее, и вскоре я не сомневался, что к концу года создам нечто такое, что оправдает и мои собственные ожидания, и надежды Юдит.
Пресловутое полнейшее одиночество сумело пробудить во мне способности, о которых я доселе и не подозревал. Музыка, возникающая теперь непрерывно, не могла быть воссоздана в студиях звукозаписи, поскольку ее правила и схемы рождались и существовали только в моей голове, взрастая на почве опыта, к которой до меня никто еще не притрагивался. Независимо от того, будет ли когда-нибудь моя опера поставлена, я был страшно горд тем, что вообще заявил о себе миру. Еще более укрепила веру в себя и одна новость, явившаяся для меня полнейшей неожиданностью: моя композиция «Тишина I–XV», медитация в минималистском духе в пятнадцати секвенциях, завоевала приз в Чикаго, что, в свою очередь, означало, что и европейские коллективы проявят к ней интерес, и немалый. Таким образом, почва для того, чтобы моя опера зазвучала во всем великолепии, была подготовлена.
Брико оказался неважнецким игроком в шахматы, проигрывал он воистину блестяще. По его ходам не составляло труда заметить, что доктор грезит о победе, и только о ней, однако при такой стратегии ни о каких победах говорить не приходилось. Брико с поразительной легкостью расставался с пешками, лишь бы не отдать короля. Вы провинциальный генерал, как-то сказал ему я, который спит и видит, как бы оказаться в верхнем эшелоне власти, а посему всегда готов принести в жертву любое количество солдат.
Доктор даже не оскорбился, напротив, тут же сделав очередной необдуманный ход, он лишился массы полезных фигур. Нервно постукивая ногой, ероша волосы, Брико барабанил кончиками пальцев по столу — и снова промах. Никак нельзя было исключать, что и во врачебной практике он придерживался примерно той же схемы. Впрочем, меня всегда пленяла его искренность и отсутствие попыток корчить из себя великого стратега, хотя Брико был отнюдь не против стать таковым.
С каждым разом мы все больше и больше доверяли друг другу. Однажды Брико спросил у меня разрешения прийти ко мне с подружкой, которой он все уши прожужжал о моих композиторских дарованиях. Она была родом из Австрии, а познакомились они во время какого-то восхождения на Альпы. Ныне подружка поселилась под его крышей, и он ломал себе голову над тем, каким же образом ее развлечь в этой глухомани. Она обожала Моцарта, понятия не имела об Альбане Берге, зато превосходно готовила. В разгар обеда Брико внезапно вызвали к больному, и он принялся испрашивать моего совета: мол, как скажете, так и будет, скажете ехать — поеду, нет — не поеду. Я посоветовал ехать.
Как только Брико убыл, дама проявила странную активность. Вскочив из-за стола, она подбежала ко мне и крепко обняла сзади. Поскольку я никак не отреагировал и продолжал сидеть, возложив обе руки на стол, она горячо прошептала мне прямо в ухо: «Вероятно, вы считаете, что я поступила дурно?» и тут же вернулась на свое место. Я не считал ее поступок дурным и напрямик заявил об этом.
— Если бы Брико не собирался возвращаться сюда, — сказал я, — я бы ответил на ваши объятия.
— И что потом? — спросила она.
— Потом он застукал бы нас.
— А потом?
— Потом я был бы вынужден застрелить его.
— А потом?
— Взял бы вас к себе поварихой.
— А потом, — сказала она, — вы довели бы меня до дурдома, как Юдит?
Слава Создателю, Брико не заставил себя дожидаться и увел ее. Дама украдкой оставила мне свою визитную карточку, я потом ее обнаружил под тарелкой, когда убирал со стола. Дипломированный психолог. Я и предполагал, что она должна заниматься чем-то подобным. Чудом я вновь едва не стал жертвой.
К концу ноября покой и тишина приняли просто угрожающие масштабы. Я уже в ужасе вздрагивал при стуке оконной рамы о стену, распахнувшейся под порывом ветра, и по ночам вскакивал в холодном поту, когда спавшая в ногах кошка беспокойно шевелилась во сне.
Пора было отправляться к людям.
Сняв копию с нот, я отослал их в Мюнхен. Теперь оставалось лишь подготовить дом к зиме. Так как в деревне не нашлось желающих помощь мне управиться с садом, Брико прислал садовника из соседней — добросердечного человека, с которым мы вместе обедали. Он подстригал кустарник, я же был занят уборкой комнат. Все в доме было переставлено в прежнем порядке, царившем здесь до появления Юдит. Дом снова стал моим. Пять дней спустя садовник покончил со всем. Я позвонил Филиппу в Париж попрощаться и сообщил Брико, что на зиму собрался в Мюнхен. С трудом удалось отговорить его от последнего визита.
— Последнюю партию, а? — упрашивал он меня по телефону, но я был непреклонен.
— В мае, — пообещал я доктору, — в мае наиграемся.
Я уложил в машину все необходимое, готовясь на следующий день отправиться в путь. Ключи от дома и деньги передал женщине, приглядывавшей за домом родителей Филиппа, чтобы она прикармливала домашних животных, после чего завалился прямо на диван без простыни и, укрывшись пледом, попытался заснуть. Однако, разумеется, не смог.
Что-то завершалось. Я предпринял все, что в моих силах, чтобы не походить на прежнего себя, но не был до конца уверен, что у меня получилось. В детстве меня приучали разбираться в обстановке. В молодости от меня требовали ничего и никогда не пускать на самотек. Став студентом, я был вынужден уповать именно на случай, чтобы заставить его работать на себя.
А нынче?
Как же приятно и легко предоставить все на милость фортуны. Она настолько деликатно стучалась в двери, что так и осталась неуслышанной. Теперь же в моей жизни она обретала статус почти что экономки. Во всяком случае, могучей силы, играющей мною, силы, совладать с которой день ото дня становилось все труднее. Однажды я буду вынужден спрятать от нее свое истинное «я». Должно быть, именно эта мысль в конце концов убаюкала меня.
29
Утро выдалось погожим, теплым, даже слишком теплым для прощания со здешними краями. Все дело было, по-видимому, в приходе теплого фронта из-за Пиренеев, предвестника дождей. Во всяком случае, пчелы вновь ожили, а семейство саламандр, обитавшее у колодца, уже успело насладиться завтраком.
— Храните мне верность! — крикнул я им, прикрывая колодец крышкой.
В долине по-прежнему белыми барханами висел туман, однако сизо-фиолетовые горы уже успели сбросить его одеяние. Суровая краса открывалась заспанному взору того, кто с чувством превеликой благодарности осматривал открывавшуюся перед ним панораму. Приходилось делать над собой усилие, чтобы не сдаться. Садовый инвентарь — в сарай, где до сих пор стояла духота, будто постройка эта каким-то образом сумела самоустраниться от метеорологических изменений.
По привычке я запер двери сарая, хотя любой, даже самый неискушенный воришка без всякого труда справится с запором. Раз пнуть ногой прогнившие доски, и делу конец. Вдруг показалось, что я вел здесь странную и запутанную жизнь, хотя все в ней было предельно простым и прозрачным. Услышав звук последней захлопываемой за мной двери, я почувствовал, как кольнуло сердце. Дом этот забрал какую-то часть меня, и даже возвращаясь сюда, я уже никогда не смогу обрести ее вновь. Каждый из нас, уходя, оставляет какую-то часть себя, ту, которая уже не принадлежит ни нам, ни нашей жизни, и при этом и речи не может быть об утрате. С другой стороны, есть люди, не желающие отдать ни крохи себя и, к великой досаде окружающих, бесконечно вспоминающие истории времен своего детства из боязни утратить их навсегда. Не дай Бог увидеть где-нибудь оброненное кем-либо и позабытое слово! Эти люди и помирают, так и не выпустив из рук плюшевого мишку, с которым вместе росли. Вырванное с мясом ухо надставлено и заботливо подшито, причем видно, что его подшивали и надставляли.
Под Лионом затор — не протолкнуться. И откуда столько жутких грузовиков? Дело не только в том, что половина Центральной Европы этой осенью вместе со всем нажитым ринулась на юг Франции, в Испанию или Португалию, но и в том, что и обитателям юга европейского континента тоже по непонятным причинам загорелось окунуться в неприветливый холод сердца Европы. Если верить, что во всех этих бесчисленных мебельных фургонах действительно мебель, то мы, по-видимому, становились свидетелями небывалого тектонического сдвига населения, которое обуяла тяга к перемене мест. Возможно, и в Мюнхене меня встретит доктор Брико. И доктор Брико, разумеется, будет настаивать, чтобы все вокруг, включая и меня, употребляли в пищу исключительно молоко из Франции. Чем еще можно объяснить длиннющие колонны молоковозов?
Не поднимаясь выше второй передачи, я дотащился до Женевы, которую разразившийся ливень едва не смыл в одноименное озеро. Я не видел ничего, кроме машин. Лишь у Боденского озера небо вновь прояснилось, и я, к своему великому удивлению, убедился, что в двух шагах от автобана существует реальность — домики, виноградники и даже разбредавшиеся по полям коровы, в последних лучах заходящего солнца брюзгливо-задумчиво дожидающиеся вечерней поры.
В Брегенце я остановился на ночлег, взяв номер в гостинице. Один из тех номеров с печатью невыразимой грусти, с ковром коричневых тонов на полу и обоями, где резвятся птички. И установленным на подвижной консоли телевизором, так что по утрам можно было включать его, не поднимаясь с постели. Семнадцать программ, на двух из них звучала сочиненная мною музыка. Коротышка полицейский комиссар, превративший меня в богатея, перевозил парализованную супругу убийцы к секретарше ее мужа. К тому моменту, когда я включил телевизор, все более или менее прояснилось. Опечаленный муж вел себя так, будто для него ровным счетом ничего не стоило любить и ту и другую, что, разумеется, для большинства представлялось пределом мечтаний, в противном случае сюжет был бы иным. Рядом с ним симпатичная особа в инвалидной коляске, которой явно не терпелось покончить с опостылевшими съемками, чтобы встать наконец на ноги. Плакала она крайне неубедительно, посему была вынуждена регулярно прикрывать личико руками и подрагивать плечиками.
Я задумался о том, как много женщин в немецких тюрьмах сидят сейчас на инвалидных колясках, но тут обслуга принесла мне сандвич и бутылку вина. Решив залезть в карман куртки за чаевыми, я вынужден был удержать молодую особу за бедро, в противном случае ей бы пришлось усесться на мою постель. Следующим разом непременно закажу номер на двоих, скоморошествовал я, не надеясь на ответ. Я уже нагнулся к куртке, чтобы извлечь из кармана мелочь, и в этот миг зазвучала моя мелодия финала картины, соответствующим образом усиленная электроникой Грюцмахера.
— Как вы это находите? — осведомился я у прислуги, видя ее лицо, словно снятое крупным планом, сантиметрах в двух от меня, и вкладывая ей в ладонь пятимарковую монету.
Она ничего не находила и, пожелав мне доброго вечера, удалилась. Открывая дверь, она напомнила мне Юдит. Тут дверь наконец захлопнулась.
* * *
До Мюнхена я добрался без остановок. Свернув у Аммерзее на дорогу поуже, я ехал, наслаждаясь ярким осенним утром. По радио звучала соната Бетховена в исполнении Вильгельма Кемпфа. Прощание и приезд совпали по времени, отчего я чуть не заплакал. С великим трудом я добрался до своей улицы, извлек багаж из машины и втащил в притихшую квартиру. Все было прибрано, везде царил порядок. Я дал поручение Грюцмахеру убрать квартиру, поскольку не знал, в каком состоянии ее оставят. Виолончель Юдит прислонилась к обеденному столу, на котором сиял огромный букет.
Корреспонденция стопкой лежала в библиотеке на маленьком столике, который сюда притащила Юдит. Письмо Марии я увидел сразу и тут же отложил в сторону. Остальные письма и открытки перекочевали в мусорную корзину. А что с ними еще делать?
Взяв письмо Марии, я несколько раз внимательно перечитал свою фамилию. Вскрывать его нужды не было — я и так наизусть знал содержание. Очень долго я сидел, прогоняя в воображении образы. Нет-нет, на самом деле незачем было прочитывать это письмо.
30
В Национальном музее Будапешта есть один любопытный рисунок, который мы с Марией без устали разглядывали. Рисунок этот покоился в витрине в темном углу зала на первом этаже, приходилось сгибаться чуть ли не в три погибели, чтобы разобрать, что же нарисовано. Пронизанный трагизмом набросок — женская фигура в напоминающем тогу ниспадающем одеянии. Женщина бесстрашно глядит на усевшуюся на ее правую руку хищную птицу, жадно расклевывающую плоть. И коршуну явно наплевать на угрожающе поднятый указательный палец левой руки женщины. Справа позади женщины видна лодка. На ней она попала сюда? На ней она убежит отсюда? У ног женщины черепаха, не без интереса наблюдающая за происходящим.
— Это я, — сказала Мария, когда мы впервые увидели рисунок, — лучше мое положение и не изобразишь.
Я будто завороженный вперил взор в маленький кусочек синеватого картона, вглядываясь в искаженное гневом лицо женщины, в линии ее тела.
— В таком случае я — черепаха, — ответил я, весьма довольный такой классификацией символических образов.
Мария — охваченная гневом женщина, я — полное невозмутимости и хорошо защищенное животное, которому ни коршуны, ни беркуты нипочем.
— Ты идиот, — объявила Мария, — ты ястреб, или канюк, или сокол, который убивает меня. Я одна приехала на этот продуваемый всеми ветрами остров, чтобы здесь обрести покой, и только собралась раздеться, чтобы искупаться. Обрати внимание, правая грудь обнажена. Даже черепаху, выбравшуюся со мной на сушу, я повернула в другом направлении, чтобы ее древние очи не видели моей героической наготы. И когда я скинула свое шуршащее одеяние, когда улеглась в тени лодки отдохнуть, вдруг до меня донеслось хлопанье крыльев. Вот потому я и изображена в такой странной позе. Ты ведь сразу впился клювом и когтями в мою руку, это же видно, и тут же начал кромсать мясо, как вампир, пробудившийся на час позже положенного. И теперь та, которую ты лишил отдыха, вынуждена с ужасом взирать на твою отвернутую от меня голову, и все мое естественное изящество вмиг обратилось в ледяной мрамор. В этой позе я вполне сойду за надгробный памятник.
А под ним в могиле будешь лежать ты.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
der Stier (нем.) — бык. — Примеч. пер.
(обратно)
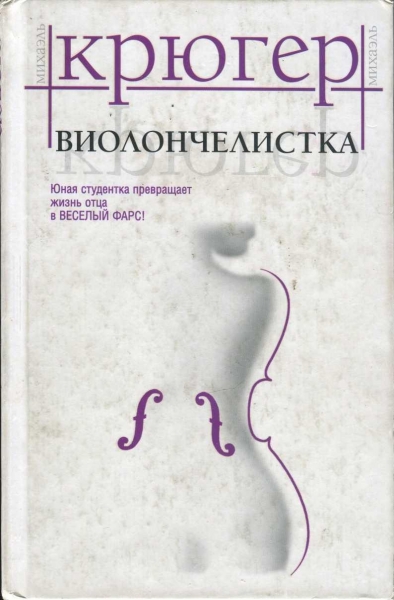




Комментарии к книге «Виолончелистка», Михаэль Крюгер
Всего 0 комментариев