Антон Ярев Цветом света
ГЛАВА ПЕРВАЯ
…И запаян в рябой гранит
Помертвелой воды магнит,
И уже веселится прах
В бронзо-каменных чучелах… [1]
– Ты можешь объяснить, причем здесь картины?! Их-то за что?! – вскричал Лесков.
Дина никогда его таким не видела: красные, налитые слезами глаза, дрожащие, смятые в кулаки руки и голос, как у петуха на заклании. К месту или нет – подумалось: лучше война без смысла, чем время без почвы. И довольная, что наконец-то тронула эту безжизненную, ледяную глыбу, она освободила руки, театрально отложив нож на подоконник.
– А причем здесь я, Женя? Объясни.
Лесков попятился, оглядываясь, зажевал губами воздух и то ли случайно зацепил этажерку с цветами, то ли выход нашел в этом. Полочка хрустнула, горшки спорхнули на пол, осыпав его ноги сырой землей вперемешку с корнями и листьями. Комната стала наполняться терпким запахом потревоженной герани. И Лесков почувствовал, как бледность со лба сквозь тело уходит в эту самую землю, ему даже показалось, что земля светлеет, словно плесенью порастает.
– Животное! – выплеснула Дина.
Он обернулся:
– Еще слово – ударю.
– Кишка тонка!
Они были похожи на школьный прибор с уроков физики, где на две колбы – общая трубка, и вода переполняет то один сосуд, то другой. Евгений понял: Дина ждет удара. Опустил плечи.
– Зачем?
– Слизняк!
– Ты порезала нашу жизнь. На кусочки.
– Жизнь?! Женечка, дорогой, но мы не живем! И давно не живем… Ты… ты – мертвец!
Он кивнул, пусто поглядел на жену – знал это раньше – отвернулся:
– Наверное.
– Видеть тебя не могу! – плаксиво крикнула Дина и убежала в соседнюю комнату.
«Кто победил в этом раунде?»– спросила совесть. Лесков покачал головой, ударился глазами в дохлый, вспученный паркет, скрипнул зубами. Оборвалось.
– Больше не увидишь.
Разметал ногами землю, вышел в коридор, накрутил шарф на шею, накинул куртку, и, схватив неизменный кожаный ранец, оставил квартиру.
Жили они с Диной на первом этаже в замызганном желтом доме по Английскому проспекту. Жили без малого четыре года, превратили коммуналку в трехкомнатную отдельную, натаскали в дом всякого барахла, не народили детей и ничего не поняли друг в друге.
Евгений коротко выругался: не ожидал. Достал полупустую пачку «Беломора»: «Вру. Себе вру».
Начало апреля. Четыре утра. Мокрый ветер. Черно и холодно. Ни людей, ни машин, метро и вокзалы закрыты. Недолго постоял у парадной под умирающей лампочкой и побрел к Мойке, осаждаемый мыслями, в которых ночь из сегодня странным образом переплеталась с мелочами двух-трехлетней давности. Ветер хлынул навстречу, загасил папиросу. Лицо свело. Пятки потянули назад. Передернуло. Нет, возвращаться не надо. Хочется только покоя – абсолютной тишины, пустоты и бездвижия.
Доплелся до набережной, снова закурил и потащился вдоль воды. Размышления хлипко-жалко срослись в паскудном понимании, что Дина права: он стал другим или – не все ли равно? – стал казаться другим. Мертвец! Когда это сталось? Месяца три?.. Полгода? Наверное… Ничего за это время не сделал, то есть совсем ничего!
Дошел до Поцелуева моста. Что за дрожь? Холодно. Поднял воротник. Неужели выдохся, кончился? Неужели больше не способен ни видеть, ни мыслить, ни даже удивляться? Перешел через мост, глянул перед собой и вдруг осознал, что все очень странно отображается, неправильно, будто в старом кино: подразмытыми нераскрашенными картинками. Небо, дорога, дома, свет фонарей – все из той же двухцветной палитры. «Метаморфозы ночи», – плюнул в город. И себе же сопротивляясь, начал лихорадочно озираться, в слабой надежде хоть где-нибудь увидеть цвет. Взгляд упал на загаженную воду Мойки – только-только лед сошел. Но нет цвета. Черный?.. Никакой. Паника?.. Незадача: даже не паника. То есть, вообще наплевать. Должно быть обидно, ведь чего-то не хватает… А чего не хватает, если ничего нет? Поморщился парадоксу. Ничего. Ничего найти несложно… Так вот она проблема, всегда он оказывался слаб в арифметике: пустоту искать не надо, пустота в нем самом, и нужна малая малость – урегулировать разницу этого ядра с оболочкой… Евгений почувствовал как река тянет к себе, представил как мутная ледяная вода заполняет легкие, и наступает покой, приходит желанное равновесие…
Он приблизился к ограждению, склонился над перилами. Один шаг – здравствуй, мама?.. Всегда бы так просто. Глаза неминуемо нашли точку, готовую их принять. Что осталось?..
Мягкий шум мотора и ползун света, небрежно, случайно выброшенные кем-то в воздух, сначала украдкой, как наливается слеза, потом выросшие тяжелой горячей каплей, достигли его пустоты. Это был здоровенный «Мерседес», он выскочил из-за поворота, со стороны Крюкова канала, визгнув по трамвайным рельсам, крутанул своим задом, поворотил рыло и, пересекши мост, резко притормозил.
Послышалось односложное ругательство. Потом задняя дверца открылась. Из машины показалась бритая голова, механически, словно перископ повернулась, и затем уже, вслед за ней, вышло сейфообразное существо. Оно не заметило Евгения или просто не обратило на него внимания – согнулось пополам, закопошилось в брюках и что-то недовольно забурчало себе в пупок.
Спустя секунду-другую из автомобиля выбралось еще одно создание, совсем другого характера и конструкции. Женщина. Лица ее не было видно из-за темноты и некоторой дальности расстояния, пока она чуть неверной походкой не направилась на противоположный край моста.
Лескова передернуло и отшвырнуло от перил. В следующий миг он ощутил: воздух, чересчур сегодня сырой и холодный, застрял в глотке мерзлым кубиком. Голова озарилась недоделанным трактатом о причинах и следствиях, остальное произошло само собой. Время нелепо замедлилось, и он успел поймать нечто более скорое, чем свет в пространстве. Такое случается, когда после годовалого заточения в камере-одиночке вы обнаруживаете что-либо новое из старательно забытого старого. Это радует и пугает, хотя на самом деле всецело подчинено вам.
«Обязан ли я кому? Ангелу или черту?»– шептал Лесков, растворяясь глазами в чуде и понимая, что не только определил цвет волос незнакомки – белый и чуть-чуть золотой соломы – но и составил полное представление об одежде, вплоть до пуговиц, о фигуре, чертах лица и макияже. Так и смотрел, будто разбуженный филин, потом отпрянул взглядом, откашлял дурацкий кубик, подумал: «Ну теперь-то протрезвел?»– и снова вгляделся в ее чеканную походку, слегка наклоненную голову с полусонными веками и руки, спрятанные в глубокие карманы бордового плаща. Плащ был расстегнут и совсем не в ансамбль к нему открывал светлую бежевую блузку, черный шарфик и такую же черную, намного выше колен, юбочку. Лескова поразили ноги; он не приемлел жутких понятий как: идеальные, стройные… Об идеалах предпочитал не спорить. О стройности говорить здесь было излишне. Нормальные, в самом естественном смысле слова – ни убрать, ни прибавить. До сего дня он не встречал столь совершенных, и в динамике, и в статике плавно переходящих друг в друга линий ни у одной из моделей или натурщиц.
Девушка сутулилась, но это от какого-то недуга, вон и глаза у нее больные… Красивые глаза: печать Востока, но с пронзительной до яда синевой… Евгения ошарашило: не выдумал ли он? невозможно все это видеть при таком скверном свете! Транс. Ни черта не протрезвел! Еще хуже!.. Увлеченный, он не заметил, как стал дрожащими пальцами расстегивать замок ранца, чтобы достать бумагу и пастель… Высокий лоб, утонченный, островатый нос, некоторая жесткость скул, но приятная впалость щек, большой завораживающий рот и губы, – хотелось прикоснуться к ним и прошептать: «Только ничего не говори!»
– Шедевр, – тихо произнес Евгений.
– Ты куда? – послышалось из машины.
И появилась третья голова, как и первая, коротко стриженая:
– Стой, перчик!
Первый молодец из «Мерседеса» внезапно умолк, оторвался от своих занятий, трансформировался из согбенного состояния в исходное, наконец заметил присутствие постороннего, сунул правую руку под мышку и безвольным тенором прозвенел:
– Ты, баклан, исчезни!
У Лескова всегда было туго с телепортацией в реальность, но он все-таки вроде как задвигал членами, стал озираться, куда бы исчезнуть.
– Перчик! – услышал снова, но уже дуэт – и до того истошный, что обернулся.
Девушка перегнулась через перила и полетела в воду. Взметнулся бордовый велюр, вызвал снопы брызг, на мгновение вздулся поплавком и скрылся из виду.
Лескова опять охватила дрожь: «Как?» Что-то там из параллельного мира прямо в ухо его же голосом или наоборот – душа изнутри ляпнула: «Вот дура!» Он посмотрел на бритоголовых, те путались в своих пиджаках и шнурках ботинок. Душа больше ничего не сказала, обернулась молнией. Ранец упал на тротуар. Тело, как в одежде было, перепрыгнуло ограждение и нырнуло в Мойку. Вода со страшной скоростью приблизилась, раздался позорный всплеск, будто в гору посуды. Куртка смягчила удар. Евгений запоздало вскрикнул и заработал руками. Надо признать, это вышло намного лучше прыжка. Несмотря на освинцовелую одежду, холодом обжегшую тело воду и элементарное неумение плавать, он очень шустро добрался до места падения сбрендившей девицы и усиленно греб ко дну. Там глубина-то весной не больше двух метров, проще разбиться, чем утонуть. Сколько искал ее под водой – неизвестно, но ему показалось мгновеньем. Тут же увидел светлую паутину волос, дотянулся, схватил и потащил наверх. Утопленница начала брыкаться, а когда вынырнули – вцепилась Евгению в лицо, закашлялась, захрипела, завыла.
Он отодрал ее руку, опешил и… понял почему: поспела трезвая оценка положения: «Что ж это когти у них такие?!» Девушка ударила его и зарычала:
– Пусти, ублюдок!
И Лесков лучшего ничего придумать не смог, как ответить:
– С ума сошла?
Девица была вне себя, хотя, откуда он знал, может это нормально. Взял и тоже ударил – она удивилась, а потом совсем заартачилась, стала яростно молотить руками и глотать воду. Бедолага Лесков подумал, что все кончено. Он не мог больше держаться: одежда тянула на дно, холод сковал и крутил винтом ноги, и еще эта сумасшедшая…
– Ах ты сучка! – раздалось где-то в небе. – Плыви, плыви! К краю плыви!
Евгений закрутил головой, пытаясь понять, где край. Метрах в двадцати пяти увидел темную нишу в каменной оковке Мойки – ступенчатый спуск, что-то вроде причала, какие есть почти у каждого моста. Но тело на сей подвиг не откликалось: Лесков, насколько еще мог чувствовать, ощущал себя неумело сляпанным газетным корабликом, наскрозь пропитанным водой и готовым вот-вот пойти ко дну.
– Лови! – закричали с берега. – Ну лови же! Подними хлебало!
Евгений вовремя догадался, что это ему. Увидел на мосту бритоголового человека. Тот размахивал какой-то веревкой, словно ковбой из дурацкого вестерна. Рука человека последний раз дернулась и застыла, воздух со свистом прорезало и плюхнулось на воду, горячо хлестанув и рассадив голову Лескова. В полуобмороке он понял, что это буксировочный трос, каким-то чудом ухватился и так, одной рукой вцепившись в него, а другой таща за волосы утопленницу, наконец-то похожую на таковую, то есть без признаков жизни, был дотянут до каменной стены окаймлявшей воду. Там уже помельче, до дна достаешь носочками, в рот и уши вода хлещет и прозрачные ледяные осколки… Капут… Как еще духу хватает не выпускать трос и «улов»?
Лескова отбуксировали до ниши, за шкирку вытянули из воды, за руки, за ноги донесли до машины, сорвали с него мокрую одежду, во что-то завернули, влили в глотку добрых пол-литра водки и закинули в салон «Мерседеса», где кондиционер во всю гнал горячий воздух, а радио пело о чем-то сумбурном, не воспринимаемом. Рядом с Лесковым на заднем сидении оказалась спасенная им девушка, запеленатая с ног до головы, с безумным взором и двумя кровавыми ручейками под носом. По краям от горе-пловцов сели бритоголовые: возле Евгения тот, что ковбой, а возле девушки тот, которого Евгений первым увидел. Впереди еще двое: шофер и, похоже, командир «БТР», кричавший про перец. От сей до жути неуютной картины у Евгения засосало под ложечкой.
Компания сидела без движения и молчала минут пять, потом командир сказал:
– Поехали.
– Вшестером? – спросил водитель.
Командир обернулся и по-недоброму уставился на первого – эдакого рослого дитятю с удивительно гармоничной печатью ясли-садовского образования на физиономии:
– Ну как, не тесно?
– А что я-то, Майк? – встрепенулся первый.
– Говно ты. На постах бабу мордой в пол, понял?
Первый кивнул. Шофер повернул ключ зажигания, «БТР» плавно тронулся с места и полетел по Глинки, мимо зеленой Мариинки и далее.
– Звони, – холодно сказал Майк.
– Куда? – спросил первый.
– Туда.
Первый достал из кармана пиджака «сотовик» и пальчиком набрал номер. Лесков заметил на его брюках большое неприятное пятно с разводами.
– Александр Эмильевич? Это Владик, – неуверенно начал молодец. – Мы уже на Фонтанке… У нас тут возникли проблемы… Какие?..
Майк выхватил у Владика трубку:
– Грек, это Майк. Мы ее чуть не потеряли. Недоглядели. Нет, все нормально! Она в Мойку прыгнула… Попросила… Нет, я понимаю, но она тут весь салон обгадила, Владику на конец наблевала… Чего-то ела, откуда я знаю… Я не повар. Да. Да. Конечно… Тут еще… парень один влип, мы и его везем. Он ее вытащил. Я не знаю! Ну да, как же! – Майк засмеялся, сложил антенну и вернул трубку Владику.
– Ну что? – спросил Владик.
Майк тяжело вздохнул:
– Кильку в томатном соусе пробовал?
– Нет.
– Молодой, – нарочито фальшиво зауспокаивал Майк.
Шофер и ковбой заржали. Лесков поежился.
– Козлы, – процедила девушка.
– Ой, ты молчи лучше, а то свернем в сторону, отпинаем, да и положим твою голову на рельсы… Впрочем, нет, – Майк повернулся к ней, – ты только этого и хочешь. Не так ли? Извини, Перчик, – он развел руками, – но придет день, обещаю, и желания совпадут с возможностями.
Шофер безобразно улыбнулся в зеркале. Ковбой достал сигарету.
– Убери, – сорванным голосом приказала девушка.
Ковбой, видимо, не услышал.
– Убери, – повторила она еще жестче.
Бритоголовый покосился на нее: Перчик явно злорадствовала.
– Во-от сука! – убрал сигарету.
В ее раскосых глазах плескался ад. Да, на мосту Лесков не ошибся: она была прекрасна… Загадочна и прекрасна… Взгляды их пересеклись.
– Идиот, – простонала «загадка» и отвернулась.
Евгению стало не только страшно, но и грустно. Водка прогрела, а в голову не ударила, и спасла от ситуации лишь наполовину. Несчастный понимал, сейчас надо молчать и ждать, иначе спросит что-нибудь не то. Но терпения не хватило, и он все-таки спросил, как можно мягче и вежливее, при этом стараясь не бросаться словами и строго их дозировать:
– Позвольте узнать, куда мы едем?
– На Московский, – бросил Майк (а по Московскому проспекту ехали они уже минуты две).
– А что там, на Московском? – осмелился на еще один вопрос Лесков, и получил потрясающий по своей исчерпывающей логике ответ:
– Мы туда едем.
Больше он не произнес ни слова. «Мерседес» тормознул неподалеку от Парка Победы, заехал во дворик и остановился на газу перед подъемными воротами, над которыми висели две наблюдательные пушки и с любопытством, свойственным такого рода механизмам, разглядывали вновь прибывшую машину. «Это чересчур», – подумал Евгений.
– Ну это уж чересчур! – разозлился шофер и нажал на клаксон.
Ворота медленно поднялись. Автомобиль скользнул в светлую обитель гаража, стал и затих. Навстречу машине выковырялся маленький усатый дядька в голубой робе и с крупногабаритным инвентарным чемоданчиком. Шофер вылез из машины, хлопнул дверью, Лесков успел услышать:
– Что за кляча, Андреич?..
Майк повернулся к Евгению:
– Идти можешь?
Лесков бросил взгляд на девушку.
– Ей в другую сторону, – предупредил Майк.
Ковбой выпустил незадачливого пловца. Тот пошатнулся и понял, что все-таки «слегка» пьян. Майк схватил его под руку и куда-то повел. С этим Лесков смирился, но вот внешний дискомфорт беспокоил сейчас куда больше: босые ноги, мокрое нижнее белье, чей-то большой пиджак и плед в крупную клетку. Никогда бы раньше его это не трогало. Так вот она как начинается – паника.
Майк усадил страдальца в мягкое кожаное кресло. Сел рядом, через журнальный столик, открыл пачку «Мальборо» и, не глядя, протянул Евгению. Тот, немного успокоенный жестом, зашевелился, взял сигарету. Майк поднес к ней массивную стальную зажигалку. Евгений прикурил, огляделся.
Стены цвета кофе с молоком, уляпанные сверхмодным сюрным рельефом, ореховая мебель, сдобренная темным лаком, чайные розы в модернистских вазах, мохообразный, в тигровую полоску ковер на полу, высокие потолки, роскошные гардины и ламбрекен – тоже кофе, но словно вылепленные из растворимого порошка. Здоровенное окно и две двери: двухстворчатая и одинарная. Последняя открылась, и в комнату лихо вплыла высокая, не в меру размалеванная и по-секретарски одетая девушка, поставила на столик поднос с бутылкой янтарного скотча, тремя стопками и несколькими сэндвичами a’la France [2] из морепродуктов и каких-то других мерзостей. Потом она так же лихо выплыла. Майк открыл бутылку и показал Лескову, мол: «Не желаешь?» Евгений уточнил количество посуды и решил подождать третьего. Майк пожал плечами, налил в одну стопку до краев и разом ее опрокинул.
Наконец, появился тот самый третий. Отворились створки большой двери, и в комнату вошел статный, темноволосый красавец, лет едва ли сорока, с лицом, глядя на которое обязательно услышатся минорные, пронизанные солнцем и нежным бризом, переливы мандолины под сладким голосом: «…Speak softly love and hold me warm against your heart…» [3] . И халат на нем был будто флер: дорогой длинный, пестрый… впрочем, весьма безвкусный. Эхо Голливуда подошло к Майку, протянуло руку. Майк поднялся, пожал ее.
– Где эта беда? – спросил итало-американский денди совсем без акцента.
– Все в порядке. Жива и здорова.
– Тот чудик? – спросил он снова, не глядя и даже кивком не указывая на Евгения.
– Угу, – подтвердил Майк. – Вовремя успел, еще бы секунда-другая и черт знает, что было бы…
– Кто виноват?
Майк ответил не сразу:
– Я.
Человек в халате усмехнулся:
– Я всегда говорил, что тебя погубит сентиментальность.
Телохранитель не отреагировал, кивнул и вышел, но Лескову почему-то показалось, что он расстроился. Человек сел на место Майка.
– Будем знакомы. Александр, – представился он.
Евгений холодно пожал протянутую руку:
– Женя.
– Как, как? – переспросил Александр, недоверчиво улыбаясь.
Лесков пуще прежнего разволновался и крякнул:
– Евгений.
Александр поднял брови и налил Евгению виски.
– Не замерз?
– Было немного, – признался Лесков.
– А зачем прыгал?
– А вы бы не прыгнули?
– Но там же были другие люди, заинтересованные.
– Долго снимали ботинки.
Александр засмеялся:
– А ты не снимал?
– Не снимал.
– Оригинал, – хозяин чокнулся с рюмкой гостя и выпил. – А что было потом? Утопленница за собой не тянула?
– Нас вытащили тросом. Вон, все руки исцарапал…
– Да и не только руки, – вздохнул Александр. – Узнаю эту женщину!
Лесков дотронулся до правого виска и недовольно поморщился: терпеть не мог ссадины, вечно они мешали работать.
– А что теперь с ней будет? – осторожно спросил он.
– Ну, это одному богу известно, – уклонился Александр. – Ты вот лучше скажи мне, что делал на том мосту и в такое дурацкое время?
– Гулял я, – отвернулся Лесков.
– Н-да, юноша… Может, проблемы какие?
Молчок.
– Баба?
– Жена.
– Деньги?
– Наверное.
– Н-да, юноша… – задумчиво повторил хозяин. – А чем ты занимаешься?
– Я художник.
– Художник – это плохо, – согласился Александр. – Каким бы боком мне художник?.. Что с тобой делать?
Лескову опять стало нехорошо. И трезветь не хотелось. Взял со стола стопку и одним глотком опустошил ее. Виски легко вошло и растеклось по телу теплом и светом.
– Может, не надо ничего?.. – попробовал отгрешиться робкий гость.
– Да нет! Пойми меня правильно, я такой человек – плачу за все той же монетой. Ко мне с подлянкой – и я не добрый, – Александр посмотрел шершаво и колко, необработанным металлом; художник сглотнул комок. – А ты, скажу прямо, спас мою репутацию. Знаешь, чего стоит слово делового человека?..
Евгений подумал, что сии высшие материи не его ума дело.
– Оно порой жизни стоит… – продолжал Александр. – Ты, парень – я вижу – честный. Хочу и я с тобой по-честному. Видишь ли, деньги – много ли их, мало – закончатся. Вот если бы я мог предложить что-то более конкретное… Художник. Картинки малюешь?
– Пишу… и малюю, и даже малярничаю, леплю, тесню, вытесываю, вытравливаю, кую, проектирую, конструирую, выдуваю…
– Чего выдуваешь? – ужаснулся Александр.
– Все выдуваю, что попросят… из стекла.
– А что еще ты делаешь?
– Еще…
– Вообще-то не надо, не перечисляй, мне все равно не понять, – хозяин призадумался. – Проектируешь… У меня дом есть в Приморском, у залива. Там поработать надо. Если тебя заслать? Вот и спроектируешь мне интерьерчик. Коли получится, то я тебе столько работы найду!..
– А делать кто будет?
– Что делать?
– По моему проекту?
– Сначала начирикай.
– Если к этому с умом подходить, то я сам должен и делать.
– А можешь? Карты в руки! Поработаешь с недельку, я приеду – посмотрю, если меня устроит, то… то и хорошо. Дам тебе пару своих сотрудников для охраны, они и материал привозить будут. О деньгах не спрашивай: все, что надо – достанем. Устроит такой расклад?
– Вполне, – молвил Евгений, не веря в происходящее.
– Вот и хорошо. Завтра мы тебя и отвезем. Где живешь?
Евгений задумался: мчаться домой, порадовать Динку? Странно, но большого желания видеть ее он не испытывал. Чувство вины сидело, плотно, да, но… но это все: не грызло. И такое обстоятельство не сильно удивляло. Стыдно, товарищ эгоист, стыдно.
– А нельзя ли прямо сейчас поехать, отсюда?
– Ты это что же, и жену увидеть не хочешь?.. Ясно, – Александр повел ладонью по воздуху, сим мягким жестом давая понять, что проблемы не существует. – Ты мой гость. Отдохнешь в ванной, покрутишь видео, залезешь в мой гардероб, что наденешь – то твое, а завтра… Только завтра, сегодня у меня дела.
ГЛАВА ВТОРАЯ
…Нам – бродягам счастливая дура-чума
Каждый день густо дарит цветы.
Ты сказала: в стране этой зло от ума,
От труда, добра и красоты…
Перчик приняла душ. Не одевшись – только накинула на плечи свежую сорочку – в розовых мягких тапочках расхаживала по спальне из угла в угол и курила. То к окну подойдет, глянет в него, затянется, пустит дым в занавеску. То уткнется лбом в стену, зажмурится, откроет глаза – все по-прежнему – и идет обратно. Вот, ночка! Думала: все всерьез, воспринимала болезненно остро, но теперь поняла – дурацкий розыгрыш… Старалась больше не размышлять об этом и почти забыла о происшествии на мосту, ее лихорадило другое: на часах – девять, а Саша до сих пор не зашел. Сколько ей быть в проклятом неведении? Может, он вообще не появится, как последний трус?
Перчик глянула под ноги: весь ковер усеян пепельными «червячками» и рыжими фильтрами сигарет. Насчитала двадцать семь окурков, покачала головой, взяла со столика костяную пепельницу, взвесила на руке и со всего маху швырнула в зеркало трюмо. Зеркало взорвалось, тысячи осколков мерцающим салютом усыпали полкомнаты. Дверь в спальню открылась, заглянул Владик.
– Пошел вон, козел! – рявкнула девушка. – Зови Сашу, не то еще что-нибудь разобью!
Владик исчез. Перчик сбросила тапочки, сняла сорочку, прыгнула в постель и укрылась одеялом до шеи. Минуты через две вошел Александр – он был уже в черной тройке и при бабочке – внимательно осмотрел причиненный ущерб и только тогда обратился к дебоширке:
– Я слушаю.
– Нет, это я слушаю! – театрально воскликнула она.
– Ты снова курила.
– В столе были сигареты.
– Да? – Александр взял со столика ополовиненную пачку «Уинстона», открыл ящичек, достал оттуда еще две и распихал их по карманам. – Все?
Девушка откинула одеяло. Но Александр не смотрел на нее:
– Одевайся, нам пора ехать.
– Столь спешно?
– Я и так опозорился из-за тебя, пришлось объясняться с человеком.
– Что за человек?
Он раздраженно взглянул на Перчик:
– Ты заставляешь меня повторяться?
– Черт! – она стукнула кулачком по простыне и вскочила. – Ты не можешь так, Саша! Ты не имеешь!..
– Это не игрушки, Женя! Надо понимать!..
– Понимать? Как мне это понимать?
– Вот это уж меня не волнует, – Александр нехорошо улыбнулся. – Мне не нужна лишняя головная боль.
– Ты с ума сошел.
– Это ты не в порядке.
– Зачем ты так, не знаю. Это проверка, точно? Положим, я в чем-то была не права. Прости. Пожалуйста. Но не надо так больше, я же люблю тебя… Это правда и… и это очень серьезно… Саша… Ты не шутишь? – в ее голосе прозвучала надежда.
– Ты мне больше не нужна, Женя, – таким же тоном он говорил обычно: «Сходи, почисти картошечки».
– Нет! – будто тисками сжали горло, как и в первый раз, ночью, когда она услышала его холодный голос в телефонной трубке – и опять ей стало обидно и страшно. – Так ведь нельзя, Сашенька… Это же предательство… Саша!.. – она кинулась ему в ноги, обняла их и зарыдала.
Александру не удалось ее отшвырнуть, Женя вцепилась, будто теперь на самом деле тонула и хваталась за последнее, что могло спасти жизнь:
– Сашенька, милый мой, любимый! – умоляла она. – Прости меня! Я что-то не так сделала! Я исправлюсь, только ты не предавай меня, Сашенька!
Александр с жалостью посмотрел на извивающуюся перед ним в пепельной пыли несчастную, совсем голую Женьку, мягко склонился, чтобы обнять и успокоить, но вовремя опомнился, сообразив к чему это может привести – равнодушно и небрежно напомнил:
– Ты бесправная содержанка.
Перчик замерла, подняла заплаканные глаза: Александр походил на один из «монархических» памятников, взгляд его был тяжел и посторонен. Дрожа и всхлипывая, Женя ползком попятилась до кровати и стянула на себя одеяло.
– Господи, Сашенька! – прошептала она сквозь слезы. – Я же люблю тебя! Я надеялась, что у нас… что ты…
– Я выкупил тебя у борделя, – оборвал Александр.
– Деньги?.. Но я же… Ты же сам говорил, что это неправильно!.. Что мы в силах изменить… Почему ты научил меня тебе верить? – она вытерла слезы и с дрожью вздохнула. – Ты сделал мне больно, Саша, это я не забуду.
– Одевайся. Встреча будет в ресторане, так что подбери достойный туалет, – сказал Александр и направился к двери, но Перчик остановила его:
– За сколько же ты меня продал, Грек?
Он обернулся, перекошенный, злой:
– Не трави душу, Женя!
– Серьезно? Это ты говоришь?..
– Заткнись!
– Конечно, я не имею права. Но любопытно, как ты зарабатываешь. Поделись на прощанье.
– Дура! Здесь другое.
– Не продешевил?.. Ах, ну да! – начала понимать Женя. – Ты же у нас азартный игрок! – она горько рассмеялась. – Катала немеряный! Нокер-счастливая рука! И член свой со мною заложил?
Александр шагнул к ней и замахнулся. В ее глазах мелькнул страх, она зажмурилась. Удара не последовало. Грек спрятал руки в карманы.
– Правильно, Сашенька, тебе я не принадлежу, – выдохнула Женя. – Так чья же я теперь? Просвети.
– Я говорил вчера, – огрызнулся Грек.
– Не помню.
– Его зовут Ян.
Перчик безразлично кивнула.
– Ты вдрызг проигрался?
– Не совсем так.
– Это были ставки на равных? Во сколько же ты меня оценил?
– Это Ян предложил. Он видел тебя пару раз со мной. Вот и предложил…
– Что?
– Свою долю в «Голден Пэласе». Похоже, он высокого мнения о тебе…
– Ты, значит, не высокого… Сколько?
– Сорок.
– Тысяч? – спросила она.
Грек усмехнулся, и в его голосе прозвучали знакомые Жене ласковые нотки, рассчитанные на наивных детей:
– На такие суммы, радость моя, я лет с пятнадцати не зарюсь. Сорок процентов с оборота.
Девушке это ни о чем не говорило, но она услышала, что хотела – интонацию: Саша был прежним, и отношение его к ней не менялось. Жене стало плохо, она закрыла лицо руками и почувствовала: где-то там, в груди поселился странный зверь, забился в уголок между сердцем и гортанью, поободрал все своей шершавой спиной, притянул к себе жилы, какие нашел, да так и замер, не отпуская их. Женей овладела обида горче первой.
– Убирайся, – простонала она.
Александр на пороге оглянулся и уже попросил ее:
– Оденься, Жень. Машина готова, нас ждут. Через полчаса я зайду.
Грек, всегда пунктуальный, в этот раз задержался минут на пять. Прежде, чем повернуть ключ в замке, постучал в дверь, предупреждая о своем появлении. Женя была готова: элегантна и броска. Черные, крокодиловой кожи, лакированные туфельки с высоким каблучком; колготки в мелкую сеточку с редким, в ромбик, узором; отчаянно-красное осеннее кашемировое пальто с поднятым воротником; шелковый черный шарф, такие же перчатки; в тон пальто ярко накрашенные губы; темные очки в широкой гагатовой оправе, скрывающей виски; воздушные светлые волосы, наспех завитые, но со вкусом уложенные; в мочках по бриллиантовой звездочке.
– Какое платье выбрала? – поинтересовался Грек.
– Черное в блестках, – бросила Женя и прошла мимо.
По коридору, через всю квартиру до гаража пронесся сладкий аромат «Пуазона». Майк терпеть не мог эти духи, но вынужден был сидеть на заднем сидении слева от Перчик. Справа сидел Пашок, тот самый Пашок, которого Лесков окрестил «ковбоем», впереди – шофер и Грек. Девушка давно привыкла к такого рода аккуратным перевозкам. Словно старому другу, улыбнулась Майку, а Пашку незаметно наклеила на спину жевательную резинку.
Ей никогда не сообщали, куда именно везут: это «от сотворения мира» называлось либо необходимостью, либо сюрпризом. Но Перчик не отличалась длинным языком и с удовольствием рассматривала город через непременно тонированные стекла нуворишеского транспорта.
На сей раз ее привезли в «Асторию». Мальчик в строгом костюмчике, по всей видимости – секьюрити (Женя обожала это словечко: для русского веет от него чем-то неприличным), впустил четверых приглашенных и закрыл за ними. В холле, у бюро, две девушки приветствовали их улыбками. Грек провел Женю к гардеробу. В окошечке сидело еще одно секьюрити. Грек подал ему свой плащ, принял у спутницы пальто и обомлел: вместо декольтированного черного платья в блестках на Жене были короткая кожаная юбчонка и ядовито-желтая кофточка с беличьими плюмажами на плечах, а шею девушка украсила пудом всевозможных цепей. Женя довольно улыбнулась и сняла очки. Веки ее были густо размалеваны темно-коричневой тенью, брови подведены до висков, а ресницы огромны и томны; ни дать, ни взять – панельная девка. И достойной ее походкой она прошла в холл. У секьюрити поотвисали челюсти. Девушки ахнули. Из салона выглянул бармен, глупо скривил лицо, уронил гору салфеток и, не заметив этого, убрался обратно.
Со стороны казино появились три человека. Одного из них Перчик вспомнила: высокий, плечистый блондин, лет за сорок, с пластилиновой улыбкой и серыми, каменными глазами. Это был Ян. Увидев Женю, он изменился в лице, досадливо цыкнул, но тут же вернулся к прежней мине, развеселился, взял ее руку и поцеловал:
– Я не имел права рассчитывать на иное отношение. Это справедливо. Что ж – привык уважать любую точку зрения. Рад видеть вас, хоть и с опозданием. Саша, – он глянул на Грека, – сказал, что возникли кое-какие проблемы, пришлось переиграть нашу встречу – я пригласил вас в ресторан… – Ян развел руками. – Как в кино, честное слово!
Замечание было поддержано смехом всех сопровождающих. Женя обернулась: Александр фальшиво улыбался.
– Так это было приглашение? – спросила она тоном обещающим скандал.
– Девочка моя, будьте снисходительны к старому, больному человеку, – капитуляционно поник Ян.
Женя ни слова не сказала, прошла в обеденный зал. Заведение было явно предусмотрено под ночной клуб. Сколько денег понадобилось, чтобы снять его днем? Взгляд ни на чем не мог удержаться, утопал и расплывался в пространстве роскошного интерьера. Ухо цеплялось за древоватые переборы гитары и скрипучий голос Эрика Бёрдона в «The House of Rising Sun» [4] . Женю усадили за центральный столик сервированный на троих. Ян сел напротив, Грек между ними. У столика уже стоял официант, низенький старичок, похожий на графин с усами Сальвадора Дали.
– Что закажет мадемуазель? – любезно осведомился он.
Женя открыла меню, пробежала глазами, смутилась, но с безразличным видом спросила:
– А что из себя представляют креветки гриль?
– Королевские креветки, маринованные с кореньями и пряностями, приправленные лимоном и чесночным маслом, – пояснил официант.
Девушка, подняв брови, согласно кивнула.
– А вот «Ладожская загадка», что это такое?
– Филе судака, фаршированное шампиньонами и яблоками, в белой панировке, обжаренное во фритюре. Подается со свежими овощами, зеленью и соусом «Тартар».
– «Тартар»? Изумительно! И сколько такая «загадка» стоит?
– За все уплачено, мадемуазель.
– Это безвредное любопытство.
Официант покосился на Яна. Тот спокойно улыбался.
– Всего триста семьдесят рублей, мадемуазель.
– С «Титаник», стало быть… – Перчик перевернула лист меню. – Ну, раз уж за все уплачено, то и несите тогда: я все это съем.
– На первое осмелюсь предложить классический русский борщ, приготовленный по рецепту «Астория Клуба».
– Его издревле по этому рецепту готовили? Несите!
– Что будет пить мадемуазель?
– «Мартини Бианко».
– А на десерт?
– Взбитые сливки с клубникой и киви.
Официант поклонился и обратился к Яну.
– Как обычно, Сергеич, только водки в два раза меньше.
– Сделаем. А вы что будете, молодой человек?
Грек пожал плечами:
– Горячий салат с уткой, лосось «Бризоль»… Черный «Уокер».
Старичок поспешно удалился.
Женя удивленно взглянула на Яна:
– Он ничего не записывал?
– Вы прелесть, Женечка! – засмеялся Ян. – Рекомендую: Сергей Сергеевич Пересветов, первый гарсон Питера! Он из ресторана гостиницы, в другом крыле, а сюда я пригласил его из-за вас.
– Он тоже бесплатное приложение?
Ян обиделся.
– Дорогая Женя, вы превратно меня понимаете. Я стараюсь вам угодить, лишь той корысти ради, что это доставляет мне удовольствие. Вы допускаете мысль, что я влюбился? Да, я без ума от вас! Был бы я щедрым мальчишкой, я бы не имел возможности подарить даже самый скромный букет. Может, будучи старым скрягой, я сумею сделать вас счастливой?
Женя не отвечала.
– Чтобы доказать вам, что это так, а не иначе, я сейчас же готов проститься и оставить вас с Сашей. Вы этого хотите?
Александр застыл куском льда. Но девушка и не взглянула в его сторону:
– Нет. После того, что случилось, я не желаю к нему возвращаться.
Ян облегченно вздохнул:
– У меня, знаете ли, сердчишко совсем никуда.
Он поднялся из-за стола, зашел к ней со спины, достал из внутреннего кармана пиджака продолговатый футляр, открыл его и надел Жене на шею ажурную золотую цепочку с алмазным трилистником.
– Надеюсь, из всей Вашей коллекции цепей в конце концов останется самое ценное, – добродушно пожелал Ян.
Перчик обескуражено молчала. Появились две хорошенькие девушки, подали первые блюда и напитки. Ян вернулся на место.
– Теперь обсудим наше status quo [5] . Сегодня вечером я улетаю. В Европу. Вы, Женя, остаетесь на попечение Саши… Где, кстати, Вы прежде жили?
– Грек снимал для меня квартиру на Ваське, – ответила Перчик.
– Угу. Пока перевезем Вас ко мне на Невский, а там посмотрим. Конечно, некоторые неудобства: шум, толчея, но смею думать, это лучше, чем в трущобах. Если, Женечка, возникнут какие-либо пожелания, просьбы, капризы или – не дай то бог – жалобы, обращайтесь к Саше – он все сделает, я попросил его помочь. Надеюсь, так оно и будет, и всецело Вам доверяю.
Женя не знала, что и сказать.
– Я хочу, чтобы мы стали друзьями, – Ян поднял рюмку. – За нашу дружбу!
И они вдвоем чокнулись. Александр свое виски не тронул.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
…Твое задумчивое тело
Вдыхает аккуратно тьму;
В губах – туманная новелла,
В глазах – «к чему?» и «почему?..»
Дача Александра, если слово «дача» приемлемо к строениям такого рода, находилась на побережье Финского залива, между Песками и Зеленой Рощей. Внушительных размеров трехэтажный композитный дом, сомнительное торжество мысли в стереометрии. Судя по всему, это бунгало отстроили год назад, натаскали материала для отделки и «заморозили» объект.
Лескова подвели к пустым стенам: бетонным, кирпичным, а то и просто иллюзорно-каркасным. Сделайте милость – проявите смекалку… Айда веселиться, худосочный мальчик!..
С ним оставили двоих. Некоего краснокартофельнолицего Славу, постоянно называемого вторым оставленцем не иначе как – Москит. Самого же второго, Гену, то ли за двухметровый рост, то ли за другую ущербность – недоразвитость воображения и мышления как такового вообще – Слава в свою очередь называл Карликом. Эти двое «достали» Лескова в первый же день. Слава-Москит любил рассказывать истории о своем городе Ельце, что под Липецком, причем истории начинались в качестве раскрытия или дополнения какой-либо общедоступной интернациональной темы, а заканчивались если не летальным исходом для персонажей, то, по крайней мере, их злостным увечьем. Гена-Карлик чуть ли не каждые полчаса приглашал Лескова составить им компанию для игры в секу или промачивания горла, что принципиальной разницы не имело, или того хуже – пытался навязать себя в помощники (да чё там, все мы русские!). Евгений, посмотрев на его бычью, но безрогую голову, пальцы толщиной в железнодорожный костыль и с таким же квадратным сечением, вежливо отказался. Карлик угрюмо злился, потом угомонился и оставил художника в покое. Но Москит со своим былинно-сказительным талантом продыха Евгению не давал. Мало просто рассказывать, он еще требовал от «благодарного» слушателя, чтобы тот внимательно следил за мимикой и жестикуляцией. Лесков не знал: может быть, это на самом деле интересно, может быть, в Славе ни за что пропадает отчаянной силы юморист, но согласен был считать себя человеком без чувства юмора, ибо юмористов не любил; все они казались ему одинаково скучными и пошлыми. Лескова хватало лишь на редкие неловкие улыбки.
А однажды, когда он встретил затруднение в работе, и несколько плоскостей в один узел не сходились, Слава довел Лескова до белого каления. Художник послал. Охранника это шокировало, бросило в нездоровую краску, он что-то полуневменяемое крикнул из разряда: «Здесь посылать могу я!» – и ушел, к сожалению, ненадолго.
Дабы отдохнуть от замылившей глаз «хибары», Евгений устраивал непродолжительные путешествия вдоль воды по промозглому песчаному берегу или в печальный, изрядно полысевший лесок, где еще лежал снег, плотно укрытый настовой коркой. За Евгением обязательно шел один из соглядатаев.
Променад принес плоды: художник довольно скоро отыскал решение, способствующее, как ему казалось, удовлетворению и запросов хозяина, и замыслов самого творца. Он с воодушевлением принялся за работу и в первые десять дней успел наворотить более чем достаточно для демонстрации своего мастерства Александру.
Хозяин заехал на выходных и остался с ночевкой. Лесков предложил ему подробный план убранства всех помещений и не только провел подготовительные работы на кухне и в санузлах, но и полностью завершил отделку одной из комнат первого этажа. Александр подивился темпам мастерового, одобрительно хмыкнул, вечером устроил шашлык и, благополучно в свежей комнате переночевав, проснулся воскресным полуднем бодрый, довольный собой и окружающей его действительностью. Лесков нервничал, не позволил себе просидеть с шампуром у мангала более получаса, сорвался в бездну труда. А Москит и Карлик стали побаиваться художника. Связь между Лесковым и Александром Эмильевичем выглядела для незадачливых телохранителей на уровне вселенского бреда. Их разжиженные мозги кипели вплоть до отъезда хозяина.
«Слава богу, Грек отвалил!» – вздохнули они в одно сопло, выпустили пар из котелков и весь понедельник не приставали к Евгению. Потом все пошло своим чередом: день и ночь художник пашет, церберы дежурят – кто во что горазд. Но отныне Слава и Гена не сильно его раздражали. Евгению аж довелось пойти на контакт с чуждой цивилизацией. Три раза он отправлял Москита за стройматериалами, а потом брал у него мобильный телефон…
Звонил Дине. Сперва никого не оказалось дома. Позвонил на следующий день. Ответил почему-то мужской голос: «Да!» Лесков опешил и промолчал, а голос вдруг спохватился и просвистел: «Вы, наверное, ошиблись. Перезвоните». Трубка чирикнула и отрубилась. Евгений повторил набор: тишина. Тогда он вовсе успокоился.
В пятницу вечером Москит позвал Евгения из соседней комнаты. Художник не откликнулся. Москит снова крикнул его и добавил, что просят подойти к телефону. Евгений взял трубку:
– Алло.
– Это Александр. Я хотел спросить: ко всему, что однажды было перечислено, можно приплюсовать возню с тряпками?
Евгений нахмурился – не понял – потом засмеялся:
– Я художник! Все, что связано с цветом, линией, конструкцией, композицией…
– Помню, помню. Так да или нет?
– Везите иголку и нитки.
– Хорошо. Жди нас завтра. Дай трубку Славику.
Лесков несколько озадаченный вернулся к работе. Кого «нас» и, все-таки, что за портняжные услуги? Не иначе как попытка приобщиться к высокой моде при наименьших материальных затратах. Кутюрье усмехнулся и тут же забыл об этом.
Лег он спать в субботу около семи утра, проснулся по обычаю в одиннадцать. Завод рабочего механизма не отнимал много времени. Завтракал – рисовал карандашом на гипсолитовых стенах искаженные портреты своих недавних знакомых. В половине двенадцатого моторчик зажужжал, не помня ни о вчерашнем звонке хозяина, ни о том, какой сегодня день, ни вообще о планете Земля.
Но спустя часа три работу его прервали. В окошко Лесков увидел старый знакомый «Мерседес» и еще грузовик. Впрочем, за событие это не считалось, и работяга возился с обоями, пока не услышал в коридоре голоса восторженные и ошеломленные. Первый он узнал: это Александр. Узнал и второй – сердце ёкнуло. Евгений бросил валик в лоханку с непрозрачно-стекловидной массой и вышел навстречу «гостям» в ужасной робе, перепачканной краской, клеем, стружкой и всевозможной пылью. Александр развел руками, а точеная блондинка с раскосыми синими глазами – любительница ночных купаний в Мойке – переменилась в лице и криво, злобно усмехнулась, показав прекрасные зубки.
– Это вот этот вот? – бросила она и достала сигарету.
Лесков заметил, как дрогнули ее пальцы, хотя, вполне возможно, ему это показалось. Александр щелкнул зажигалкой. Девушка отвернулась и небрежно пошла прочь, пуская дым в сводчатый потолок, оформленный керамическими осколками слабых оттенков сиреневого, голубого и розового, рисующими холодный закат в тумане.
– Как ты работаешь? – спросил Александр.
– Как всегда, – ответил Лесков.
– Я спрашиваю: по сколько часов. Ловко получается.
Евгений пожал плечами:
– Ну… по восемнадцать. Порой – весь день…
– Чё? А когда спишь?
– Четырех часов хватает. Вполне.
– Ибанько, – вздохнул Александр и, размеренно ступая, продолжил осмотр.
На первом этаже осталось доделать гараж с предбанником и самую дальнюю комнату. Евгений брел рядом с хозяином вежливой тенью гида:
– Я конечно совсем не в восторге…
Но Александр покачал в воздухе ладонями, давая понять, что хочет тишины, заглянул в просторный кафельный саркофаг ванной, забавную уборную с двумя огромными аквариумами и плавающими в них рыбками по обе стороны от клозета. Потом он перешел в роскошную сауну и, не выдержав сладковатого запаха, поскорее убрался из нее.
– Да-а, чудодей. Аргумент, – удовлетворенно хрустнул он пальцами.
Лесков скромно улыбнулся.
– Ну что, сползаем на второй этаж?
Они поднялись по еще не отделанной бетонной лестнице. Александр, сунув руки в карманы, важно прохаживался и выслушивал предложения мастера. Согласно кивал, довольно улыбался, но в самой просторной комнате остановил Лескова:
– Здесь я хочу «комнату любви».
– Спальню? – уточнил Лесков.
– «Комнату любви», понимаешь?
– Не очень.
– Ну, как бы тебе объяснить?.. Комнату с созданной в ней вполне определенной атмосферой. Ясно?
Евгений нахмурился, но, заметив, каким оскалившимся взрослым мальчиком смотрит на него Александр, махнул рукой:
– Ясно.
– Я знал, что тебе понравится. Все на этом? Помощь, я так понимаю, не нужна?
– Я бы отказался и от той, что имею.
– В смысле.
– От Славы и Гены, – Лесков провел ребром ладони по шее, – Они у меня вот где!
– Любишь одиночество?
– Обожаю.
– Ну что ж, эту просьбу мы удовлетворим. Подключим завтра-послезавтра сюда телефончик. Буду платить тебе и за сторожа. Какой-нибудь ствол тут оставлю. У тебя разрешение есть?
– Нет, – покачал головой Евгений.
– Ну и черт с ним. Не столь важно, – Александр похлопал его по плечу. – Мне с тобой уже дважды повезло. Пора премировать. Отдохнуть не желаешь?
Лесков замялся.
– Ты не пугайся, – успокоил хозяин. – Я сразу понял – ты шизик. Как там говорят?.. Лучший отдых – смена деятельности? Так вот, есть тут пара предложений. Пойдем.
Они отыскали девушку в комнате с видом на залив и скромными стенами морской волны.
– Мне нравится эта комната, – сказала она.
– Договорились – твоя, – Александр подмигнул Евгению: – Обожди немного, – и вышел.
Девушка стояла к художнику спиной, обхватив плечи; между пальцами – сигарета, чуть ли не до фильтра прогоревшая, с длинным, ни разу не сброшенным пепельным столбиком; за окном – беззвучные перекаты волн. Евгений невольно оглядел ее черное строгое платье до колен, чуть расставленные, в темной синтетике ноги, поразившие его тогда на мосту… Спешно взялся за дверную ручку.
– Подождите, – не оборачиваясь, остановила она. – Думаю, вы неплохой человек. Но все дело во мне – я злопамятна.
В комнату ворвались грузчики с водруженной на них мебелью, какой-то техникой и прочими принадлежностями жизни оцивилизовавшегося человека. Александр капельмейстировал процессией в арьергарде.
На расстановку прибывшей декорации потребовалось минут десять, после чего хозяин прогнал статистов. Художник заинтересовался, естественно, не столом, телевизором, диваном-раскладушкой, а большой коробкой, натуго перекрученной скотчем. Александр распечатал ее, пригласил Евгения взглянуть. В коробке по-зимнему пахнул и сиял ворох белой материи.
– Это платье, – пояснил Грек. – Прислано из Италии. Вот ей что-то не понравилось. Говорит, надо мастера.
– Ясно, – ответил Лесков. – Я хотел бы увидеть… – ему стало неловко, и он шепнул Александру: – Я не знаю имени…
Грек ухмыльнулся:
– Это Евгения. Это Евгений.
Лесков и девушка с любопытством уставились друг на друга, наконец-то она по-доброму, хотя и рассеянно улыбнулась.
– Так вот, – профессионально-холодно молвил художник, – я хотел бы увидеть Евгению в этом платье.
Блондинка безразлично повела кистью: «Пожалуйста». Лесков опять собрался уходить.
– Можете остаться, – приложила она.
Мужчины уткнулись в пустой экран телевизора. И пока занятная спутница хозяина облачалась в шикарный буржуйский наряд, Евгений тихо спросил:
– О каком еще деле шла речь?
– Ну, для начала, я бы хотел узнать, долго ли… – Александр пытался подобрать нужное слово. – Долго ли картину рисовать?
– Это зависит от размеров, материала… от замысла, в конце концов.
– Ну… к примеру, если я закажу портрет? Чем портреты рисуют?
– Пишут, – поправил Лесков. – Чем угодно.
– Ну, обычно чем?
– Классический вариант?
– Вот, – согласно поднял палец хозяин, услышав знакомое веское слово, – классический!
– Маслом. Большой?
– Примерно в четверть такого окна.
– На заказ. Масло, холст. Девяносто на семьдесят. Дня за три я сделаю. А чей портрет?..
– Эй! – устало окликнула девушка.
– Потом поговорим, – оборачиваясь, шепнул Александр.
Бесспорно, это было шикарное воздушное платье из белой светящейся парчи с бантом на левом бедре и двойной юбкой из тафты и тюля. Евгения тускло глядела на обоих, но Лесков отметил про себя: умеет стоять и умеет держаться.
– Пройдитесь, повернитесь и остановитесь.
Девушка с легкостью проделала все это. Евгений заворожено следил за ее движениями, походкой. Поворот доставил ему необычайное наслаждение – так зрители в театре радуются ожидаемому, но не менее от того приятному эффекту – а то, как она склонила набок свою головку, привело его просто в восторг, но внешне художник не проявил ни чувств, ни интереса. Он не ошибся, девушка – совершенство, а вот платье… Была здесь существенная загвоздка, заметная сразу. Но могла ли Евгения сама объяснить, что ей не нравится? Любопытство, конечно, не профессионально, но в том-то и конус, что со словом «профессионал» у Лескова были свои счеты.
– Размеры, по-моему, совпадают. Платье хорошо сидит, замечательно смотрится, по модели – гениально, что же Вас не устраивает?
Евгения пожала плечами:
– Не мое это. Не нравится. Я себя тут не чувствую.
– Другой стиль, – победно кивнул художник и подошел к ней. – Позволите?
Он дотронулся до ее запястья, пядью пробежался по рукаву, зашел со спины, приложил ладони к ее лопаткам, склонился, посмотрел, присел, пошуршал оборкой нижней юбки.
– Я сделаю это платье так, как вам захочется, – наконец сказал он.
– Я не знаю, как мне хочется. Скорее никак.
– Это поправимо. Я сам узнаю.
Девушка снисходительно хмыкнула. Но Евгений чувствовал бешеный прилив энергии. Его понес бес или вдохновение, или никому неизвестно что. Такое случалось, как только новая работа обретала смысл, и вычерчивались пути к ее исполнению. Он превращался в творца, а творцы беспощадны:
– Конечно же, я не Юдашкин, но ведь и Версаче не я. Раздевайтесь.
Все трое подумали, что ослышались, но творец продолжал:
– Девушке неловко, выйдите, Александр.
– Но… – Грек обескуражено уставился на художника.
Евгения, увидев по-овечьи преобразившуюся, изумленную физиономию Александра, подыграла Лескову:
– Ну что встал? Мне неловко!
– Подожди… – совсем растерялся Грек. – Ты понимаешь?..
– Представьте себе, Александр, что я – врач, – настаивал художник. – А для платья так оно и есть.
Грек неопределенно изогнуто прошел к выходу, обернулся, раздраженно бросил:
– Давайте побыстрее, – и скрылся за дверью.
На мгновение воцарилась тишина: ни тех, кто разносит по дому мебель, ни «Урка-радио», круглосуточно гоняемого тугими ушами Москита и Карлика, ни собственного дыхания.
– Полностью раздеваться? – спросила Евгения.
Художник смутился: глаза у нее синие, спокойные.
– Нет, что вы, только до белья, – и отвернулся.
Он слышал шорох снимаемого платья, слышал, как оно падает на пол. Заставил себя смотреть.
Светлые локоны Евгении растрепались, беспорядочно осыпались на плечи. Шея оказалась более худой, чем думалось раньше, ключицы ярко выражены, но это придавало особое изящество, протягиваясь мостком от прекрасного тела к нестандартным заостренным чертам лица. Во всем остальном художник правильно угадал. Ноги… да, ноги, от бедра до стопы, до тонких прелестных пальчиков – ни посмотреть, ни оторваться… Колготкам девушка предпочитала чулки, носила черное кружевное белье. Держалась прямо. Взгляд обезоруживающий. Поза настороженная. Ситуация нелепая, миражеподобная, ирреальная. Человек терял рассудок, но бес-творец несся дальше:
– Это не займет много времени, – Лесков стал рядом с девушкой. – Я буду иногда касаться вас, иногда нет, буду спрашивать, что вы чувствуете… вернее – как хорошо, как плохо. Так мы придадим ткани нужную форму.
Он прикоснулся к ее левому плечу и, медленно скользнув ладонью по лопатке, остановился в позвоночном желобке. Девушка не шелохнулась, ровно дышала.
– Что? – спросил он.
– Ничего особенного, – улыбнулась она.
– А сейчас? – Лесков положил правую руку на талию так, как по его мнению, пойдет материя, левой рукой повторил движение, но лишь чуть касаясь смуглой кожи.
Он не увидел ее расширенных зрачков, но заметил, как свелись лопатки и мурашки покрыли тело.
– Вам неприятно?
– Нет, все в порядке, – вытянула она.
– Что-нибудь чувствуете? Только честно.
Женя испугалась, но не признаваться же в этом:
– Так хорошо… наверное, так… Да, так…
– Может иначе?
Он снова повторил – на сей раз нисколько не касаясь – и удивился ощущениям своей ладони: так щекочет и колется полевая трава, такой игрушечной искрой бьет электростатический заряд.
– Да, – выдохнула она мазохистом из-под холодного душа.
– Нормально?
– Вполне, – совладала с собой и приготовилась к новым испытаниям.
Правая рука Лескова опустилась на ее живот, горячий, с неспокойной, глубокоподземным источником бьющейся артерией. Творилось что-то неладное. Девушка побледнела, дыхание сбилось, веки прикрылись, голова закружилась. Евгений не видел, но, следуя ее ритмам, знал это. Женя – напротив – не знала ничего… и не хотела знать. Гипноз. Беда. А что дальше? Ладони постепенно отпускали ее, от плотного кольца вокруг талии разводясь на основание воображаемого конуса.
– Сейчас что?
– Мне кажется, это юбка. Она… приятна, – полусонно проговорила девушка.
Бес-творец остался доволен. Мгновение слабости – очнулся человек. Лесков уловил тонкий аромат. Нет, это не духи… Духи у нее сладкие, а это сродни смоле, которой плачут сосны в Балтийское море. Он привстал с колена. Так пахло белье?.. Он полностью поднялся. Нет. Понял. Это просто ее запах.
Женя возвращалась из новооткрытого космоса – истомленная в суставах, стала потягиваться, чтобы сбросить потом одним махом все муки.
– Стойте так! – повелел бес-творец.
Девушка замерла, будто аист перед взлетом, запечатленный на фотографии какой-нибудь книжки из серии «Они должны жить».
– Если возможно, я хотел бы коснуться вашей груди.
– Извольте, – ответила она то ли по-средневековоэтикетному, то ли по-мексиканосериальному и поразилась легкости своего согласия.
Руки Лескова были грубы, с замозоленной чуть ли не в камень кожей, испещренные келоидными рубцами, трещинами и порезами. Девушка не видела, какими культяпками дотрагивался до нее художник, увидев – не смогла бы поверить: реальное в разрез с ощущением, представлением. Сублимация шока. Равносильно – заглянул бы Лесков в ее лицо хоть на одну секундочку. Женя стиснула зубы, трудно вдохнула, а потом почувствовала, что это всего лишь чашечка его ладони удобным, идеальным лифом прикрыла ей грудь…
Конец мысли. Все предельно ясно. Творец понял, что и где он должен перекроить в этом чертовом платье. Но ладонь задержалась на груди. Человек думал по-другому, его взволновала и умилила небольшая, упругая, неожиданно материализовавшаяся пуговка под черным кружевом лифчика.
Лесков отпустил ее:
– Все. Я нашел.
Он вернулся к столу, делая вид заинтересованного картонной коробкой. Позади свирепствовала тишина. Абсолютная. Вакуумная. Сон, не сон? Оглянулся: Евгения в прежнем черном строгом сидела на диване, закинув ногу на ногу, и курила, как ни в чем не бывало… Только слегка нарушена прическа и все… Да, больше ничего… Сон.
– Забирайте платье, – сказала она.
Лесков поднял сугроб закордонной моды, аккуратно сложил в коробку, закрыл крышкой, постоял немного, подкрался к Жене и склонился над самым ухом. Бес покинул его, это было остаточным явлением:
– Настоящий цвет волос – русый.
Девушка внимательно, осторожно посмотрела в черные глаза инквизитора: он не спрашивал.
– Хорошая краска, – посочувствовал Евгений.
Она отвернулась и мрачно согласилась:
– Блондинка поневоле.
Все. Небо в тельняшечку и конец кина. Вон из этой комнаты. Александр, тут как тут, бросил взгляд на художника, на коробку у него под мышкой, на Женю и озабочено спросил:
– Ну как?
– Жить будет. Когда это надо?
– А когда возможно?
– Машинка есть?
– Какая?
Лесков засмеялся, и стало ему до тесноты легко:
– Швейная.
– Сегодня будет.
– Завтра будет платье, – и зашагал прочь, в ту комнату, где ждали нарезанные обои, где мог тихонько посидеть, хотя бы минутку, и понять, что же это в конце концов происходит: почему во рту сухо, а все тело мокрое, почему руки трясутся, а глаза не моргают?
Когда же добрался до места, тотчас выругал себя: шарады – не его рабочий профиль, пусть их Павел Глоба решает. А сам он доклеит обои, переделает этот «сарафан», позвонит Динке, черт возьми!.. И содрогнулся, едва не врезаясь в выросшую перед ним живую скалу: Майк, короткостриженый, приземистый, крепкий, и за его спиной ничего не видать, никакого будущего – ни светлого, ни темного – шагнул вперед, взял Лескова за плечо и грубо сказал:
– Ты художник.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
…И над цветным полулитром
Бренного сущного мира
Девочка перед пюпитром
Нервно возникла. С эфира
Нежно, ментально музыка
Звуков семейством подружным,
Аккордеоном жемчужным
Вдруг заиграла…
Вот так начинался май в Питере – праздник Труда – холодина жуткая. Воскресенье. Второе число. Кого-то мутило и трясло похмелье, а кого-то лишь подзадоривали приготовления к веселью. Между теми и другими была пропасть.
Лиговский проспект. Номер дома умалчиваем – там еще скуплен и перестроен весь «колодец» и на массивные вычурные ворота закрыт проезд под арку… обычно закрыт. В этот день ворота были распахнуты, но два молодых человека в темно-малиновых пиджачках выполняли функцию турникетов. Два часа дня. Под арочку стремился поток машин с временной дистанцией минуты две-три. Молодые люди заглядывали в салон, почтительно улыбались, пропускали транспорт. Недоразумений не было. Через них в течение часа прошло разной длины и окраски иномарок двадцать. Потом «ларчик» закрылся.
Другой поток, гораздо больший, останавливался у тротуара двух ближайших, смежных с Лиговским улочек и у самого дома. И эти обслуживались такими же малиновыми молодцами; ничего гаишного или стояночно-серверного. Среди прибывшего сюда транспорта оказался темно-зеленый «БМВ» Майка, он привез Лескова и плоский прямоугольный предмет. Чуть позже причалил к обочине «Запорожец 968М» эдакой броской ядовитой лазури. Из «мыльницы» выбрался худой лысый старичок-очкарик – гибрид лягушки и Лаврентия Павловича с тростью и в смокинге. Высморкался в платочек и шаркнул к парадному входу, где из уважения к его явно неординарной персоне был пропущен вперед Майком и Евгением. Следом вошли они.
Лесков пошатнулся: первое впечатление – нечто из эрмитажных воспоминаний. Посреди огромного зала блистал – да, да, именно блистал, миражировал бриллиантовым светом, вздымался мощным феерическим столпом под модернистско-барочные своды великолепный фонтан. Две широкие лестницы, устеленные мягкими паласами – отполированный в тошноту камень перильных рельсов по стройным ножкам балясин – звали на второй этаж. Белые колонны, небесным галеоном парящая люстра, запах… Легкий запах сладковатой пряности. Чуть позже Лескову подумалось, что так, должно быть, когда-то пахнул и Рим… Что он забыл здесь?
…Евгений выполнил очередной заказ Александра. Лихорадил до взмокшего лба, зверинки в глазах и холодных подмышек. Последняя его работа – картина. Писал без малого пять дней, за это время поспал от силы часов десять, в бреду просыпаясь, хватаясь за виски, глотая остывший кипяток с бульонным кубиком. То резкими рывками неожиданно вкрапливая детали, то зажимаясь и напряженно водя кистью по холсту, то находясь под сенью, что дает отдохновение себяпожирающему организму – писал. Полотно осталось незавершенным, но Евгений выдохся, вложил себя в каждый мазок столько, сколько еще не давалось ему до сего дня. И тогда улегся прямо на полу под мольбертом и забылся долгим безгрешным сном…
– Здравствуй, Женя, – услышал он знакомый металлический голос.
Александр Эмильевич оглядел художника: скверно выбритый, бледный, дерганый и в замечательном сером костюме, специально и заблаговременно купленном для него в «Пассаже».
– Неважно выглядишь. Охреневший какой-то.
– Это ничего, – прохрипел Евгений.
– Ну пойдем, – Грек взял его за рукав. – Покажешь.
Они прошли в завешенную густым бордовым полумраком небольшую гостиную, с тремя кожаными креслами, натурально потрескивающим электрокамином, несколькими старинными ружьями на стенах и парой троек «охотничьих» миниатюр.
– Ты чего так волнуешься? – спросил Александр, глядя на дрожащие руки своего протеже.
– Нет, нет, это… Это вот картина, – художник поставил прямоугольник в кресло и аккуратно снял предохранительный чехол. – Вы первый, кто видит.
Бизнесмен без выражения взглянул на полотно и поджал верхнюю губу.
– Здесь плохое освещение, – засуетился Лесков.
Рядом с дверью, за портьерой, он обнаружил элегантно изогнутый рожок. Комнату достаточно ярко осветило.
– Да нет, я все вижу. Хорошо. Похоже.
Грек обернулся. Евгений был явно раздосадован: неужели ошибся, неужели работал впустую? Неправда! Просто этот – пижон, и не разбирается в живописи!..
– Все укучкуются минут через сорок. Я хочу тебя представить этой публике. Тебе же на пользу.
Художник кивнул.
– Не терплю толпу. Я подключусь. Потом.
– Ладно. Картину возьми с собой. Найдешь дорогу?
И, не удосужившись ответа, Александр покинул несчастного. Евгений диковато уставился на свое творение, только сейчас в полной мере осознавая предстоящую утрату. Обреченно вздохнул, взором угас. Вырубил свет, бережно укрыл картину, занял кресло в самом темном углу и, откинувшись в нем, сомкнул чугунные веки. Катись оно все…
Александр тем временем в сопровождении Майка, до той поры стоявшего у двери на карауле, поднялся этажом выше. Ресторан. Гостей тьма, полное безобразие в многообразии. Почти всех Александр знал. Знал, чем они занимаются и чего стоят. Собрание несло на себе очаровательную неофициальную печать, грядущим торжеством смешало всех и полоснуло по ним нейтральной краской. С одной стороны, Греку это понравилось, с другой – вот с тем, с тем и с тем он не сел бы рядом, а вот с этим товарищем вообще бы не встречался. Майк, обычно невозмутимый, презрительно скривил губы.
– Киплинга читал? – спросил Грек. – А мультик смотрел? «Маугли»? – и кивком указал на присутствующих. – Водяное перемирие.
С другого конца зала спешил Ян, широко раскинув руки и счастливо улыбаясь. Почти по-родственному он обнял Александра и горячо потряс холодную руку Майка.
– Рад вас видеть, друзья, очень.
Ян самолично проводил их к столику, одному из двенадцати дугообразных, расставленных по окружности зала и позволяющих разместить за собой без труда огромную кучу народа.
Мазануть? До потери пульса? До позыва слюнок? Все в порядке – скатерть-самобранка при учете личных воздержанностей столующихся с возведением в степень посткоммунистической морали: деньги из пыли. Вот.
Впечатляющий размерами центр зала, предназначенный для танцев, конкурсов и иных развлечений, был занят под особую форму времяпрепровождения – тусовку. Благодушный тон создавало летящее золотом с эстрады стильное элингтоновское наследие.
За столом виновника торжества сверкала надменными голубыми глазами и одинаковой для всех доброй улыбкой невысокая женщина преклонных лет, но списавшая их со счетов своей жизни эдак пятнадцать, благодаря разумному себяобожанию.
– О-о, – протянул Ян. – Это мой самый дорогой гость. Из Швейцарии.
Он склонился к женщине:
– Мама, разреши представить тебе замечательного человека. Мой партнер, Александр.
Грек насторожился: партнером Яна случалось быть до сих пор лишь по карточному столу. Женщина оценивающе взглянула на молодого человека, – мелькнуло кокетство, подала свою руку, миндально прошептала:
– Очень приятно, можете называть меня Эммой.
– Взаимно, – насколько сумел мягко произнес Александр и, целуя руку, подумал: «В гробу я тебя видел».
– Я оставляю вас, – быстро проговорил Ян и сорвался навстречу вновь прибывшему гостю, наконец-то дошедшему до ресторана лысенькому старику-очкарику в смокинге.
Александр заинтриговано и с необъяснимым для себя нехорошим чувством глядел на сей экспонат музея палеонтологии, когда почтенная пожилая особа предприняла очередную попытку вернуть молодого человека в свое расположение:
– Какие у вас с Яном точки соприкосновения, Саша?
Грек несколько смутился, ибо такая избитая формулировка к их случаю вряд ли могла подойти.
– Игорный бизнес, – улыбнулся он. – Я помогаю вашему сыну набивать его кошелек, опустошая свой.
– Как это мило! – колоратурно прощебетала дама и рассмеялась.
Александр снова вынужденно улыбнулся: к его сожалению, это не было шуткой.
– Здравствуй, Сашенька, – колыхнулось за спиной.
У столика Яна нарисовалась Женя в том самом парчовом платье, свободном, по-небесному легком, но точно и выразительно подчеркивающим фигуру. Она прошлась волнующей походкой, села напротив Эммы. Синие глаза.
– Неделя прошла. Ты не звонил. Как поживаешь?
Александр тоскливой голодной собакой попялился, сглотнул слюну от неположенного куска мяса, притух, умом желая, чтобы она этого не заметила. Пожилая дама высокомерно шлифонула девушку отнюдь невесомым предостережением:
– Вам следовало бы, милая, вести себя попристойнее.
– Дорогая Эмма Владиславовна, мы знакомы с вами всего несколько часов, но все это время я лишь и делаю, что говорю вам «спасибо». Не надоело?
– Я не учу сына жить, – брезгливо отмахнулась дама.
– Может, я научу?
– Не устраивайте скандал, – улыбаясь, прошипела Эмма Владиславовна.
Евгения прищелкнула языком. Александр благоразумно откланялся и сел за соседний столик. Весьма вовремя. Тусовка рассеялась, занимая пиршественные места. Джазовый оркестрик виртуозно скрипнул кодой и смолк. В центре зала восклицательным знаком застыл Ян с хрустальным полуторапинтовым бивнем шампанского.
– Друзья, – значительно произнес он, – я рад видеть вас. Не всех я хорошо знаю, а кого знаю, быть может, плохо помню, – скупо блеснул зубами. – Не мой сегодня день, не этого роскошного нового клуба, где мы собрались. Сегодня ваш день: людей отчаянных и мужественных, умеющих жить и работать. Нас мало избранных! Нас мало славных! Я не буду говорить о силе в союзах. Сила в каждом в отдельности. И в этом сила наша. Я пью за вас, как если бы пил за себя. За ваш праздник! – он осушил рог до дна и с размахом грохнул об пол.
Зал ахнул, зааплодировал, кто-то истерзался в крике «браво!», оркестр взметнул солнечный свинг. Ян прошел к столу.
– Ты неподражаем, сынок! – поцеловала его в щеку Эмма Владиславовна. – С днем рождения.
– С днем рождения! – крикнул некто грузный, сидящий рядом с ней, и захлопал своими мясистыми ладошами.
Столовая майским ливнем, оползнем с Альп, маслом на сковородке, беспорядочно восклицая:
– С днем рождения! – сорвалась.
Ян встретился глазами с Женей. Она мило улыбнулась, подняла бокал.
Звенело стекло, вилки, крахмально хрустела скатерка, шелестел беспечный одобрительный говорок. Потом понеслось: тосты, шутки, танцы и бог весть еще что. Такой это вот был праздник в известном доме по Лиговскому проспекту.
А спустя часа два после своей помпезной речи Ян поддерживал локоток старичка-очкарика при спуске на лестнице. И не было особой нужды осторожничать – гости веселились, музыка играла – но говорили они очень тихо.
– Просвети-ка меня, Янушка, отчего ты так светишься? Скучно стало? – скрипел лягушонок.
– Да нет. День рождения, как обычно: в тесном кругу, вечерком у камина. А это, – брезгливо передернул блондинистый гигант. – Быдлятина. Обопьется – рассосется.
– А тогда расскажи-ка мне, старику, дипломат ты мой драгоценный, почто собрал всех «бензиновых королей»? Если играешь на них, почему не говоришь отдельно с каждым, а сталкиваешь их лбами?
– Ленив я стал, Леонид Степаныч. Ленивый человек и думает по-другому.
– Ой, ленив ли? – прищурился старик. – Темнишь.
Ян засмеялся.
– Времени у меня мало на каждого отдельно. Я здесь человек новый. И с Питером у меня счеты особые. Вот увидели блеск мишуры – пусть сами теперь меня ищут. Это проще.
– Стареем, – протянул Леонид Степаныч, и его круглые очки заволокло ностальгической дымкой.
– Вы еще кому угодно фору дадите!
Они вышли на нижнюю площадку. Миновали фонтан. Ян открыл дверь и пустил старика в маленькую темную бордовую гостиную с тремя кожаными креслами и негаснущим камином.
– И что дадут «бензиновые короли»? – спросил лягушонок.
– Деньги Ташана.
Старик поднял брови – несколько маленьких бесцветных волосин:
– Каким макаром?
– Опала.
– Много?
– Достаточное количество.
– Значит, опять игра?
– Вы же знаете, я не азартен. Только беру, что можно взять.
– Не азартен. Значит одинаково спокойно относишься и к победе, и к неудаче?
– Я забыл, что такое неудача.
– Хм, – Леонид Степаныч уставился на стену, увешанную старинным оружием. – А зачем потревожил старика?
– Нужен человек в банке.
– В каком?
– Пока не знаю.
– А сколько ты предложишь?
– Одну четвертую.
– А того будет?
– Три и сто пятьдесят.
– Ты не скуп. Хорошо посчитал?
– В этом деле не должно быть больше пяти человек. Пятый за вами, Леонид Степаныч.
Лягушонок хихикнул.
– Эх, Янушка! – он постучал тростью о стенку под гравюрой, на которой барс терзал убитого им оленя, не чуя от запаха крови притаившегося в кустах охотника. – Это оригинально!
– Могу подарить.
– Договорились.
– О чем, Леонид Степаныч?
Старик ухмыльнулся, подмигнул своим выцветшим глазом:
– Позвонишь мне, когда сочтешь нужным.
– О’кей. Может, присядем?
Камин дразнился искусственными угольками. Свободным было лишь одно кресло. Второе занимал плоский прямоугольной формы предмет, укрытый бархоткой, а в самом дальнем – напротив – поизломанным буратином разложился человек и, похоже, крепко спал.
– Кто это? – спросил Леонид Степаныч.
– Впервые вижу.
Старик поводил кончиком трости перед самым носом Лескова. Реакции не последовало.
– Аки младенец.
– Но мы довольно громко говорим.
– Милый мой, когда я вламывал на Беломорканале – умирал на пять часов и ничего не чуял, пока не пнут сапогом.
Леонид Степаныч слегка ткнул тростью в бок спящего. Лесков отмахнулся, потом нехотя продрал свои красные, опухшие глаза.
– Доброе утро, молодой человек, – прошамкал старик. – Трудная была ночка?
Евгений сконфужено улыбнулся.
– Извините… Я право… – он развел руками. – Вот, уснул.
Картинка кошмарная: вот так вот проснетесь вы в незнакомом доме, и над вами любопытствующие кругляшки земноводнообразного и настороженные безрадужные стальные зрачки белесого тевтонца.
– Все гости наверху. Вы, дорогой мой человек, не заблудились? – поинтересовался второй.
– Нет, я просто заснул. Мне… предложили идти… к столу…
– Кто?
– Александр Эмильевич, – совсем растерялся Лесков, намереваясь подняться.
– Сидеть, – жестко остановил тевтонец.
Евгений плюхнулся обратно в кресло. Старик переглянулся с Яном:
– Гречишников, что ли?
Ян кивнул.
– Забавная сценка, – подбоченился лягушонок.
– Ты кто?
Лесков сообразил: вляпался – попытался придумать, как бы это все получше объяснить, но язык, к сожалению, закоснел, закостенел, отсох.
– Скверно попахивает, – задумчиво огляделся Ян. – Вот уж не ожидал сюрприза.
Взгляд его остановился на соседнем кресле.
– Это что?
– Э-э… – Лесков протянул к своему творению руку, но на большее его не хватило.
Не дожидаясь объяснений, Ян откинул бархотку и ошарашено уставился на открывшуюся картину. Подкрался лягушонок, вытянул вперед свои тонкие бледные губки. Это был портрет русоволосой девушки с восточными – бессмертных египетских фресок – но пронзительно синими глазами. Ни смеха, ни плача, по-немому разомкнуты губы. Дыхание. Да-да, от портрета веяло бризом, утренней свежестью, он пахнул морем, слышались далекие всплески прибрежной воды. Ветреные волосы девушки рассеянным светом уходили в темноту, в никуда. Манерность отсутствовала. Фотографичность тонула в колдовской дымке. Автор вывернулся: соединил реальное с несбыточным, используя мастерство веков – отрекся от школы… Еще не упомянули о рамке, о-о!.. это был скромный багет, такие не льстят глазу, не тяжелы, идеальны…
– Мне кажется, я узнаю эту очаровательную фемину, – проскрипел, наконец, Леонид Степаныч.
– Да, это она, – воскрес Ян.
– Девушка, что сидела с нами за одним столом?
– Женя.
– Прелестно. Сдается, наш молодой человек как-то с этим связан.
Ян перевел взгляд на Евгения. Лесков откинулся на спинку кресла:
– Я художник. Это моя работа. Я хотел объяснить, но у меня ничего не получалось, извините…
– Это Александр Эмильевич заказал? – поинтересовался Ян.
– Да. Подарок в день рождения.
– Как вас зовут?
– Евгений.
Ян смягчился, покачал головой и вернулся к портрету.
– Но, наша знакомая – блондинка? – уточнил Леонид Степаныч.
– Да, – отозвался Ян. – Только вот этот цвет ей лучше. Когда она вам позировала?
– Я видел ее всего два раза. Рисовал по памяти.
Ян опять покачал головой, на этот раз медленнее.
– Вы большой художник, Евгений. В этом есть свой, неповторимый характер. Это новое слово в живописи.
– Спасибо, – бесцветно ответил Лесков.
– Нет, это вам спасибо! Сколько Гречишников заплатил?
– Но… – Евгений потер лоб. – Я всего лишь… То есть, я хочу сказать, мы об этом не говорили.
– Молодой человек не знает себе цену, – заметил старикашка, блеснув очками.
– В таком случае, оценкой этой картины я займусь сам, – придавил Ян.
– Но это же подарок, Янушка, – вставил Леонид Степаныч.
Именинник даже не заметил, что оставил без внимания его слова.
– Знаешь, как приходит слава? – взглянул в упор на художника. – Вспомни Гоголевский «Портрет». Так вот, я ни за что не дам тебе писать с меня. Мне не понравится то, что я увижу!.. Но эта картина – здесь ошибки быть не может – если я поднимусь в ресторан, выставлю ее там на аукционе… Даже среди этого перепившегося сброда найдутся охотники до настоящего искусства. Кто-то увидит в ней то самое – сокровенное. Кто-то пощеголяет кошельком. Кто-то втянется в азартную игру. Даже какой-нибудь оркестрант из джаз-банда не пожалел бы – пожертвовал сотней-другой долларов, чтобы заполучить сей шедевр! Будьте уверены, его бы купили за пять, за десять… за двадцать тысяч!.. За двести!..
Ян остановился, перевел дух.
– Вы меня поставили в затруднительное положение… Деньги портят человека, а художника они убивают. Сколько ты за нее попросишь?
Лесков поднялся.
– Я очень устал. Если мне позволят, я посплю где-нибудь здесь, пока народ гуляет.
Ян засмеялся:
– Я же говорил – он большой художник! Другие работы есть?
– Что-то есть, я не помню, – соврал Лесков: о своих картинах он помнил все.
Леонид Степаныч растянулся в улыбке, взял портрет в руки, вгляделся, прошептал:
– Лигейя!
– Женя, – не поддержал именинник.
– Евгения.
– Женя, – ярый поборник аскетизма не соглашался. – Где вы работаете, Евгений?
– У Александра на даче. Возвожу интерьеры.
– Фу, как печально. Вот ваше истинное призвание! – указал на портрет. – А дача – это не вечно.
– Я знаю. Но мне надо закончить.
– Что ж, я уверен, мы еще встретимся. Нам будет, о чем поговорить. Вот моя визитка, – Ян достал из пиджака портмоне и протянул Лескову пластиковую карточку.
Потом он принял из рук Леонида Степановича портрет, аккуратно накрыл его и дедом морозом улыбнулся на прощанье. Маленький лягушонок помахал тростью, вышел следом.
А Лесков остался один и в растерянности. Ночью того же дня бедный художник вернулся в Пески. В его кармане лежали на несколько сот жестких зеленых бумажек и кусочек пластмассы с отпечатанными на нем адресом, телефоном, факсом, и-мэйлом и именем: Ян Карлович Хеллер. В мозгу лотерейно вращались непригодные к жизни мысли: что он наделал и что делать теперь? Опустошение. Крах. Другой такой картины ему не написать. Почему он не сделал хотя бы копию?..
– …Ты можешь ответить на этот вопрос? – спросил Ян.
Он отвез Женю домой, на Невский, когда ресторан был еще полон гостей. Ян не любил тусовки. Что от него требовалось, он сделал: «заварил кашу». Женя столь же плохо переносила людские сборища. Гости ответили взаимностью: почти никто не заметил их исчезновения.
А дома Ян отвел свою пассию в спальню, смел с туалетного столика все аксессуары, установил на нем картину, сбросил чехол.
Уже минут пять девушка без единого звука испытывала свое новорожденное лицо. Естественно, слов Яна она не расслышала.
– Что? – не отрываясь, переспросила Женя.
Он раздвинул шелковые завесы балдахина и присел на кровать.
– На это никто не ответит. Такое не поддается оценке. Оно может быть увидено, услышано, осязаемо, прочувствовано, но никак не разгадано. Вот какая штука. Настоящее искусство лишено логики. Оно отталкивается от всепобеждающего, небесами данного «хочу!», и с этим ничего не поделаешь. Но самое поразительное в том, что это «хочу!» не каждый воплощает в жизнь именно так, как хочет. Ты согласна? – Ян не услышал ответа. – Молчишь… Значит согласна.
– Что? – опять спросила Женя.
– Накрой картину. Пусть краски сохранятся как можно дольше… на века!
Девушка послушалась.
– Подойди ко мне.
Ян взял ее за талию, оглядел снизу вверх.
– Именно такой тебя и я вижу. Странный человек этот художник, он заставляет меня ревновать. Но теперь-то у меня две тебя!
Женя улыбнулась его серым глазам. Увидела в них желание и надежду. Не было ничего проще! Склонилась, коснулась губами жесткой щеки, скользнула кончиком языка по мочке, расстегнула верхние пуговицы на его рубашке, влажно поцеловала шею. Ян остановил:
– Щ-щ-щ…
Тихонько отстранил Женю и усадил рядом. Девушка принимала любые правила – совершенная покорность – мгновенно перестроилась. Но последующего никак не ожидала.
– Милая моя девочка, – пролил по-отечески ее новый хозяин. – Ты ничего не поняла. Любовь это тоже искусство. Это не мастерство… Это искусство! Любовь так же нелогична! Я не терплю фальши, Женя – я не вижу ее, но чувствую.
Она опустила глаза. Слова странные – честные – пугали ее.
– Я тронут твоей решимостью, но мне важно другое. Не надо портить праздник. Спокойной ночи, дружок, – он поцеловал свою красавицу. – Все у нас впереди.
Поднялся, взял портрет, обернулся:
– Сегодня я забираю эту.
Кристально усмехнулся и вышел. Женю парализовало, очурбанило в каменную статуэтку майя. Потом она отошла, забралась с ногами на постель, свернулась калачиком, схватилась за голову и попыталась поверить в услышанное, но ничего не получилось.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Ты… Верю – услышишь ты,
Знаю – почувствуешь ты,
Как мне здесь одиноко…
Ян Хеллер не пробыл в Санкт-Петербурге и недели, снова улетел, обещая вернуться только в середине двадцатых чисел. За все то время, что он провел с Женей, был сдержан, ласков, внимателен. Делал подарки, самые разные, от царски дорогих до совершенно пустяковых. Жене нравилось, как он говорил и что он говорил. В его словах и жестах девушка видела Европу: древнюю и новую, утонченную и броскую, невероятно привлекательную и нереально далекую. Стоп-кадр, мгновенье! Он водил ее в рестораны, музеи, кино. Жене надоел сладкий Кристиан Диор, захотелось чего-нибудь более легкого. День посвятили парфюмерным изыскам (не в смысле изысканности, а в смысле – искать). Сначала в Рив Гош, затем в Л’Этуаль, потом еще куда-то. В итоге у Жени закружилась голова, и решила она остаться при «Пуазоне».
Заглянули в казино, крутанули рулетку. Гимн фортуне! Женя выиграла около двадцати тысяч «маленьких вашингтонов», как их называл ее новый хозяин. Столь огромного количества и превосходного качества денег она отродясь в руках не держала. Бесхитростный Хеллер и бровью не повел. Девушка бережно уложила деньги в свою сумочку.
Каждый день она встречала цветами, мороженым, какой-нибудь безделушкой и запиской от Яна, то на французском языке, то на немецком, то на итальянском. Женя не умела читать их, на это Ян ничего не говорил, только подкладывал к запискам словарики.
С Эммой Владиславовной отношения не строились. Миледи – так негласно нарекла ее девушка – находила в содержанке сына, в этом «несомненно развратном создании», силу мистическую и опасную. Она не любила горючие смеси, тихие омуты с чертями и взрывных ангелочков – сама была такой. Но эта девица, неадекватно покладистая, внушала Эмме Владиславовне ужас.
Женя ловила на себе косые взгляды, колкости в елейных речах старухи и в конце концов объявила тихую войну – стала платить тем же.
При Яне вели они себя образцово-безукоризненно, но мужчина знал все. Две драгоценности: старая табакерка и свежеграненый сапфир. Что еще скажешь? Эмма Владиславовна стала все же более снисходительной, увидев портрет, сделанный Лесковым, где художник отразил пугающую ее силу неприкрытой, не представляющей опасности. Девушка легко приняла новый имидж миледи. Теперь они гораздо дольше находились в обществе друг друга. Концентрация желчи в патоке поистощилась. Ян вздохнул и улетел на белокрылом самолете в свою Европу…
Но, собственно, тут оно и началось.
Постучалась тоска. Как и прежде, Женя получала утром роскошный букет и письмо либо из Цюриха, либо из Дублина, либо еще какой Тмутаракани. Но вот подвох – ничего от Яна она не хотела. Она не ждала его. Поначалу Женю смущала кокетка совесть, потом и та пропала. Содержанка стала копаться в себе, найденное только взбесило.
Как-то заехал Александр на чай: привез конфеты и пузатенького «Хеннесси Парадиз». Миледи очень любила, а самое замечательное – умела печь пироги. В этом ей не было равных. Эмма Владиславовна лихо сочетала лесные ягоды с экзотическими фруктами, мясо запекала по-особенному, а душистый картофель и жареные грибы в ее тесте были просто восхитительны. Женя заварила чаек с бергамотом. Гость и хозяйки уселись за круглым вычурноногим столом. Миледи налегкую флиртовала с Греком. Девушка молчала, лишь изредка поглядывала в их сторону. Когда же Эмма чересчур развеселилась, Женя ленно заметила:
– Что-то, Сашенька, ты бледный такой, нездоровый. Не натворил ли чего, о чем сожалеешь?
Грек внутренне содрогнулся. Миледи, почуяв беду, красочно-хищно осклабилась.
– Я ни о чем не жалею, – по-зимнему сказал гость и чуть теплее добавил: – Евгения.
– Пожалеешь, – пообещала девушка.
Вечер был испорчен. Женя осталась довольна. Странность, которую она в себе обнаружила, больше не угнетала, даже не терпелась как данность – однако, сдружилась – стала органической потребностью ее существования. Но никаких заоблачных отрывов – боже упаси! – интеллектуальный допинг. Экскурс в домашнюю коллекцию Хеллера. Картины везде и самые разные, но соответственно и со вкусом подобранные друг к другу и обстановке. Сначала Женя потянулась к незыблемому загадочному, потом сумела оценить художественный вкус Яна, позже забыла обо всем и воспринимала это как часть своей жизни, издавна шедшей с ней рядом.
Одни подлинники. Босх, Анджелико, Леонардо, Тициан, Рейнолдс, Васильев, Пикассо, Модильяни, Суриков, Гоген, Кент, Гойя, Моне, Грабарь, Цорн, Врубель, Доре, Энгр… только черта здесь не было… Но более других девушку влекла картина, недавно занявшая место в коллекции. Ян определил ей место в своем кабинете. Случайно ли, специально ли – ключ, уезжая, оставил на туалетном столике. Тоже – блин – Синяя Борода! Женя приходила в кабинет раза по три на дню, садилась в огромное викторианское кресло и подолгу сидела не шевелясь, словно боялась что-либо упустить. Изредка поднималась, заинтересованная вновь открытой деталью, близоруко подкрадывалась.
Портрет волновал, дышал, жил. Художник не идеализировал модель, что поистине удивительно, ибо модели-то у него под рукой не имелось. Нежная загоревшая кожа девушки от природы была естественно бледнее и не скрывала легкий румянец щек; художник написал так, как создала природа, не тушуя и не подчеркивая. Женя смотрела на тонкую, едва заметную жилку вены у виска и слышала ее пульс, не замечая, что слышит биение своего сердца, ток своей крови. Волосы не так светлы, губы не так алы, художник все предугадал, будто видел ее настоящую сквозь искусственный блеск, сквозь маску, придуманную жизнью. Возможно, он знает ее мысли и способен дать ей то, что она хочет… Женя снова и снова изучала свое лицо среди розового марева, тумана ночи и запаха воды. Да: художник читал мысли, иначе откуда бы знал о ее любви к морю? Но если знал, то почему та, созданная им, счастливее ее? Разве это справедливо?.. Нет, не может быть! Женя прильнула к портрету: на шее девушки увидела небольшой, осветленный временем рубец. Дотронулась до своей шеи. Ни черточки не ускользнуло. Все увидел. И до чего смел! Смел, насколько может быть смелым человек, обладающий властью. Получил право распоряжаться ее лицом, как ему заблагорассудится, как однажды имел возможность касаться ее тела. Женя с дрожью вспомнила, с приятной дрожью: по спине морозом, пламенем по вискам – забирает дух, возвращает безвольным, но довольным… Вот, та несвобода, которая не стесняет жизнь!.. Девушка представила кисть, мягкую, влажную кисть, вдыхающую волшебство в пустой грунт холста. Представила на своем лице руки, пытливые, осторожные, остро чувствующие стремление каждой клеточки. Вот эти грубые от краски, но нежные внутренней силой пальцы проводят по подбородку, губам, переносице, они гладят ей лоб, очерчивают надбровные дуги. Но как им удалось проникнуть в глаза?.. Нет. Для глаз глаза и существуют. Женя попробовала вспомнить, какие они или хотя бы их цвет – ничего не вышло. Так она же совсем его не помнит! Какая невнимательная…
Взбунтовалась. Против себя, против того, к чему привыкла, того, что ненавидела. Первое, что сделала – отправилась в салон и в одночасье стала светлой шатенкой. Увидев ее такой, Эмма Владиславовна очень сильно расстроилась.
Потом Женя собрала все свои драгоценности в одну шкатулку и запихала ее – куда подальше – в тумбу туалетного столика. Освободилась, немного успокоилась, но дня три еще ходила, как барка против ветра. Телевизор утомлял, чтение не двигалось дальше одного слова в час, а спортзал бестолково дразнил. Тело ныло, – боялась: не услышал бы кто. Не высыпалась, подолгу не садилась за обеденный стол. Эмма Владиславовна – отнюдь не дура – тонкости случившегося понять не сумела.
– Ты не заболела, милая? – спросила она как-то вкрадчиво и по-дружески.
Женю едва не стошнило, но ответила – сама кротость:
– Что вы, Эмма Владиславовна, не переживайте. Мигрень. Обычное дело.
Миледи понимающе кивнула:
– Верное средство: принять аспиринчику и поспать.
На следующий день что-то нашло на старуху: вздумалось рассказать историю их семьи. К чему бы сия бодяга? И вот Женя выслушивала про далеких родичей, о том, какая из Эммы Владиславовны получилась замечательная русская-полька, как она встретилась с гениальным инженером русским-немцем, и как они скоренько растворились в небе, сообразив, что здесь ловить нечего, и приткнулись под теплый бочок исторической родины ее супруга. Женя долго терпела, и в терпимости своей могла бы заработать уже на три Нобелевских премии. Попыталась мягко отделаться:
– Извините, Эмма Владиславовна, я предпочла бы дослушать в другой раз. Можно мне почитать?
– Конечно, милая, – обиделась миледи. – А что ты сейчас читаешь?
– «Бесы».
– А-а, стало быть, из наших. Но Достоевский, он же был ужасно развратен!
– Я не дружу с ним. Только пробую читать его книгу.
– Да-да, книгу… – менторски закивала Эмма Владиславовна. – Он и пишет-то странно: длинно, запутанно…
– Всего хорошего. Я пойду к себе.
– Подожди, милая, – остановила старуха. – Позволь мне еще кое-что сказать, – она бросила на Женю свой обычный недоверчиво-колкий взгляд и так же ласково продолжала: – Я заметила: ты избегаешь меня. Это нехорошо. Не собираюсь читать тебе мораль, Боже упаси, но поделюсь своим опытом…
«Господи, почему ты создаешь такие бездарные машины? – цепенея, думала Женя. – Эта тухлая стерва – первая, кто разорвет меня в клочья при удобном случае, сейчас – цыпочка-лапочка, полощет свою елейную глоточку – учит меня! Чему? Быть такой же, как она сама?»
– …Это несложно запомнить, – лепетала старуха. – Я не буду говорить о том, что понравилось бы моему сыну – все просто: надо вслушаться, постараться понять его. Это работа для чуткой, изысканной натуры. В тебе, я вижу, это есть. Уж поверь мне, мой опыт…
– Что это ты все об опыте? – неожиданно придавила Женя. – Чуткая и изысканная натура!
Дыханием в лицо Эмме Владиславовне, глазами гвоздя к дивану:
– Тебя когда-нибудь трахали в три дырки сразу? В жопу, в рот, ну и… туда… куда обычно это делают.
Так и оставила ее прибитой.
Был понедельник. Женя позвонила Греку:
– Алло, Саша?
– Я слушаю, – с улыбкой отозвалось в трубке.
– Мне нужно тебя видеть.
– Очень нужно?
– Не телефонный разговор.
– Хм. Даже так? – погрустнел Грек. – Ну, ты обожди. Сейчас я занят. Часика через два заеду. О’кей?
– Это очень срочно!
– Пойми, Женя, раньше не смогу.
Женя не понимала – она помнила: Александр говорил в прошлый раз о важной встрече на понедельник, что-то там связанное с зарубежными партнерами. Прекрасно помнила.
– Тогда я сама появлюсь, высылай тачку, заодно куплю кое-что по дороге. Все.
Расчет был верен: машина приехала. Женя оделась потеплее, накинула серый плащик, напялила шляпку и побежала к двери. Шофер был уже наверху. Женин телохранитель, Пашок, расцветшей миной встречал старого приятеля.
Ехали они с ветерком. Всю дорогу охраняемая мирно улыбалась, у Московских Ворот попросила остановить.
– Надо купить бутылочку, – пояснила она.
Пашок вылез, подал ей руку. Женя глянула на небо:
– Ты зонт взял?
Пашок пожал плечами, заглянул в салон, но зонта не увидел.
– Не хотелось бы мокнуть, – досадливо пробурчала она и, не давая телохранителю опомниться, сунула ему стодолларовую бумажку. – Сходи сам. У Грека виски закончилось. Купи.
Пашок хлопнул дверью. Женя подняла из-под ног автоматический зонтик и, уставившись в заднее стекло, принялась ждать.
Муниципальный транспорт не подвел: появился автобус-гармошка. Остановка метрах в пятнадцати, позади «Мерседеса». Девушка проследила за выходом пассажиров и, когда людской поток с улицы стал заполнять икарусово пространство, нажала кнопку зонта, сунув его под нос шоферу. Зонт раскрылся, шофер вскрикнул и взмахнул руками. Женя рванула дужку замка, толкнула дверь, чуть не попала под пролетающую мимо машину и со всех ног понеслась к автобусу. Очумевшая и испуганная, вскочила на подножку за последним пассажиром и заорала:
– Гони!
Водитель автобуса меланхолично закрыл двери, и, повинуясь своему неспешному капитану, «Икарус» отчалил от остановки. Плавно обогнув напуганного Женей парня и раскрытый зонт на асфальте, грузная машина дизельно пукнула и глумливо вильнула хвостом. Из магазина вышел Пашок, не успел и шагу ступить, как увидел сорвавшийся с места «Мерседес». Почесал свою квадратную голову и, крепче сжав бутылку, побежал следом.
Женя протиснулась вглубь автобуса, пробралась к средней двери. Хватаясь за поручни, подпрыгивала и пыталась разглядеть над людскими головами, сквозь загаженное стекло черную тушу «Мерседеса». Но преследователь пронесся совсем рядом, обогнал автобус и пристроился где-то там впереди.
– Предъявляйте проездные документы! – тягучее-скрипучее услышала Женя.
Аки маковый огнь, вспыхнула краснощекая бабка с красной повязкой на левом плече и кожаной сумкой на шее. Женя пихнула ей очередные сто долларов:
– Вот… последнее, что осталось… – и, толкая пассажиров, двинулась к задней площадке.
– Девушка! Девушка! – по-козьи заверещала бабка. – Вернитесь, девушка!
В толпе беглянка умудрилась снять плащ и оставила его на полу вместе со шляпкой. Двери распахнулись. Выпустив несколько человек, она вышла сама и не очень быстро, среднестатистически-незаметной гражданкой слилась с потоком. Взопревший водила «Мерса» – тут как тут – носился от двери к двери. Потом Женя увидела и стремительного Пашка, но это уже было не интересно: ангелы-хранители искали серый плащ и шляпку – они их нашли, когда Женя ехала на троллейбусе совсем в другую сторону.
Через десять минут, смеясь и плача, она вывалилась на Загородном. Ноги дрожали, руки тряслись, пульс в ушах, барабан в груди. Женя прислонилась к холодной стене, вытерла слезы и вздохнула. Ею овладели приятные ощущения свободы тела и смысла слова «удача». Даже курить не хотелось.
Из-под арки выехала бежевая «восьмерка». Молодой человек, сидевший за рулем, то ли обратил внимание на нелепость позы и странность в лице девушки, то ли просто она ему приглянулась – опустил стекло и окрикнул:
– Эй, могу чем помочь?
Женя вздрогнула, увидела его и замотала головой, но потом сообразила: именно этот-то ей и нужен, – и подбежала к машине.
– Вы могли бы очень сильно помочь.
Несмотря на мягкость, тон ее казался чересчур серьезным, и молодой человек успел подумать: стоит ли связываться, но врожденное джентльменство заставило его согласиться:
– Садитесь.
Так Женя очутилась в непривычном салоне отечественного автомобиля.
– Куда едем?
В данной ситуации сообразить, как поступить лучше – дело нелегкое.
– Ну, – искоса посмотрел молодой человек.
– Знаете что, – нашлась Женя. – Поедем сначала к телефону.
Хозяин «Самары» усмехнулся:
– Мило! Возьмите мой, – полез рукой во внутренний карман.
– Нет-нет! – остановила она. – Мне нужен автомат.
Удивленный всплеск близко посаженных карих глаз. Впрочем, никаких лишних вопросов – молодой человек заинтриговано хмыкнул, и бежевая «восьмерка» не спеша скользнула по Загородному.
Таксофонная будка обнаружилась, немного не доезжая до Пяти Углов.
– А-а… – спохватилась Женя. – А что там надо?
– Где? – не понял нервничающий «джентльмен».
– Чтобы позвонить…
Молодой человек туманно и почти без вопроса промямлил:
– Вы приезжая?
– Да, – обрадовано кивнула Женя.
– А сотовый точно не подойдет?
– Нет, – отрезала она.
– Тогда вынужден вас огорчить. Здесь нужна специальная магнитная карта.
– Извините, а у вас нет? Я заплачу.
Молодой человек развеселился:
– Зачем же я «трубу» предлагал?
– Ага. А где можно достать эту карту?
– Ну, где… В метро, например.
Девушка умоляюще на него посмотрела. Молодой человек покачал головой, погнал машину далее.
– Кстати, я – Алексей.
– Лена, – четко ответила Женя и зачем-то приклеила к имени первую пришедшую на ум фамилию. – Данилова.
– Очень приятно. Откуда?
– Издалека. С другого конца земли.
– Да?
– Из Николаевска-на-Амуре.
– Тяжелый случай. И давно?
Женя не обиделась.
– Очень тяжелый, и очень давно. Вы мне, лучше, Алексей, скажите, где тут у вас доллары обменять можно?
– Доллары?
– Да. У меня деньги закончились. Осталось сто долларов.
Они тормознули у обменного пункта. Здесь девушку поджидало еще одно разочарование – у нее не было паспорта.
– Так, Лена Данилова, – пофиолетовел Алексей. – У вас, я чувствую, обширная программа в посещении нашего города. Всего хорошего!
– Постойте, Алеша, – ласково повеяло. – Простите меня, но так уж сложилось – кроме вас, мне никто не поможет.
Алексей пристально посмотрел на нее: красивые, насмешливые и больные глаза… злые глаза – такие бывают у очень испорченных людей; на губах улыбка – очаровательная, сладкая… но и в ней играло что-то неправильное, настораживающее… Алексей наклонился к Жене… – влекущее. В мозгу промелькнула естественная мысль, но «джентльмен» сказал:
– Выкладывайте вашу программу.
Он разменял девушке сто долларов согласно курсу. Потом подвез ее к универсаму. Женя купила «Мартини Бианко», шоколад, целый ворох фруктов, огромный кулек очищенного фундука и четыре больших пиццы с грибами и ветчиной. На станции «Гостиный Двор» она позвонила с метрокомовского автомата.
– Да! – выстрелила трубка.
– Грек, это я
– Ты с ума сошла!..
– Слушай внимательно, Грек! – тонной льда осыпала Женя. – Главное – это ты меня не ищи. Понял? Будешь искать – козленочком станешь!
– Женечка, – смягчился Александр. – Родная, где ты?..
– В Мадриде! – рявкнула она и с размаху повесила трубку.
Кто-то рядом отшатнулся, побежал к эскалатору. Мальчик-милиционер тревожно потаращился, но этим и ограничился. Женя выбралась из суетной ауры вестибюля станции. Алексей ждал:
– В путь?
Стемнело, накрапывал дождь; свет фар, ходики дворников. Некоторое время Женя поддерживала разговор с новым знакомым, потом… он и не заметил, как ее сморило. Более не спешил, машину вел очень аккуратно: пассажирка поглотила все его внимание. С мученическим восторгом естествоиспытателя он разглядывал ее высокий лоб, прядь – уставшим крылом над виском, немые веки, густые бороздки ресниц – не томных, не русалочьих, тонкую линию носа с еле заметной горбинкой и чуть вздернутого на кончике, губы теперь без улыбки и твердый мальчишеский подбородок. Развязан шарф, расстегнута кофточка… И что удивительного? Сколько ловить себя на грешном? Все равно, блуждая взглядом вдоль шеи, наклоняешься к груди, едва не касаясь ее губами, а там – граница: у подножия гор полоска снега… Чертов воротничок: ни ниже, ни выше!..
В голове Алексея кишели бурные фантазии, долго не покидала надежда на какой-нибудь идиотский случай, способный обратить хотя бы одну из них в явь. Но случай в любые времена – штука непредсказуемая, приходит, когда его не ждешь и, как правило, некстати.
Алексей сбавил скорость.
– Лена, – тихо позвал он.
Девушка открыла глаза. Во тьме светились квадратные огни зеленогорских многоэтажек.
– Куда дальше? – спросил Алексей.
– Дальше. За Приветненское. Я же говорила: где-то не доезжая до Зеленой Рощи.
– Там грунтовая-то хоть есть?
– Да. Мы с магистрали съезжали.
– Ничего, коли пляж, то все понятно.
Он хорошо ориентировался, если учесть темноту и незнакомую местность. Полчаса, и машина выскочила на пляж.
– Останови здесь, пожалуйста.
– Я что-то дома не вижу, – засомневался Алексей.
– Вон там светлячок.
– Это далеко – дождина-то какой – промокнешь!
– Ерунда. Останови: в песке увязнешь.
Алексей послушался, оставив движок на холостых.
– Вот, – Женя подала ему сто долларов.
– Самые последние? – усмехнулся Алексей. – Не нужно.
– Но…
– Никаких «но». Ты… лучше телефончик дай.
– Телефончик?
– Надо будет, еще куда подвезу.
Женя взглядом промахнулась: в сторону и безадресно. Сжала в кулаке бумажку и опустила голову, без пафоса и надрыва, и неумело:
– В огромном городе моем – ночь…
– Чего?
– Из дома сонного иду прочь.
И люди думают: жена, дочь, —
А я запомнила одно: ночь…
…Огни – как нити золотых бус,
Ночного листика во рту – вкус.
Освободите от дневных уз,
Друзья, поймите, что я вам – снюсь. [6]
Алексей заворожено молчал, волосы задыбели, стекляшки глаз треснули – здрасьте, идиотский случай!
– Тебе это нужно? – спросила Женя.
– Что это было?
– Бессонница. Да и нет у меня никакого телефона.
Мотор захлебнулся и умолк. Алексей достал сигарету.
– Пойду я, Алеша.
Он вздохнул и, не глядя, бросил:
– Прощай, Лена Данилова.
– Прощай.
Она захватила пакеты с продуктами. Вежливый хлопок дверцы. Алексей проводил взглядом тающую в дождливой темноте фигурку, завел двигатель. На сидении лежали сто долларов. Обратная дорога. Ну и денек!..
А Лесков в это время работал на третьем этаже. Уработался в глухоту: ни дождя, ни шума автомобиля, ни даже звонка в дверь. Он только на третий раз сообразил: а чего это за птицы чирикают? А это, надо было сказать, у Гречишникова при входе такой звонок установлен.
Евгений скатился с лестницы и лишь у дверей вспомнил о двустволке, но за ней не пошел, ограничился строгим вопросом:
– Кто там?
– Женя, – услышал он, двух слогов хватило.
Кровь хлынула к вискам. Евгений отодвинул засов, распахнул дверь. Девушка водопадом влилась, зуб на зуб не попадает. Художник дверь не закрывал.
– А где Александр?
– Его нет, – простужено ответила Женя.
– А… – только сказал Лесков и вопросительно уставился на девушку.
Волосы – не белые! – он испугался этого – пучками залепили лицо, с шерстяной кофточки струилась вода, не пострадала лишь дамская сумочка. Женя переминалась с ноги на ногу, хлюпая туфлями, в обеих руках держа полиэтиленовые пакеты.
– Я одна. Закрывай, – и чихнула.
Больше он не медлил, поскорей заперся, выхватил у Жени сумки и побежал на кухню:
– Проходите к камину, я сейчас – чайник поставлю!
На кухне он деликатно задержался. Женя успела принять горячий душ, надеть пушистый домашний халат и развесить сушиться белье. Пока она плескалась в ванной комнате, Лесков накрыл на стол: поставил электрочайник, заварник, кружку, сахарницу, малиновое варенье и булочки. Сидел, ждал и слушал каждое ее движение.
Явилась Женя, глянула на стол, прищелкнула языком и весело сказала:
– Я проголодалась. А ты?
Лесков не умел так быстро переключаться в общении с формы множественного числа на форму единственного: он прятал глаза, со всем соглашался, адаптировался не в свою пользу.
– Я нет… Но… Теперь да.
– Замечательно. Идем.
Они вернулись на кухню. Женя увидела нетронутые пакеты, мирно почивающие у стены. Вытряхнула все их содержимое на стол… пардон… сперва вытащила «Мартини».
– У Саши, как всегда, в баре «Блэк Лэйбл», а вот «Мартини», я не знала: будет, нет?
Девушка запихала в микроволновку две пиццы.
– Сметана есть?
Лесков достал из холодильника пачку сметаны. Женя поручила ему измельчить фундук и нарезать мелко ананас, а сама взялась за яблоки и бананы. Очень скоро у них получился фруктово-ореховый винегрет.
– Вот и салатик! Бери пиццу и бокалы. Пойдем.
Они расположились в гостиной прямо на полу, постелив скатерть вблизи камина. Женя снова чихнула.
– Будь здорова, – отреагировал Лесков и стушевался.
– Вот! За это и выпьем!
Чокнулись. До сих пор Евгений не пил «Мартини», он вообще спокойно относился к вермутам, а этот ему понравился: сладкий, но тонкий, не приторный – совсем другая песня!
– Который час? – спросила Женя.
Часы висели за ее спиной на стене.
– Без десяти два.
– Какие у нас планы?
– Мне сегодня еще кое-что доделать надо.
– Нет-нет. Видишь – я приехала. Сегодня праздник.
– Какой праздник?
– Праздник моей радости… Ты что, в календарь не заглядываешь?
– Нет, – на полном серьезе ответил Лесков.
– Щас, – успокоила она. – Все у нас будет, как у людей. Ужин, танцы… Чур, я задаю тон. Уловил?
Евгений сделал вид слушающего атмосферу:
– Уловил.
– Ну и как?
– Музыка?
– О! Что у тебя тут есть?
– М-м.
Он включил проигрыватель, вставил компакт-диск. Зазвучали темным хрусталем шесть восьмых, и волшебно-низкий голос запел: «Sorrow’s child sits by the river…» [7] .
Многоточием расплывалось «Мартини». Девушка в неге прикрыла глаза:
– Угадал… Но это не все.
Евгений оглядел свой неопрятный строительный наряд и заскорузлые руки.
– Расслабься, Женя. Сегодня праздник.
Послушным школьником, терзаемым смутными догадками, он вышел и заперся в ванной.
Женя доела салат, налила еще «Мартини». Сегодня так много случилось, может быть, больше, чем за всю ее жизнь: по значимости больше. Она заслужила Сегодня. Спиртное отозвалось в голове легким суховеем. Женя дотянулась до проигрывателя, поставила песню на начало, зациклила пластинку и усилила звук. Снова налила.
Стало душно. Выглянула из комнаты – два шага – и поднялась по лестнице, искусно облицованной чароитовыми чешуйками, на второй этаж. Она знала, куда идти. Тут была очень просторная комната, о ней как-то упомянул Александр… Вот она.
Женя остановилась на пороге. У двери, справа на стене – две серебряные пластины. Прикоснулась к верхней. Свет, рассеянный, дымковатый, медленно оседая, заполнил комнату. Мандраж монолита… Закругленное пространство, пол устлан мягким крохотно-ворсистым ковром, хаотично разбросано несколько подушек. Глянцевая, с призрачным отражением темно-лазуревая стена с обеих сторон от двери плавно переливалась в другой цвет – сладкий, неброский малиновый, а в смешении двух тонов светилась человеческой кожей. Из центра ковра вырастала до потолка бесформенная гора со множеством выступов и ложбин. Потолком служил огромный диск, теплый, матовый, – с него и падал свет… Уже не падал: стемнело. Мгновение – опять светает. Девушка убрала руку со стены – рассвет замер. Дотронулась до второй пластины – комната погрузилась во мрак, осветилась до прежней яркости, потом угасание и воскрешение света участились, пока не достигли беспорядочного мерцания и стали возвращаться к исходной амплитуде. Женя настроила эту чудо-панель в темп к музыке, с репризой каждые четыре такта и шагнула в степенное биение света, разглядывая свое отражение то в морской волне, то в пурпурных облаках. Опустилась на лунную травку ковра, приложила щеку к мягкой подушке. Провела рукой по мудреному рельефу горы, взобралась на подножный склон; тело потянулось выше, но девушка улыбнулась, покачивая головой: «Комната Любви. Там синие, здесь красные тона… Мужчина входит, а женщина ждет его в конце…»
Евгений посвежевший, гладковыбритый, в черном халате-кимоно появился в комнате, где они только что ужинали. Ночной гостьи не было. Обратил внимание на некую странность с музыкой, хмыкнул, поежился, пригубил «Мартини», проигрыватель не тронул.
– Женя! – позвал он.
Ответа не последовало. Художник подождал немного и вышел в холл.
– Женя! – позвал он снова и ступил на сиреневые разводы чароитовой лестницы.
Темный коридор второго этажа: куча хрустальных бра – ни одно не горит. Открытая дверь, косой четырехугольник света на полу и на ответной стене – каприз невидимого иллюзиониста – появляется… исчезает… Как просто.
– Женя…
Она ждала, у малиновой стены:
– Опять ты угадал.
Евгений подошел, беспокойно-горбатый.
– Ты… уверена?
Девушка крепко прижалась к нему. Горячие губы припали к шее. Безудержная. Действительно – просто. Он забыл о стеснении, о своей неуклюжей скованности, самые страшные страхи развеялись в дым, туман, прах, пустоту, ничто… Вот – здесь, в руках, прекрасная, живая, желанная. Кровь стучит, ноет кость, жарко, сладко… Впилась, вплелась, свилась.
Он взял в ладони ее лицо:
– Подожди… Не так.
Синие глаза – свет, кожа – огонь. Губы в улыбке, как у ребенка, дорвавшегося до пригоршней счастья. Чуть надавил на плечи – послушалась, опустилась на пол. Волосы рассыпались по ковру. Сердце пылает, дыхание рвется, там – внутри – вся нетерпение, каждой частицей просит свободы. А он спокоен, до камня, до ужаса. Его рука, изрезанная, огрубевшая от долгой работы, но удивительно чуткая открыла ей грудь, скользнула по телу, откидывая полы халата.
Он знал, что увидит, он не раз грезил этим: после их первой встречи, во сне, работая над портретом, создавая «Комнату Любви»… Странная, почти болезненная худощавость шеи и трепетные упругие груди. Дотронулся. Отклик – тишина, ожидание, роль ведомой. Подушечкой пальца тихонько стал рисовать вокруг заставившей его так долго мучиться, дерзкой и беззащитной живой пуговки.
– Знаешь, что это? – спросил он.
– Нет, – выдохнула Женя, в страхе и с восторгом наблюдая за движением губ художника.
Только теперь она разглядела его как следует: в обострении чувств – преображение действительности. Лицо не описать: не красивое, обыкновенное, всегда напряженное, взор соскальзывает. Вот глаза… В глазах – ночь ночей, зияли, впитывали в себя, как водоворот Мальмстрема… и губы – щедрые – каждой своей частицей возвращали все, что украли глаза, новым, совершенным, настоящим. Им ни к чему произносить слова, они сами больше, чем слово…
– Это пик, – сказал Евгений. – Пик далекой высокой скалы. В ее недрах несметные богатства, плазма, кипящая алая кровь, сжигающая лава… Фокус в том, что такой, как она есть, она никогда не извергнется отсюда. Это будет белой как снег, пенистой, густой жизнью, млечным соком, дорогой в небо… Так всегда бывает: думаешь об одном, а приходит другое.
Девушка не знала, чего ждать, шла за ним.
– Здесь, – художник провел ладонью по ее гладкому животу, – плато. Долина судеб. Она не в твоей власти и не в моей, и не Бога. Никто не ведает. Это великая загадка!..
Евгений поцеловал натянувшуюся дрожащую кожу, прислонился щекой и снова поцеловал – в узкую неглубокую впадинку.
– След иной цивилизации…
Положил ладонь на колено девушки, другое колено удостоилось прикосновения губ. Плавно, не спеша он скользнул языком по бедрам. Женя, истомленная, переполненная желанием, запустила пальцы в его жесткие волосы.
– Осторожнее, птица, я всего лишь мотылек… бабочка!
– Я маленькая птица, – простонала Женя, включаясь в игру. – Я колибри…
– А это? – Евгений опустился щекой на волосы внизу живота.
– Это лес, он скрывает пещеру желаний.
– Не уверен… – дыхание мужчины становилось неровным. – Я вижу розу. Знаешь, как желанна роза для бабочек? Как они собирают нектар, знаешь?..
Женя вскрикнула, откинула голову и закрыла глаза. Тело улиткой устремилось внутрь себя, а раздвинутые в стороны ноги сомкнулись, обхватив голову мужчины, когда он коснулся губами в их природном сплетении. Но это было одно мгновение – неодолимое – броситься в силу от слабости. Лепестки розы раскрылись. Евгений обхватил ее бедра руками… Преломление, осмысление, бред: девушка тонула и задыхалась в волнах ледяных и жарких. Они обволакивали, выталкивали ее на берег потерянной полой раковиной, оставив бесцветному солнцу. Потом возвращались, забирали обратно в свою стихию. И она вновь оживала и мучилась, но прекратить мучение не смела: знала – это не предел, есть мучения слаще, а там… если не найдет в себе силы, то умрет навсегда…
Озноб пошел от висков к затылку и перекинулся на плечи. Но она успела схватить голову мужчины, отстранить от себя. Корчась, напрягая все мускулы, с застывшим в гортани сухим звуком, Женя сдержала этот поток. Глупый, он чуть не лишил ее чувств!..
Пелена со зрачков спала, Женя увидела его: страшные и беспомощные глаза и губы… Эти губы… Прильнула к ним. Рот в рот. Оба сладко пахли «Мартини». Языки встретились. Как две зверушки: любопытные, незнакомые, страстные, жадные, будто могли найти что-то друг в друге… искали, пьянили, пока не превратили поиск в борьбу…
Победила Женя, опрокинула Евгения на спину и тогда только оторвала свой безумный рот. Смотрелись, как в зеркало, лица одинаковы: беспокойны, счастливы, желанны. Оба тяжело дышали, оба истекали потом.
– Слушай, мотылек, – отдышалась Женя. – Это что?
Погладила вздыбленную ткань кимоно, где у торса встречались его ноги.
– Тоже цветок… – хрипло ответил Евгений.
Нервными движениями стала сдергивать с него халат, обнажая совсем не атлетическое тело: худое, бледное, высушенное, сплетенное из жил. Бережно, тонкими пальчиками Женя взяла его орган: каменный с неистово бьющимся сердцем. Уродливое произведение природы… Однако игра трактовала свои законы, и Женя удивилась, насколько непредсказуемые, легкие и стройные… Цветок лотоса. Открылся влажный бутон.
– Выпала роса. И когда успела? – улыбнулась девушка.
Губы обхватили цветок, бутон уперся в нёбо. Рот, словно не опомнился от прежней борьбы, может и не знал, что она кончилась. Но лотос был сдержан. Его стремление вглубь оставалось лишь стремлением, таило угрозу, но не исполняло ее – сила сильных… Евгений судорожно выдохнул.
Женя поднялась на коленях. Икрами обняла жесткие бедра Евгения, направила стебель в себя. Лотос и роза встретились. Мужчина открыл глаза. Она медленно опустилась, издала сладостный тихий стон, покачнулась, закусив нижнюю губу. Он ухватил ее за талию. Не спеша, смакуя каждое движение, чувствуя, как ладно соединяются тела, как уютно и радостно их истомившимся цветкам, они продолжали путь. Женя наклонилась, сложив ладони на груди любовника, губы снова и снова сливались в поцелуе, без неистовства, данью благодарности… обожания. Наступило то самое штилевое спокойствие, когда силы приходят в норму и растекаются по всему существу – ожидание. Оба ждали, затаившись, глядя друг другу в глаза, лаская, целуя, тихо стеная, шепча бессмысленные, красивые слова. Оба ждали, когда сила устремится туда, где ей неизбежно найти выход, к той части тела, которая выбросит ее… когда их станет не двое, а четверо…
Порою невозможно угадать, уловить, где грань, где точка перемен, где ураган сметает безмятежность… Женя побледнела – уловила. Руки Евгения снова осадили ее и с большим напором, мерцающую комнату прорезало криком чайки…
Нет, это другая игра!.. Это не цветочки!.. Стальной кинжал вонзался в плоть, с каждым ударом вырывая из горла стоны. Это игра в убийцу и жертву! В клинок и рану! Женя закинула голову, волосы влагой хлестнули по лопаткам, на какое-то мгновение охладив кожу и притупив мучение… Господи, рана!.. сама остервенела, стенки ее сузились, плотно обхватив клинок, своих сил не ведая, пытались обезоружить убийцу. И она услышала стон: низкий, отчаянный… Теперь им суждено было умереть вместе…
Евгений смял ее крепче, рванулся вплотную к жертве, поднялся, бил и толкал ее все глубже и глубже, сдвигая к стене. Бедра Жени разметались по сторонам, она потеряла контроль, в отчаянии обвила руками шею любовника и, помогая терзать себя, скрестила ноги позади него. Движения их слились, ужесточились, стоны от болезненных до разъяренных исходили теперь откуда-то свыше и были для них не слышны. Пространство отступило, отчетливо показалось, вспыхнуло и рухнуло тьмой. Все… Женя нечувствующая, оглушенная и слепая. Виски – рокот, глаза – паника. Одно поняла: сейчас кончится…
Но Евгений с силой вошел в нее и замер. Тишина – в голове часы тикают. Дыхание – дрожь. Затуманенный мозг Жени начал проясняться. Заметила, как судорожно сжимаются ее мышцы – держат, интуитивно борются… Зачем? Что еще? Почему ей нельзя дойти? Неясной надеждой посмотрела на художника. Глаза – тоннель, яма, ад. Губы – восхитительные лепестки – не унесенные ли порывом любовного ветра два с ее одичавшей розы? – что-то шептали. Прислушалась.
– Мы не идем выше. Ты не знаешь своего чуда. Не знаешь, как прекрасна в любви. Если бы и ты могла видеть, – он умолк сбитый дыханием, глянул перед собой и невычурно-торжественно сказал. – Я покажу.
Лесков освободил Женю, протянул к ней ладони. Не понимая, она положила сверху свои. Он поднял ее на ослабевшие ноги, повернул к себе спиной. И Женя столкнулась с собственным отражением в бледной стене, той, где розовое соединялось с синим.
– Видишь? Это самая совершенная картина. Картина жизни. Картина любви.
Женя хорошо знала свое тело, знала его возможности и особенности, берегла и не любила. Но сейчас – поняла: увидела себя глазами художника, увидела себя ту – настоящую – какой была очень давно, когда-то, в прошлой жизни, увидела и не нашла порока. Затаив дыхание, она глядела на свою высокую налитую грудь, и та впервые ей нравилась, она глядела на свои чуть угловатые бедра, по-девичьи плоский живот и не стыдилась их: такой создала ее природа на радость ей же… она просто забыла!..
Евгений припал губами к спине возлюбленной, огладил ее, нервную, мерцающую, потом провел под бедра руки и медленно приподнял. Женя вздрогнула, но послушно уперлась ладонями в стену и, оторвав ноги от пола, раздвинула их. Позвоночник по-кошачьи выгнулся, открывая мужчине дорогу в ее лоно.
Больше они не спешили. Женю переполняла странная, неведомая нега, невесомость в новом пространстве, где она теперь жила – между своим отражением и тем, кто подарил ей эту жизнь. Свободная, расколдованная. Голова мирно припала между ладонями к глянцевой поверхности стены, ноги – крылья птицы в полете. Нож в масло – дурман: плотный изящный стебель лотоса медленно и глубоко проникал в нее, возвращался, чтобы снова войти, доставляя долгое несносное наслаждение. Она видела все движения мужчины – ловила каждое: неодинаковое, неповторимое, чувствовала их «я», вкушала полустон-полудыхание, дивилась неутомимым рукам. Она приняла эту жизнь – не игру и не похотливое стремление – именно жизнь в любви. И не было дела до прочего, Женя видела все перед собой, умом и сердцем понимая красоту происходящего и этим питаясь…
Но внезапно почувствовала головокружительную истому, снаружи полностью обмякла, изнутри схватилась, окаменела. Нежно-острое место слияния с мужчиной разветвилось, заняло всю плоть. В глазах отражения она увидела испуг. Потом каждый клочок ее расщепился и растворился в душном космосе комнаты. Женя перестала существовать, пришел покой, не было ничего: ни тела, ни чувств. Только она сама – душа – осколок света – улетела туда, где так хорошо и куда никто не доберется… Улетела, но… видела – движение лотоса, свое сумасшедшее лицо, лицо несуществующей, недоступной. Почему видела? Не успела узнать: ощущение себя вернулось, пронзило в последний раз и невероятно остро. Смертный холод пронесся от кончика каждой ниточки нерва в позвоночник и оттуда ударил в голову. Женя отчаянно закричала…
Опомнилась она на полу, когда показалось, в нее хлынула кровь – где-то там, внизу – кровь, вернувшая к жизни. Женя смазала холодные капли со лба и век. Приподнимаясь на локтях, силилась понять, что произошло. Сухие губы коснулись ее щеки. И она заметила – свет вокруг то меркнет, то вновь зажигается, а волшебный низкий голос поет: «Sorrow’s child sits by the river…».
ГЛАВА ШЕСТАЯ
…Наше древнее соседство
Поисчерпанно извне.
Что ты помнишь, Ангел Детства,
Что ты знаешь обо мне?..
Жили они на даче Александра, почитай, уже четвертый день. Гуляли вдоль залива, купались, несмотря на холодную погоду. Если не готовили обед или ужин дома – устраивали пикник. Вместе работали: Женя помогала клеить обои, рисовала в силу своих способностей смешные рожицы на глиняных горшках и вазах (у нее получалось в духе африканского народного творчества), замешивала всяку разну химию, вырезала из фольги звездочки и снежинки. Однако рабочий день был строго ею нормирован – не более четырех часов в сутки. Евгений не протестовал, но на протяжении всех этих часов был богом, внимательным и требовательным к своему подмастерью. Ночью, впрочем, не только ночью, они любили.
– Я хочу написать с тебя еще один портрет, – как-то сказал Лесков. – Я не все выразил, как оно есть. Теперь должно получиться.
– Куда лучше? – зарделась Женя.
– Видишь ли, работать с натуры или по памяти – большая разница.
Девушка обняла его:
– Пиши. Если ты сделаешь еще один портрет… два, десять, сколько угодно! – я только порадуюсь. Все они будут по-своему замечательны.
Евгений ни о чем ее не расспрашивал, но очень много рассказывал: разные чудеса в жизни Петербурга, других городов, других стран, других лет, рассказывал о Ладожском озере, таинственном и прекрасном, о драгоценных камнях, о Лондоне, куда попал однажды туристом, когда в карманах водились деньги, а в голове не было серьезных мыслей… Это Женя сама просила его историй, ей нравились интонация, голос… губы.
– А ты знаешь английский? – спросила она.
– Да, в меру своей испорченности.
– Значит – очень хорошо, и меня сможешь научить.
– Ну… в меру твоей испорченности.
Женя помрачнела, спрятала глаза.
– И я хочу в Лондон.
– Да. Думаю, тебе он понравится.
Грустно улыбнулась:
– В детстве – мне было лет двенадцать – я постоянно листала одну книжку с фотографиями: Темза, Большой Бэн, Букингемский дворец, Бэйкер-Стрит двести двадцать один би… Смешно, правда? Маленькие черно-белые фотографии… Что-то было в этом городе мое – не сказочное, наоборот: реальное и тем интересное. Заветное. Я о разном тогда мечтала – чтобы было много мороженого, например, – досадливо подняла брови. – Теперь сладкое лопаю каждый день, а туманный, спокойный, надежный город так же далек.
– Вынужден тебя огорчить: в туманном Лондоне солнца больше, чем в солнечном Риме.
– Ну и хорошо, – ничуть не удивляясь, ответила Женя. – Однажды я увижу его. Я приеду, и первым делом… Первым делом на Тауэрский мост. Я обязательно там буду и скажу ему: «Здравствуй».
Из одной этой маленькой исповеди Лесков понял, наверное, больше, чем мог бы понять кто-либо другой. Разговор не был забыт: они занимались английским.
А однажды, во время работы, Женя долго за ним наблюдала, покачала головой, не сдержалась:
– Неужели ты все можешь?
– Все, не все, но разное умею.
– А как много?
Евгений задумался. Что ответить, не нашел.
– Откуда в тебе это? Ты где учился?
– Везде. То там, то сям. Всего и не упомнишь. И предки приложились: по отцовской линии – все художники.
– Расскажи.
– Что именно?
– Все.
– Все? Хм… – художник довел кисточкой завиток на стене, спустился со стремянки, сел на нижнюю ступеньку. – Все… Я мало знаю: со скупых рассказок разных людей. Что правда, что нет – одному Богу известно. Прадед был иконописцем-реставратором, глубоко верующим человеком. Незадолго до революции перебрался на Соловецкие острова. Там его след и потерялся. А дед мой революцию горячо принял. По словам отца: терпеть не мог итальянскую живопись и был превосходным графиком. После Гражданской делал замечательные портреты и иллюстрации к книгам. Какой-то немецкий журнал предлагал ему контракт, но дед – при любимой работе, в лучах славы – наотрез отказался… По иронии судьбы, сгинул он в тех же Соловках. В тридцать восьмом… или позже. А иллюстраций я так ни одной и не видел. Странно. Хотя, с другой стороны, в этом есть своя сермяжная правда. Вот отец мой – о том еще помнят! Инженер-дизайнер по интерьерам. «Золотая голова и руки из слоновой кости»! Нравится? Такое длинное у него было прозвище. В Москве столько дел наворотил! Вах-вах-вах! Я видел, мне понравилось. И медали его видел: нечто невообразимое, простецкое и волшебное. Страстишка у него была – радость и беда, и появилась-то в последние годы – медали. Он их делал из всего. Сначала из того, что блестит: бронза, серебро, платина… Потом из дерева, стекла, кости, камня… В общем, закончилось это печально – он ослеп. Соляная кислота. Вытравлял. Глупо!.. – Евгений не сумел скрыть раздражения.
– Ты не любил отца? – спросила Женя.
– Да нет. Я его и не знал. Мне мать рассказывала. Они познакомились, когда он был в командировке, в Питере. После этого он приезжал из Москвы раза два-три в месяц на несколько дней и снова возвращался к семье: он ведь был женат.
Когда он сделался инвалидом, попал в соответствующее заведение. Жена не захотела с ним возиться. Ну, Бог ей судья, я тонкостей не знаю: батя, похоже, еще тот типчик был. А мать моя как-то узнала о случившемся – через полгода, что ли? – привезла его в Ленинград. Уже со мной ходила, на восьмом месяце. Говорила, что я его видел, но был маленьким – не помню… Он выпал из окна, с пятого этажа.
– Господи, – прошептала Женя.
– Правильно сделал. Художник без глаз – покойник. Хотя, признаться, я на себе экспериментировал: с завязанными глазами лепил копию с Венеры Таврической. Получилось. Но с живым человеком дело не так обстоит, да и не все же скульпторы…
– А где сейчас твоя мама?
– Умерла шесть лет назад. Я как раз из армии вернулся. А она сердечница у меня была.
Женя взяла Лескова за руку.
– Я похоронил ее и в Москву уехал. Обозлился. Спустя столько лет, представляешь! – привез им известие о смерти отца. Конечно, не надо было, ни к чему… Красивая женщина – его бывшая жена… вдова. Их дочери – сестры мои, значит – обе успешно Академию Художеств закончили. Младшая – она старше меня года на три – талантливая девочка, толковые работы. Старшая – так, весьма посредственно. Меня там хорошо приняли, ну… и мне неловко стало. Транзитный пассажир – говорю, и поехал по другим родственникам: у отца тоже были сестра и брат. Они под Москвой жили, в разных местах. Тетка… даже не помню, как ее… Да, бог с ней – старая и глупая. А вот дядя Семен!.. Красавец и алкаш, потрясающий картежник и живописец! Он во дворе сидел – на четверых «козла» забивали – как увидел меня, сразу почуял неладное. А узнав, что я сын Федора, сказал только: «То-то я смотрю: родственник пожаловал…» – бросил карты, схватил за руку и потащил по загаженной голубями лестнице в свою мастерскую. Там он сделал из меня человека: напоил до беспамятства, дал в руки кисть и подтолкнул к мольберту. «Видишь, – говорит, – пустота!» Я с пьяни его и нарисовал, коряво, неумело, минут за десять. Он глянул и махнул рукой: «Мастерство не пропьешь». Я прожил у Семена с год, но такая жизнь – не для меня. Вернулся в Питер.
– И стал учиться?
– Да. Того, что дал мне Семен, было мало. Во мне проснулся зверь с весьма завидным аппетитом. Я прошел столько «институтов»! И схватывал все на лету. Был стеклодувом, закройщиком, ювелиром, декоратором… Все было просто: приходил на завод, в ателье, в мастерскую, в театр или еще куда, начинал с работы тряпкой и шваброй, глазел по сторонам, потом пробовал руками и снова уходил в никуда, к величайшему сожалению начальства о потере бесценного работника. Закончил я свои похождения маляром-штукатуром. Детский лепет. Самое смешное и самое страшное ожидало впереди: я никому не был нужен. Я работал над собой, но не на себя. Система этого не прощает. В моей трудовой книжке было около двух десятков записей приблизительно одного характера: разнорабочий… Закалка для честолюбивых. Но плевал я на все: нашел, что хотел, и делал, что хотел – писал. Образование, полученное от дяди Семена, не прошло даром. Живопись стала моим делом: не интересом, а смыслом.
Евгений остановился. Женя восторженно глядела на него.
– Чего ты так смотришь? – спросил он, осекшись, и подумал: «Стоит ли дальше?»
Но девушка поцеловала его руку и прислонилась к ней щекой:
– Я просто очень внимательно слушаю.
Евгений вздохнул и погладил свободной рукой ее голову.
– В самом начале, – продолжал он, – мне удалось продать несколько картин. Поскольку у Семена не получилось привить мне к водке ничего, кроме отвращения, то деньги не тратились. А когда их скопилось до того, что моя фарфоровая свинка завизжала от ожирения, я решил: время убоя. Машину не хотел. Квартиру тоже – на черта? – хотя жил к тому времени не в своей квартире: поменялся со знакомым художником. У него было две мастерских, из них он предложил мне великолепную мансарду на Фонтанке – счастье! Что еще надо? Вот я и ткнул пальцем в рекламную страничку какой-то газетёнки (в нее у меня были кисти завернуты). Бюро путешествий. Лондон! – Евгений подхватил девушку на руки. – Ну что, лоботряска, рабочий день закончен! Обедаем?
Женя заметила, как он смущен. После памятной ночи, с ним это было впервые.
Готовили борщ, Лесков что-то рассказывал, но девушка плохо слушала: мучила неожиданная мысль. И Евгений обратил внимание, что молчит она по-особенному – встревожился.
Во время еды Женя спросила:
– А как зовут твою жену?
Евгений помертвел, опустил ложку.
– Ты не переживай: я в полном порядке. Просто мне все о тебе интересно.
Она улыбалась, и глаза ее не лгали. Что за женщина?!
Лесков отрезал ей новый кусочек хлеба.
– Дина, – чуть слышно произнес он.
– Расскажи о ней. Если, конечно…
Она замолчала, но Евгений согласно кивнул:
– Да-да… – он как-то странно огляделся, будто картинки воспоминаний висели на стенах, и заговорил. – В Лондоне мы с ней и познакомились: в одной тургруппе были. Слово за слово: я – художник, она – студентка, ин-яз. Заинтересовался ее лицом, сделал набросок – она засияла. Ей было девятнадцать, мне – двадцать три, оба были ошарашены Англией. А когда вернулись… У меня в «Наследии» – это салон такой художественный – висело три картины. Пока я мотался по заграницам, две из них успешно были проданы… Вот… Я тогда не знал толком, что тещи бывают, а уж какие они бывают, и вовсе не догадывался. Съездили мы пару раз к ее матушке в Приозерск: преуспевающий художник и студентка четвертого курса ЛГУ… Она миниатюрная такая, худенькая, и голосок колокольчиком, личико нежное, детское, с большими карими глазами и длинными ресницами, кудряшки, черненькая, а летом у нее всегда веснушки…
– А дети? – спросила Женя. – На кого похожи?
– Детей нет, – разбито улыбнулся Лесков.
– Ясно. Расскажи еще.
– Что?
– Вы так и жили в мастерской?
– Нет. Через полгода после свадьбы съехали в перспективную коммуналку. Картины не покупались – я подрабатывал где-нибудь, покупались – продолжал писать. Спустя год мы прибрали к рукам соседские комнаты…
– Ты ее любишь?
Евгений молчал, опустив глаза.
– А как же я? Почему ты меня не остановил тогда? – голос ее был спокойным – ровная стенка. – Я думала: ты свободен, коли живешь здесь.
– Я не смог.
– Почему?
Ответ скользил по языку, цеплялся, но все же выпал:
– Я хотел тебя.
– Хотел? – безлико переспросила Женя. – Что такое «хотел»? В одном корне с «похотью»? Что же ты говорил мне о любви?
– Постой, Женя, я хочу сказать, что… что любовь – это очень странная штука. Никто еще не дал ей вразумительного объяснения…
– Я понимаю, – все так же невозмутимо говорила Женя. – Понимаю. Успокойся.
– Это очень сложная, тонкая… Если говорить о физиологии… нет, не то: о желании, близости… – он спотыкался, терял слова, пока не сказал, наконец: – Она слов не требует: словами уходишь в дебри, вязнешь, тонешь…
– Да? А ты попробуй. Без философии. Просто. По жизни.
Евгений закивал в такт часовому механизму:
– Тема для картины. Привычка, Страсть, Любовь, – с напряжением выдохнул. – Забавно. Они могут представлять собой одно целое, по-разному и причудливо соединяясь. К примеру: Любовь и Привычка или Страсть и Привычка… Можно крутить, как хочешь, меняя понятия местами – увидишь много разного, лишь отдаленно похожего друг на друга (вот когда морфологию давят частности!). Привычка – то, что мы делаем повседневно, без чего можем обойтись, не нанося ущерба своему «я». Это дорога, которой «я» идет с работы домой, это пиво каждый вечер, это противопоставление необходимости… той самой необходимости, которой мы обязаны следовать, может быть, против своего желания: необходимости брить бороду, – Евгений улыбнулся, – необходимости идти на ту же работу (хотя, здесь могут быть варианты), необходимости пищи, воды, воздуха, сексуальной близости… Страсть? – патология. Не норма. Риск. Тоже не является обязательным, но… Живописец выкладывается на своем творении, отдавая ему часть себя – рискует здоровьем и не может без этого. Актер, если он настоящий актер, рискует жизнь потерять или умом тронуться, в сотый раз умирая на сцене, и тоже не может без этого. Дворник, даже если он гений метлы – не рискует. Но не обходится без риска, без страсти. Вне своего дела: пускается в романтические похождения или предается политическим спорам за поллитром «Русской», с доминошными костями в руках… Аномалия аномалии рознь. А Любовь… Необходимое условие – то, что доставляет радость, к чему постоянно возвращаешься, от чего не можешь отказаться, ибо это приведет к духовному истощению, к смерти. И вот здесь кроется загадка! Путаница: одни Привычку равняют с Любовью, другие Страсти придают ее облик. Но все не так. Любовь обещает привычное, знакомое, доступное. Любовь воссоздает Страсть: в привычном – новое, в знакомом – тайное, в доступном – желанное. Любовь, Страсть, Привычка. Каждое из них способно жить особняком, довольствуясь своими силами. Однако без Любви – существование незаполненное обязывает к поиску или выходу. Привычка – одна Привычка – инфантильное, добродушное создание, заплывшее жиром и пустое, дай Бог ему хотя бы Необходимость! Страсть – одна Страсть – плотоядное, озлобленное, беспощадное животное, разрушающее себя и вся… Вот – Привычка, Страсть, Любовь. Любовь требует времени, чувства, понимания… может, созидания другого, как себя. Но это не искусство, это… дар. Осознание его в себе, насколько это должно быть? Я влюблен, Женя, но… Но Любовь это… – Лесков развел руками. – Я не могу говорить о любви к тебе. Не имею права ни перед собой, ни перед тобой. Я знаю точно – ты перевернула мою жизнь. И даже не здесь, не нашими удивительными днями и ночами, а гораздо раньше: в то апрельское утро на Поцелуевом мосту.
– Вот как? – подернула шеей девушка. – Помню. Яркое событие. Ты был неподражаем!.. – и рассмеялась.
– На самом деле – страшно вспомнить, – Евгений на мгновение прикрыл глаза и неприятно поморщился. – Мы поссорились с Динкой в очередной раз, но это было уже серьезно. Наши стычки начались давно, больше года. Тогда что-то случилось. Картины не продавались. То ли прошла мода на мой стиль – но я писал в разных стилях, хотя и по-своему! – то ли моды вообще не было, а я до сих пор пользовался счастливым случаем (честно признаться, дело как следует поставить не мог, не умел – не те задатки). Я вернулся на стройку. Но если раньше это случалось время от времени, то теперь понеслось потоком. В течение семи месяцев я горбатился, сходил с ума от невостребованности и неопределенности, в конце концов, чуть не спятил. Да и что там платили? – крохи. А после семнадцатого августа – совсем крышка. Если я на выходных грузчиком подрабатывал и весьма неплохо, то сейчас!.. И я плюнул, бросил все: и стройку, и закройку, и даже мойку (автомобили мыл)… Динка видела мою потерянность, раздраженность. Сначала жалела, потом впряглась: стала винить, будто я что-то не так делаю… потом мы кричали друг на друга как ненормальные. Она-то – тоже хороша – с ее великими английской и немецкой литературами устроилась апельсины с лотков продавать!.. Сама же меня и подстегнула: я ушел в никуда. Думал: отдохну, найду тему, напишу шедевр, и снова заживем. Но через месяц понял: случилось что-то нехорошее, страшное и больное. Саспенс какой-то. Меня не тянуло к работе. Мне не хотелось ничего. Я стал выходить на улицу и слоняться допоздна: боролся, надеялся, заставлял себя. Город был глух ко мне, и самое неприятное – пользовался моей взаимностью. Динго – к тому времени я так прозвал жену – наконец повезло: пристроилась переводчицей в какую-то фирму. Если до сих пор этот ад на чем-то и держался, то на моих преданности и уважении к ней, но… не знаю. Я ее ни в чем не виню и считаю: не надо ей было так долго меня жалеть. Я снова стал уходить на улицу, в надежде поймать чертово вдохновение. Глупость. С Диной мы почти не общались. Она меня тихо ненавидела. Почему-то я решил дождаться, когда будет ненавидеть громко или вообще презирать… Но это я так – фигурально – мечтал: поймет меня и все образуется. С кем не бывает – заблуждению все возрасты покорны. Болячка быстро рассосалась. И скоро я думал лишь о покое.
Правда, предпринял еще кое-что. Пробовал сдавать мастерскую. Перенес домой все картины. А мастерская-то не моя – государственная. И надо же – притянулась какая-то комиссия! Мол, имеете право только на работу – сказали, а мне смешно: в Союзе Художников-то меня нету! Штраф наложили. С чего я им заплачу? Временно опечатали. И одно к одному – через неделю мастерская сгорела: у соседа этажом ниже керосин в ванной вспыхнул, огонь наверх перекинулся. Слава богу – картины дома!
Однажды пришел домой поздно ночью. Очень поздно. Дина не спала. В руках у нее был кухонный нож. Улыбнулась – и я понял: все. Одни рамки с лохмотьями. Каждую изрезала… Я чуть не убил ее… впрочем, даже не ударил. Расплакалась. Хреновый из нее терапевт. Так калечат, а не лечат. Из шока в кому. Что оставалось делать? – ушел.
И тогда… откровение наизнанку: я потерял чувство цвета. Мертвец!.. Так и Дина сказала. Ну, коли мертвец, то и должен быть мертвецом – собрался топиться, дурак. Мне помешала ты. Не хочу сказать, что ты просто заставила меня прыгнуть в воду и протрезветь, нет. Это случилось сразу, как только я тебя увидел. Меня поразила сцена, драма твоей походки, необыкновенное лицо… Я увидел цвет… и линии… Я ожил! Ты понимаешь?
Женя не отвечала.
– С тех пор я – художник. В «Наследии» висят два моих полотна, давно висят. Они… удачны… нет, пусть даже прекрасны! но это ничто в сравнении с тем смыслом, который ты внесла в мою жизнь. Я тебе благодарен… Если тебя смущает моя жена, то поверь – здесь ничего нет – она в ином мире, в иной атмосфере. Получив работу, я вспомнил о ней, но не поспешил обрадовать. Не видел необходимости. После все же позвонил ей, но бросил трубку. Мне ответил мужчина… Боже упаси, я не мщу! Это было бы бездарно и жестоко по отношению, даже ни к ней и ни к тебе, а ко мне. Я хочу сказать только, что меня это не волновало, мне это было неинтересно, безразлично… Понимаешь? Прости меня, если тебя обидел.
Девушка мягко улыбнулась:
– Бедный мой. Ты сказал правду, а правда не виновата. Здесь ничьей вины нет. Я тоже справедливо поступила… потому что хотела тебя.
Женя поднялась, обошла стол и села к нему на колени. Они обвили друг друга, губы их встретились. Две тарелки борща так и остались до вечера наполовину нетронутыми…
Глубокой ночью с пятницы на субботу любовники находились в постели завершенной ими новой спальни. Женя была вмята в васильковую перину, обессилена и счастлива. Тело парило, в глазах блестели слезы, а внутри – ниже живота – билось сердце Евгения. Мужчина замер над ней, задрожал и, слабея, опустился лицом в подушку, коснувшись влажной щекой ее шеи. Женя почувствовала, как, бешено пульсируя, силы покидают его. Закрыла глаза, слезы вышли из берегов ее век и струйками побежали по вискам.
– Ты плачешь?
– Со мной это впервые… – ответила она. – Я никогда не плакала от сладости…
Ее глаза светились, как весеннее небо в Неве, и подслеповато моргали, слипаясь ресницами.
– Чудо мое, – расцеловал их Евгений.
– Чудо, – задумчиво проговорила девушка. – Чудо, – повторила она, перекатывая это слово на языке и нёбе. – Странно.
– Что, хорошая?
Она не отвечала, смотрела мимо, словно не могла решить какую-то важную, неожиданно возникшую перед ней задачу. Как почуял Лесков, очень непростую задачу, не с одним решением, каждое из которых, несомненно, было верным.
– Странно, что ты ни о чем меня не спрашиваешь, – наконец сказала она.
Евгений погладил ее живот:
– Я о тебе все знаю.
Она вздрогнула, недоверчиво посмотрела.
– Я знаю все, что положено мне знать. Ты такая, какой я тебя вижу, – он давал понять: дилеммы нет.
Но девушка пошла от обратного:
– Да. Меня порядком затянуло твое видение… – глаза ее снова заблестели, но это были не прежние слезы.
Поднялась с постели и накинула на плечи халат. Взяла с подоконника пачку «Уинстона»:
– Будешь?
– Нет, – беспокойно наблюдал он за ней.
Девушка закурила и, прихватив с собой пепельницу, вернулась в постель.
– Чудо, – сказала она твердо и энергично закивала. – Чудо – это наши игры в цветы-бабочки, чудо – это твои губы и голос, чудо – это… это пока я здесь – чудо!.. Прости меня, Женя, я не знала, что у нас так все получится. Честное слово, не знала!..
– Успокойся. Что тебя тревожит? Избавься…
– Избавиться? – Женя нехорошо рассмеялась. – Здрасьте, я ваша тетя Ася! Всех отбелит и залечит… – она прекратила смеяться так же неожиданно, как начала. – Не перебивай меня больше, пожалуйста. Я сама не своя становлюсь, это ты меня избаловал. Ты поднял меня слишком высоко. Сделал из меня птицу, звезду, загадку… А я закрыла глаза, заглянула в себя и шлепнулась в грязь… Ты посмотри, – она протянула ему свои ладони. – Я не загадка. Я – падаль…
Евгений безмолвствовал, давая ей выговориться. Но слова у нее не шли: с трудом собирались в нестройные, непонятные фразы. В итоге она все-таки беззвучно расплакалась, одной рукой прикрыв глаза, другой – трясущейся – поддерживая во рту сигарету. Лесков придвинулся ближе, осторожно обнял ее плечи. Девушка уткнулась лицом в его шею. Слезы растеклись теплым дождем по тощему телу художника.
– Что мне теперь делать?.. – нёбом, еле слышно провыла Женя. – Что нам делать?
– Ты, дорогая, меня совсем запутала. У нас есть какие-то сложности?
– Господи, какой же ты дурак!
Женя оттолкнула его и зажгла погасшую сигарету. Эти действия хоть как-то ее растормошили, и она заговорила более ровно и внятно:
– У меня есть еще одно имя – Перчик… Конечно же, не имя!..
– Женя…
– Только не останавливай меня сейчас! Я тебе рассказать хочу… – девушка снова затянулась дымком. – Я не свободна, Женя. Я… Кто же я сейчас? Я… я… Зачем я только это начала? – она вдруг успокоилась: – Поцелуй меня.
Лесков наклонился и мягко поцеловал лоб, веки, губы. Она томно потянулась, дернулась, как продрогшая. С сигареты на перину стряхнулся пепел.
– Ну и черт с ним, – обреченно бросила Женя и отвернулась. – Мне было шестнадцать, когда я приехала в Москву из Николаевска-на-Амуре. Это восемьдесят седьмой, конец июня. Я была гордой и глупой. Представляешь, хотела стать балериной! С пяти лет занималась в балетной школе. Преподаватель дал мне лестную характеристику в Пермское Высшее, а я поехала в Москву. И поступила. Сказали – блистательно! Впрочем, это была редкая похвала. Я проучилась полтора года. Тренинг был жесткий. Движение чувствовала – как ты говоришь – ловила с лету. Но меня подвела стипендия.
Все время мне помогала бабуля: пересылала свою пенсию. Бабуля у меня была – класс! Семьдесят шесть лет – и работает! И кем работает! – сторожем на оптовом складе! У нее в руках двухстволка, и все – танк не подойдет! Она лет до шестидесяти в тайгу одна на медведя ходила! Представляешь! И кроме нее, никого у меня не было.
Мать умерла, когда мне было девять лет. Отец женился во второй раз, у них родилась дочь. Когда мне исполнилось двенадцать, баба Аня забрала меня к себе. Приехала на мой день рождения и набила отцу морду. Прелестный был подарок! При мачехе жилось невесело, вот бабуля и не выдержала. Как сказала: «Дернула я, внученька, стопочку самогона, и потянуло меня на приключения».
И отца я после этого видела лишь пару раз. Сначала вроде приезжал, каялся, а потом, видимо, понял, что без меня ему спокойнее будет. Когда я садилась на теплоход из Николаевска, то и не вспомнила о нем… С бабулей мы переписывались – раза по три в месяц. Баба Аня не любила писать, да и не умела, письма ее были маленькими, скупыми, почти одинаковыми… дорогими. В каждом слове я слышала ее скрипучую мужскую интонацию…
Когда она умерла, в декабре восемьдесят восьмого, незадолго до моего дня рождения, мне подумалось, что это какая-то ошибка. Я не могла поверить, словно меня разыгрывали, нарочно хотели обидеть! Я назанимала денег на самолет. Когда летела, думала о том, что наконец-то ее увижу, смогу обнять – мы не виделись больше года… Но меня встретили отец и младший брат бабы Ани. Тогда я сошла с ума, прямо на аэровокзале. Видимо, упала в снег, и меня долго не могли поднять. Что происходило на самом деле – очень плохо помню. Дальше – все как в тумане – закрытый гроб, могила в мерзлой земле, водка, сухие глаза… Говорили, что она умерла от несчастного случая: взорвался патрон дробовика или ружье самопроизвольно выстрелило ей в лицо, что-то такое, – я не разобрала. Мир, весь этот шарик стал такой бессмысленной штукой. Самый дорогой, большой, смелый и сильный человек, единственный, кто меня по-настоящему знал, прощал и просто любил – она умерла. Я бродила, как зомби, опустошенная и больная, умом не осознавая, какая случилась катастрофа. Мне бы остаться там, устроиться на работу. Но, как мы догадались, девочку переклинило: у нее оставался танец, однокашки-сокурсники, преподаватели и столица!
В Москве я немного пришла в себя и поняла, что действительно больна. За три дня путешествий заработала острую пневмонию. Две недели провалялась на койке, а потом еще месяца полтора не могла заниматься танцем. У меня не было денег, и были долги. Я устроилась подработать в булочную, работала двое суток через двое. Это была значительная прибавка к стипендии. Я даже сумела сократить сумму общего долга. Занятия возобновились. Чтобы наверстать упущенное, пришлось сменить работу: нашла место официантки в ночном баре «Полярник», по объявлению в газете. Это было и удобнее, и выгоднее.
Однажды (может, он и раньше наведывался, но я обратила на него внимание, когда он заговорил со мной) появился в баре молодой человек, бойкий такой, очень веселый, чуть пьяный. Он предложил мне посидеть с ним за одним столом. Был он не один – наверное, с друзьями – девушка и еще двое. От предложения, конечно, отказалась, в шутливой форме, все как положено. А этот парень зачастил. Денег у него было много, он ими чуть ли не бросался. Во всяком случае, смена, работавшая в ночь, когда он приходил, обильно одаривалась чаевыми. И Кирилл Александрович – наш администратор – позволял ему разные шалости, делал некоторые скидки, не высчитывал за битую посуду.
Посетителя звали Олежек. Он вечно влетал, озорной, шумный, в сопровождении какой-нибудь угрюмой компании. Каждый удобный случай бросал на меня косые взгляды, подмигивал или как-то иначе обращал на себя внимание, но больше не подходил. В баре было три официантки: одна за стойкой, две в зале. Его столик обслуживался кем угодно… но не мной. Это настораживало. Хотя – чего было бояться?..
Восьмого марта он пришел один и с цветами. Огромный букет алых роз он положил на стойку и, чуть не проткнув меня своим длинным носом, сказал:
– С Международным женским днем! Ну что, студентка Женя, станцуем?
Я растерялась. Кирилл Александрович кивнул мне из-за его спины. Я понимала, что отпираться не следует, но все же отказалась.
– А я могу и на колени встать! – весело предупредил Олежек.
Вот мы и станцевали. Музыка была бешеной, я – под стать музыке, к тому же танцор из него был никудышный, хотя и азартный. Он измотался на второй минуте. Я не прекращала, в моем танце получилось не столько экспрессии, сколько неприкрытой злобы. Чертов характер! Олежек скромно пританцовывал рядом и хлопал в ладоши. После танца он настоял на своем: усадил к себе за столик. Я только пригубила шампанское – охладиться. Олежек заметил:
– Люблю людей, знающих себе цену.
Подал меню:
– Я не ужинаю с незнакомцами, – окрысилась я, но вообще-то сказала это мягко.
– Я – Олежек!
– А я не ужинаю с незнакомцами, – повторила я и вернулась за стойку.
Он совсем обиделся, но увязался за мной:
– Два: ноль. У тебя талант: ты прекрасно танцуешь и бесподобно стряхиваешь кавалеров. Пойдешь ко мне в секретарши?
– В мои обязанности будут входить танцы?
– Возможно.
– Тогда ты долго не протянешь.
Олежек рассмеялся:
– Ну и язычок у тебя! Ума не приложу, что ты здесь делаешь?
– Работаю.
– А учебе не мешает?
Я только с неприязнью на него посмотрела.
– Ну-у! Расслабься.
– Чего ты хочешь?
– Счастья всему человечеству: хлеба и зрелищ!
– От меня?
– Ну, если не мы, то кто? – он присел на стульчик. – А если серьезно: я мог бы предложить тебе другую работу, более близкую к балету.
– Секретаршей?
– Да нет, ты чересчур тонка для этого. Я говорю о твоем, о танцах. Нетрадиционные хореографические номера в одном очень престижном заведении.
Я не отвечала. Он мне не нравился, терпеть не могла таких типов. И вообще, чувствовала за ним недоброе. Ведь чувствовала!
– Ну как знаешь… Хочешь, подвезу тебя до общежития? Народу немного, здесь и без тебя справятся, а я все улажу.
– Нет. Смена закончится – я пешком пойду. Утренний воздух располагает к прогулкам.
– Ну ладно, – он бросил на стойку визитную карточку. – Звони, если что. А цветы тебе.
Цветы я оставила в баре. Обо всем, что случилось, забыла. После занятий, как обычно, спала младенцем. Вечером снова вышла на работу. Утром – опять в училище… Оттуда меня и забрали. В милицию.
Следователь расспрашивал: я ли работала у стойки в ночь с девятого на десятое марта в баре «Полярник», кого помню из посетителей, находился ли кто долго рядом с кассой, не отвлекалась ли я на какое-то время, кто сдавал кассу, кто принимал, сколько денег в кассе было?.. Пропала часть выручки: более полутора тысяч рублей. Налегли на меня, шибанули, даже простая мысль в голову не пришла: а почему на кассовом аппарате в баре, где работает – как минимум – девять человек, нашлись только мои отпечатки пальцев?..
На меня повесили эти тысячу семьсот семнадцать рублей. В течение недели я должна была вернуть их, иначе дело передавалось в суд. Характер у меня был сквернее, чем сейчас – друзей немного, и все уже занимали мне, не со всеми рассчиталась… Я насобирала денег на тысячу двести: еще Светка помогла – официантка из «Полярника». Где было найти недостающие деньги, я не знала. В отчаянии вспомнила об отце. Но… даже если и хотела бы послать телеграмму, это бы меня не спасло. Оставался день. И та же Светка подсказала:
– У тебя ведь визитка Олежека есть!
Но визитку я оставила вместе с цветами. Светка пообещала помочь. Ночью позвонила и продиктовала номер Олежека: кто-то из девчонок подобрал карточку. Олежек был, как всегда, в состоянии неполного опьянения.
– Ну, ты приезжай, – сказал он.
– В два часа ночи?
– Ну, давай, я к тебе приеду.
– Я же в общежитии!
– Это не институт благородных девиц?
– Олежек, ты мне поможешь?
– Без вариантов!
– Тогда утром. Давай встретимся утром.
– Утро вечера мудренее, но чудеса-то ночью делаются! Я сейчас буду.
Он был мне противен, и стать ему обязанной!.. Но иного выхода не было. Пришлось идти на скандал с дежурной и комендантшей, выбираться из общежития посреди ночи. На улице моросил дождь. «Жигули» Олежека приехали весьма скоро. Первое, что я спросила – как буду с ним рассчитываться.
– Беру только натурой и в крупных купюрах…
Я собралась выходить из машины.
– Да ладно, ладно! Не боись! Сколько денег, говоришь, надо?
– Пятьсот семнадцать.
– Пятьсот – хорошо, – рассмеялся Олежек, – а семнадцать меня просто добивают! Общая сумма какая?
– У меня есть деньги.
– Это понятно. И все же.
– Тысяча семьсот семнадцать…
– Семнадцать… – закашлялся Олежек. – Козлы!
Он достал из внутреннего кармана пачку сотенных, отсчитал две тысячи и дал мне:
– Вот деньги… И не бери в голову! Когда сможешь – вернешь. Поняла?.. Если я не забуду к тому времени. У меня, знаешь ли, ветер в голове. Ну что, в общагу-то тебя обратно пустят? Не ночевать же на улице, под дождем? Хочешь, поедем ко мне?
Я смотрела на этого человека и пыталась понять, что же все-таки ему нужно. Не верила я в робингудов.
– Ну? Решайся! Девушка на ночь у меня сегодня есть, так что не трону.
Я впервые по-человечески ему улыбнулась:
– Спасибо, Олег, – и выскочила из машины.
– Зовут меня Олежек! – крикнул он вдогонку. – Пока, птичка!
Был еще один скандал с администрацией, но зато спала я, как убитая. Так вымоталась за эти дни, что даже не пошла на занятия.
Проснулась только в полдень. Отнесла деньги в «Полярник», благополучно уволилась без расчета, а потом еще и долги все вернула. Но без работы пришлось бы теперь трудновато. Попыталась что-нибудь найти; были одни лишь варианты с полной занятостью. Светка предложила позвонить в какой-то там бар в Новых Черемушках, но я была слишком напугана случившимся. Никаких баров, это не для меня.
– Что же тогда для тебя? – спросила Светка.
Для меня? Для меня оставался только танец… И я снова позвонила Олежеку.
– Привет, – ответил он. – Чем обязан?
– Я хотела еще раз сказать спасибо…
– Какая-то ты замороженная. Что-то не так?
Я замялась.
– Не стесняйся. Здесь все свои.
– Ты как-то предлагал мне работу, Олежек…
Мы встретились у дансинг-холла «Галактика». Время он выбрал «удачно»: я пропустила занятия в училище. В «Галактике» никого не было, кроме сервисных служащих и человека, встретившего нас в огромном пустом квадратном зале с довольно просторным пятачком сцены посередине. Карпатов Лев Васильевич. Ему было за пятьдесят. Опрятный, подтянутый, не без шика. От него веяло прохладой и властью.
– Что вы покажете? – спросил он.
Я растерялась.
– Мне сказали, вам есть что предложить.
– Если только импровизацию, – робко ответила я.
Глаза этого человека пугали – как у музейного чучела: черные, стеклянные – в них смотришь, пытаясь разгадать, что там, а потом понимаешь: это они вязнут в твоем мозгу.
– Давайте импровизацию, – безразлично сказал он. – Фонограмма?
Я как дура посмотрела на его протянутую руку.
– У меня нет музыки. Я… я не знала.
– Импровизация под тишину?
Я поняла, что меня выставят взашей и будут правы. Это собрало и подстегнуло. Экстремальные ситуации вечно вызывали во мне героический настрой. С собой были пуанты и трико. Что еще надо?..
Когда я закончила, привела дыхание в норму, глянула со сцены в зал – увидела счастливую длинноносую рожу Олежека и по-прежнему непроницаемую маску Карпатова.
– Забавный этюд, – сказал он.
Без музыки моей фантазии хватило минут на пять, не больше. Впрочем, это было довольно неплохо.
– Где вы учились?
– Одиннадцать лет в балетной школе, а теперь – второй курс при ГАБТе.
– Откуда вы родом?
– Николаевск-на-Амуре.
– Сколько лет?
– Восемнадцать.
Он неопределенно вздохнул.
– Выглядите вы старше.
– Но вам понравилось?
На это Карпатов ничего не ответил:
– Сколько бы вы хотели получать?
Я не сразу поняла: уж больно резок переход. Немного подумав, неуверенно сказала:
– Пятьсот.
Он наконец-то улыбнулся, но и улыбка его была мертвой.
– Есть идея. Подойдите сюда.
Карпатов несколько раз обошел вокруг меня:
– Как успеваемость?
– Много хвостов, но я все сдам.
– Метр семьдесят пять?
– Семьдесят четыре.
– Живете в общежитии?
– Да.
– Родственников в Москве нет?
– Нет.
– Все на родине?
Я разозлилась:
– Это важно?
Он опять не ответил:
– Сейчас мне танцовщицы не нужны. Но мне нравится ваша непосредственность и несомненный талант. Все эти старомодные штучки – не беда – классику я уважаю. Предлагаю контракт. Вы обязуетесь безоговорочно выполнять все мои требования, а так же требования Коллегии…
– Какой Коллегии?..
– Во-первых, не перебивать, во-вторых, говорить и делать только то, что предпишут. Вам надлежит забрать документы из училища или, по крайней мере, взять академический отпуск, с тем чтобы иметь возможность посещать наши занятия и комиссии. Я, в свою очередь, обязуюсь обеспечить вас жильем, пока без права прописки, и ученическим пособием в размере шестнадцати рублей сорока копеек в день. Деньги будут выплачиваться каждую неделю. Обучение продлится шесть месяцев, по его окончании мы предоставим вам работу с начальным окладом две тысячи рублей в месяц. Вопросы есть?
Я была ошарашена:
– Чему меня будут учить?
– Естественно, танцам, – усмехнулся Карпатов, – вашему профилю.
– Всего полгода?
– Это будет очень интенсивный курс.
– А какая будет работа? – все больше пугаясь, прошептала я.
– Знаете что! – сухо бросил он. – Стрип-клубов у нас пока нет, так что если потерпите еще пяток лет, я вам подберу работу по вкусу. Вот только сомневаюсь, нужна ли им будет балетная школа?
Карпатов был прав: стрип-клубов в Москве не было… легальных… Подписав контракт, я въехала в двухкомнатную квартиру, где моей соседкой была Лиза, такая же, как и я – девушка из группы. Всего в группе нас было пятнадцать. Первые полтора месяца казались раем. По профилирующему предмету два педагога: Эдик и Валик – они так и назвались – красивые, молодые, обаятельные, артистичные, потрясающие танцоры. Движение и танец были моей стихией. Остальным девушкам приходилось сложнее, некоторые оказались совсем неподготовленными. Но зато все, как одна, были безупречно сложены, и у каждой имелась своя изюминка, свой шарм. Самой яркой, пожалуй, была Лиза: высокая, натуральная блондинка. Она же была одной из самых неуклюжих. И лидером этой компании оказалась я, тем более что была постарше всех. Хотя и держалась обособленно – чувствовала их уважение, даже какое-то почитание, что ли… Но когда шли занятия танцем, все внимание переключалось на преподавателей, от них девчонки просто балдели. Я тоже была влюблена, в Эдика. Ребята же вели очень тонкую работу: поддразнивали нас, смущаясь, принимали нашу игру, вступали в более откровенную и… каждый раз все начиналось по новой. Девчонки просто сходили с ума и ревновали друг к дружке… А я совершила очередную ошибку: забрала все-таки документы из училища…
Еще нами занимались риторы – такие же обаятельные и очень интеллигентные – модельеры, парикмахеры-визажисты, психологи… Психологи! Я только на третий месяц поняла, чем они занимались – ломкой, ненавязчивой, степенной и очень эффективной. Я стала обращать внимание на разные совпадения. Весь обслуживающий персонал и педагоги – мужчины, два раза в месяц нас осматривала медицинская комиссия, в которой тоже не было ни одной женщины-врача. Еще казалось странным то обстоятельство, что каждая из девушек группы не была москвичкой, а большинство из них – как и я – не имели родных. В довершение – настораживала некая потерянность для мира: «школа» – как все ее называли – находилась в том же спальном районе и в непосредственной близости к месту жительства всех девушек. Половина из нас жила вообще в одном доме, а занятия были настолько интенсивны, что желания сходить отдохнуть куда-нибудь вечерком даже не возникало (впрочем, это позволяло не растрачивать деньги).
С Лизой мы подружились сразу. Я помогала ей разобраться с движением, для меня это тоже было неплохой практикой. Каждый день мы танцевали под магнитофон. Первая, с кем я поделилась своими подозрениями, была она. Лиза сначала рассмеялась, но дня через три согласилась со мной, что все это странно. Мы говорили с другими девушками. Как мне показалось – это не возымело действия. Но я ошиблась. Над каждой из нас велось наблюдение, контролировалось даже настроение. Я потом сообразила, что за витамины нам прописывали. Заикнулась и об этом… Заикнулась, а получилось, что мешаю планам своих покровителей. Оказалась сорняком в выращиваемой ими культуре. Я подставилась и подставила Лизу.
События развивались быстро, не прошло и двух дней. Нас задержали после занятий: подошел Эдик и сказал, что директор хочет нас видеть (а директор – это был такой невзрачный, с лысой макушкой типчик, он и на глаза-то попадался всего пару раз). Эдик вошел за нами в кабинет и запер дверь. Вместо директора там оказались Олежек и еще четверо молодцев.
– Привет, птичка, – усмехнулся мне пьяный Олежек. – А могла бы жить!
Зачем мы сопротивлялись и кого звали на помощь? Нас поставили на колени лицом друг к другу, и было больно не столько мне самой, сколько смотреть, как насилуют Лизу и слышать ее крики. Когда все закончилось, Эдик открыл дверь. Вошел врач и сделал нам по два укола…
Я очнулась одна в незнакомой маленькой комнате без окна, но с вентиляционной отдушиной. На полу, на стенах – ковры. Лампочка под розовым плафоном встроена в потолок. Какая-либо мебель отсутствовала, только несколько огромных подушек, заменяющих постель. Одежды на мне не было. Я постучалась в дверь без ручки и вообще какого-нибудь напоминания о том, что это дверь: выше человеческого роста розовый мягкий прямоугольник в стене. Ощущение было, что все происходит не со мной, и я – это не я, а некая героиня пошлого романа маркиза де Сада. Стучала в дверь я недолго, быстро почувствовала – слабею. Упала на подушки. Кружилась голова, видимо, что-то сильное в меня закачали. Есть не хотелось. При одной мысли о еде начинало тошнить. Хотелось пить. Спустя время, дверь открылась, впустила незнакомого мужчину и снова захлопнулась…
Сколько именно я проработала на «конвейере», черту неизвестно. Поначалу, чтобы не сойти с ума, считала посетителей, но, не зная, когда день сменяет ночь, не имея никакого представления о времени, бросила эту затею. После семнадцатого отключилась. Видимо, ненадолго. Меня снова разбудили…
Я больше не плакала, не стучалась в дверь, не просила есть и выглядела, должно быть, ужасно. Во всяком случае, казалось: на мне лежит грязь плотной липкой коркой. Вошла женщина, немолодая, красивая, хорошо одетая.
– Хочешь жить? – спросила она.
Я туго соображала, только пыталась понять, что она тут делает.
– Если ты согласна вести себя смирно, тебе дадут одежду, приведут тебя в порядок, будут кормить, водить в туалет и будут убирать твою комнату. Если ты согласна.
Кто бы мне сказал раньше, насколько я малодушна! Они дали все, что обещали. Очень хорошо кормили. В туалет и в душ я получила сопровождение, не сводившее с меня глаз ни на секунду. Впрочем, никаких крамольных мыслей пока не являлось. Сломали меня грамотно. Мужчины, многих из них я начала теперь узнавать, навещали регулярно. После каждого я принимала душ, и в меня пихали какие-то таблетки. Мне давали выспаться, и я стала разграничивать день и ночь. Ночь – это когда я не спала.
Прошло около недели, появилась та женщина.
– Здравствуй, девочка. Можешь называть меня Соней. Ты поняла, за что тебя наказали?
Да, я поняла. Я очень давно это поняла! Мои мысли стали четкими, прямыми, математически правильными. Я перестала любопытствовать. С философией тоже было покончено. Нарушение контракта: сболтнула лишнее. И точка. А что было бы, если бы не?.. Никому не интересно.
– Я ведь послушна, – отвечала я.
Соня неожиданно ударила меня кулаком в челюсть, как заправский боксер. Я рухнула на пол. Из разбитой губы заструилась кровь. Странно: боли я не испытывала, обиды тоже, но заплакала.
– Ты очень дерзкая девочка. На тебя потрачено много денег. Затраты не оправдались. Долги надо возвращать. Ты согласна?
Я только кивала и всхлипывала. Соня ходила от одной стены к другой, потирала кулак и размеренно говорила:
– Хочу, девочка, чтобы ты знала: я не зверь, я – человек. Но это мой бизнес. Бизнес жесток и справедлив. Ты к нему с лаской – и он к тебе с любовью. Очень простая грамота. Все, студенточка, уроки закончились. Сдавай экстерном. Будешь бревном – бревном тебя отсюда и вынесут. Усекла?
– Да.
– Пойдем, – она протянула мне руку. – Губу твою залечить надо.
Это был обыкновенный бордель. Его населяли люди, каждый из них имел свою историю, но не всем довелось увидеть бога этой вселенной – Льва Васильевича Карпатова. С тех пор меня беспокоили только клиенты. Принимать их должным образом я научилась очень скоро. Появились даже постоянные покупатели. С каждой сделки я получала двадцать рублей. Их честно приносила Соня. Меня больше не кормили, и еду я заказывала сама. Потом дверь перестали запирать, появилась небольшая свобода в перемещении. Примерно через месяц мне разрешили обзавестись кое-какой мебелью, потом я купила магнитофон, чуть позже – телевизор и видео. Кабель мне не провели: разрешалось смотреть только видео. Мне повысили ставку до тридцати семи рублей с клиента за час и свыше полутора сотен за ночь. Правда, ночи заказывались редко. Мой бог, я настолько привыкла, что ко всему относилась спокойно… Ко всему, кроме одного: ко мне наведывался Олежек. Он не платил. Он был моим «импресарио». Неизменной наградой от него я получала букет алых роз. Ненавижу эти цветы.
Однажды Олежек приехал совсем трезвый:
– Надень что-нибудь поприличнее.
Он вывел меня из подвала наверх. На улице была ночь, ясная, с огромными звездами. Вокруг стояли голые деревья и лежали сугробы снега. Бордель снаружи имел вид невзрачного двухэтажного домика и находился он посреди какого-то парка. Под землей, я представляла этот дом гораздо большим.
Олежек отвез меня за черту города. Прямо в машине достал бокалы и открыл бутылку шампанского.
– Знаешь, что за день сегодня? – спросил он.
– Нет.
– Сегодня день моего рождения.
– Поздравляю, – сказала я без «должного» настроения.
– Но это не все! Сегодня еще и день твоего рождения, Женечка!
Меня затрясло:
– Ах, вот как?!
Не знаю. Это было такое потрясение, словно приоткрылся один из тех ковров, что висели в моей комнате, и мне показали, чего я лишилась. Значит, у меня все-таки был день рождения! У меня было имя! Чем руководствуясь – не знаю – отчаянием ли, ненавистью ли, или выпитым шампанским, я изо всей силы ткнула Олежека бокалом в лицо. Бокал раскрошился вдребезги. Я выскочила из машины и побежала по шоссе. Позади услышала:
– Стой, сука, я ни хрена не вижу!
Впоследствии оказалось, что всего-навсего порезала ему рожу в нескольких местах, а его поганые глаза только кровью залило.
Я остановила грузовик, ехавший в город. В кабине водителя обнаружила, что раскроила себе ладонь, и заревела. В милиции меня напоили кофе, перевязали рану, а когда я успокоилась – выслушали. Я назвала им все, что знала: номер телефона Олежека, номер его машины, Карпатова с его «Галактикой» и «школой» на окраине в спальном районе. Я не знала только, в каком парке находился бордель.
Работали они оперативно. Часов через пять нам устроили очную ставку с перебинтованной рожей Олежека. Я на него накинулась, как дикая кошка – еле оттащили.
– Да не знаю я ее! – вскричал Олежек. – Попросила подвезти, назвалась Женей, выклянчила телефон, уговорила купить шампанское, а потом бокалом в морду ударила! Я же сам в милицию заявил! Что вы, в самом деле? Она же маньячка!
Спустя еще пару часов эта информация подтвердилась: я бежала из психиатрической клиники… Карпатов был гением своего дела: на меня завели медкарту, поручили ее некоему врачу из некоего заведения, и все! – привет, птичка! Великолепная страховка! Я закричала что-то о «Полярнике» и моем училище, но сама уже в отчаянии понимала – и здесь все схвачено. Внутренний голос прошептал: готовься к смерти.
Приехала «скорая», мне ввели успокоительное, и очнулась я от яркого света. Это было в незнакомой комнате с кирпичными неоштукатуренными стенами. Светили электрофонариком в лицо. Одного я узнала – Олежек. Он приказал плотно завернуть меня в матрац, оставить только голову и руки над нею. В таком положении меня подвесили к потолку и били палками. Не знаю, сколько силы надо было прилагать, чтобы пробить через этот матрац; у них получалось отменно.
Я сорвала голос. Потом вошла Соня:
– Хватит! – и ударила меня по щеке, чтобы я перестала драть горло.
Когда меня развязали и отнесли в мою комнату, там не было ни видика, ни телевизора – ничего!
– Вижу, уроки проходят даром, – сказала Соня. – Тебе нет нужды знать, почему я за тебя вступилась! Считай это чудом! А теперь – если следующий твой клиент не останется доволен – я умываю руки!
Клиент остался доволен, но мои тело и внутренности были отбиты настолько, что любое движение казалось новым ударом. В эту ночь я честно заработала сто сорок рублей. Хватило на лекарство. Недели две лечения и отдыха…
История повторилась. Я пользовалась популярностью, но мало что покупала на вырученные деньги. Стала приобщаться к спиртному. Соня вовремя избавила от этой привычки. Олежек внезапно исчез.
Потом стали собирать выездные группы по пять-шесть девушек. Один раз мы развлекали представителей какой-то партии, другой – шведских бизнесменов. Во время одной из таких поездок я встретилась с Лизой. Мы не общались. Мне все рассказал ее взгляд: Лиза меня ненавидела. Дурочка. Что случилось с остальными девушками «школы», я не знаю. Думаю, проект окупился: уж больно много денег в него вбухали…
В девяносто четвертом меня «легализовали». Я получила возможность вкупе с «фирмой» приобрести – через подставное лицо – однокомнатную квартиру. Стать «дамой полусвета» было почетно. Теперь я принимала клиентов на дому по телефонному звонку. У меня было два выходных. Но я не продержалась и трех недель – воздух свободы сыграл злую шутку. Я понимала: раз мне доверяют, значит – не боятся. Но я и не собиралась заявлять на них. Я просто хотела уйти. У меня был прекрасный план…
Я удивилась, насколько легко все вышло, но факт – я покинула столицу. Поездом добралась до Хабаровска, а оттуда «Метеором» до Николаевска-на-Амуре. Сначала я приехала на кладбище. Сердце сжалось: за могилкой бабы Ани давно не ухаживали. Потом наведалась к отцу. Но оказалось, что он спился и умер. Как ни странно, мачеха приняла меня доброжелательно. Может, сыграл образ московской гостьи? А с Надеждой – второй дочерью отца – мы и вовсе подружились, хотя разница между нами была в десять лет. Мы хорошо друг друга понимали. Я кормила ее мороженым, благо денег для этого у меня было предостаточно.
Вскоре выяснилось, что родственников почти не осталось, один только грубый молодняк, которых я не знала и глухой дед Ваня – младший брат бабы Ани. Но его сын и сноха разговаривать со мной не хотели, словно нутром чуяли, зачем я приехала.
Город переродился. Раньше все было иным: большим и зеленым – а после Москвы, со всеми изменениями за семь лет!.. Я пошла по школьным товарищам. Ну сколько их там было? Лена, Лара, Ромка-Ушастый Ангел, Сима… У Симы раковая опухоль. Остальные девчонки замуж повыскакивали. А Ромка – про него Лена рассказала, и я усмехнулась – стал сутенером.
Я попробовала устроиться куда-нибудь на работу. Были три препятствия: своих безработных девать некуда, отсутствие какой-либо профессии, кроме как продавщицы (а там, будьте спокойны, все занято), и нет прописки… Но мне-то и нужна работа, чтобы получить место в общежитии и поставить штамп в паспорте, которого еще нет!
В паспортном столе я совсем запуталась. Ксиву я потеряла – это понятно – но что с последним местом жительства? В восемьдесят девятом я забрала документы из училища и выписалась из общежития в никуда. Так куда делать запрос?
Пролетело два месяца, наступил октябрь. Пробовала устроиться в местные кордебалетики… Но я не могла больше танцевать, хотя и делала это лучше других. Что удивительно – никакого отчаяния: все воспринималось как должное и обходимое… и то, что я привыкла к деньгам!.. Смешно, правда? Пошло и мелко. Оставшихся мне хватило бы недели на две или… дать взятку доставшим меня чиновникам. Хорошая мысль. Мачеха меня раскусила – о какой прописке могла идти речь? – она выставила меня за дверь. Я не скандалила. Наденька плакала. Вот тогда я вспомнила кое-что, что снова заставило усмехнуться…
Ромка-Ушастый Ангел (это была его школьная кличка) выслушал меня очень внимательно и поставил два условия: первая ночь его, чтобы можно было определить, так ли я хороша, как говорю, и тридцать процентов со сделки. Но судя по средней цене, им предложенной, это были такие крохи – я поняла, что попросту загнусь. В Москве я не была элитной проституткой, но имела вдвое больше, чем вся его «отлаженная система» здесь. Попыталась торговаться. Ромка скорчил недовольную гримасу и сказал, если я не принимаю его условия, то могу попытать собственные силы, только на свою территорию он меня не пустит. О-о! Этих мальчиков я видела и подумала: пусть уж лучше старый школьный товарищ, чем его банда…
Ромка меня обманул. Клиенты были побогаче, чем он описывал. Сначала я думала: боится снимать с них больше – и решила этим воспользоваться. А он в две недели сменил свой «Москвич» на «Тойоту». Ясно: была реклама, и теперь наваривается на мне. Сказала ему об этом. Он пожал плечами:
– Помнишь, как ты сюда вошла? Так вот, выход через вход. Еще одна ночь и лети без выходного пособия!..
– Отлично, – ответила я. – Только выпивка за мой счет! – и ударила его бутылкой по голове.
Я себя прям зауважала: уж что-что, а с сутенерами общий язык нашла – с помощью посудного стекла.
Обшарила всю его квартиру, обнаружила несколько сот долларов и немного золота. Никаких угрызений совести, даже не посмотрела, жив Ромка или нет. Вышла из дома через чердак и другую парадную. Ночь провела на кладбище…
По дороге в Хабаровск я взвешивала все за и против оставшихся у меня возможностей. Была спокойна, но не опустошена. Хотела жить – еще подумала тогда: чертов инстинкт! И надежда могла быть только на одного человека. Так что решила я вернуться в Москву…
Соня равнодушно выслушала меня по телефону, сказала ждать на вокзале, никуда не уходить. Выбора все равно не было. Она поступила честно – приехала одна и отвезла к себе домой.
– Почему я спасла тебя тогда? – спросила Соня. – Даже не знаю. Ты приносила неплохую прибыль… Да нет, дело не в этом! Ты мне меня напомнила, мы же с тобой одинаково впаянные. Я чуть раньше. Ты чуть позже. И выхода отсюда нет – ты уже поняла. Большинство случаев полегче нашего, но там подход другой и цели иные, так что имеем то, что имеем. Паспорт я вернуть не могу. Это «подсудное дело», ты знаешь. Потом, я ведаю только «отделом кадров», а не «архивом». Ты теперь «архив». Соображаешь?
– Да.
– Ничего ты не соображаешь, девочка. Тебя нет!
– Но почему бы меня не отпустить, если я никому не нужна.
– Есть такое понятие: «чисто». Вот сейчас им ничто не угрожает, они уверены в себе. Но имеется одна миллионная процента из ста, что случится нечто, которое смоет их в унитаз. Ныне они спят спокойно, а выдай им тебя – и будут спокойны на все сто. Вот это и есть «чисто». Математика. Кстати: не вздумай надеяться на свою миллионную. Не советую. Почему до сих пор и живая. Привыкла. Лишь об одном жалею – не обладаем мы с детства смекалкой: не родилась при зубах и локтях – будь овцой! Так нет, хочется денежек понюхать. А денежки – грязь. Изволь – нагнись и понюхай, но подставь задницу.
– Что мне делать?
– На что ты рассчитываешь?
– Могу хоть с нуля начать…
– Это ты в борделе с нуля можешь! И то – не представляешь, каково входить по третьей! А пойди на панель? По вокзалам? По кабакам? Начнем с того, что это не твой профиль – привыкла на готовеньком, а кончим тем, что тебя попросту найдут через недельку в канализации… Если найдут… О! Стоп! Тебя извращенцы устроят?
– Извращенцы? – испугалась я.
– Нет, ну я не знаю, что они там делают… Люди нормальные, просят с отклонениями. Зато бабки там крутятся бешеные и каналы эти эксклюзивные, идут мимо общего потока. Конечно, коли все там непрофессионально, то опасность есть поиметь какую-нибудь грыжу.
– Мне нужны деньги. Я попробую.
– Хорошо. Я спрошу у Олежека.
– У Олежека? Он жив?
– Жив. Недавно всплыл. Оказывается, он сунул свой длинный нос не туда, куда следовало бы. Ему и укоротили.
– Нос?
– Член. Вот он и записался в извращенцы.
– По-моему, он всегда был извращенцем, козел. Не заложит?
– Если снова сунется, то и укорачивать будет нечего.
– Ну спроси. А еще узнай, сколько нынче паспорт стоит.
– Не торопись, девочка. Это ты узнаешь где-нибудь не здесь. В Москве тебя мигом вычислят…
Олежек встретил меня с распростертыми объятиями и получил коленом в то место, где когда-то что-то еще было. Он не обиделся и спросил только, согнувшись пополам:
– В расчете?
– Посмотрим.
Он предложил мне свою «команду соискателей». Они работали вчетвером, точнее, мне пришлось работать на троих, а четвертый – Олежек – получал свое от наблюдения со стороны. Господи!.. Так противно мне давно не было. Но я им понравилась, мы договорились на семь сеансов по пятьдесят долларов за час. Это позволило мне снять комнату и некоторое время не работать. Потом я снова звонила Олежеку. Он понял, что я крепко зависла, и кинул идею: создание своей собственной сети. Я решила рискнуть…
Дуэт у нас был гениальный. Организация вся на Олежеке: большие гостиницы, проверенный персонал, богатые клиенты, еще не имевшие дела с каким-либо из «филиалов» Карпатова. Олежек чувствовал себя, как рыба в воде. В свое время он хорошо ведал делами босса и теперь внаглую пользовался почерпнутыми оттуда знаниями. Я одевалась с шиком и без излишеств – мы поломали стереотип. Если я встречала кого-нибудь из старых знакомых, меня не узнавали: я перекрасилась в яркую блондинку и сделала стрижку. На всякий случай взяла себе прозвище – одно из самых частых в нашем бизнесе – Перчик. Деньги мы драли круто, но и качество обслуги было намного выше, чем у Карпатова. Клиентура разрослась, и в основном это были теперь постоянные клиенты. Штат мы не раздували: все-таки по краю ходили. Десять процентов делили на консьержа, горничную, официанта или еще кого-нибудь, а оставшееся – честно пополам. И самое смешное – никто ничего не знал. Соня наверняка догадывалась, но ни о чем меня не расспрашивала, да и встречались мы с ней теперь редко…
Летом девяносто шестого я собралась завязать. У меня было достаточно денег, чтобы уехать из Москвы, купить себе паспорт, квартиру и жить, наконец, так, как мне этого захочется. Олежек расстроился, но противиться не стал. Мы давно простили друг другу все обиды, друзьями не были, но каждый из нас хорошо понимал проблемы другого и считался с ними. Олежек предложил последнюю сделку. Светила неслыханная сумма. Мы ударили по рукам. Последний раз.
Приехала, как обычно, на такси в известную уже гостиницу. Здесь постоянно дежурили всякие девочки, некоторых я помнила по борделю. Они же меня, наверное, воспринимали некой леди, частой гостьей столицы. Но в ту ночь я столкнулась лицом к лицу с Лизой. Лиза попросила прикурить: кончился газ в зажигалке. Взгляд ее был безучастным, рассеянным. Мы разошлись, и я облегченно вздохнула…
Когда все закончилось и я вышла из гостиницы, передо мной остановилась машина, открылась дверь, сзади кто-то подтолкнул. Этих людей я не знала, но сразу поняла, кто они.
Меня отвезли в какой-то полуразрушенный деревянный дом за городом и привязали к стулу. Кроме трех молодцев в комнате находился сам Лев Васильевич Карпатов. Раз так, то это не было формальностью, это переходило в личную заинтересованность: мы же уводили его потенциальных клиентов. У меня появилась слабая надежда…
– Собственно, всего три момента, – сказал Карпатов. – Как давно ты работаешь с Олежеком, какой процент он тебе отстегивал и сколько народу вы обхаживали?
Внутренне я проклинала себя за свою глупость, Олежека за его жадность и эту гениальную беспроигрышную идею, Лизу… Лизу я просто проклинала… Мне нельзя было отвечать наобум и нельзя было говорить правду. Только я задумалась, чтобы ответить на первый вопрос, как получила удар в живот. Когда пришла в себя, не солгала о нашей совместной работе – полтора года. Но на второй вопрос я упорно твердила, что о деньгах ничего не знаю, и постоянно называла цифру соответствующую десяти процентам от средней сделки. Касательно третьего сомнений не было – сообщила имена пяти клиентов той самой гостиницы, где нас застукали. Об остальном контингенте – я понимала – им знать не следует. Если и будут проверять, то мало ли Перчиков в Москве! Меня допрашивали около часа, по кругу повторяя те же самые вопросы. Били после каждого моего ответа одинаково жестоко, однако сильных увечий не наносили. А я упрямо стояла на своем: полтора года, процентов не знаю, одна гостиница – пять клиентов…
Я была в полуобморочном состоянии, почувствовала, как меня куда-то поволокли. Потом услышала плеск воды, ощутила ее прохладу на своем разбитом лице и теле. Защипало глаза и открытые раны, а резкий, одурманивающе-терпкий запах отрезвил меня. Это был бензин… Рядом со мною сидел Олежек, так же связанный, но совсем изуродованный. Господи, они его тоже взяли! Почему я сразу не поняла это по прямому вопросу: «как давно ты работаешь с Олежеком?..» Что я наделала? Фактически, всю ответственность я перекинула на него, не зная, что говорил он!..
– Постой, Васильич! – закричал Олежек. – Я тебе правду говорю!
– А я верю, – ответил Карпатов. – Я обоим вам верю. И теперь, когда мы все выяснили, остается поставить точку.
Значит, Олежек говорил то же самое, что и я. Он знал, что его в живых все равно не оставят, но попытался спасти меня, просчитав вероятность моих ответов! Я посмотрела на него с благодарностью. Он перехватил мой взгляд, грустно улыбнулся вздутыми окровавленными губами и поморщился от боли. Перед нами стояли шесть здоровых мужчин и хозяин. Все курили.
– Я еще кое-что не сказал, – прохрипел вдруг Олежек.
– Это имеет значение? – спросил беззаботно Карпатов.
– Может быть.
– И что же?
– В обмен на жизнь…
Лев Васильевич улыбнулся той самой мертвой улыбкой, какую я видела несколько лет назад.
– Не мою жизнь, – фыркнул Олежек. – Этой вот девчонки. Она человек подневольный и доставила мне хлопот больше, чем тебе.
– Я подумаю.
– Тогда мы не договорились.
Олежек был серьезен. В отсутствующих глазах Карпатова блеснул огонек – он заинтересовался:
– Я же сказал: подумаю.
– Ты будешь полный осел, Васильич, если убьешь эту девочку. Она талант! На ней одной ты свои доходы сможешь увеличить вдвое!
Меня оттащили в сторону, подальше от Олежека. И он заговорил. Он нарисовал Карпатову такую картину, что у старика отвисла нижняя челюсть. Стержнем были проект «школы» и последняя идея Олежека, воплощенная в жизнь с моей помощью, но размах нового замысла потряс и ужаснул меня.
– Долго ты над этим трудился? – спросил ошеломленный Карпатов.
– Мне все равно не хватило бы средств…
– Верно. Я раздавил бы тебя как клопа, – старик неприятно захихикал. – Но ты – гений!.. А идея-то проста, но, черт возьми, как она пошатнет коровкинские монополии!.. Молодец!
Я знала, что кроме Льва Васильича в городе есть еще воротилы «живого» бизнеса, но фамилию Коровкин услышала впервые. Карпатов подошел ко мне и посмотрел прямо в глаза. Он был страшен, но отвернуться я боялась больше.
– Да, – прошипел старик. – Такая сможет!
Он крикнул вполоборота Олежеку:
– Сможет? – и опять посмотрел на меня: – А ведь этот говнюк к тебе неравнодушен. Может, и ты его любишь?
– Я не знаю, что такое любовь, – ответила я.
Один из людей Карпатова швырнул в Олежека горящий окурок…
Я работала по-прежнему и на прежних заказчиков, получала десять процентов. Но это были приличные деньги: сумма выросла раза в полтора-два, а клиентов стало еще больше. Это был золотой век Карпатова. Еще бы – новые технологии! Я бы назвала это эксплуатацией духа – не просто элитные, с особой манерой поведения, высоким профессионализмом – а взявшие на вооружение интеллект, в качестве сексуального реквизита. Сколько таких девочек работало, не знаю, но доход это приносило сумасшедший. По тем крохам, что я зарабатывала, нетрудно было вычислить ставку хозяина, при том, что это была новая производственная линия на клиентуру более высокого полета.
А потом я краем уха слышала, будто была «война», будто Карпатова, а точнее – его тело, без головы, опознанное по одежде и перстням, нашли где-то в Сокольниках. Но на мне это никак не отразилось – я понимала: Коровкин там или кто другой, но сделай я неправильный шаг, и меня вообще не найдут. Соня тоже потерялась, Лиза больше не попадалась на глаза. Знакомых у меня теперь было двое: Болт – мой новый шеф – и Кливленд – шофер. Больше и не надо: меня научили бояться людей. Жила я в просторном отдельном помещении со всеми удобствами в моем «родном» борделе. Деньги уходили в основном на сигареты и выпивку. Водку я не любила, а от остального не пьянела…
Первого апреля девяносто восьмого судьба выкинула еще одну шутку. В тот день было пять клиентов. А Болт попал в больницу, и деньги снимала непосредственно я. Кто навел? Может, сам Болт, может, кто из его сети, а может – не удивлюсь – и Лиза!.. Черт их знает. Когда я открывала дверь кливлендского «Форда», почувствовала, что ослабел ремешок моей сумочки. Я успела ее ухватить. Кливленд выскочил из машины. Кто-то сзади одним ударом уложил его на землю. Меня прижали к стене, к горлу приставили нож:
– Заткнись, сука! – сказали мне, хотя я молчала. – Давай деньги!
Я даже не успела как следует разглядеть напавшего на меня – лицо его странно дернулось, он отлетел в сторону, меня забрызгало чем-то горячим. Я зажмурилась, одновременно с этим услышала выстрел и испуганный вопль. Кто-то схватил меня за руку и крикнул:
– Майк, где второй? Ушел? Давай машину!
Я открыла глаза:
– Не надо!
– Надо, надо, успокойтесь!
Меня бережно усадили в потасканный джип. Рядом, на заднее сидение перенесли бессознательного Кливленда. После него сел тот человек, что со мной разговаривал – похожий на молодого итальянца из третьей серии «Крестного отца». Другие двое забрались в джип спереди, и машина понеслась.
– Прежде всего, успокойтесь. Приятеля вашего, мы отвезем сейчас в больницу. Вот ключи от вашего «Форда», – он протянул мне ключи. – А куда вас отвезти?
Я плохо понимала, что мне говорят. Я была в шоке.
– Все будет в порядке. Я думаю, второй бандит не станет вас искать. Теперь он будет бояться, чтобы его не нашли, – улыбнулся итальянец и поглядел вперед: – А может, найти его, Майк? Пусть возместит моральный ущерб.
Крепыш рядом с шофером молчал и не оборачивался. Итальянец подал мне платок:
– У вас все лицо в крови…
Так я познакомилась с Гречишниковым. Кливленда пристроили в больницу с диагнозом: сотрясение мозга при падении с лестницы. Меня тоже залечили: продезинфицировали порез от ножа на шее и наложили пластырь. Джип оказался тех бандитов, которые на нас напали. Его оставили с открытыми дверьми у обочины, рядом с больницей. У Гречишникова был, естественно, «шестисотый», я не заметила, как он все это время следовал за нами.
– Так куда же вас отвезти? – снова спросил Александр.
Я больше не боялась, но не хотела, чтобы меня довезли пусть даже до парка, в котором скрывался бордель:
– Спасибо. Я сама доберусь.
– Вот этого я обещать не могу. Как вы поведете машину в таком состоянии?
– Я не умею водить машину.
– Тем более. Ну, так куда мы едем?
– Я была в гостинице, чтобы снять там номер. Номеров не оказалось, – соврала я.
– Ну, это они покривили душой!..
Администратор меня прекрасно знал, он сегодня уже получил свой процент с пяти сделок. Я ему подмигнула. Номеров и в самом деле больше не оказалось даже для уважаемого Александра Эмильевича.
– А зачем мне еще один номер? Разве мой недостаточно вместителен? Вы не будете возражать, Женя?
Я не возражала. Гречишников дал администратору сто баксов. Потом был ресторан, мы танцевали с Александром медленный танец, а после – уже под утро – наступила ночь…
Ни разу за неполных девять лет моей постыдной практики я не получала удовольствия от секса. Александр не воспринимал меня как проститутку, не заплатил мне деньги, но это дорогого стоило. Я, наконец, поняла, чего меня еще лишили покойные Олежек и Карпатов, поняла и долго соображала, что же мне с моим пониманием делать.
А на следующий день Гречишников уехал по своим делам. Связаться мне было не с кем: и Болт, и Кливленд в больнице. Надо было возвращаться в бордель, тогда бы я потеряла Александра. И я осталась в гостинице. Гречишников намеревался пробыть в Москве еще неделю. То, что мы творили – просто праздник. Так счастлива, казалось, я никогда не была… И каждый новый день приближал конец. Каждый день я набирала номер телефона Болта, а тот не отвечал. Но все было намного проще: обо мне хозяину доложили через того же администратора гостиницы…
Это случилось на шестые сутки. Приехал Александр. Впервые он был холоден, не взглянул на меня, подошел к окну:
– У меня возникли проблемы. Небольшие, но никак не предусмотренные.
Сердце упало.
– Это связано со мной? – спросила я.
– Да, – он обернулся. – Перчик.
Кто бы мог подумать: меня это обидело! Имя, к которому я привыкла за последние годы, с его губ – было кощунством! Но я взяла себя в руки:
– Мне уходить?
Александр подошел:
– Ты очень странная. Загадочная. Таких женщин я не встречал. Не думал, что… – он замолчал.
– Что шлюха может быть такой? Да, наверное, я оригинальная особь! – и я поднялась, чтобы выйти.
– Постой. Я просил подождать тех людей, что за тобой пришли. Заплатил им по их требованиям. Мне обещали – с тобой ничего не сделают. Это правда?
– Я приношу много денег.
– Очень?
– Я даже не знаю, – чем больше я с ним говорила, тем больше хотелось плакать.
Александр заметил.
– Расскажи мне.
И я рассказала, может быть, не так много, как сейчас, но достаточно, чтобы понять, насколько я «обожаю» свою жизнь. Как я тогда ревела! Оказалось, прежде я ничего не вспоминала из того, что со мной было, и каждый виток моей истории вызывал бурный поток слез.
– Ясно, – остановил Александр. – Нарочно не придумаешь. Посмотри на меня.
Он вытер мне лицо.
– Есть предложение. Я еще молод, богат, женат. То, что случилось между нами, в жизни случается не часто. Если ты согласна быть моей любовницей, я заберу тебя с собой в Питер.
Гречишников был откровенно жесток, но для меня слова его прозвучали рождественской ораторией. Я не могла не согласиться. Он выскочил из номера…
Разбудил меня Майк. Должно быть, я уснула от долгого ожидания и усталости, рухнувших на меня с последними событиями.
– Собирайся, – бросил он.
– Куда?
– Мы уезжаем.
– А Саша?
– Он поручил мне отвезти тебя, а сам приедет послезавтра. В Москве у него еще дела не закончены…
Вот так неожиданно я оказалась в Санкт-Петербурге. Город мне понравился в первый же день, несмотря на сырой воздух и низкое серое небо. Он совсем не походил на Москву: благородная осанка, прекрасное лицо, а в душе ни единого человека из тех, кто меня знал. Ушли в прошлое сутенеры, скользкие гостиничные служащие, невидимые хозяева, похотливые мужики… и женщины – а какие они? – никогда не задумывалась. Бессильные? Глупые? Проклятые? Все равно – прощайте…
Сначала я жила в офисе Александра, на Московском (ирония судьбы – столица не хотела так сразу меня отпускать), но приехал Гречишников и снял мне квартиру на Васильевском острове, накупил туда разной одежды и утвари. В своих запросах я старалась быть скромной, Саша смеялся надо мной. Потом я выяснила, что тратил он гораздо больше:
– Раз в месяц я должен класть деньги на определенный счет в банке, – ответил Гречишников. – Они отказались тебя продать.
– Во сколько я обхожусь?
– Не беспокойся. Не хочу, чтобы ты считала себя обязанной. А с этим «пунктом проката» я как-нибудь разберусь.
– Ты разговаривал с кем? С самим Коровкиным?
– Нет, это был Гумбольдт…
Нежданное счастье. Я не только избавилась от всех своих забот, унижений и ненавистных мне людей – я любила и была любимой. С Сашей мы встречались почти каждый день. Много времени у него отнимала работа. Он занимался автомобильным транспортом, железными дорогами, топливом и еще чем-то… Впрочем, это меня не касалось. Из личных его пристрастий я знала лишь: черный «Джони Уокер», покер и себя. Все выходные он проводил со мной. Брал с собой на вечеринки. Однажды привез в Пески, на это самое место, показал мне готовый фундамент и сказал, что здесь будет наш дом…
Саша не мог дать мне полной свободы, он не мог дать той силы, о которой я всегда мечтала, но когда он был рядом, я ничего не боялась и ничего большего не хотела. Без него – порой скучала от безделья, хотела даже работать куда-нибудь пристроиться, но он запретил. И я развлекалась тем, что ходила с Майком в Мариинку. Я была послушна… Я была счастлива…
Однажды Саша исчез почти на неделю, не предупредив меня. Я стала волноваться. На работе отвечали: он в командировке. Личная его трубка молчала. Домашнего телефона я не знала, но если бы знала – что толку?.. Я ждала неприятностей – они пришли. Ночью, это было уже шестое апреля, то есть, минуло более года со дня нашего знакомства, Саша позвонил:
– Здравствуй, Женя.
– Сашенька, где ты? – я обрадовалась родному голосу и не сразу обратила внимание на его холодную отторженность.
– Только что из Москвы.
Одно слово «Москва» едва не вызвало у меня обморок:
– Что случилось?
– Ты можешь не понять, Женя, но я бизнесмен, я человек слова…
– Что случилось?
– Ты мне больше не принадлежишь.
– То есть? Это они?.. Гумбольдт? Меня хотят вернуть?
– Нет…
– Господи! Сашенька, не оставляй меня! Я не знаю… Пожалуйста, придумай что-нибудь!..
– Женя, ты не въезжаешь! Это не Гумбольдт! Здесь другое. Ты слышишь? Твоего нового хозяина зовут Ян! Слышишь?
– Я не верю.
– Идиотка! Я пришлю машину. Слышишь?
– Я убью себя, Саша, – сказала я и повесила трубку.
Через несколько секунд я услышала звонок на сотовик моего телохранителя. Кинулась к двери, чтобы запереться изнутри, но дверь тут же открылась, и на пороге возник Майк.
– Машина выехала, Жень.
Люди Грека не любили и боялись меня, все, кроме Майка. Этот – настоящий камень. Я сказала:
– Прекрасно. Ставь чайник. Попьем чайку на дорожку, – а у самой все тело дрожит.
– Мне велено не спускать с тебя глаз.
– А в туалет мне можно выйти?
– Нет. Это потерпит.
Неожиданно я успокоилась. Меня вдруг осенило: Саша меня проверяет! Но зачем?
– Пойдем, Майк, вместе чайник ставить.
Он пустил меня вперед. Я прошла на кухню, включила кипятиться воду. И тут пришла идея. Я вынула из холодильника торт: каждые два дня я покупала торт, в надежде, что Саша вот-вот приедет. Потом достала пару склянок с эссенцией пищевого ароматизатора. Чайник вскипел. Заварила пакетик. Майк отказался. «Ну и хорошо», – подумала я. Набухала в чашку капель по двадцать эссенции из каждой склянки и разрезала торт. Майк ничего предосудительного не заметил, да и смотрел-то на меня вполглаза, посчитав достаточной мерой предосторожности свое присутствие. А чай с той гадостью был просто невыносимый. Торт во мне полностью тоже не поместился. Я почувствовала – уже прямо здесь плохеет.
Потом все было просто. Проезжая через Неву, я попросила остановиться. Они не послушались, и я пошла на крайние меры. Сначала ничего не получилось, не помогли и два пальца… зато у Мойки машина тормознула…
Наверное, нет нужды рассказывать, что было дальше. Как я ни умоляла Грека, как ни унижалась перед ним, все впустую. Он проиграл меня в карты Яну Хеллеру. Меня победили покер и честное слово бизнесмена.
Ну а Ян… Ян очень хорошо ко мне относится. По выражению Грека, он слишком высокого мнения обо мне!.. Он много для меня сделал, и я его уважаю… Уважаю, а сама здесь, в нашем доме! Я просто потеряла голову!.. Но это все. Все закончится. И должно оно закончиться хорошо. Ты понимаешь меня, Женя? – девушка ткнула последнюю сигарету в горку пепла и окурков, выросшую в пепельнице за время рассказа.
Лесков потянулся к ее руке.
– Не прикасайся ко мне. Ты разве не понял? Это не трясина, это ад, и я не тонущая, я – утонувшая! Я возвращаюсь с того света – иногда – брожу призраком, творю безобразия, ни о чем после не жалею и с каждым днем становлюсь все спокойнее, а тут… Не напрасно я сюда приехала, но никаких иллюзий не испытываю. Ты удивителен. Ты подарил мне новую меня. Я сохраню эту сказку – даже там, откуда нет выхода. Прощай. Не провожай.
Она вскочила с постели, метнула в Лескова останавливающий жест и вылетела из спальни.
Евгений не шелохнулся. История, как он ни был готов к этому, подрезала его. Но что он испытывал, какие чувства в нем она подняла, до конца осознать не мог. Были здесь и жалость, и восхищение, и отвращение, и страх, но не сводились они воедино. И что делать теперь со всем этим скарбом?..
Внизу хлопнула дверь. Евгений зашевелился, надел брюки и спустился на первый этаж. Заглянул в одну комнату, в другую – Жени не было. Собственно, откуда ей быть, если дверь хлопнула? Подобрал с пола рубашку, накинул ее и босиком выбежал на улицу.
Девушка сидела на корточках у залива. Волны тихо плескались у ее ног. На востоке, отражаясь в воде, расплавленным золотом слепила макушка солнца. Лесков не чувствуя холодного песка побрел к Жене. Безветренно, и заливом не пахнет. Тихонько положил руки на ее плечи. Она склонила голову на бок, потерлась щекой – словно кошка, только не замурлыкала.
– Ты прости меня. Но я права. Наше приключение подошло к концу.
Евгений не отвечал, молча глядел, как поднимается солнце: «Нарисовать его – этот гадский шарик – нарисовать и ослепнуть, и все действительно закончится».
Девушка увидела что-то в песке, наклонилась. Набежавшая волна на какое-то мгновение скрыла находку, зашипела и отступила, оставив на ладони небольшой кусочек светлого, почти прозрачного янтаря, искусно обкатанного водой в виде сердечка.
– Смотри, что делается! – удивилась Женя. – Какая чудная крошка! На! – она протянула солнечное сердечко Лескову. – У меня есть портрет. Не хочу, чтобы у тебя оставались одни воспоминания.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
…Но мне лишь место отыскать,
Где буду глотку полоскать
И не стеснять, и не страдать,
И вовсе ничего не знать…
До дома на Невском Женя добралась сама, не предупредив Грека о своем появлении. Александр позвонил в субботу же вечером:
– Как это понимать?
– Что, мама Саша? – огрызнулась Женя. – Я же стены тебе не обгадила!
– Но ты могла бы предупредить! – психовал обычно сдержанный Александр.
– И забыться в уединении с сотней «кукушек»! Черта с два!
– Ты рисковала!.. Ты меня подставила!..
– Иди на фиг.
Женя положила трубку. В гостиную вплыла на цыпочках Эмма Владиславовна с подносом в руках, уставленным аксессуарами для процедуры чаепития:
– А вот и чаек, Женечка!
– Как это кстати, Эмма Владиславовна! – приветливо улыбнулась девушка.
Воскресенье они встретили добрейшими друзьями, весь день просидели в гостиной. Миледи довязывала свитер своему сыну, листала какой-то журнал, раскладывала пасьянс, смотрела телевизор. Девушка все это время читала Достоевского, и к вечеру обнаружила, что скользит глазами по одной и той же странице. Не удивилась, но стало не по себе.
В ее спальне, на туалетном столике лежал ключ от кабинета Яна. И Женя поняла: если сейчас она его не возьмет, ключ прожжет в столе дырку и упадет на пол. Захлопнула книгу и отправилась на очередную экскурсию по домашнему музею. На этот раз ее культпоход начался и закончился в кабинете.
– Господи, Лесков, ты из меня зомби сделал! – прошептала Женя.
Там она и просидела до полуночи, уставившись на картину, подмечая в ней новые, неведанные ранее черточки и предаваясь сладким грезам того, что было, и того, что никогда уже не случится. В полночь заснула, свернувшись калачиком в огромном кресле…
В понедельник приехал Ян. Женя встретила тевтонца в гостиной. Сон не принес ей отдохновения, только подразнил, да так и оставил с квадратной головой.
– Доброе утро, Женя.
– С приездом.
Поцеловались. По-родственному.
– А мама где?
– Наверное, спит.
– Прекрасно, – Ян плюхнулся в кресло. – Сделай мне, пожалуйста, чашечку кофе и парочку тостов с сыром и ветчинкой.
Женя ушла на кухню, а когда вернулась, застала Яна за телефонным разговором.
– Все, Леонид Степаныч, я понял. Вы как всегда на высоте. Сочтемся. Всего доброго.
Он положил трубку и, очень довольный, приступил к завтраку. Его суровые серые глаза имели обыкновение по-детски светиться после хорошо сделанной игры.
– Что-нибудь не так? – спросила Женя на всякий случай: поводов для этого у нее было предостаточно.
– Все именно «так». А ты сама завтракала?
Девушка замотала головой:
– Не хочу. Нет аппетита.
– Нет, девочка моя, так не годится. Стоит мне только уехать, и ты перестаешь следить за собой, совсем не думаешь о здоровье. Ишь, как исхудала!
– Я и была не пышкой, – усмехнулась она.
– С твоей комплекцией надо сидеть на пирогах Эммы Владиславовны, и все будет в порядке.
Женя похолодела. Этот человек обладал властью над ней и не пользовался ею, он терпим ко всем ее выходкам, он ее опекает и балует, ничего не требуя и даже не прося взамен. Женя боялась его. Она привыкла бояться людей, и уж тем более бескорыстных.
– Ты доверяешь мне, Ян? – осторожно спросила она.
– Что? – Ян едва чашку не выронил.
В ее позе было что-то вызывающее, отчаянное. Хеллеру представилось, что он понял.
– Пойдем, – схватил Женю за руку и стремительно повел в свой кабинет.
Там он усадил ее в кресло, лицом к дубовому бюро. Включил какое-то невидимое устройство – бюро плавно, беззвучно отклеилось от стены и отъехало в сторону. Перед глазами девушки предстал старинный бронированный сейф. На лицевой панели массивного ящика виднелась небольшая вмятина, и торчал обломок какого-то инструмента, выцарапавшего некогда из прочной двери стружку толщиной в дюйм и тщетно застрявшего в ней.
– Это дедовский сейф. Когда-то он принадлежал самому Отто фон Бисмарку. Желающих вскрыть его был не один десяток прославленных личностей. Медвежатники ломали на нем не только голову, но и пальцы. Его пытались взрывать, но внешняя восьмисантиметровая стенка из сверхпрочной, устойчивой к деформации стали, да приличные пластинчатые пружины между внешней и внутренней пятисантиметровой обращали все попытки в неудачу. Комбинаций шифра здесь бесчисленное множество. Как видишь: на дверце сейфа семь окошек с цифрами, но варианты подбора числа в каждом окошке крутятся от нуля до девяноста девяти. На досуге можешь попытаться сосчитать, сколько это получается. А теперь – фокус-покус! Я привожу колесики в движение и выставляю в окошках нужные цифры. Последний шифр, который я использую – твое имя. Каждой букве соответствует порядковое число в алфавите. Хочешь посмотреть, что внутри?
– Ты далеко заходишь, Ян, – испуганно проговорила Женя.
– Но если ты задаешь совершенно глупые вопросы о доверии, как прикажешь тебя понимать? Вот, – он постучал ладонью по сейфу, – за толстой стенкой этого шкафа – моя смерть! Прям как в древнерусском мифе о кощеевом яйце!
– Зачем ты это говоришь? – побледнела девушка.
Ян пожал плечами:
– Ты же хотела знать. Вот – прямой ответ на прямой вопрос…
Она вспыхнула:
– Объясни мне, чего ты хочешь! Ты рисковал большой суммой денег, ты их тратишь на меня уйму!.. Ты… ты… чего ты хочешь?
– Как нормальный человек, – спокойно ответил Ян. – Я хочу счастья.
– Но ведь ты заметил, что я не умею делать то, что тебе нужно. Я фальшива! Не так ли? Как ты собираешься меня использовать?
Ян недовольно поморщился:
– Я могу тебя любить, могу ненавидеть. Могу боготворить тебя, а могу и уничтожить. Вот использовать – не могу. Ты – свободный человек…
– Что? – голос ее стал неестественно высоким. – Я… Я свободна? Что ты говоришь? А эти гориллы, стерегущие каждый мой шаг?..
– Они лишь оберегают тебя. Впрочем, ты мастерски от них отделалась. Видишь – я не сержусь. Я понимаю: каждый человек имеет право на покой. Но впредь попрошу: если захочешь побыть одна, вдали от цивилизации – скажи мне, я закажу вертолет, он отнесет тебя на необитаемый остров…
– Какой остров? – примирительно улыбнулась Женя.
– Если хочешь, я сотворю его специально для тебя. Я сделаю все, что ты прикажешь.
Он легким движением отправил дубовое бюро на место, и шкафчик со множеством ящичков столь же плавно укрыл сейф от глаз человеческих.
– А если бы я не вернулась, Ян? – задумчиво спросила Женя. – Ведь я – «свободна»?
– Знаешь… Я хорошо представляю, что значил для тебя Александр. Но я не ревную. Уверен, ты – так же, как и я – не прощаешь предательство… Я мог бы бояться. Вот его, – Ян указал на портрет Жени, – этого художника. Он имеет несчастье видеть тебя такой, какой вижу я. Но ты далека от него и его искусства. Ты дала ему тысячу долларов, чтобы он бросил работу и на неделю оставил тебя одну в том чертовом доме у залива… Не ревную и не боюсь, но… Потерять тебя? Это беда. Я не знаю, что бы я делал, если бы ты не вернулась.
Женя достала из кармана халата ключ от кабинета и положила его на столик.
– Что-нибудь случилось? – спросил Ян.
– Да. В пользу моей далекости – терпеть не могу этот портрет!
Ян усмехнулся:
– Что же касается твоей «свободы» – я кое-что придумал.
– Расскажи, – заинтересовалась Женя.
– Обязательно. Но для такого торжественного случая я должен привести себя в порядок… И тебя заодно. Собирайся.
– Куда?
– В спортивный комплекс университета путей сообщения. Тренажерные залы, бассейн, сауна, солярий. От великодушного предложения Александра Эмильевича грешно отказываться! Как ты на это смотришь?..
Женя смотрела положительно. И бассейн, и сауна были как нельзя кстати. Сто метров водной полосы и сто градусов выше нуля по Цельсию; это расслабило ее и несколько успокоило.
Они остались только вдвоем – она и Ян. Саша, Майк и другие с какими-то недозрелками – девочками-массажистками заполонили голубой бассейн.
– Ты ведь умеешь это делать? – спросил Ян, укладываясь на жесткое ложе.
Женя кивнула. Сняла купальник и нагая подошла к массажному столику. Какое-то время бледный тевтонец с немым восторгом рассматривал ее упругое загорелое тело, потом отвернулся и подставил свою широкую спину ловким сильным пальцам девушки. Женя начала с мягких вращательных движений, слегка разгоняя кровь, потом ужесточила ритм и плотность соприкосновения. В свои сорок девять лет Ян был не рыхл, он имел завидно мощную натянутую мускулатуру. Жене пришлось немало потрудиться – до боли в суставах – чтобы тело его приобрело положенный густой розовый цвет. Девушка остановилась и снова тихонько пробежалась ребрами ладоней от шейных мышц до лодыжек. Ян ухватил ее запястье и потянул на себя. Это было знакомо: избитая древневосточная вариация на обычную тему. Женя поддалась. Оседлала Яна, обняв ногами торс. Потом склонилась и, нетвердыми сосками коснувшись лопаток хозяина, медленно скользнула по его спине, выводя грудью легкие зигзагообразные линии. Ян истомленно выдохнул и повернулся к ней лицом. Загорелая кожа девушки влажно блестела, стала похожей на атласный шелк. В глазах Жени он увидел покой и ту странную поволоку, подпитывающую желание. Положил руку на ее тонкую шею и притянул к себе. Они слились в поцелуе. Женя ласкала его языком, он отвечал тем же, но над своим бешеным пульсом и жарким дыханием чувствовал ее немую грудь. Простонал и оттолкнул Женю. А она, видя его изможденное мужественное лицо, пылающее тело, не останавливалась.
– Ты не готова, – прошептал он с отчаянием, но успокаивая себя.
Женя погладила могучую мраморную грудь хозяина, где взрывалось и замирало сердце:
– Возьми меня. Тебе станет легче. Я все сделаю как надо: по-настоящему – никакой лжи.
Ян покачал головой:
– По-настоящему? – и усмехнулся. – Я умею ждать, Женя.
– Черт! – она ударила кулачком в его сердце и соскочила со столика.
Теперь в ней заклокотала кровь – бессильной необъяснимой злобой. Женя отвернулась и шагнула к стене, упершись лбом в холодное стекло большого – в человеческий рост – зеркала.
Ян приподнялся на локте и прильнул глазами к ее гладкой грациозной хребетной линии, ее крепким спелоперсиковым ягодицам и красивым, наполненным той мощью, что дает им легкость, балетным ногам. Взор упал в затененное пространство между ними, где сходились линии ее природных складок…
– Я обещал тебе сказать кое-что, – напомнил он.
– Я слушаю, – отозвалась Женя.
– Я решил жениться.
– Поздравляю, – равнодушно проронила девушка, но осеклась: – На ком?
– На тебе.
Женя обернулась:
– Шутишь?
– Нет. И подумай хорошенько – это серьезный шаг.
– Ты такой же глупец, как и все остальные, – вдруг засмеялась она. – Я потерянная! Я разорвана и разбазарена в ваших сделках! Я не существую! У меня и паспорта нет!..
– Есть паспорт, – остановил ее хозяин. – Он лежит в сейфе, том самом. Все честно. Все законно. Ты принадлежишь сама себе. Я сделал Гумбольдту такое предложение, от которого он не смог отказаться.
Женя где-то уже слышала такую фразу. Пытаясь вспомнить – где – и осознать себя свободной, она забралась в глубокие дебри своей темной, перепачканной души. К горлу подкатился ком. Неужели?! И теперь она может делать все?.. Все то, что сочтет нужным?.. Не есть ли это предел, счастье, наконец?.. Нет. Это топь. Из нее не выбраться. Нельзя даже попытаться. Нельзя даже спросить. Это яснее ясного… Ну и пусть! Зато теперь она – человек, существует и имеет вполне определенные права. Конец кабале и позору. Теперь только один мужчина – обожающий и терпящий ее – который когда-нибудь таки подберет к ней ключик. Теперь деньги – проклятые деньги, от которых она не решается отделить себя, цветы, мороженое, а может… и Лондон? Она обязательно осчастливит Яна. Хеллер ее вытащил – они заслуживают друг друга!..
Эти мысли Женю только порадовали, безбрежно и безоблачно, с тем трепетом, с которым, наверное, птица вылетает из клетки в огромный сверкающий золотом и бриллиантами зал… Но было еще что-то, неуловимое, тревожное. Оно предательски подкралось, затруднило дыхание и сползло большущим слизнем по позвоночнику. Женя глянула в зеркало. Отражение всколыхнуло в ней всю страшную желанную палитру: сияние и нега парчового платья, портрет, круглая сине-розовая комната, прозрачный янтарный кусочек ее сердца застывшей слезой в шершавой ладони художника, любовь… Девушка вздрогнула и зажмурилась.
– Я согласна.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Ток в поджилах, день в истоме —
Колесница золотая —
Свет в изломе, тени в доме
Тонут… падают… взлетают…
– А куда мы едем?
Женя знала ответ на свой вопрос, но надеялась, что ошибается.
Жених и невеста выбрали день свадьбы – восемнадцатое июня. Надо было подготовиться, успеть пригласить всех близких, ну и решить связанные с предстоящим торжеством проблемы. Собственно день выбрал Ян, а Жене было все равно: некого приглашать, проблемы отсутствовали и готова она, как пионер, ко всему. Потом, спустя неделю Ян влетел к ней в комнату и радостно сообщил, что, наконец, придумал ей свадебный подарок. До последнего часа это оставалось сюрпризом. И вот во вторник, восьмого июня прикатил «Мерседес» Гречишникова. Теплая компания: Женя, Ян, Грек, его шофер и совершенно незнакомый вальяжный рыхлый тип. Путь на северо-запад по Приморскому шоссе. Спрашивается, куда?
– Ты все увидишь, Женечка, – ответил Хеллер.
Да, она знала. Ошибка исключалась. И сердце ее судорожно, до боли колотилось, лоб покрылся испариной: только бы художника там не оказалось!.. А надо сказать, июнь пришел внезапно. После промозглого, сырого мая на Питер обрушилась неслыханная жара – настоящее лето, каково оно бывает исключительно на югах. Поэтому ипохондрическое состояние единственной женщины, находящейся в салоне «Мерседеса» никем замечено не было. Стекла открыты, кондиционер включен – от духоты изнывают все.
Женя больше ни слова не проронила. Ян вскользь расспросил Грека о каких-то делах с каким-то Ташаном. Грек поблагодарил, сказал, что все удачно закрутилось. А омарошерифообразный незнакомец бросил на девушку два-три неотразимых взгляда, на чем и был задвинут: до места доехал скучающим и неприкаянным.
Наконец машина припарковалась у трехэтажного дома из красного кирпича и белого камня, с полукруглыми эркерами-башенками, крытыми черепицею. Дом окружала оградка в человеческий рост из гранитовых столбов и ажурного вороненого частокола. Участок в полста соток. Место выбрано удачно. Парадный выход навстречу солнцу и заливу. До воды не более ста метров. Прекрасный песчаный пляж. Позади дома густая стена зелени.
– Уже оценил, – празднично ахнул Ян, захлопывая за Женей дверь «Мерседеса». – Чем больше, Саша, я тебя знаю, тем больше уважаю. Посмотрим, что наваял там этот художник.
Дом их встретил резким несущимся скрежетом, незашлифованным боем, сжатым в кулак ритмом, огнем и всей мощью потерявшего управление «Цеппелина». Александр сделал музыку немного тише. На лестницу выскочил в перепачканной краской и силиконовым герметиком робе небритый, взъерошенный Лесков с большой рулеткой в руках. Увидев Гречишникова, облегченно вздохнул:
– А, это вы.
– Уж больно певец у тебя надрывается, – улыбнулся Грек.
– Из этой четверки, Планта я слушаю в последнюю очередь.
– Я же говорил: оригинал! – весело напомнил Грек. – И говорит загадками!
– Ну, здесь-то загадочного ничего нет, – задумчиво молвил Ян, разглядывая розовые своды прихожей и пожимая при этом руку Лескова: – Александр сказал: вы почти завершили.
– Да, осталась одна комнатка на третьем этаже. Денек повожусь, и все.
– Еще Александр сказал, что вы не в состоянии оценить свой труд.
– Наверное. Я слишком увлекся. Если есть такое понятие, как «самоцель», то я окрестил бы свою проблему, как «самопроцесс».
Хеллер понимающе кивнул.
– Я привез человека, он поможет нам в этом. Кстати, знакомьтесь: Олег Тихонович, Евгений.
Лесков пожал влажную холеную ладонь приезжего.
– Ну, займемся делом или чуть позже? – спросил Ян.
– Зачем же откладывать? – пробурчал Олег Тихонович. – Вот только воды бы.
– Начнем с кухни, – предложил Грек. – Возьмем по бутылочке пивка. Там еще «Будвайзер» остался? – спросил он Лескова.
– Я не брал.
– О! А что так?
– Некогда было, – опустив глаза и вертя в руках рулетку, пробормотал Евгений.
Ян усмехнулся и безнадежно покачал головой, следуя за Александром и Олегом Тихоновичем на кухню. Женя растерянно улыбнулась художнику, присоединилась к процессии. Лесков открыл было рот, но тут же захлопнул его и уронил-таки рулетку.
С кухни послышалось пшиканье открываемых бутылок, одобрительные возгласы. Лесков прошел в ванную комнату, ослабил дужки зажимов зеркала, снял его со стены, уложил в ванну. После этого появился на кухне. Олег Тихонович что-то записал в блокнот, отхлебнул из своей бутылки, снова оглядел светлое березовое убранство помещения, почесал затылок, крякнул:
– Идем дальше?
Ян хлопнул Евгения по плечу:
– Ну, веди нас!
– Я бы остался. У меня тут с зеркалом в ванной кое-какие проблемы. От остального… честно скажу – меня подташнивает.
– Заглянем тогда к тебе в ванную.
Ян подошел к панели включателей, угадал нужную кнопку. Олег Тихонович просунул в дверь голову и, щелкая языком в ритм «Калинки-малинки» внимательно все осмотрел.
– Что происходит-то? – тихо спросил Лесков у Гречишникова.
– Продаю хижину.
– Как?
– А вот так! Новый теперь здесь хозяин. Он тебе и заплатит. Или не все равно?
– Да нет, просто странно как-то.
– А я другой себе дом отгрохаю. Будешь снова на меня работать.
– Посмотрим.
– Я же не спрашиваю, – скривил губы Александр.
– А-а… – замялся Лесков. – Конечно, посмотрим… что там…
– Ну что? – обернулся Ян и обхватил талию Жени. – Нравится подарок?
Девушка улыбнулась, чмокнула его в гладковыбритую щеку:
– Ты самый мудрый, самый добрый, самый внимательный и замечательный мужик.
Хеллер рассмеялся, прижал ее к себе.
– Идем дальше, – вздохнул Олег Тихонович.
– Идем? – позвал Хеллер невесту.
– Я лучше ланч забацаю, а то голодная и злая. И вы тоже все хороши скоро будете. Смотри один, тебе понравится.
– Мне уже нравится. Хочешь, тебе помогу?
– Давай. А этот? – она тихонько кивнула на Олега Тихоновича и прошептала в самое ухо Хеллера: – Не обманет?
– Нет. Он не обманет, – Ян подмигнул. – Ну ладно, иди, сваргань чего-нибудь. А я, действительно, лучше посмотрю.
Лесков забрался в ванную, сел на пол и высунул из-за двери ухо. Он услышал, как на кухне зашипело масло, поплюхались на сковородку яйца, услышал, как затарахтел на нарезной доске нож. С другого крыла дома уловил голоса мужчин: закончили осмотр первого этажа, двинулись дальше, вверх по лестнице.
Евгений вскочил, сунул свою голову под кран с холодной водой. Не помогло. Выматерился, плюнул в зеркало, снял с себя грязный комбинезон, тщательно умылся, вытерся и пришел на кухню в одних шортах.
Девушка стояла спиной, – когда захлопнулась дверь, не вздрогнула. Лесков нежно обнял ее за плечи. Женя недовольно поежилась:
– Ты мешаешь мне.
– Нет. Это ты мне мешаешь. Зачем приехала? Совсем свести с ума меня хочешь? Чертовка!
Говорил он нервно, безжалостно… простужено. Нет – она не обращала внимания. Евгений развязал лямки кухонного фартука на ее поясе, опустился на колени и задрал юбку. Она промолчала. Ослабил застежки эластиков, гармошкой спустил белую сетку чулка ниже колена, припал губами и колючим подбородком к стройной загорелой ножке. По ее коже поскакали мурашки. Женя отбросила нож.
– Перестань! Ты слышишь? Отпусти меня!
– Я тебя не держу, – невнятно молвил Евгений, покрывая поцелуями ее бедра.
Женя закрыла глаза:
– Мерзавец! Ты должен оставить меня! Я буду кричать!
– Кричи.
– Но здесь везде звукоизоляция, а дверь закрыта!
– Правильно.
– Женя, прошу тебя! Ян сделал мне предложение. Я буду его женой.
Евгений остервенел, снял с нее трусики:
– Зачем же ты осталась на кухне?
– Потому что дура!
– Вот именно! – Лесков поднялся, развернул ее к себе лицом.
В синих глазах Жени увидел лишь то, что хотел увидеть. Этого она и боялась:
– Изувер!
– Будешь его женой?
– Да.
– Твердо решила?
– Да.
– Но сейчас-то… Сейчас ты моя…
– Да, – в лихорадке отвечала она.
Изувер собрал юбку на талии, поднял Женю и усадил на кухонный стол. Губы смазали помаду. Оба ощутили сладкий розовый вкус. Женя расстегивала его шорты, запуталась в единственной пуговице – на плите клокотала яичница – не глядя, свободной рукой машинально сдвинула сковороду на холодную конфорку. Евгений нашел замок молнии на ее спине. Плечи и грудь девушки обнажились. Она откинулась чуть назад, уперлась ладонями в стол, раздавив рукой помидоры на нарезной доске, и облегченно застонала, почувствовав, как из нее выдавили голод и одиночество.
Мужчина был жесток, и это доставляло удовольствие. Женя вспомнила сегодняшнюю металлическую музыку, обхватила любовника ногами и глубоко вогнала в себя. Оба вскрикнули. Сумасшествие продолжалось.
– Боже, что мы делаем?! – взмолилась она.
– Пропадаем зазря! – ответил Лесков, сильнее ударяясь в нее.
– Я не могу кричать! – прохрипела Женя.
– Везде изоляция. А дверь закрыта.
– Правильно.
И закричала. Дверь более не смущала ее. Могли войти в любой момент, легко… и что с того? Поздно. Ее переполняли боль и сладость. Господи, почему она так долго сопротивлялась?!..
Женя стала задыхаться. Вращая бедрами, отталкивая коленями его руки, попыталась вырваться из стального капкана – тщетно. Силы покинули ее. Она таяла. Глаза закатились, в лицо ударила прохлада и мощным шквалом разбила реальность. Девушка подогнулась в локтях, упала на стол, едва не задев головой стену. Груди задрожали, как половинки рассеченного надвое мармеладного шара. Что-то зашептала. Лесков не услышал: тело его разорвалось внутри нее.
Медленно приходя в себя, Женя перевела затуманенный взор с колыхания синевато-опаловых лепестков газовой плиты на запотевшую поверхность буфетного зеркала. Вытянула руку, протерла ладонью стекло. На нее смотрели глаза дикой кошки, сбитые в клочья волосы и бесстыжий красный след вокруг рта, словно маска арлекина. Хотела дотронуться до своего лица, но промахнулась. Ослабевшая рука упала на грудь, разбив крупные капли. Сама она – мокрое зеркало.
– Что это было? – спросила Женя.
– Один из двух непреложных животных законов, – прислонился к ней Лесков.
Как желанны его объятия. Поцелуй. На губах соль.
– А какой второй?
– Страх…
Минуты через три дверь в кухню отворилась, вошли расцвеченные улыбками Ян и Олег Тихонович. Женя, аккуратненькая, свеженькая сидела за столом в смешном зеленом переднике с изображенным на нем зайцем и большой морковкой. Девушка листала журнал «Интерьер». Окна были открыты нараспашку. Салат и яичница аппетитно сверкали.
– Пришли, – отвлеклась Женя и, открыв холодильник, достала каждому еще по бутылке пива. – Ну как?
– Великолепно! Ты просто молодец! Переберемся из Питера сюда, маме тоже понравится.
– Сколько ты заплатил?
– Но-но! Мы же договорились – это подарок!
– Ах! – покачала головой Женя. – А вам, Олег Тихонович, приглянулась моя хибарка?
– Безусловно, – пробубнил оценщик. – И место прекрасное, и дом хорош, а мастер!.. Я тут столкнулся с неизвестными мне технологиями. Неизвестными мне! Представляете?
– Не очень.
– О-о! – махнул рукой Олег Тихонович, мол: свиньи не летают. – С трудом верю, что все это сделал один человек и за два месяца!..
– Почти все, но меньше, чем за два, – сказал появившийся Александр.
Он открыл дверь ванной. Евгений закручивал последнюю дужку на зеркале.
– Ты все, Жень? С тобой поговорить хотят.
Лесков хмуро кивнул и вышел на волю. Олег Тихонович не преминул снова сунуть ему в руку свою громадную влажную ладонь:
– Впечатляет, впечатляет. Откуда ты взялся, дорогой?
– Я всегда был.
– Мы могли бы договориться?..
– Я работаю один.
– На выгодных условиях.
– Я же говорил: бесполезно! – вставил, смеясь, Хеллер. – Он просто художник! Гений! А гениев нельзя хвалить и нельзя с ними спорить. Они могут обидеться и сделаться врагами. Лучше их обходить стороной!
– Ну, все-таки… – разочарованно уронил Олег Тихонович. – Если бы это на линию поставить!..
– Олег, – пресек его Ян, – ты спец, без вопросов. А парень развлекается. Он – художник!.. Евгений, сегодня день выдачи зарплат. Мы там насчитали около девяти тысяч. «Маленьких вашингтонов», естественно.
Лесков был непроницаем.
– Может, перекусим вместе? – спросил Ян. – Пивка, а?
– Нет, спасибо, я не голоден. Пойду на третий. Возни там до ночи.
– Хозяин-барин, – пожал плечами сероглазый тевтонец.
Мужчины уселись за стол. Женя положила каждому на тарелку по два желтых кружка глазуньи с луком и ветчиной.
– Салат из томатов с зеленью, – добавила она. – Самообслуживание, – и вернулась к своему занятию.
– Слушай, подруга, – поморщился Ян. – А яичница-то не посолена!
Женя ахнула и хлопнула журналом по столу:
– Вот, блин! Увлеклась!
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
…И глазеет луною равнодушное небо,
И вторит отраженьем безучастное море,
Где корабль-привиденье плыл, «Летучий Голландец»
В тот же вечер, около половины шестого, черный «Мерседес» Гречишникова остановился у офиса ЗАО «СевЗапСтройПроект» и высадил Олега Тихоновича.
– Куда? – спросил Грек.
– Ты не передумала? Поедешь со мной в Москву? – потрепал Ян локоны Жени.
– Нет. От столицы меня мутит, – отрезала она.
– Тогда вези меня, Саша, на Петроградку. Надо еще кое с кем встретиться. Пара часов у меня есть.
Шофер перекинул их на улицу Мира, недалеко от Австрийской площади.
– Ладно, ребятки, увидимся в пятницу, – Ян пожал Греку руку, поцеловал на прощание невесту.
– Ты мне позволишь прогуляться по городу? – спросила Женя.
– Мы все здесь себе господа. Привыкай, детка. Только не гуляй одна.
– Слушаюсь, гер Хеллер! – девушка отдала честь.
– К пустой голове… Дурашка!
Ян хлопнул дверью и помахал рукой отъезжающей машине. Он прошел через арку во внутренний дворик, набрал код на входной двери и пешком пробежался до четвертого этажа.
На площадке перевел дух и чертыхнулся на себя:
– Старость не радость, мальчик!
Звонок в квартиру был резким и убийственным, подобно петушиному кукареку на заре. Мертвый глазок на железной двери оживился точкой света и снова погас. Плавно, по маслу скользнули засовы. На пороге стоял Леонид Степаныч. Старик-лягушонок приветливо кивнул гостю. Ян вошел.
– Приехал-таки, – проскрипел засушенный памятник социалистической мифологии.
– Сделка должна состояться двадцать второго числа, через пятнадцать дней. Ташан пригоняет свои танкеры и получает ключ. Гречишников опускает Neste и Лукойл. О дальнейшем мордобое мы узнаем из газет.
– Деньги-то не ахти какие – карманные.
– Хм. Все деньги карманные, оттого и суета. А главное – репутация. Обгадился, с кем не бывает – плати. А Гречишников и без того в последнее время слаб здоровьем, пошатывается. Тяжелая ноша: молодой еще.
– Подножка из-под чужой ноги в твоем стиле.
– Обожаю азартных игроков. Четверть доли на то, что и недели не протянет.
– Я не держу казино. Мне с тобой не тягаться.
– Ой-те Вам, Леонид Степаныч! – стал его подстегивать Ян.
– Не-не, в азартные игры не играю.
– Рисковать боитесь?
– Глупости боюсь, – старик помрачнел. – Самая страшная беда – глупость. Азарт, сам знаешь, с нею об руку ходит. Смотри, как бы и тебя не сожрали.
– Ну-ну, – ухмыльнулся Хеллер, но тут же вспомнил свой скорый, а в итоге – тяжелый подъем по лестнице, вспомнил счастливую улыбку Жени в убегающем от него «Мерседесе».
Сердце защемило.
– У тебя, Янушка, как всегда «флэш-рояль» на руках, но оглядись – может, партнеры-то в дурачка подкидного играют, и козыри нонче не красненькие, а трефовые!
– О чем вы?
– Да, это так, дружок, – отмахнулся Леонид Степаныч. – Я ж – физик убежденный, вот и читаю тебе проповедь…
– Я позвоню.
Ян схватил трубку и набрал номер своего нового загородного дома, но услышал лишь долгие гудки.
– Проблемы? – шушукнул лягушонок.
– Нет.
Хеллер позвонил по другому номеру:
– Василек, прикатывай тарантас. Ага, я на Мира, – положил трубку. – Проблемы будут, если Ташан вдруг передумает. Не хотелось бы денежки возвращать. Не столь накладно, сколь сложно технически.
– Оставим, как есть.
– Э-э, нет! Обвинить банк в нечистоплотности, с таким количеством «опалы»? Нонсенс. Эти наседки без кассы не ставят. Не того полету птицы… Войну, конечно, мы выиграем, но… она нам нужна?
– Не люблю, когда пятки сверкают.
– Зачем же вы согласились?
– Думал – ты не дурак.
– Польстили.
– Н-да. Ну, давай подумаем.
– А я уже придумал.
– Что?
– Слетаю в Москву. Загляну на Новинский бульвар. Проведаю «дядю Сэма».
– Шутишь?
– Отнюдь. Пора бы и американцу подсуетиться. Даром жрет наш хлеб.
– Прошу заметить: на его деньги купленный.
– Не его, а его государства. Думаю, экономика Соединенных Штатов не пошатнется от такого плевка. Так что – гнида – пусть пошевелит пальцами! А то ему, видите ли, пенсия улыбается! Хочет сливки снять и рожу не запачкать. Хрен! Я с ним поговорю, пусть подстегнет Ташана.
– И здесь прикуп знаешь.
– Угу. В три года я сто двадцать умел делить на четыре.
– Помню. Ну, что ж, у меня чаек заварился. Время есть?
– Пока есть.
Леонид Степаныч пошаркал на кухню. Хеллер снова позвонил в Пески – длинные гудки. Хм. Подошел к окну. Василек уже пригнал машину: внизу во дворе стоял одутловатый «Авдюша» сугробом альпийского снега… Альпы. Он обязательно покажет их Жене. Как только завершит сделку – последнюю, больше никаких игр! – они вместе уедут из этой проклятой страны. А там уж весь мир их: горы, море, джунгли. Все, что она захочет – все будет!.. Ему не давала покоя ее счастливая улыбка. Ян опять схватился за телефон:
– Александр, где Женя?
– В Мариинке… кажется…
– Кажется?
– Ну этот… На театральной, около Крюкова канала…
– Кто с ней?
– Пашок.
– Ладно.
Положил трубку. Леонид Степаныч прикатил столик с чаем и армянским коньячком.
– Тебя эта фемина погубит, – убежденно скрипнул старик.
– Все о’кей, я женюсь.
– Значит, уже погубила.
– Восемнадцатого июня. Вы в списке приглашенных.
– Очередной бал теневиков-станочников?
– Нет, – засмеялся Ян. – Только близкие. Стешка прилетит из Австралии. Кротов будет. Джорджи.
– О-о! Давно, давно! Поди, уже в песок превратился.
– Какой песок, слущий! – воскликнул Ян с грузинским акцентом. – Барашка, вино, женщин. Откуда песок?
– Вот вино-то как раз кстати было бы!
– Привезет. Я три амфоры заказал.
– Отрадно. Куда подъезжать?
– А я за вами машину пришлю.
– Восемнадцатого?
– Да. В полдень – ЗАГС. А потом в наш новый дом на Финском заливе.
– Хоть это и не принято – заранее поздравляю. Удивительная девушка. А кто ее родители?
– Она сирота.
– Вот как? А чем занимается?
– Собой. И мной.
– Прелестно. Я всегда говорил, что ум женщине вреден. Если она некрасива, он делает несчастной ее. Если прекрасна – того, кто с ней рядом.
– Но тут вы ошибаетесь, Леонид Степаныч. Женя очень даже не глупа. И я уверен: нашему счастью это не помешает.
– Исключения только подтверждают правила. Неужели любовь? Плохо. Насколько я тебя знал – ты был не увлекающейся натурой. Любой процесс тебя интересовал лишь со стороны, как средство к достижению цели.
– Да. Но целей у меня много. Пока всех достигнешь, еще больше появится. От скуки не умру.
– Что же тогда тебе надо от этой девочки?
– Подумываю о покое.
– А как же честолюбивые замыслы? – удивился лягушонок.
– Мне сорок девять. Здесь я тузом не стал. А там это лишнее. Вес достаточен. Стоит обзавестись семьей.
– Обзаводятся мебелью и домашними животными.
– Я имею долю в пяти игорных домах Европы и России. Недавно открыл собственное казино в Питере. Скоро отхвачу нехилые позиции на топливном рынке, сменю один приятный бизнес на другой. Питер уже у моих ног…
– Не говори так, Янушка! – погрозил пальцем старик.
– …Но сейчас я понимаю, что мне это не нужно!
– Не спеши. Рассуждаешь, как мальчишка.
– Да. Наверное. Мне все время кажется: я упускаю нечто важное. Я сделал свою жизнь игрой и не получил от этого никакого удовольствия.
– Хочешь теперь пожить для других?
– Нет. Для себя. Но не один.
– Что-то у тебя с головой стало. Сюрюмористический педофилизм. И такое ощущение, что это она тебя имеет.
– Кто?
– Твоя раскосая, длинноногая.
Ян усмехнулся:
– Я не обижаюсь.
– А я не обижаю. Ты уверен, что нужен ей?
Тевтонец поднялся:
– Так много я никогда не ставил и никогда так не рисковал. Азарт. О нем я знал только понаслышке и по глазам партнеров.
– Не пугай меня, Янушка.
– Я и сам боюсь. Вот позвоню еще раз и поеду. Пора уже.
Хеллер в третий раз позвонил в Пески. Леонид Степаныч заметил, как посерело лицо гостя.
– Куда ты все время звонишь?
– Домой. Никто не берет трубку.
– Загуляла краля?
– Она в театре!
– А кто тебе нужен?
– Художник.
– Какой?.. А-а, тот самый?
– Да, – Хеллер набрал номер Гречишникова. – Алло, Александр. Это снова я. Твой Пашок вместе с ней на спектакле? Нет? А какого черта? У входа ждет? Позже приехал? Дьявол! Позвони ему, скажи, пусть проверит: сидит ли она в зале. Как? Это ваши проблемы, кретины! Ничего не случилось!
Ян взял себя в руки и аккуратно положил трубку.
– Всегда я говорил, что черти не черные, – заметил Леонид Степаныч. – Кажется, ты не едешь?
– Мне надо кое-что выяснить.
– Тогда еще чаю налью, – зевнул старик. – Покой!.. Покой!.. Опять же, с другой стороны, не советую я тебе надеяться на свое двойное подданство: если ты ввязался, наш брат тебя везде найдет. Птица ты большая, хищная. На прямой бой не выходишь, но и падалью не питаешься. Тебе без кровушки никуда.
Хеллер, позеленевший, словно один из коней Аничкова моста, вернулся на диван.
– Что-то, Леонид Степаныч, колотит меня…
Они еще минут сорок обсуждали проблему с Ташаном. Ян в шутку предложил: может, вообще опустить американского финансиста. Он далек – глух и слеп. А с атташе поделиться третью свободной доли. Лягушонок поперхнулся и снова покачал указательным пальцем – мол, не увлекайся! – но все правильно понял: Ян пытается разогреть себя, вот и несет чепуху. В таком состоянии он его никогда не видел. Что же дальше будет? Ураган?.. Зазвонила сотовая трубка Хеллера.
– Алло! Да. Антракт? Нет? Ты уверен? Это я осел, Грек! А ты не виноват! Что? Ну хорошо, не сочти за труд – подумай. Удачи.
Ян сразу набрал загородный номер – глухо.
– Вот черт!
– Чертовка, – поправил Леонид Степаныч.
Хеллер мертво глянул на него. Старик хихикнул.
– Как сказал классик? Откупори шампанского бутылку иль перечти «Женитьбу Фигаро», послушай Гершвина, а хочешь – заряди свой «люгер». Но я бы на твоем месте поехал в Москву.
– Нет. Теперь успеется. Я ее выловлю. Только как?
– Найми следопыта. Я знаю одного хорошего: бывший гэбист. Дай-ка трубочку!
Ян машинально протянул свой сотовик. Лягушонок оттолкнул его вяленой лапкой, уцепил родной аппарат и стал накручивать диск.
– Алло. Сереженька, здравствуй. Замечательное здоровье. Ага… Но я по делу. Добрый знакомый мой «попал». Помочь надо. Нет, за этим дело не станет: любую сумму. Ах, по тарифу! Тем более. Что? Да, дело житейское. Да. Жду, – его лысая, очкастая голова радужно улыбнулась:
– Через пять минут. Он здесь, недалеко живет.
Действительно, через пять минут раздался звонок в дверь.
Леонид Степаныч впустил эдакого спортивного товарища лет тридцати пяти в замызганной джинсовке, суетливого, с рыжими усиками и невыразительными глазами.
– Сергей, – представился он. – Можете не называться.
– Как же мы будем общаться?
– Как обычно. По-русски, Ян Карлович.
– Ясно, – возникшие было сомнения относительно компетенции молодого человека развеялись. – Присядем.
– Я слушаю.
– Нужно найти девушку, – Ян достал бумажник, выудил цветную фотографию. – Вот эту.
Сергей открыл блокнот, достал обкусанную совдеповскую авторучку:
– Имя.
– Евгения Владимировна Ромашенкова.
– Возраст.
– Двадцать девять лет.
– Родилась.
– В Николаевске-на-Амуре.
– Адрес.
– Без прописки.
– Ах, вот как! Поподробнее.
– Моя содержанка.
– Какие места она обычно посещает?
– Да никаких… Я знаю: она танцует неплохо, но…
– Могла уехать из города?
– Черт ее знает. Есть хата между Песками и Зеленой Рощей. Я покажу дорогу.
– Подозрения.
– Некий художник, очень талантливый.
– Имя.
– Евгений… Секунду, – Ян тяжело вздохнул и в очередной раз позвонил Греку: – Хеллер. Слушай, дорогой, как у твоего художника фамилия? Ба! Вот номер! – Ян повернулся к Сергею: – Не знает.
– Спросите адрес.
– А где он живет? Не известно?
– Откуда вообще взялся этот художник?
– А откуда он взялся? Угу… Угу… Чудеса в решете! Александр, ты меня поражаешь! Ну ладно, пока. Я скоро объявлюсь. Держи пресс, – он вернулся к Сергею: – Значит, так. Было дело – наша Женя в Мойку с моста бросилась, этот художник ее вытащил. А мой знакомый ему в награду работу предложил. Вот такая мелодрама.
– С какого моста?
– Где-то с Васильевским островом… Там Лейтенанта Шмидта…
– С Поцелуева.
– Наверное.
– Когда это было?
– В апреле.
– Я спрашиваю: во сколько?
– Ночью. Утром. Часов в пять, он сказал.
– Хорошо. Опишите-ка мне вашего художника.
– Ну что ж… Девушка где-то метр семьдесят… пять… Он повыше будет. Шатен. Худой такой. На вид – лет тридцать. Лицо… неприметное. Глаза очень внимательные, острые, черные. А сам такой мягкий, стеснительный.
– Мало Иосиф Виссарионович интеллигенцией занимался, – вставил лягушонок. – Как нонче Федеральной Службе Быта быть?
– Ну я же здесь, – не глядя на него, буркнул Сергей. – Где последний раз видели вашу девушку?
– Около Мариинки.
– Давно?
– В шесть пятнадцать.
– Н-да. Что там в Песках?
– Я несколько раз звонил. Никто не берет трубку. А он там один: и за работника и за сторожа.
– Отлично. Пятьсот долларов в день, плюс расходы на дорогу, средства связи, гостиницы и всякую рутину. Дело срочное, так понимаю?
– В пятницу я обещал вернуться из Москвы.
– Тогда семьсот в день.
– Найдете?
– Дело нелегкое, но неудач у нашей конторы пока не было. Я выслеживаю дичь. Вы пересылаете на счет деньги и загоняете ее. В случае поражения я найду этого художника позже и сниму перед ним шляпу.
– Лучше найдите сейчас, – процедил Хеллер. – И не вспугните. Они нужны мне оба, вместе… если я, конечно, не ошибаюсь.
– По рукам.
Ян дал Сергею визитку.
– Ваш телефон я знаю… хотя, говорить такое – не в моих правилах, – подмигнул следопыт.
Тевтонец не успел поймать его взгляд, повис на стриженом плотном затылке, потом вовсе соскользнул. Леонид Степаныч проводил Сергея, а когда вернулся, застал гостя в блаженном, полном тишины состоянии духа.
– Земная женщина, – развел руками старик.
– Сука, – согласился Ян.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
…Как эта ночь тесна!
Нам не до сна с тобой.
Больше не надо лгать,
Прятать свое лицо.
С утреннею росой
Новый настанет день,
Величиной с любовь…
Женя, как можно догадаться, не пошла на балет. Александр обеспечил ей место в бельэтаже на «Дон-Кихота» и уехал, пообещав прислать Пашка. А она с чистой совестью, купив себе орехово-шоколадное мороженое, прежде чем идти обусловленным маршрутом, решила прогуляться до Поцелуева моста. Где минут пять и простояла, пытаясь в подробностях восстановить ту роковую ночь.
Жене показалось странным, что помнила она ее обрывками и довольно нечеткими. Но Лесков впечатлил с первого взгляда: ожидала увидеть в воде Майка или кого другого из телохранителей, а увидела незнакомого человека… Что почувствовала тогда, скорее – проявила? Несказанную злобу. Наверное, из-за отсутствия своей жизни, из-за трясины, в которой с каждым новым человеком все больше и больше вязнешь и сильнее отвращаешься от себя и мира. Стоит ли думать об этом сейчас?
Одолевало множество противоречивых чувств. Самым главным и противоречащим себе был страх. Все равно – как крутить в руках дорогое жемчужное ожерелье и бояться, что кто-нибудь его увидит, бояться, что вот-вот порвется нить, связующая капли жемчуга и, если даже этого не случится, то бояться, что сокровище окажется не настоящим, а всего лишь искусной подделкой. Но все это лирика, что до прозы жизни – ее страшила любая мысль и каждый шаг…
Женя огляделась. На углу Мойки и Крюкова канала тарахтел компрессор: велись дорожные работы. Грязные, буроватые стены Новой Голландии были похожи на тюрьму. Девушка пошла прочь. Свернула на Декабристов и вдоль умиротворенного канала Грибоедова вышла на Сенную площадь, где привычным пейзажем царили рынок, бардак и суета. С лотка пиратской аудиопродукции чересчур оригинально звучало «Bouree» [8] , поддерживаемое рыхлым ансамблем и свингованной сипловатой флейтой Яна Андерсона. Мелодия привязалась к девушке, и под нее Женя два раза рисковала быть задавленной. Сначала – у переулка Гривцова, где южнолицые торгаши, возмущая в кои-то веки солнечный воздух Питера криком и нервной жестикуляцией, брали на абордаж чей-то ларек. Потом – в пересечении Садовой и гороховой, где почему-то был неисправен светофор, и на девушку едва не наехал «Чероки» цвета детской неожиданности. Но, благополучно миновав все коллизии, она дошла до невысокого серого здания с огромной ярко-желтой надписью «Приют Комедианта».
Женя купила билет и все же поинтересовалась на вахте:
– А Павел Ивановский здесь?
– Да-да, он сегодня играет, – ответил через окошко замусоленный мужчинка.
В фойе девушка приобрела программку и поднялась на относительно просторную площадку второго этажа. Было уже без пяти семь, зрителей приглашали в зал.
Маленький аккуратненький театрик, абсолютно низкая сцена, если не отсутствие ее как таковой, Макс Фриш, «Санта-Крус», совсем молодые актеры. В тот день, наверное, много совпало – как откровение, тонко и точно угаданное какой-то неведомой силой ее состояние: Женя плакала. Это удивительно светлая история, но все ее герои были обречены, обречены на самих себя. Красавец, морской бродяга Пелегрин – любимая, но одинокая Эльвира – барон, пленник безысходной тоски-мечты. Противопоставление заснеженной земли, старинного надежного замка бескрайнему соленому морю, обветренному паруснику, и звено, их соединяющее: горько-сладкое вино, далекие песни неувиденных стран, любовь…
Женя не верила ни в какие приметы, мистическое начало было ей чуждо. Так во что же превратил ее Лесков? Все ее существо, строившееся на здравом смысле, остроте чувств или будь то чем угодно, соприкоснувшись с таинственным, неким магическим, «ненормальным», запротестовало и смешалось в себе. Евгений не мог знать заранее, какой будет спектакль, он отправил ее сюда наудачу. И девушка впервые задумалась о существовании потусторонних сил; в такие совпадения поверить она не могла.
По окончании спектакля, спешно сбежала по ступенькам в холл. Евгения не было. Вернуться наверх было неловко, она решила еще подождать.
Народ постепенно уходил из театра. Некоторые оставались. Потом начали спускаться актеры. Три экстравагантные девочки и юноша обступили капитана Пелегрина. Женя увидела, что в жизни он намного ниже ростом и ничуть не похож на отчаянного любовника или морского волка. Он был мил и скромно слажен. Мимо промчался барон, с лестницы его кто-то окликнул:
– Дима!
– Щас! – обернулся он, и едва не сбив Женю с ног, выскочил на улицу.
Появился молодой человек, игравший роль Педро, моряка-поэта. Наверное, он до сих пор оставался в образе, потому что взмахнул рукой характерным для Педро жестом, и девушка сразу его узнала. Человек обладал довольно плотной, собранной фигурой, блистал обаятельной мягкой улыбкой и большими глазами венецианского мавра. Он с кем-то заговорил, длинным и волосатым. Потом длинный поднялся наверх, и больше Женя его не видела.
– Женька, молодец! – услышала девушка и оглянулась.
Какая-то женщина чмокнула в румяную щечку ушастика, игравшего дворецкого в доме барона. Женя улыбнулась и вернулась глазами к Педро. Тот затерялся в толчее, но она скоро нашла его и, наконец, решилась:
– Привет.
– Привет, – моргнув, ответил Педро.
– Я давно не была в театре.
Актер был явно озадачен, но, пытаясь сохранить непонятно для чего нужное ему равновесие, деликатно приподнял брови.
Женя показала программку:
– Вы – Павел Ивановский. А я – Женя.
– Очень приятно, – шаркнул Павел и, наверное, подумал: «Какую глупость она еще скажет?»
– Я здесь… – девушка тоже выглядела растерянной. – Мне Евгений сказал вас найти… Лесков.
– Вот номер, – пробасил Павел. – Так что ж вы сразу-то?.. Как вас? Тоже Женя? А что случилось?
– Это очень длинно рассказывать. Женя просил вас приглядеть за мной, пока он не придет. Вы не волнуйтесь: он обязательно придет.
– Ну да. Только этот чертов маляр и может такое придумать. Когда он появится?
Девушка пожала плечами, но к ее облегчению, Павел не был раздражен, только обескуражен. В театр вернулся барон и обиженно развел перед Ивановским руками:
– Не догнал!
– Слышь, – потеребил губу Павел. – Лесков объявился.
– И что?
– Да так. Вот, знакомься – Женя.
Барон приветливо кивнул:
– Дмитрий.
Девушка взглянула на его продолговатое, утонченное лицо:
– Ваш герой похож на меня.
– Это хорошо?
– Не знаю.
– Дима, – оборвал их Павел. – Художник тут обязал меня. Не знаю даже. Что-то там у него сложное… Вот, вечер у меня с девушкой, – он указал на Женю.
– Поздравляю! – смеясь и по-олимпийски пожимая ему руку, отчеканил Дмитрий.
– Хвала всевышнему, серьезных планов у меня нет. А какие у вас, загадочная вы моя?
– Дожидаюсь Женю. Он прислал меня только затем, чтобы ничего не случилось.
– Чего не случилось?
– Плохого чего-нибудь.
– Прислал, – задумчиво пробормотал Дмитрий. – Бандероль! Ну что ж, мы с Маринкой тогда пойдем, а? Ты как, Паша?
– Поручение оформлено на меня, – с театральной тоской изрек Ивановский. – Впрочем, провести какую-то часть жизни в компании с прелестным созданием… Вы только не обижайтесь, Женя, но… Все же это как-то необычно.
– Я понимаю.
– Что делать будем? Хотите, театр покажу? Я бы пригласил вас в кафе, но наш рэ`эсторан уж упокоился с миром, а из «Приюта», как я понял, ни-ни?
– Честно говоря, я голодна. Мы можем купить что-нибудь в магазине. Здесь есть «24 часа»?
Павел кашлянул. Дмитрий крякнул.
– По-моему, у нас остались пряники к чаю, – прищурившись, напомнил последний.
– Две штуки, – цыкнул Паша. – Пролет. А еще там сахару на полчашки.
Женя улыбнулась, открыла сумочку и достала из кошелька бумажек сотни на две:
– Дима, если вас не затруднит.
Барон совсем вытянулся в лице и, безмолвно протестуя, замахал ладонями.
– Поверьте, так надо, – спокойно ответила на это Женя. – В конце концов, я сегодня получила огромное удовольствие, а теперь еще и свалилась вам на голову.
Павел тяжело вздохнул, но кивнул Диме:
– Уж когда-когда, а сегодня мы это заслужили.
– Подождите, Дима, – вдруг сообразила Женя. – Нас ведь не только трое.
– Полноте, – отбрыкнулся барон. – Хватит!
– У меня только доллары, – продолжала девушка, – может, можно найти?..
– Спроси у Минкова, если он еще здесь, – смело сказал Павел и добавил досадливо-восторженно: – Эх!
Кроме них троих оказалось еще четверо голодных. Остальные актеры просочились по своим домам и делам. Ребята сообразили в одном из помещений столик с легкой Жениной руки. Среди присутствующих были еще две девушки, они поначалу отнеслись к меценатке грубовато, с предубеждением, явно оценивая, но потом, увидев, что она практически не пьет, почему-то успокоились. Пелегрин, почитай, все время спал, наверное совсем вымотался. Юноша, которого Жене никак не представили, постоянно что-то наигрывал на гитаре, лишь изредка протягивая руку к фарфоровой чашке и затягиваясь дымком. А Паша очень много говорил. И с Женей, и с другими, и даже сам с собой. Он строил утопические проекты будущего, окунался с головой в прошлое, обсуждал с Димой предстоящую экспедицию на Кольский полуостров, высказывал забавные и удивительные суждения о Милораде Павиче и его «Хазарском словаре», а потом обязательно брякал какой-нибудь удачный анекдот. Жене все это ужасно нравилось, ей казалось, она целую вечность не сталкивалась ни с чем подобным. Это переворачивало все, к чему она привыкла. И девушка бессознательно радовалась каждой свежей мысли, как младенец радуется новой игрушке… Какой же Лесков молодец!..
– Вы очень разные, но в чем-то безумно похожи… Я поняла: с вами интересно! – сказала она.
– Это комплимент? – спросил Паша.
– Данность, – пожала плечами Женя. – Я надолго запомню сегодняшний вечер.
– А что тут особенного? Разве что – нечасто у нас такой пир, а в остальном…
– И сейчас ты мне скажешь, как Крейз Мартину Идену, что на таких условиях готов устраивать мне подобные вечера каждую неделю.
Ивановский засмеялся:
– Да, недурно.
– А Женя часто у вас бывает?
– Раньше пересекались. На Ладогу вместе ездили. А вот последние полгода, что-то я и не помню… Хотя, я сам забегался…
– Последние полгода у Жени были трудности.
– Да? Они всегда были.
– И он решал их прыжками с набережной?
– Шутишь? А сейчас, что он?..
– Сейчас он хочет меня удивить. Глупенький. Все гораздо проще…
– Ну-у! – пропел Паша. – За высокие материи!
Они чокнулись и опрокинули по рюмочке «божественной смирновской». Это подало повод спеть великую песню о морозе, коне и ревнивой жене. Женя пела тихо и из ряда вон плохо, но в общем хоре она себя зауважала.
Так замечательно они провели время почти до половины двенадцатого, когда дверь распахнулась, и на пороге появился Евгений в бежевом летнем костюмчике, лакированных туфлях, опрятный, довольный и с коробкой пива в руках.
– О-о! – разорвал немую сцену Дима. – Водка без пива – деньги на ветер!
– Это на утро, ребята! – объяснил под аплодисменты Лесков. – Две бутылки подарил на вахту.
Паша значительно посмотрел на подружку художника и как попугай закачал телом:
– Вон оно как живут утопленники!
– Штрафную художнику! – подал голос Пелегрин.
– Нет, – твердо сказал Лесков. – Никак невозможно.
Паша разлил белую по таре, обойдя стороной рюмку своей подопечной:
– За совпадение возможностей с желаниями.
Лесков коснулся губами виска Жени и прошептал в самое ухо:
– Как тебе здесь?
– Спасибо, – тихо ответила она. – Замечательный подарок!
– Ты хочешь остаться?
– Я подчиняюсь только тебе.
Он взял ее легкую руку и потянул на себя. Ивановский второй раз за сегодня опешил:
– У Лукоморья дуб зеленый!.. Я не успел к ней привыкнуть!
– Спасибо вам, ребята, что приютили мое сокровище. Счастливо.
Женя помахала им рукой:
– Увидимся.
– Всегда рады, – тепло, но полусонно молвил юноша с гитарой.
Когда за влюбленной парочкой закрылась дверь, Паша очертил в воздухе крест:
– Венчается раб божий Евгений и раба божия Евгения. Аминь!
– Погоди-ка, – очнулась одна из девушек. – А что его дикая собака Динго?
– Если художник так беспечен, – ответил Паша, – то и с ДСД все в порядке.
Дмитрий улыбнулся:
– Забудь, Марина…
…Такси примчало их на Дворцовую набережную, к причалу, недалеко от Эрмитажа. Евгений вывел Женю из машины и расплатился с шофером.
В разгар белых ночей, в волшебный полуночный час Нева замирает, и есть мгновения – совсем недолго – она недвижима и способна творить чудеса. По преданию, человек непосвященный, оказавшийся в это время на берегу и проронивший в ее воды самое заветное свое желание, обязывает реку на его исполнение. Очнувшиеся волны подхватывают сказанные слова и уносят их – к морю, к небу?.. – куда угодно. Человек не силен в этих загадках. Великое провидение само отыщет достойные пути.
Женя, завороженная, прислонилась к прохладной каменной ограде Невы. Незлобивый ветерок всколыхнул ее волосы. У причала стоял небольшой приплюснутый, словно продолговатая таблетка, теплоходик. Колонны Васильевской стрелки, незажженными свечами подпирая небо, дожидались полуночи. Петропавловский шпиль заточенным перстом предостережения указывал на огромное облако севера. Чешуйки ряби Невы сливались друг с другом, растворялись в общем потоке; казалось, вода умеряет течение. Девушка обернулась. Евгений положил руку на ее плечо:
– Смотри внимательнее!
Крикнула чайка. Засеребрился скелет Троицкого моста. Рябь дробилась, превращалась в пыль и, измельчаясь до невозможного, застывала покойным темным зеркалом от берега до берега.
– Чего ты хочешь? – спросила Женя.
– Сегодня исполняются твои желания, – ответил Лесков.
– Желания? Я уже пропала. Чего мне еще желать? Чтобы это не кончалось – ты и я…
Евгений улыбнулся и указал девушке на циферблат своих часов. Секундная стрелка отправилась в путешествие следующего дня.
– Мы тоже идем странствовать, – он взял Женю под руку. – Ты не любишь цветы – театр действительно лучше: то, что ты там узнала и пережила, никогда не завянет. Ты не любишь гостиницы – вот наш водоплавающий дом, – он подвел ее к причалу.
Женя засмеялась:
– Вот почему ты спрашивал о морской болезни!
Их поджидал высокий доброжелательный человек:
– Опаздываем.
– Прошу прощения, капитан, – извинился Евгений, – надо было закончить очень важное дело.
– Я так и подумал, – ответил капитан, приглядываясь к спутнице пассажира. – Доброй ночи, леди. Вы готовы к путешествию?
– Безусловно. Но я незнакома с маршрутом.
– Ваш супруг не ставил перед нами конкретных задач, кроме одной – бороздить водные просторы всю ночь. Будут дополнительные указания?
– Мы поплаваем в заливе?
– Путешествие на «Пилигриме» предполагает выход в Невскую губу. Вы хотите идти за Кронштадт?
Лесков тревожно кивнул на Женю:
– Не заблудимся?
Девушка прыснула.
– Мы всецело полагаемся на вас, капитан! – торжественно произнес Евгений и, взошедши на борт, подал руку девушке.
Капитан отдал честь, скомандовал человеку на берегу:
– Петя! Отдать швартовы! – и засмеялся.
Заклокотал двигатель, палубу стянуло зудом вибрации. «Пилигрим» отчалил от набережной.
Салон теплоходика был очень уютный, с небольшим баром и двумя рядами аккуратненьких деревянных столиков и скамеечек. На одном из столиков красовались «Франджелико», два хрустальных бокала, гора экзотических фруктов и причудливые сливочные десерты.
– Остается лишь спеть гимн сладкоежек, – заметила Женя.
– Голодная?
– Нет.
– Холодильник в баре не пуст. Микроволновка есть.
Женя взяла его за руку. В глазах светилось небо, далекое, не питерское. Лесков погладил ее щеку. От девушки веяло крепким табачным дымом и горьковатым ароматом «Кензо».
– Тебе хорошо эти духи.
– Но плохо то, что я много курю, правда?
Евгений не ответил.
– Я устаю от срывов. Сигареты успокаивают.
– Надо менять ситуацию.
– Как?
– Не знаю. Давай уедем.
– Куда?
– Куда скажешь.
– Это невозможно. Пожалуйста, не говори об этом, – она приложила пальцы к его губам. – Если судьба подарила мне тебя, значит, это не так просто. Все мои прежние мечты меркнут перед нашей сказкой. Я не смею отказываться от встреч с тобой, – девушка прижалась к нему. – Но и безумие – пускать все по течению…
– Ты хотела быть сильной. Но сила – это только способность на поступок!..
– Не говори ничего, прошу!
– Нет, подожди! Ты слыхала о людях, которых зовет небо, море, горы?.. Черт возьми, художника зовет идея, поиск, желание сообщить бездыханному полотну свои чувства, свои мысли и познать себя, вновь столкнуться со своим «я» лицом к лицу. Но случается и самое простое – самое сложное, когда человека зовет человек. Понимаешь ли ты? Я не о твоем теле, которое способно свести с ума кого угодно. Я о тебе самой, о твоей простоте и загадке, о той силе, что ты прячешь, словно боишься солгать собственным глазам!.. Знаешь, как это называется?
– Женя!.. – девушка отпрянула.
– От меня в воду не прыгнешь. Это я тебе обещаю.
Сейчас в нем не сидел тот утренний зверь, новый взгляд художника напугал ее куда больше.
– Остановись. Ты словно мясо отделяешь от косточек! – с дрожью прошептала она.
– Ненормальная. Я хочу согреть тебя, а ты больше мерзнешь, – он снова обнял ее и, стараясь унять белку в колесе ее сердца, ласково провел ладонями по спине.
Женя невольно прогнулась.
– Что ты со мной, дурой, сделал? Зачем я целовала твои развратные губы? Зачем я вообще к тебе приехала, сатана?
– Взгляни на это с другой стороны, – усмехнулся Лесков.
– С какой?
– Не со стороны вопроса.
Женя стукнула его кулаком в грудь:
– А потому что я идиотка!
Лесков усадил девушку за стол, надломил один персик, убрал косточку, а мякоть запихал Жене в рот:
– Помнишь, что ты сказала в первую нашу ночь в «комнате любви»?
У девушки удивленно расширились глаза – персик мешал ответить – она что-то прошушукала.
– Я знаю, что не помнишь. Сначала я подумал: ты потеряла сознание, но это было не совсем так. Ты очень страшно закричала; я почувствовал, как ослабело твое тело, как оно сползает вниз по стене. Я успел тебя подхватить и осторожно опустил на ковер. Ты была прекрасна: глаза открытые, но ничего не видели, а губы хрипло шептали: «Любимый… Любимый…» И я приближался к тебе; мой мозг, мое тело пронзила сладость. Я увидел нечто похожее на коротенький сон: много света, который не слепил глаза.
Лесков говорил все это, глядя на нее в упор. Загипнотизированная им Женя расправилась с персиком, на губах влажно заблестел сок. Художник содрал кожуру с банана и протянул сладкий золотистый рогалик ко рту девушки. Она собралась ухватить его зубами, но Евгений отдернул руку с недовольным видом, погрозил бананом, после чего позволил ей не спеша лизнуть языком. Медовая мякоть оставила янтарный след на ее лице. Наконец, Лесков сжалился над ней и отдал банан на растерзание зубкам.
– Это случалось довольно часто, и в доме, и на пляже… – продолжал Евгений. – А помнишь, мы носились нагишом по песку друг за дружкой? Помнишь, чем это закончилось? Думаю, что нет. В тебе обнаружилась способность буквально вываливаться из мирового пространства. Я не приписываю это открытие себе, потому как не знаю, случалось ли это раньше. Но с тобой и я стал вываливаться. В тот раз я очнулся в камышах. Наши вспененные тела были соединены. Ты спала. Я отнес тебя в дом. А когда ты проснулась – не сказала о том, что произошло, ни слова. Я тоже промолчал.
– Почему?
– Не знаю. Я знаю, что теперь должен был это сказать.
– Значит, я всегда называла тебя любимым?
– Часто.
– Я помню то, что ты говорил мне, и твои слова действовали на меня заклинательно. Я принимала это как любовную игру. Мне даже казалось: еще немного тебя послушать – и испытаю оргазм. А ты… ты отвечал на мои беспамятные состояния? Господи! Бедное мое подсознание, чего там только нет, чего я не знаю!
– Теперь ты понимаешь, я не могу говорить однозначно: либо об остроте, либо о глубине моих чувств. Во мне нет желания, во мне – зависимость. Твоя жизнь – моя! Мой наркотик!
Женя, прикрыв глаза, склонилась к нему. Соприкоснулись губы.
– Ты и говоришь, что пишешь! – выдохнула девушка. – Дорого бы я отдала, чтобы побыть холстом в твоих руках, чтобы почувствовать энергию, лучи твоей кисти, наполниться смыслом…
Лесков поднялся и стал завешивать шторками все окна салона. Потом вернулся к Жене, ничего не говоря, расстегнул молнию на ее платье и медленно – как охотник, крадучись в джунглях, раздвигает заросли – открыл ее спину. Воздушное платье легко поддавалось. Женя сняла клипсы. Лесков вывел ее из-за стола на середину салона. Платье упало к ногам.
Женя являла собой образец послушания, и это доставляло ей удовольствие. Она, затаив дыхание, чувствовала, как он освобождает ее от пояса. Как не спеша, легко щекоча ей ноги, скатываются чулки. Как, наконец, спадает с нее последний лоскут кружев – совсем никчемная окова. Вдох. Но художник не коснулся ни святая святых, ни вообще тела. Отстранился. Отошел. Женя услышала шорох его одежды, после – странные звуки: треск, капельное журчание, взбалтывание какой-то жидкости.
Лесков появился перед Женей совсем голый, с багряными ладонями и полным бокалом сока еще более густого цвета. Девушка ощутила прохладный, терпкий запах граната. Обмакнув палец в импровизированной краске, художник провел кривую по живому полотну: от века по скулам, шее, скользнув по ключицам к солнечному сплетению и под грудь. Прикосновение было очень мягким, нежным, но то ли кровавый цвет, то ли замысел художника заставил Женю вскрикнуть, как от болезненной пытки, когда наточенной сталью режут кожный покрой на ремешки. Лесков показал свою руку, словно объясняя: «Теперь это другая кровь!» – и вновь принялся рисовать на ее теле загадочные линии и узоры. Женя чувствовала, как ревут неведомые реки, срываясь водопадом с базальтовых скал, как хищное зверье тешится в диких лесах, как буря крошит мачты кораблей, как весна растлевает души… Художник приготовил еще один бокал сока. Теперь это не было кровью. Это были сверкающие холодные камни: шпинель, карбункулы, рубины. Евгений делал из нее несметное сокровище земли, коралловую диадему, извечные скорбь и радость – деньги. Потом работа его стала мягче, тоньше. На кожу девушки посыпались темные лепестки гвоздик, алые маковые бутоны, розовые цветки. Но их запах одурманивал, затмевал разум, будил знойные первобытные чувства. Чем кропотливее и тише работал художник, тем бешенее колотилось сердце, разнося по телу ее настоящую кровь, обостряя желание и превращая негу в муку. Лесков коснулся ее груди, окаменевшей, напряженной в последнем остатке воли, и остановился. Пустой бокал закатился под столик.
Послушание дошло до предела, и Женя видела: ее возлюбленный полон того же горящего желания. Каждое мгновение работы прибавляло ему тех же мук. Худое тело Евгения было испещрено каплями брызг от гранатовой краски. Одна капля стекла по налитому кремневому стволу его мужества, образовав стройный рисунок, похожий на стрелу. Лесков не отрываясь разглядывал новое творение: причудливо татуированную страсть – дикая, но не от жизни; выдуманная, но сама жизнь. Глаза их встретились…
Не успела Женя опомниться, Евгений поднял ее над собой. Она ухватилась за его плечи и извивалась, как змея, всем телом, до боли в вертлугах разводила бедра, полностью открывая себя вожделенной стреле. Но Евгений не торопился – изнывая сам, лишь только касался, ласкал вокруг исступленного преддверия…
Истязание длилось недолго. Мужчина почувствовал содрогание девушки, ощутил неодолимую слабость, поразившую его костяк изнутри, увидел, как меркнет свет, и опустил свое дикое создание на стрелу. Уже теряясь, он уложил бездыханную Женю на стол и все еще пронзал ее…
Сезон белых ночей. Время странной любви. «Пилигрим» уносил обоих в покойные безбрежные пространства неземной стихии, подальше от огней города.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
От широкого лба
Подложила судьба
За ворот мне город.
Из гранитовых скал,
Искривленных зеркал, —
Достойный, пристойный
Нахал…
Время плавания закончилось несколько позже полудня. Евгений и Евгения, довольные и чистенькие после душа, сошли на берег. Капитан проводил их взглядом, устало вздохнул и отдал обычное распоряжение:
– Петь! Приведи салон в порядок.
Через секунду-другую он услышал удивленный присвист своего сервера. Капитан усмехнулся, но все же заглянул в салон. Там было чисто, только мусорный бачок занят шкурками от фруктов и бутылкой из-под ликера…
– Куда мы сейчас? – спросила Женя.
– На край света. Ты готова?
Лесков говорил всерьез. Женя отвернулась.
– Ладно, – жестом фокусника он извлек из воздуха нечто блеснувшее полярной звездой и коснулся шеи девушки.
– Что это? Боже!..
Художник смастерил для подарка возлюбленной серебряную оправу и сплел цепочку. Янтарное сердце свободно перекатывалось в ажурных зарослях металла и солнечно подмигивало из своей клетки.
– Амулет. Заговоренный. Пока носишь его – меня не покинешь.
Девушка улыбнулась, но уголки губ болезненно дрогнули:
– Если бы время стало.
– У нас есть еще день, – обнял ее Лесков. – Я хочу показать тебе свой город. Не возражаешь?
Он привел ее к «Спасу на Крови», большой исторической игрушке. Рядом с собором располагалось уличное кафе с площадкой, утыканной зонтиками-грибочками. В углу, между ночным фонарем и урной, небольшой оркестрик играл Григовскую «Песню Сольвейг». Музыкантов было всего четверо: долговязый флейтист, виолончелист, полностью скрытый своим инструментом, гитарист в темных очках и вдохновенный перкуссионист с двумя барабанчиками и хай-хэтом. Но что они творили!.. Вокруг собралось великое множество народу, как видно – в основном иностранцы, и столики кафе почти все были заняты.
Евгений усадил спутницу под одним из тентов:
– Что будешь?
– Мороженое, – не отрываясь от музыки, уронила девушка, – с орешками.
Она помнила, как было у Грига, и никогда бы не подумала, что эту довольно бедно оркестрованную пьесу возможно сыграть столь малочисленным составом, не утратив ни ее красоты, ни драматизма. Ансамбль очаровал Женю.
– Нравится? – тихо спросил Лесков, вернувшись с мороженым.
– Чудно. Ты их знаешь?
– Да. Вон тот мальчик с гитарой – их отец-вдохновитель, Валька-Гомер.
– Почему «Гомер»?
– Потому что слепой…
– Слепой? – удивилась Женя.
– Ну я же говорю, – нетерпеливо кивнул Лесков. – Он песни сам слагает. Вот и прозвали Гомером.
Музыка закончилась. Слушатели аплодировали. В корзину музыкантов летела не очень твердая российская валюта, иногда сдобренная американским долларом или шведской кроной. Ударник заметил Лескова и широко улыбнулся. Евгений подал, прикладывая пальцы к выпяченным губам, какие-то знаки.
– Что ты делаешь? – засмеялась Женя.
– Увидишь. Кушай, а то растает.
Девушка послушалась, а Лесков продолжал знакомить ее с составом ансамбля:
– Барабанщика зовут Гера, флейтиста – Карен, а виолончелиста – Казима. Но хорошо я знаком только с Герой и Валькой.
В атмосфере зависли гуцульские напевы флейты Пана. Прозрачные звуки, романтично витая в воздухе, наконец, опустились на землю и уже хлестким ароматом балканского вина ударили и понеслись по цветочным лужайкам. Эту штучку некогда написал волшебник-Каталин Тирколеа и нарек «Олтенией». Чего только не услышишь на улицах Петербурга!..
Когда толпа иностранцев вновь разродилась одобрительными возгласами и шуршанием кошельков, Валя-Гомер отложил гитару в сторонку, взял белую трость и, продравшись сквозь строй любопытствующих зрителей, направился к столику Лескова и девушки. Остановился, по-птичьи повел головой и позвал:
– Женя.
Она вздрогнула.
– Извините, я, кажется, напугал вас, – смутился музыкант. – Но мне показалось… Вы не знакомы с художником Женей Лесковым?
– Да, – ошарашено пропела девушка и с надеждой посмотрела на Евгения. – Как это он?..
Лесков рассмеялся:
– Привет, Валька! – он ухватил его за руку и крепко пожал.
Валя нащупал стульчик и присел рядом:
– Что за розыгрыш? Где пропадал?
– О-ой, это долго! Я расскажу, обязательно, но потом. Ладно? Вот познакомься, – Евгений взял мягкую ладошку Жени и протянул слепому. – Это Женя.
Слепой аккуратно подержал ее в своей тонкой холодной руке:
– У вас необыкновенные пальцы, хрупкие, но сильные. И голос у вас красивый, низкий.
– Я не умею петь, – робко сказала Женя.
– Это не важно. Я не вижу, но слышу и чувствую, как музыкален человек.
– А как вы узнали, что Евгений здесь?
Лесков опять засмеялся.
– Он дурак, – махнул рукой Валя. – Не слушайте его – чертов пессимист и реалист!
– Э, нет, братец! Все не так! – запротестовал Лесков.
– Все равно дурак, – буркнул Валя и повернулся к Жене. – Я вижу только свет. Солнце или настольная лампа. Костер или неоновая реклама. А остальное для меня – тьма. Но есть странная закономерность: стоит мне взглянуть на какое-нибудь из творений этого бесстыжего баламута, как я вижу и в них свет. Я не знаю, что там: картина ли, намалеванная вывеска булочной, может, просто он написал на стене неприличное слово…
Евгений толкнул Вальку в плечо. Слепой не преминул ответить и продолжал:
– …Все это я вижу светом, и необычным! Он отличается от любого другого, природного или искусственного. Чем отличается?.. Я как-то пытался Женьке объяснить, в итоге мы сошлись на том, что в его свете отсутствует радужный спектр. Вы понимаете?
– Кое-что, – неуверенно призналась Женя.
– Вот на вас… Он шил платье?
– Да… Но… Сейчас я не в нем.
– Странно, – смешался Валя. – Вот здесь, – он вытянул к ней ладонь, – кулон, это точно. Точно?
– Да, – ахнула Женя.
– Но… я вижу и большой свет, во весь ваш рост…
Девушка не успела прикрыть рот и прыснула со смеху.
– Что тут смешного? – возмутился Валя. – Он уникум! Гений! Может, кто-то зрячий скажет, что все его картины – полное дерьмо, но я знаю, что они удивительны!
– Успокойся, Гомер! – попросил Лесков.
– Не останавливай меня, пуританин!
– Кто пуританин? Он? – Женя указала пальцем на художника и опять захохотала.
– Ах, так? Значит, развратник!
– Это точно! – не унималась девушка. – Извините…
Музыкант улыбнулся, покачал головой:
– Все видно, насквозь, через ткань… Так он что, прямо вот так вот запросто и рисовал на вас?
– Ну уж нет – «запросто»! Это ему дорого стоило!
Лесков ударил кулаком по столу:
– Хватит, садисты!
– Ой, – сморщился Валя, – заткнись!.. В кои-то веки такая приятная собеседница! Иди вон лучше на гитаре вместо меня слабай… Верно, Женя? – кивком спросил он у девушки.
– Кстати, – спохватился Лесков, – что с гитарой? Где твоя «Марджина»?
– Отвяжись. Не трави больное сердце.
– А популярнее?
– Лучше не спрашивай. Головная боль номер один. Украли ее. В метро. Вот, откопали с ребятами «Музимку» – дура дурой!
– Но она хорошо звучит! – не согласилась Женя.
– Девушка, после моей «Марджины»… – музыкант сжал губы.
– У него была мастерская гитара, – объяснил Евгений. – Великолепная. Палисандр. Проведешь по струнам здесь – услышишь на том берегу Невы, если ветер не встречный. А какой звук был!
– То-то и оно, что не был! – обиженно произнес Валя. – Помнишь, ты на корпусе инкрустацию делал? Я в «Апрашку» захожу – свет! Что там? – спрашиваю. Гитара! У меня сердце аж подпрыгнуло. Взял в руки – моя! Так эти ханурики разорались – хрен докажешь! Извините… Я ребят привел, свидетелей. Да что там!..
– Так выкупи.
– Ага! – усмехнулся Гомер. – Почти тысячу «бакинских», даром что ворованная!
Лесков присвистнул.
– Вот, хожу каждый день, жду, когда какой-нибудь хлыщ ее купит… Дают поиграть. Струны на ней уже старые, – грустно вздохнул музыкант.
Художник подмигнул Жене.
– Не вешай нос, Валька, выкупим!
– Конечно, – поддержала она.
– Спасибо, ребята, но… Ты же знаешь, с долгами я не дружу.
Лесков открыл портмоне, неслышно отсчитал деньги и сунул их Вальке в карман куртки:
– Тысяча «баков». Подарок. И, пожалуйста, не спорь!
Музыкант опешил. Девушка взяла его за руку:
– Женя знает, что делает. И он прав.
– Чего-то я не понимаю, – пролепетал Валька-Гомер. – Ты куда записался, в депутаты или в капоны? Может, у тебя дядя умер в Америке?
– Дядя, надеюсь, жив и здоров под Москвой. А деньги я заработал.
Валя недоверчиво скривился:
– До сих пор я думал, что если хочешь жить на честно заработанное, то твердо должен знать: в России на честно заработанное похороны себе не обеспечишь. Неужели твоим искусством прельстились нувориши?
– Можно и так сказать.
– Ладно, сочтемся.
– А то!
К ним подошел ударник из ансамбля:
– Привет, летучий голландец!
– Здорово патриотам джаза, – пожал руку Лесков.
– Герасим, – ловеласовским взглядом представился он девушке.
– Евгения, – передразнила она.
– Валечка, объясни мне, недоумку, – приложил руку к сердцу Гера, – как это наш скромняга-меланхолик-художник познакомился с такой феей?
– Это, Герочка, любовь! – объяснил слепой. – А у любви, как известно, нет ни определения, ни здравого смысла. Она сама по себе смысл. Правда, Женя?
Девушка пожала плечами:
– Я не разбираюсь в философии…
– Философия? Плюньте на это! Наука. Религия. Догмы. Статика! Чем земнее, тем лучше. И вообще никому не верьте. Ни кодексу, ни оракулу. Если хотите что-то знать – спросите у себя. Если не знаете, что себе ответить, значит вообще задумываться не стоит.
– Этот человек, – указал Гера на Вальку, – терпеть не может посторонние силы.
– Я терпеть не могу их слишком частую мнимость!..
– Ага, а сам при этом – ужасный мистик и мистификатор!
– Точно, – подтвердил Евгений.
– Ты вообще молчи, фантом-барабашка! Пропадаешь месяцами, черт знает где, а потом появляешься с ворохом башлей за пазухой и красоткой под ручку! Где вы нашли, Женя, этого обалдуя?
– В Мойке, – ответила девушка.
– Докатился!
– Система довела… – начал оправдываться Лесков.
– Ты, брат, на систему-то все не вали! Знаем мы твою «систему»!
Художник помрачнел.
– Приходила? – спросил он.
Гера глянул на Женю:
– Приходила. Два раза. Второй раз на такси еле домой увезли: так набралась.
– Это уже не мои проблемы.
– Точно. Но ты бы сказал ей все, что думаешь: она себя виноватой считает.
– Через милицию меня искала?
– Нет.
Евгений ухмыльнулся:
– Значит, все в порядке. И деньги на выпивку есть.
– Ее в должности повысили.
– Тем более, – Лесков перехватил настороженный взгляд девушки. – Извини, Женя.
Она покачала головой. Гера, чтобы разрядить ситуацию, подсел к ней:
– Так вы на Мойке спасателем работаете?
– Женя – танцовщица, – ответил за нее Лесков.
– Когда я говорю, что человек музыкален – мне надо верить! – самодовольно заметил Валька. – Жаль. Танец я увидеть не могу. Скажите, прелестная, хоть что вы танцуете?
– Это было очень давно. Сейчас – только для себя, – на низах ответила Женя. – Раньше случались вводы в «Лебединое…», «Баядерку», я увлекалась придумками: делала соло «Русский танец» Чайковского, хореографические композиции на темы симфоний Малера, потом пробовала и современную музыку. Но все ушло в песок…
Гера кашлянул, сообразив, что есть нечто, о чем знать не следует. А Валя неожиданно заявил:
– Вам не надо забывать о танце, Женя.
– Я многое растратила понапрасну.
– И многое приобрели. Я же слышу – вы тонкая натура. А чем тоньше натура, тем дольше элементарные вещи до нее доходят. Поэтому мой совет – вспомните своего Малера. Он прозвучит по-новому. А еще… – слепой обратился к ударнику: – Дружок, там в сумке кассета лежит, «сонька» в девяносто минут. Принеси, пожалуйста.
Гера недовольно поворчал и отправился, куда послали.
– А еще, – продолжал Валька, – можно будет и из этого что-нибудь сделать. Слушали «Доорз»? Нет? Вам понравится. Свобода для импровизации в любом состоянии духа.
– Спасибо, Валя. А играть сегодня вы еще будете?
– Для вас. Разумеется, – он повернулся к Лескову: – Ты хочешь что-то сказать?
– Маленькая просьба.
– Выносите на повестку дня. Обсудим.
– Не мог бы ты на одну ночь?..
– Переночевать у Герки? Легко. Только ведь соседка у меня прежуткая, ты ж знаешь, – Валя достал из кармана ключи и безошибочно положил в открытую ладонь Евгения.
Явился Герасим с аудиокассетой.
– Нынче, родной, я у тебя ночую, – порадовал его слепой.
Ударник растерялся:
– Вообще-то, как раз нынче я не один.
– Я в наушниках спать буду.
– Деспот, – пожаловался Гера девушке.
– Ладно, баста! – поднялся Валька. – Обед закончен. Работаем.
– Но ты ж не ел ни хрена!
– Еще скажи не пил! Дундук. У тебя поужинаем. Работаем!
Музыканты ушли, Гера при этом раза два оборачивался и разводил руками.
Женя прижалась к плечу Лескова:
– Значит, ты у меня и вправду чудотворец. А я думала, что отношусь к тебе необъективно.
– Ты о чем? – не понял художник.
– О твоих картинах. Их видят слепые!
– Если верить Вальке.
– Цветом чистого света!
– Да. Я хотел показать тебе две, последние из оставшихся в живых – позвонил в «Наследие», а их уже купили. Представляешь – обе, и один человек. Некий англичанин, мистер Хоуп. Просили приехать за деньгами, а еще сказали: он спрашивал обо мне. Но они адресов не дают. Этот Хоуп оставил визитку. Забавно.
– Ничего. Я увижу много твоих картин. Обязательно, – Женя вдруг вышла из своего задумчивого состояния и повеселела. – Представляешь, как должен светиться дом Грека в Песках!
– Уже не Грека – твой.
– Ох, Женька, Женька! – утешая, девушка погладила его голову. – Ты ужасный бука!
С эстрады поплыли минорные переливы серебряных струн. Смятенная виолончель придала теме траурный надрыв, флейта хрустальным звуком отнесла ее к небесам, а металлические мягкие щеточки в руках Геры живым вычурным ритмом направляли, указывали единственный, верный путь, не давая заблудиться в загадочном мире слепого музыканта. Может, и не было голоса… может, и не было слов:
Счастье ты мое горькое,
Горе ты мое сладкое,
Чудушко бесконечное,
Тайнушка необъятная:
Тихая трава – жгучая,
Шумная листва – сонная…
Буря ты моя нежная,
Полночь ты моя светлая,
Люба снов моих бережных,
Роскошь дней моих скромная,
Жемчугом, слезой радужной
Грезишься и колдуешься…
От высоких гор голос твой,
Из глубоких недр сердца жар…
Долго ты мое краткое,
Мало ты мое вечное…
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
…Что такое успокоиться?
Это память перебесится,
Это кубики построятся,
Это, видимо, повеситься…
Замечательная игра – испорченный телефон. Играется так. Соседке Вальки-Гомера – морально устаревшей деве – мерещатся непристойные звуки за стенкой… Далее. Она звонит дежурному милиции, дескать, сосед ее – весьма сомнительный молодой человек – приютил развратную парочку (или тайно сдает квартиру, что хуже – не ясно). Дежурный – не будь дураком – расспрашивает ее о том, как выглядит эта парочка, сравнивает описание с имеющимися у него фотографиями и футболит на всякий случай по другому номеру, где четыре невзрачных типа разминаются в преферанс. Один из них, перенимая эстафету, обязуется проверить информацию. Опять-таки берет трубочку и звонит на ту же самую квартиру. Недоброжелательная соседка зовет к телефону Евгения. Художник отвечает, что Гомера нет дома, а сам он – друг и находится тут в гостях, на элементарный вопрос: «Женя! Лесков! Ты, что ли?» – отвечает: «Я…» – слышит: «Давно не виделись, старина! Ну ладно, извини. Некогда». После тот же невзрачный тип сообщает следопыту Сергею о сложившейся версии…
А Сергей – фигура прикошмарнейшая: у него есть десять детективов, у каждого такого джентльмена по десять агентов, все агенты имеют по десять осведомителей, ни один из осведомителей не работает меньше, чем с десятью курьерами… самаритян в расчет не брать. Сеть, конечно, гиперболизирована, вот только в какую сторону? И вот: несколько часов работы у компьютера, где сначала проходятся расческой по Союзу Художников, потом потрошат базу данных по не вошедшим в сию почетную обитель, а после – по оставшимся субъектам, имеющим хоть какое-либо отношение к творчеству живописцев, рукоделов и прочая. Далее проверяются подобранные варианты, и в итоге имеется вполне определенный адрес: Английский проспект, дом пять… А к нему припечатывается фото, преумножающееся на ксероксе… После нарисовывается «заказчик», пришедший с «реальным» предложением о «завиднейшей» работе к безутешной жене Лескова… Так можно узнать о его знакомых; послать пару человек в Сиверскую – сторожить дом художника Ивана Радюкевича; на всякий случай последить за неугомонным актеришкой Ивановским; разыскать незрячего музыканта… Потом отыщется таксист, подвезший опознанную парочку на Дворцовую набережную. Это даст успокоительный повод думать, что они в городе. Но вот рассчитывать на звонок постороннего лица – соседки того самого музыканта – не приходилось. Все равно нашли бы, но приятно порой сослаться на чудо, позволяющее заработать конторе в целом за неполные двое суток пахоты около двух «штук» хрустящих долларов. Дело, как говорится, в шляпе!..
А что же делали наши влюбленные? Если они настоящие влюбленные, а не какие-нибудь там опереточные, то что им еще делать, как не заниматься английским? У этих двоих не было шансов надоесть друг дружке или сойти с ума от безделья, потому как почитаемы в их союзе слова древних: «Лентяйничайте плодотворно!» Ну а когда, язык то или какая другая игра, или дисциплина начнет приобретать закономерный «фиолетовый» оттенок, своевременным будет вспомнить, что любому занятию предел имеется. Евгений лежал в постели поверх одеяла, вооруженный авторучкой и тетрадкой. Женя сидела рядом, обняв колени. На обоих не было никакой одежды.
– Ну что? – спросила девушка.
– Ты способная ученица, – похвалил Евгений.
– Интересно, сколько вообще времени потребуется, чтобы выучить этот язык?
– Одной жизни хватит.
– Ты противный скептик!
– No, I don’t, Miss Eugenia. [9]
– Юджиния? Я по-английски – Юджиния? А ты?.. Знаю, ты – Юджин! Напиши это: Юджин плюс Юджиния равно безобразие!..
Евгений ровнехоньким готическим шрифтом вычертил каждое слово и поставил точку:
– Все. Который час? Ух ты, второй час ночи!
– Неужели ты предлагаешь вздремнуть?
– Что ты, – блекло ответил Лесков. – Я страшусь времени. Оно больно шустрое.
– Да… Жуткая штука… А что, если Валька-Гомер прав?.. А? Но я даже представить не могу, насколько сейчас это сложно.
– Ты о танце?
– Да. Это не быть музыкантом. Здесь все зависит не только от техники и мысли, но и непосредственно от самого тела…
– Вынужден огорчить: с твоим телом что-то не в порядке, – кривляясь, прогнусавил Евгений.
Женя хлопнула его ладонью по макушке и соскочила с дивана на пол. Подняв руки, словно упираясь в небо, она оторвала от пола одну ногу, вытянула носок и, не теряя равновесие, выпрямленной ею медленно очертила полукруг вверх, да так и замерла в воздушном шпагате. Потом Женя столь же медленно и в той же плоскости, только с другой стороны переместила свой корпус от ноги, указывающей в потолок, к опорной, при этом воображаемая вертикальная линия вдоль ее ног ничуть не шелохнулась. Кулон с кусочком янтаря шлепнул ее по носу и закачался перед глазами. Девушка улыбнулась восхищенному Евгению вверх тормашками (или, если быть более точным – тормашкой).
– Ты не балерина. Ты акробатка, – сказал Лесков, когда она вернулась в нормальное состояние.
Женя прыгнула в постель и чмокнула его в озадаченный лоб:
– Я, как умела, сохраняла пластику. Но движение!.. Предстоит каторжная работа. Я все восстановлю, вот увидишь!
– Верю, – Лесков обнял любимую за талию и поцеловал ее горячий живот.
– Женька, родной, я возвращаюсь сама к себе. По крупицам, но возвращаюсь! И это все ты, – говорила она склоненной перед ней голове. – Господи, а если бы ты не вышел в ту ночь? Или пошел бы другой дорогой?
– Тогда тебя спасли бы твои церберы, а я утопился бы чуть позже, – приложившись щекой и ухом к ее сердцу, проговорил Лесков.
– Мне страшно. Обними меня крепче…
В этот момент в дверь их комнаты постучали. Женя вздрогнула. Лесков раздраженно загудел и повел головой:
– Чертова баба! Ложись под одеяло. Сейчас узнаю, что ей надо, – он стал надевать брюки.
– Может, мы громко говорим?
Евгений пожал плечами. Подошел к двери и отодвинул щеколду. Дверь неожиданно с силой распахнулась и сшибла его с ног. Девушку словно током ударило. Она закричала и, заикаясь, стала просить:
– Н… н… не на-а-до!
Тяжелая рука сдавила ей горло. Цепочка сорвалась, ободрав шею. Оправа смялась. Янтарик выскользнул из серебряной клетки и затерялся в постельном белье. В дверном проеме Женя увидела монументально-невозмутимого Хеллера.
Евгений, с разбитыми лбом и губой, не успел подняться: челюсть дернулась, комната подпрыгнула, затылок звонко узнал паркет. Крапинки перед глазами собрались в предметы. Ни разу в жизни ему не угрожали оружием, а тут смотрели целых три ствола. Осенила простая бесстрашная мысль: сейчас в голову войдет раскаленная пуля. Он оглянулся в надежде увидеть Женю последний раз, но мощный удар ногой шарахнул его лицом в полировку тумбочки.
– Оставь его, Я-ан! – сквозь слезы умоляла Женя.
Кто-то стиснул ей зубы и залепил рот скотчем. Она узнала Майка. Бандит перекинул блестящую катушку Славе-Москиту. С художником проделали ту же операцию, потом ему склеили за спиной руки и стянули ноги.
В руках у Москита возникла милицейская дубинка. Женя, яростно мыча, рванулась к нему, но Майк держал бульдогом. Девушка не выдержала: зажмурилась и отвернулась. Ян подал Майку знак, бандит коротко ударил ей свободной рукой под ребро и, схватив за волосы, заставил смотреть, как избивают Лескова. Но теперь ее глаза застилали слезы, и больной удар Майка позволял замкнуться на себе. Хеллер остановил пытку.
– Во всех уважающих себя театрах есть антракт, – цинично намекнул он.
Поглаживая свои руки, тевтонец подошел к Жене и сорвал заклейку с ее губ:
– Я знаю: ты умеешь ненавидеть, но почему же, когда дело доходит до драки, в твоих глазах одна лишь покорность? Ты боишься?
– Да, – всхлипывая и отворачиваясь, чтобы не смотреть на кровавое месиво в центре комнаты, проскулила девушка.
– Так зачем же ты все это устроила?
– Не я, – плакала она.
– Неужели он? – с фальшивым удивлением Ян указал на глухо стонущего художника.
Женя покачала головой.
– Так кто же? – воскликнул Ян.
– Ты! – крикнула она с обидой и злостью.
– Вот те раз! Отпусти-ка ее, Майк…
Хеллер ударил Женю по щеке. Она вскрикнула, закрыла лицо руками, но плакать перестала.
– Расскажи-ка мне, дрянь: как я заставил вас трахаться?
Женя открыла глаза. Мелькнул бесенок:
– Ты выиграл меня в карты, ты прислал мне идиотское платье от Версаче, ты показал мне портрет, ты оставил меня наедине с собой и твоей дурой-матерью!..
Девушка получила вторую пощечину. На подушку брызнула кровь. Ян помял ушибленную ладонь.
– Сучка! Так ты его любишь? Отвечай, шлюха!
Женя оценила ненавидящий взгляд Хеллера: презрительно фыркнула и расхохоталась:
– Мне нужен был мужик, а не импотент!
Ян снова замахнулся, но его бесстыжая содержанка не закрылась, а наоборот – вытянула шею и, слизнув с губы кровь, оскалилась.
– Ты его любишь… – опустил руку тевтонец. – Черт возьми, кого ты дурачишь!
Женя безразлично усмехнулась.
– Поднимите его, – приказал Ян.
Москит и Карлик поставили скорченного Евгения на ноги. Все тело его было в кровоподтеках, страшных, багровых, с надрывами кожи, нос и правая бровь сверкали темным рубином, левая часть лица уродливо вздулась. Ян проглотил взгляд девушки – тоскливый и равнодушный – с непонятным торжеством закивал, словно разгадал ее истинные чувства, а не то, во что она заставляла его верить.
– Теперь гляди ты, – сказал он художнику и вернулся к Жене:
– Становись, Перчик, на колени…
Показалось, что с лица ее сошел загар.
– …Развернись: не хочу видеть твои блядские глаза. А теперь прогнись. Вот так!.. Ноги шире…
Евгений болезненно смотрел, как безропотно Женя выполняет повеления своего хозяина, и горло его слепилось в комок, готовый сорваться на плач от осознания пошлой смерти, на какую их обрекают.
– Я вижу, ты знаешь, что теперь будет, – почти плюнул ему в ухо Ян. – У тебя богатое воображение. И все свое оставшееся время ты будешь думать именно об этом.
Хеллер взглянул на Майка:
– Займись им.
– Я работаю за наличные, – с холодком ответил Майк.
– Ты мне не доверяешь?
– Я доверяю своим принципам.
Ян огляделся. Слава-Москит и Гена-Карлик настороженно и даже с неким ужасом по-гусиному выгнули шеи. Из другого угла комнаты на него таращился Владик. Каждый из этих троих держал в кобуре за пазухой по девятимиллиметровой пушке, но первые двое молодчиков не излучали надежности, а на лбу Владика вообще просвечивалось строжайшее предписание совести: «чисто для бутафории». Обеспокоенный взор Хеллера скользнул по огромным полкам, забитым виниловыми дисками, обшарпанному шифоньеру и остановился на стуле с одеждой Лескова. Ян схватил бежевый пиджак, достал из него бумажник.
– Здесь почти семь «штук». Считай – авансом, – он бросил портмоне Майку. – Владик, помоги ему. И вы – двое – ждите в прихожей.
Лескова вытащили из комнаты. Хеллер приблизился к Жене и обратил внимание, как странно подрагивает ее тело. Но сейчас она не боялась ничего: ни боли, ни смерти – душили слезы бессилия и ненависти к привитому ей послушанию. Она готова. Стиснула зубы и покрепче сжала в кулаке янтарное сердечко.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
…И вот подчас захочется такого,
Чего нельзя принять или обнять,
Чего не объясняет даже слово,
Что можно только чёрт-те чем понять…
Машина остановилась. Всю дорогу Лесков пролежал на дне багажника, запакованный в большой и прочный полиэтиленовый мешок. Нащупать какой-либо инструмент, завалявшийся поблизости, сделать в мешке дырку для доступа воздуха, вообще хоть немного пошевелиться, пленнику не удавалось. В камере становилось душно, тело взмокло, раны и ссадины по-адски жгло. Сколько прошло со времени отъезда машины от дома Вальки, Лесков не знал, показалось – не меньше часа, но был он до сих пор жив. Это позволяло сделать вывод о пакете: либо не завязан, либо все-таки дыряв.
Багажник открылся, художника выволокли наружу и вытряхнули из полиэтилена. Подслеповато заморгав от белизны рассветного неба, Лесков увидел, что рядом один только человек – гранитоподобный Майк, и что находятся они за чертой города, в лесу. Смерть – сама по себе неизвестность, но люди почему-то больше всего боятся умереть насильно, когда небытие подбирается не спеша. Видимо, скорая неизбежность его и готовность к его больному рукопожатию до пьяну пропитаны химерой надежды.
Бандит отлепил скотч от лица своей жертвы:
– Мы с тобой так и не поздоровались ни разу.
Посадил Евгения спиной к дереву. У Лескова невольно вырвался стон. Майк осмотрел его повнимательнее и глухо сказал:
– Ничего. Жилы у тебя крепенькие. Если кровью ссать не будешь, то все в порядке.
Евгений уловил некую непоследовательность в его словах.
– Ночи-то какие теплые! – всей грудью вздохнул Майк. – Как ты думаешь, это лето хорошим будет или как обычно – хмарь?
– Чего тебе от меня надо, Майк? – стуча невыбитыми зубами, спросил Лесков.
Бандит присел рядом на травку, достал пачку «Кэмэла»:
– Ты успокойся. Покой – это самое ценное, что у нас есть. Если ты думаешь: он достигается с помощью чего-то, то ты не прав – все достигается с помощью покоя. Курить будешь?
Майк вставил Лескову в рот сигарету. Откинулась крышка его стальной зажигалки и сказала: «зи…» – оба человека закурили – крышка захлопнулась и сказала: «…по».
– Вот так вот – ты немного помолчи, а я потреплю языком.
Он совсем улегся в траву (как подумал Евгений – чтобы не видно было лица).
– Я сын егеря, – сказал Майк. – Здесь родился, на Карельском, под Хиитолой. С трех лет меня воспитывал отец, о матери говорил, что умерла, но я знал – это неправда. Я был смышленый малый. В пять лет сам ухаживал за отцовским карабином, а в семь мог со ста метров, при сильном ветре подстрелить утку на лету. И в семь лет я уже знал, кем хочу быть. Вообще, два мужика в лесу хорошо ладят.
Все было просто, интересно, живо и естественно. Любил смотреть, как отец вырезает большие деревянные фигуры или просто домашнюю утварь. Весь дом у нас был, как игрушка. Я-то, бывало, тоже умел что-нибудь вытачать, но вот привязанности к тому в себе не находил. Отец говорил: «Ничего, скоро в школу пойдешь, совсем взрослым станешь – поймешь…»
Вот тогда вот, в семь лет, я и остался один. Кто-то из охотников говорил про огромного медведя, но я видел труп отца и я знал, насколько разнятся огнестрельные раны с теми, что оставил бы медведь…
Детдом я не любил: я вырос в лесу и долго не мог привыкнуть к людям, пусть даже и маленьким. Поначалу меня жестоко обижали. Где-то через месяц я удрал. Вернули. А потом я столько им синяков понаставил: кулачищи-то и сила были – дай боже!.. – Майк стряхнул пепел с сигареты Лескова и продолжал. – Моя жизнь, наверное, даже богата яркими событиями, но для меня они не заметны. Это в силу натуры – я не жажду их. Ты спросишь – что мне тогда надо? Да все то же самое – получить от жизни удовольствие. Я люблю хорошее пиво, обожаю качественное оружие, не могу, чтобы не съездить хоть раз в месяц, хоть на пару деньков в лес… Кучу денег я вбухал в детские дома – и это тоже удовольствие, – бандит причмокнул языком и глубоко затянулся.
– Я в Афгане служил. Ничего хорошего оттуда не вынес, кроме того, что идиоты-командиры меня окончательно научили ценить в первую очередь – собственное мнение, потом – китайских мудрецов, а уж напоследок – все остальное…
Со мною в одном взводе был парень – Колька Снегирев – замечательный малый. Своей девушке он почти каждый день письма писал, да не просто так, а стихами! Все говорил ей, какая она любимая, и все время по-разному… Нет, письма он нам не показывал, просто привычка у него была – думать вслух. Вот он ходит и ищет слово, а потом возьмет да и ляпнет какую-нибудь фразу. Ты услышишь – представишь – мурашки по коже! Он словно рисовал словами… или даже лепил… Было четкое ощущение, что можно потрогать все им сказанное, прочувствовать на своей шкуре…
Мы уже собирались домой, да и встряли в одну заварушку. Там поселок был без названия, пришлось его с землей сравнять… В этой земле Колька и остался. Я последнее письмо его привез той самой девчонке, которую он славил, а оказалось, что улицы Счастья в Питере нет… Есть Счастливая, но на ней нет сорок девятого дома…
Лесков выплюнул начинающий тлеть фильтр. Совсем обыкновенный и безыскусный рассказ Майка успокоил и удивил его. Нечто теплое, приятное скользнуло по затылку и поползло вниз. Вот и не верь после, что столкновение с нереальным, мистическим невозможно!..
– Не спали мне тут лес, – бандит поднялся и растоптал окурок в траве.
Лесков оторопело глядел на этого человека и силился прочесть хоть что-нибудь, хоть немногое в его грубом, неживом лице.
– Что, художник? Хочешь ощутить, как радость течет по жилам? – весело, но не улыбаясь, сказал Майк. – Если ты пообещаешь мне исчезнуть, я тебя не убью.
Евгений знал: он обязательно это скажет – последние несколько минут уже знал.
– Ты рискуешь, Майк, – сдавленно проговорил он и закашлялся.
Майк отвернулся:
– Нет. Это Грек… или Ян рискуют. Они меняют костюмы, маски, они идут, черт возьми, дорогой, какой захотят! И однажды уйдут навсегда. А я останусь самим собой. Во всем. У меня одна дорога – моя. У меня один хозяин – мои убеждения. А кто такой Ян? Почему он смеет мне приказывать? – феномен швырнул Евгению в ноги его бумажник. – Я никогда не рискую.
– И многих ты так… отпускал?
– Я о тебе знаю достаточно. Видел, как ты работаешь. Видел, как задышал этот чопорный дом. Видел, как ты, прежде чем клеить обои, рисовал на стенах смешные рожи: Грека, придурка-Москита, мою… Я не хочу тебя убивать. Поэтому, пообещай мне…
– А что будет с Женей?
– Какая разница? Эта баба стольких умыла, и тебя в том числе! «Что будет?» Ян вернет ее Греку, а Грек придушит или отправит обратно в бордель. Какая разница?
– Тебе это кажется справедливым?
Майк досадливо скривился.
– А тебе не кажется, что ты чересчур болтаешь для связанного?
– Извини. Но ты говорил гораздо больше.
Бандит усмехнулся через ноздри.
– Честное слово, приятный ты собеседник. И я давно ни с кем так не говорил, потому что – деловой человек, и времени у меня мало.
– А мне есть, куда спешить?
Майк посерел лицом:
– У тебя два пути. Выбирай. Чертов художник, лучше бы я тебя в Мойке оставил, – убийца взглянул на часы: – Пять минут.
– Да ладно, шучу я… Ничего не выйдет.
– Твою мать! О чем ты думаешь?
– Я думаю о ней, – скривились разбитые губы. – Прости, дружище… Не выйдет.
– Ты же мог хотя бы пообещать…
В холодной руке Майка блеснула финка.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
…Позже,
Когда мы станем помоложе,
Когда мы вырастем из кожи,
То полетим искать безоблачный край…
Около девяти утра Майк прибыл в аэропорт «Пулково», чтобы засвидетельствовать свое почтение Яну Карловичу, прежде чем тот отбудет в Москву. Через одну руку убийца перекинул пиджак, в другой нес небольшой толстенький a’la sac de voyage [10] пластиковый чемоданчик. Хеллер был без сопровождающих.
– В чем дело? Новости из ряда вон? – не разжимая зубов, осыпал он Майка.
– Хотел расставить точки над «i».
– Слушаю, – все так же нервозно бросил немец.
– Тридцать четыре куска.
– Что за сложности?
– Хороший художник был.
Ян откинулся в кресле, глаза потускнели:
– Да. Жаль. Могли бы многое друг другу рассказать и многое вместе сделать… – он вдруг опомнился и встревожено уставился на чемоданчик Майка. – Что здесь?
– Отчет о проделанной работе.
– Что ты мелешь?
– Голова, – пояснил Майк.
– Кретин… Убирайся к дьяволу! Деньги получишь у Грека: мы с ним сочтемся.
Хеллер брезгливо отвернулся, и Майк, более не докучая ему, исчез. Он блистательно выполнил поставленную перед ним задачу, и теперь высокорослая белобрысая персона пионера российского игорного бизнеса его не интересовала.
Спустя часа два Майк стоял на лестничной площадке перед квартирой Яна на Невском. Ему открыл заспанный Владик: мятая рубашка, засаленный воротник, под мышкой коричневая кобура и качающаяся в ней рукоятка «ТТ»:
– Припозднился ты, капитан.
Из глубины квартиры тихо доносился пока еще ленивый, однообразный разогрев темпа «When the music’s over» [11] .
Братва заседала в холле, вернее, наполовину заседала, наполовину залегала. Их было всего двое: Москит в полудреме валялся на диване, Карлик громоздился над журнальным столиком, обильно усыпанным пеплом, облитым водкой и замазанным осетровой икрой. Владик вошел следом за Майком:
– Что же так долго?
– Следы заметал.
Карлик кровожадно оскалился:
– Нарисуй.
Майк сел за столик:
– Ты еще не просох, чтобы понимать глубоко интимные вещи.
– Ой, птаха, пером слаба! Брякнешься! – набычился Карлик.
– Заткнись, Гена, – прогнусил с дивана Москит, недоуменно посмотрел на пиджак Майка – в такую-то жару! – и снова плюхнулся опухшим лицом в подушку.
Владик налил капитану водки. Майк жестом отказался. Карлик хмыкнул, мальчишка пожал плечами, уселся напротив Майка, выпил сам и игриво заметил:
– А каргу-то старую Ян в Швецию отправил…
– В Швейцарию.
– Короче, понял. Мы здесь одни!..
– В курсе: был у Грека, брал отпуск.
– На свою Вуоксу?
– Да, на пару дней.
– А расслабиться не хочешь? – Владик кивнул на закрытую дверь, откуда пробивалась музыка. – Танцует вот. Мы ее тут раком поставили.
Майк презрительно фыркнул:
– Анекдот слышал? Прилетает комариха в свою стаю и кричит: «Ой, что было, что было! На том берегу реки слона метелили – я два раза ногой ударила!..»
Карлик загоготал. Владик не понял. Москит замотал головой, поднялся и потянулся:
– Да не-е, дупло-то у нее что надо!
– И ляжки! Душевно отваляли, – посмеиваясь, пробасил Карлик.
– А голосу ни хрена не подала! – обиженно и пунцовея почти взвизгнул Владик. – Козлиха!
– На халяву медок, – сочувственно закивал Майк. – Вот если бы ты ей червонный накинул, она бы тебе минет сделала, а за сотенный – «вибрирующую манжетку». Скупой ты, мальчик, и недалекий. Это все от комиксов.
Карлик опять разразился гусиной песней на один непрерывно повторяющийся слог.
– Ну что, Слава, перекинемся в буру напоследок? – весело окликнул Майк с трудом просыпающегося Москита.
– Отчего бы?.. – все потягивался елецкий паладин. – Давай. Щас мы тебя подчистим.
Он присел справа от Майка. Капитан внимательно оглядел братву, значительно повеселевшую в предвкушении постпохмельной кампании. Карлик достал колоду, начал сдавать. Майк взял со стола бумажную салфетку, обернул ею больше чем наполовину опустевшую бутылку водки и разлил бодрящую влагу по рюмкам. Что осталось – выплеснул на пол.
– На хрена? – гаркнул Москит.
Капитан перехватил бутылку за горлышко и вместо ответа лупанул ею Москита по голове. Череп несчастного хрустнул. Стекло выстрелило новогодней хлопушкой и разлетелось звонким конфетти по комнате. Рука убийцы мгновенно метнулась влево, тонкие зубы осколка врезались в бронзовую шею Карлика. В следующий миг Гена, хрипя и пытаясь ухватить что-то невидимое, лежал на пестром ковре. Из бутылочного горлышка хлестала ржавая кровь. Владик дернулся, ухватился за рукоятку пистолета, но на него уже зловеще поглядывал черный глазок «беретты».
– Правильно, – одобрил убийца. – Только не спеша и двумя пальчиками.
Бледный, как минувшая ночь, Владик протянул ему свой пистолет.
– Литра два из него уже вышло, – не глядя на Карлика, прикинул Майк. – Ну-ка, мальчик, вытащи розочку из шейки.
– Ты что?.. – нерешительно покачал головой Владик. – Ты спятил?
– Играем в игру: я – говорю, ты – выполняешь. Если хочешь изменить правила, то спроси разрешения у моей волынки.
За полтора года работы на Гречишникова, Владик уяснил одно весьма стойкое положение: Майк – человек занятой и все проблемы решает очень быстро. Не суетясь, молодой человек наклонился к отходящему Карлику и, испачкавшись по локти в крови, убрал осколок.
– Отбрось в сторону. Замечательно. Теперь лезь под стол.
Надо заметить, что столик был передвижной – на колесиках – и имел, кроме верхней крышки, еще и нижний ярус. Майк смахнул со столешницы весь неопрятный натюрморт и жестом пригласил Владика занять долженствующее место. Тот немедля выполнил, что от него требовали: прополз под столешницей, улегся на поддон лицом кверху и вытянул руки.
– Приподымись-ка…
Майк защелкнул наручники на его запястьях. Владик оказался в крайне неудобном, полувисячем положении.
– Я же всю кожу с рук посдираю! – возопил он.
Майк ничего не ответил, спрятал свой пистолет, а из чужого «ТТ» со свойственным тому грохотом, пустил пулю в голову Москита. Владик вскрикнул и зажмурился. Через секунду услышал второй выстрел, в оцепенении задрожал, из горла его с нарастанием понесся гул двигателя реактивной машины. Потом он вдруг почувствовал прохладное прикосновение металла ко лбу, вытаращил глаза, сведя их к переносице, словно это помогало отвести пушку в сторону. Двигатель стал глохнуть и заикаться.
– Могу и твои мучения прекратить. Будь паинькой.
Владик совладал с собой и затряс подбородком:
– Да-да-да-да-да!..
– Где ключи?
– К-ка-ак… кие?..
– От квартиры.
– Эт-эт-этой?
– Да, осел, да!
– На т-тумбочке! В ко-оридоре!
– А теперь отдохни. Я скоро.
Майк нашел ключи и выбросил их через форточку во дворик. Потом он вернулся в холл, подошел к двери, из-за которой уже срывался голос: «…until the end!..» [12] , и повернул ключ в замке.
Он едва не покачнулся, ошквалированный ревом динамиков. Музыка моментально исказилась и потеряла всякий смысл. Но Женя, существом своим подчиняясь бредовому грузному ритму, закрыв глаза, вытворяла в центре комнаты невероятные вещи. То от ее странной походки – чуть бедром вперед – веяло цыганщиной, то появлялись индийские интонации, то неясно откуда взявшимся, но неожиданно логичным фуэте она избавлялась от восточного темперамента, в ней просыпались не менее странные повадки антарктических птиц, то она, наконец, выпрыгивала из центра распрямленными дугами лука при лопаньи тетивы, но, словно магнитом влекомая, заворачивалась воронкой вихря, двигаясь по воображаемой спирали к центру…
Майк изрядно взопрел, прежде чем пришел в себя. Он подскочил к музыкальному центру и выключил магнитофон. Женя продолжала танцевать.
– Перчик! – окликнул ее Майк.
Девушка не останавливалась, словно оглохла. Бандит схватил ее за плечи и хорошенько тряхнул:
– Перчик!
Растрепанные сырые волосы залепили ей лицо, но Майка она увидела:
– Ах, это ты…
Голос у нее был как у проснувшейся кинозвезды: томный и капризный. Тянуло спиртовыми парами.
– Как желаете? – пошатываясь, осведомилась она.
– Дрянь, – протянул Майк. – С каким удовольствием я размажу твою мордашку.
Как ни была она пьяна, но плоские камни его кулаков и желваки на скулах не увидеть не могла. Женя закричала и ударила первой. Майк схватил ее руку, притянул к себе и крикнул в самое лицо:
– Ты дура!
Потащил за собой из комнаты:
– Идем!
Женя стала упираться, брыкаться, в итоге упала на пол и в бессилии заплакала.
– Уходим, уходим! – заорал Майк.
– Я не могу больше! Прикончи меня здесь!.. Лучше здесь!.. – вопила Перчик, для чего-то цепляясь свободной рукой за ножку стула.
В прихожей хлопнула дверь. Майк с силой отпихнул Женю:
– Вот дура! Иди сам с ней разбирайся! – и вышел.
Потом она услышала хныканья Владика, матерщину капитана и напуганный шепот третьего человека… эти знакомые интонации… не может быть!.. В висках задрожало холодное пламя. Она приподнялась с пола и, пытаясь отогнать возникший перед ней призрачный образ, толкнула ладонью воздух и зарыдала:
– Во-он!..
– Женька, – обняла ее нежданная тень прошлого.
– Я пила, – ревела Перчик. – Я так пила… и плясала на твоих похоронах… Я все забыла! Почему ты вернулся?
– Я за тобой. Мы будем теперь вместе.
Девушка послушно легла в объятия призрака:
– Вместе… – но сквозь слезы она увидела разбитое лицо Евгения. – Бог мой, Женя!.. – и опять утонула в рыданиях.
– Вы скоро? – просунулась в дверь голова Майка.
– Родная, нам надо идти…
– Женя… Господи, что происходит?.. – то ли смеясь, то ли плача, захлебывалась она. – Женя… Я такая пьяная…
– Я увезу тебя, – качая ее, как младенца, говорил Лесков. – Увезу далеко. Где никто нас не достанет, – повторял он свежевыдуманную считалочку и целовал мокрые, по-морскому соленые ресницы и веки. – Мы уедем в Лондон… Представляешь? Мы вместе выйдем на Тауэрский мост!..
– В Лондон… – туманно произнесла Перчик и уставилась на бритую голову Майка.
– В Лондон, в Лондон! Скорее! – не выдержал бандит. – Одевай ее, и в ванную, живо!
Лесков кинул себе на плечо Женину одежку, подхватил девушку на руки. В душном холле витал терпкий запах пороха и чего-то сырого, сладкого. Своим нетрезвым размытым взором Женя увидела на полу нелепые коряги тел в преступной багровизне, и поняла все она правильно.
Пока Лесков возвращал ее к обнадеживающим реалиям жизни, Майк разъединил сиамский союз стола и Владика. Рот неудавшегося супермена уже характерно глянцево блестел скотчем. Майк сковал Владику руки за спиной и вытолкнул его в коридор. Подлетел Лесков:
– Нужен ее паспорт! Он в кабинете, на втором этаже.
– Черт! – занервничал Майк. – Идем, козел! – и погнал Владика впереди себя.
Женя, в одежде, забрызганной водой, и с мокрой, как у русалки, головой, была уже рядом с массивной дверью и дула на ссаженную ладонь: видимо, пыталась что-либо сделать собственными силами. Майк оттолкнул ее и достал отмычки. Девушка увидела Владика, глаза ее вспыхнули. Лесков преградил дорогу.
– Ничего. Я спокойна, – улыбнулась она и со всей силы ударила в пах беспомощного и лишенного слова мальчика.
Тот заскулил и согнулся на полу буквой «зю». Майк снова выругался, отошел от двери и всыпал по замку несколькими зарядами из «ТТ». Гром и молния. Еще не развеялся дым и не упали на пол щепки – он вышиб дверь ногой.
– Эффектный ключик, – присвистнул Лесков.
– Не заедает. Идите, только побыстрее. Я жду внизу. Вставай, бекон с яичницей! – крикнул он несчастному Владику.
Лесков и Женя вбежали в кабинет. Девушка кинулась к дубовому бюро и попыталась повторить то, что делал Ян. Евгений взобрался на стол и снял со стены роковой портрет. Перчик оглянулась:
– Правильно. Ей здесь не место.
– Как твои дела?
– Ничего не выходит, – опустилась на пол Женя и стукнула по бюро ладонью. – Здесь какая-то хитрость.
– Пусти-ка.
Он осмотрел мощные стенки, множество выдвижных ящичков, попробовал выдвинуть хоть один – не получилось. Заперты. По периметру верхней панели, бюро было украшено рельефным бордюром – эдакими маленькими полушариками желудей в оправе из дубовых веточек. Евгений провел по ним пальцем, понажимал на каждый в отдельности – глухо. Над толстыми ножками красовались искусно вырезанные трилистники. Лесков занялся ими.
– Женька, – услышал он за спиной ее тихий голос и обернулся.
Девушка снова чуть не плакала:
– Живой.
Он поцеловал ее:
– Живой, живой, родная… Прости, нам надо поспешить.
– Мне все не верится.
– Знаешь, я тоже до конца еще это не осмыслил.
– Как же тебе удалось?..
– Давай, я потом расскажу, – промычал он, ощупывая пальцами каждый из листков у подножия.
– Ты перекупил Майка?
– Что? Э-э, нет, детонька! Майк – это, пожалуй, самый таинственный момент в нашей истории. Более того: он настрелял у Яна еще денег и отдал их нам с тобой.
– Не может быть!..
– Может.
Один из трилистников, что ближе к стене, утонул в плоти шкафа, но ничего не произошло. Придерживая его носком ботинка в утопленном состоянии, художник снова попробовал нажимать на желуди у крышки бюро. Седьмой от стены провалился. Дубовая масса легко отъехала в сторону, открывая доступ к сейфу. Евгений опешил и не смог вымолвить ни слова перед здоровенным стальным ящиком – реликвией мировой скупости и осторожности, существующим, но неживым преданием старины.
– Женька, ты – гений! – ахнула девушка.
– Но…
– С этим антиквариатом я разберусь. Буква «е» в алфавите какая по счету?
Лесков взял с конторки лист бумаги и написал на нем всю азбуку, проставив против каждой буквы порядковый номер:
– Шестая.
– Теперь «вэ» – третья, потом – четыре, снова – шесть… – Женя выставляла в каждом окошке сейфа известное число шифра. – Что дальше?
Сообразив, что она делает, Лесков подсказал:
– Пятнадцать, десять, тридцать три.
Но дверца сейфа не открывалась.
– Черт! Он поменял шифр, – Женя закрыла лицо руками.
– Успокойся. Вряд ли он это сделал. Он же любил тебя?..
– Он испачкал мне душу! – вспыхнула Перчик. – Он превратил меня в станок! В автомат с газировкой!.. Он мне деликатно напомнил, кто я такая!..
– Подожди, милая… – художник обнял ее. – Этот парень – скотина, ничтожество, ну и черт с ним. Для нас он – мертв. Но подумай: он действительно испытывал какие-то чувства?
– Да, – всхлипнув, согласилась Женя.
– Значит, пока искал тебя – был невменяем, а с тех пор, как нашел – прошло не так много времени…
– Немного?! – не успокаивалась Перчик. – Я успела состариться!..
– Тихо, тихо, девочка! Прошу тебя!
– Извини, – Женя уткнулась лицом в его грудь.
– Он собирался в Москву – малая вероятность, что вспомнил о шифре.
– Может, он иначе крутил мое имя? «Женя», например, а остальное забил нулями… или… «Перчик»?..
– Не думаю, – Лесков вернулся к конторке и теперь напротив цифр проставил буквы латинского алфавита. – Давай-ка.
Он сам принялся крутить колесики, выставляя в окошках: пять, двадцать один, семь, пять, четырнадцать, девять, один. Дверца подалась и без скрипа отворилась.
– Вот так-то, Юджиния!
– Мама моя!
Внутри сейфа было два отсека. Верхний – маленький – там лежало несколько папок с бумагами, страшно элегантный, в отличном состоянии «Парабеллум» и Женин паспорт. Нижний – тут был снят весь ряд полок и поставлен на попа, а освобожденное пространство занимали два рубенсовских габаритов передвижных чемодана. Девушка схватила паспорт.
– Мой! – счастливо воскликнула она. – Смотри-ка – вторая фотография уже есть. Но без прописки. Черт с ним! – девушка покрутила документом в воздухе. – Сколько за него отвалили Гумбольдту?.. А вот Грек меня не выкупил. Тоже мне: «бензиновый король»!..
– «Бензиновый король»?
– Так Хеллер его называет.
– Точно… Помню: он со старикашкой каким-то разговаривал и обронил… Нет, старикашка обронил. Забавный такой. Как-то его звали… Леонидом Степанычем, кажется…
– На лягушонка похожий?
– Или на Берию.
– И что? – спросила Женя.
– Да нет, – пожал плечами Лесков. – Просто вспомнил. Я вздремнул тогда, они вошли, меня не заметили и трепались о драгоценных камнях…
– О камнях?
– Да, об опалах. Они, я так понял, хотели их откуда-то выкачать, то ли из банка… Ян спрашивал старикашку о человеке из банка… А потом говорили о деньгах какого-то Тушкана… Ташана! Или до этого говорили?.. В общем, что-то такое.
– Про опалы?.. – задумчиво переспросила Женя, – или опалу?
– Не понял…
– Угу. Идем. Хватай картину.
Лесков сдернул с окна занавеску и завернул в нее портрет, а когда обернулся – увидел, что Женя выкатила один чемодан из сейфа.
– Тяжелый, гад!
– С ума сошла? – вскричал Евгений. – Что там?
– Кощеева смерть…
– Что там?
– Послушай, родной, мне задолжали за десять лет. Проценты неимоверно выросли… Если ты не поможешь мне спустить чемодан, я не тронусь с места.
– Женя… – попросил Лесков, но увидел в ее лице полную отрешенность и ничего хищного.
Он подал девушке портрет, выхватил из ее рук чемодан и потащил из кабинета вниз по лестнице:
– Господи!.. У нас и так полно денег!
– Это не деньги, Женя, – сказала она вдогонку, – это страховой полис!
– Страховой?!. Да нас искать теперь вдесятеро упорней будут!
– Будут, – согласилась Женя, – но не нас.
– Черт!
– Я потом объясню…
У выхода ждал Майк:
– Где вы шляетесь? А это что? – он со злостью ткнул пальцем в черный пластмассовый корпус. – Грязное белье?
– Да, – бросила Женя.
– Килограмм на пятьдесят?
– Не меньше, – раздраженно кивнул Лесков.
Майк совсем помрачнел и перекинул взгляд на бархатистый коричневый сверток в руках девушки:
– А там?
– Это тоже мое…
– Дай сюда! – он выхватил у нее картину и размотал тряпку, но, увидев, что там внутри, замер, с минуту простоял немым столбом, потом бережно завернул полотно и возвратил Жене.
– Кажется, теперь я понял тебя, художник.
Искоса взглянул на девушку, и она почувствовала, что этот холодный, страшный человек впервые смотрит на нее не враждебно.
– Идите, – сказал он. – Если вас кто и увидит, то после не вспомнит, какой именно мужчина выходил с женщиной – будут ссылаться на Владика.
– А где он? – оглянулся Лесков.
– В машине.
– Что с ним будет?
– Автокатастрофа… Не все ли равно? Идите, такси ждет. Помнишь, куда сначала ехать? – спросил он Лескова, все еще глядя на девушку.
– К Циммерману… Майк, – окликнул художник. – Спасибо.
Капитан потрепал его за рукав:
– Счастья в личной жизни. Проваливайте.
Евгений выкатил чемодан на лестничную площадку. Девушка обернулась. Прежде, чем двери захлопнулись, перед нею мелькнули не этого мира, беззлобные глаза лесного мальчика, сына егеря.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
…Не покидай меня, маленький друг,
Не одевайся в ночное отрепье:
Вокзалы, огни, поезда —
Навсегда…
Циммерман – это такой старенький уважаемый еврейчик, на котором мы не будем особо заострять внимание, тем более что ему это вряд ли понравится. Скажем одно: наши герои заказали у этого самого Циммермана нелегальные паспорта, соответственно и российские и заграничные сразу. На вопрос, кто им рекомендовал к нему обратиться, последовал естественный ответ – Ян Карлович Хеллер. Это был последний штрих, обозначенный Майком в его картине. Таким образом, Евгений и Евгения получали карт-бланш на неделю. Зная, где и на чем их будут пасти, они спокойно могли заниматься оформлением настоящих документов и уезжать за границу под собственными именами…
Тот же таксист привез их на Английский проспект. Лесков предварительно звонил домой по телефону – ему никто не ответил.
– Ты, наверное, подожди меня в машине, – попросил Евгений.
– Конечно, – согласилась девушка. – Давай, скорее.
Художник скрылся в подъезде. Женя глянула в зеркало: на нее смотрели пугливые кроличьи глазки шофера.
– Не беспокойтесь. Вам заплатят. Со своей стороны обещаю щедрые чаевые. Потерпим еще немного, – улыбнулась она. – Закурить можно? – и взяла дрожащими пальцами сигарету.
…Лесков нажал кнопку звонка во второй раз: внутри квартиры никакого движения. Тогда он приподнялся на цыпочках, отодвинул кусок панели верхнего наличника двери, снял с гвоздя ключ, открыл замок, а ключ вернул на место, по-новой замаскировав тайник.
Дома ничего не изменилось, все прежнее, но забытое. Выдвинул ящик серванта, тот, где обычно лежали документы. Бегло перебрал его до дна. Не поверил глазам, перебрал снова не спеша, более внимательно. Оставил ящик в покое, открыл секретер. Перевернул вверх дном все бумаги – не нашел. Он бросился в мастерскую, прошерстил свой стол, подоконники, зачем-то глянул в мусорную корзину. Потом вбежал в спальню, начал рыться в тумбочках, письменном столе жены – бесполезно. В холодном поту он опустился на пол и тогда все понял…
Женя глядела на приборный щиток перед водителем: минутная стрелка проползла уже двадцатиминутное расстояние. Наконец ветхая грязная дверь подъезда распахнулась, вылетел перепуганный Евгений. Сел рядом с ней на заднем сидении – в лице ни кровинки.
– Что случилось? – встревожилась Женя.
– Все пропало… – пересохшими губами прошептал Лесков. – Ничего нет!
– Как «нет»?
– Я потерял все, понимаешь? Потерял! Осел! Документы я таскал с собой, все: трудовую, паспорт, военник. Надеялся на работу устроиться! Кинул в ранец, и они там месяцами валялись.
– А где ранец?..
– В ту ночь, в апреле…
Тело сковал холод, Жене стало дурно от одной только мысли:
– Ты потерял… то есть забыл?
– Да, на Мойке, черт возьми!
– Что делать?
– Не паниковать. Все это мы восстановим… – сказал Евгений и запнулся.
– Мы упустим время? – осторожно спросила Женя.
Он вздохнул:
– Посиди еще немножко. Ладно? Я сейчас обзвоню всех, кого возможно, а потом мы поедем в одно место – спрячешься там на несколько дней.
Женя положила руку на его плечо, но он уже выскакивал из машины. Уткнулась лбом в стекло.
– Проблемы, – потянулся шофер.
– Что? – не поняла она.
– Я говорю, – кашлянул шофер, отворачивая свои красные глазки, – не меньше месяца вы все восстанавливать будете… если, конечно, знакомств никаких нет…
– У нас все есть, – обреченно и сердито выпалила Женя.
Таксист включил радио и зашуршал пачкой чипсов. На одной волне никак не могла рассосаться очередная югославская опухоль, на другой – пел безоблачный французский мертвец Джо Дасен, на третьей – хрипатый и затянутый дымом, наш – Высоцкий.
Женя выбралась на свежий воздух. Прислонилась к желтому заду «Волги» и снова закурила. Неприятно першило в горле. Знобило. Что же это получается? Все? Приехали? Каким бы ни был поезд, остановка всегда одна? Сколько еще бороться с этой нищей и преступной страной, со своей зависимостью, с ненавистным порочным кругом, со стыдом и слабостью? По всей земле живут люди. По-разному живут. Но нельзя поверить, будто у всех у них тот же гнойник в душе, что у нее. Невозможно, чтобы каждый из них клеймил себя и тащил за волосы на плаху. Она хочет к ним, к этим счастливым людям, хочет забыть свое имя, свое лицо, свои – вот эти – мысли… Если сейчас это не сделать, то не сделать никогда. А после – точно уж плаха… Прятаться? Ждать и прятаться? Бежать!..
Но она не двигалась, ждала и чувствовала, как с каждой минутой старится кожа. Порывало склониться к боковому зеркалу автомобиля, проверить свои ощущения. Не сдержалась – хорошего ничего не увидела, но и ничего нового тоже…
К ней подскакала какая-то девочка: лет четырех, солнечное личико, два орешка глаз, длиннющие пушистые ресницы, веснушки, темные волосы стянуты цветной резинкой на макушке в «пальму». Женя смутилась и отбросила недокуренную сигарету под поребрик тротуара.
– Миля! – услышала она тонкий голосок. – Ты почему такая непослушная?
Материализовалось воздушное создание, точь-в-точь та самая девочка, те же черты, хрупкие, слоновой кости конечности, острые локотки и коленки, только чуть повзрослее, лет на двадцать, и вместо «пальмы» роскошная завитая грива.
– Извините, – взглянуло создание на незнакомку и схватило девочку за руку: – Идем.
Тяжелый снежный пласт съехал, поплыл, сорвался с горной вершины – что-то повернулось в Женином мозгу:
– Вы Дина?
Взрослая девочка оглянулась:
– Да.
Женя больше ничего не говорила, стояла как вкопанная, лишь непричесанные запущенные волосы ее волновались под июньским, небывалым для Питера горячим ветром. Дина очень внимательно и с любопытством разглядывала незнакомку и чем больше смотрела, тем больше пугалась ее неподвижных блестящих глаз, сложенных на груди окаменелых рук и схожести с мистическим чудищем Гизы.
– Что вам угодно? – замирая сердцем, спросила Дина.
Но незнакомка только покачала головой и неожиданно светло улыбнулась:
– У вас замечательная девочка.
Дина совсем струхнула, смешалась, достала из сумочки ключ и попятилась:
– Иди домой, Миля!
Миля поскакала на одной ножке к подъезду.
– Подождите, – Женя сунула руку в карман пиджака, сжала ладонью янтарное сердечко, но передумала. – Подождите.
Открыла дверцу машины, вытащила свой портрет, укутанный в гардину, и вручила Дине:
– Передайте это Евгению.
– Евгению? – несколько успокоилась Дина. – Но… его нет…
– Он есть. Правда, есть.
Взрослая девочка растерялась:
– Вы извините… Это так странно… А что здесь?
– Картина, – Женя садилась в машину. – И будьте поласковей с мужем…
– А от кого передать? Кто вы?
– Никто… Теперь – никто…
Дверца захлопнулась. По радио задушевно кривлялось, со сведенной ногой: «…платочки белые, платочки белые, платочки белые…»
– Уезжаем! – крикнула Женя.
Таксист, едва не подавившись картофельной трухой, завел мотор. Машина рванула по проспекту в сторону канала Грибоедова. Они уносились все дальше от запыленного желтого дома, от оставленной в полном замешательстве и нелепой позе жены художника, и становилось так просто и легко, вот только почему-то темно в глазах и тело словно вросло в обшивку сидения.
«Ничего. Теперь все будет. Все будет! – ворошила себя Женя. – Каждый возьмет свое. И это справедливо. Да – справедливо… Он… он… Почему он не сказал правду?! Потому что боялся… Дура! А отчего ты бежишь? Оттого, что не хочешь прятаться? Оттого, что столкнулась лицом к лицу с этими девочками? Оттого, что никогда не почувствуешь необыкновенное, необъяснимое в своем вовеки плоском животе, никогда не станешь матерью?.. Отчего бежишь? Ты от неверия бежишь!.. Да, ты права. Это самое страшное – не верить. Не верить никому. Но самое надежное. Теперь ты все знаешь. Знаешь, что делать, и знаешь, как будет. Он… Он художник, ему полезны переживания. Эта фантомная Диночка – не такое уж она и дитя… – Женя вспомнила, что о ней рассказывали ребята из ансамбля Вальки-Гомера – тот случай, когда Дина напилась – попыталась представить ее пьяной, но ничего не получилось. – Видать, ей очень хреново было. Но теперь все позади. Они простят друг друга, утешат… У них есть замечательная Миля… Да, птахи, это без меня. Цветочки, бабочки… – она усмехнулась. – Я получила свободу… и власть… Я сделаю… Я построю себе замок. Крепкий. Вечный. Неприступный. Я никого не пущу к себе. Я одна. Я спокойна. Я заслужила это. У меня есть все… У меня будет все! Я, черт возьми, буду танцевать!.. Я выучу английский! Я буду читать Шекспира в оригинале! Уайлда!.. Моэма!..»
– Я буду читать Моэма, – сказала она сквозь слезы.
– А я люблю Веллера, – невозмутимо вставил таксист.
– Что? – опомнилась Женя.
– Я говорю: Веллер мне нравится.
– Кто это?
– Писатель, наш…
Лесков открыл дверь из квартиры и чуть не сшиб с ног девочку:
– Милька? – отшатнулся он. – А где мама?
Миля задрала кверху голову и, шепелявя, отрапортовала:
– Мама в Кииве! Длаштуте, дядя Жея!
– То есть, тебя бортанули. В сотый раз.
Девочка утвердительно кивнула:
– Болтанули.
– Ну, проходи, – усмехнулся Лесков. – Где ж тогда тетя Дина?
– На улише ш длугой тетей…
– С тетей?..
Евгений обернулся на звонкий кашель натягиваемой пружины парадной двери. В подъезд вошла Дина. Подняла глаза, прислонилась к стене, и губы ее задрожали:
– Женька…
Евгений открыл было рот, но увидел в ее руках знакомый сверток и забыл, что хотел сказать:
– О, нет… – ни слова не кинув жене, пробежал мимо и выскочил на улицу.
Желтая машина была далеко, подкатывала к Декабристов. Лесков, не раздумывая, помчался за ней. Такси остановилось у светофора. Задыхаясь от пыли, он добежал до машины и увидел, что в ней едут другие люди. Светофор открыл зеленый глаз. Художник по инерции пролетел дальше и чуть не угодил под колеса, когда таксист поворачивал направо.
– Придурок! – крикнул незнакомый шофер через открытое стекло.
Лесков дышал как запущенный дифтеритик, голова разрывалась от колотящегося в ней сердца. А где-то там, у площади Тургенева, поворачивала еще одна желтая точка, в направлении Вознесенского проспекта мелькала третья…
– Женя!.. – услышал он за спиной далекий истошный крик.
Но что он мог сказать? Что устал не доказывать ей свою любовь, а убеждать себя в том, что ее любит?..
Евгений медленно побрел домой.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Тихие лесенки,
Теплые печки;
Без куролесинки
Тут человечки
Слабо мяучат и
Медленно тают,
И не летают…
Увы, не летают
Вечером того же дня. «…Из далека-а-до-о-лга течет ре-ка-а Во-о-лга-а…» Горючая смесь: покер и Зыкина. Играли на квартире некоего Ефима Королевича. Ставки обычные. Играющих пятеро: естественно, сам Королевич, Александр Сергеевич – наша надёжа на то, что Двуликий Янус культуры и бизнеса все-таки презреет свою аномалию и переродится в единое полноценное (культуризнес, что ли?), а также были Грек, небезызвестный Вымпел, и человек, имя которого по ряду соображений упоминать не будем. «…Среди хлебо-ов спе-э-лы-ых, среди снего-ов бе-э-лы-ых…» Греку до неприличия везло, карта сама шла в руки. За полтора часа он всего три раза сбросил, но вовремя и не прогадал. Тем не менее, музыка раздражала.
– Котик, сделай потише! – крикнул Королевич в соседнюю комнату через закрытую дверь.
Невидимый котик послушался.
– Откроемся.
– Стрит, старшая – дама, – объявил Гречишников.
Партнеры покидали карты рубашками кверху.
– Постный день, – философично заметил Александр Сергеевич.
– Кому как.
Заверещала трубка Гречишникова. Квадратноголовый Пашок, сидевший все это время здесь же, в углу, с красочно оформленной Воронинской книжкой, поднес трубку хозяину.
Грек довольно кивнул:
– Да, я слушаю.
– Привет, – услышал он знакомый голос, но не поверил.
– Кто это?
– Женя. Перчик, если угодно.
– Не понимаю… Тебе делать нечего? Я отключаю трубку!
– Не спеши, Грек. Неужели не ясно: если я звоню, то не все ладно в Датском королевстве.
В этом действительно было что-то странное.
– Ты откуда?
– Тебе без разницы. Главное в другом. И постарайся понять меня правильно и отнестись к этому очень серьезно.
– Подожди минутку, – Грек отвлекся на остальных игроков: – Не возражаете?
– Небольшой перерыв на пользу, – улыбнулся Королевич, затягиваясь сигарой.
Грек поднялся и отошел к окну, подальше от игрового стола, и стал так, чтобы лицо его загораживал фикус:
– Что еще?
– Мне одиноко, Грек…
– Твои шутки уже осточертели!
– А я не шучу, я говорю чистую правду. И мне нужна помощь. За соответствующее вознаграждение, естественно.
– Значит так – звонка этого не было! Теперь скажи мне спасибо, и баиньки!
– Спасибо, дорогой, ты мне скажешь! – неожиданно рявкнула Женя. – Кретин! Недоносок! Я тебя из могилы тащу!.. «Спасибо»!..
– Я ничего не слышу, – флегматично проронил Александр.
– Деньги Ташана.
«Бензиновый король» насторожился.
– Прочистил уши?
– Подожди. Я перезвоню.
– Куда ты перезвонишь? – захохотала Женя.
– Так ты… – поперхнулся мыслью Грек.
– Да, как обычно. Бегать – мое хобби! Хотя, честно говоря, я устала. Ну, ты понимаешь…
– Что тебе известно?
– Достаточно, чтобы прикрыть твой зад.
– Ну, я слушаю.
– Э-э, нет! У любой сделки есть обоюдные условия.
– И мне стоит тратить на это время? – окрысился Александр.
– Откуда я знаю? Миллион долларов – ведь это пустячок… А двенадцать с половиной миллионов? – двенадцать с половиной пустячков?.. Я не ошибаюсь в расчетах?
– Что ты мелешь?
– Деньги, деньги, милый! Твои плачущие деньги! Если я до сих пор тебя не убедила, давай поиграем в другую игру: у тебя ведь есть бухгалтерия?.. Я о твоей «внутренней» бухгалтерии. Е-эсть, дорогой, – засмеялась Женя, слыша, как он молчит. – Запиши себе на бумажку, чтобы в спешке не забыть: «эй», «би», один, ноль, семь, три, два, два, шесть, пять, «эф». Ну и, конечно же – «би» два, что соответствует, если не ошибаюсь, банку Нью-Йорка. На досуге проверь, не было ли у тебя такой купюрки с физиономией Франклина.
– Подожди, на что ты намекаешь? – всерьез заволновался Грек.
– Я подросла, Саша. Я больше не намекаю. Насчет денег не беспокойся: вскрыла всего одну пачку – расплатиться за сервис. Великодушно приму в счет своих будущих законных. Итак, сколько времени тебе нужно?
– Десять минут.
– Всегда верила в твою деловую порядочность и последовательность.
Голос Жени пропал. Грек тут же перезвонил в офис:
– Кто это? Ворохов? А где Гревин? Черт!.. – вскричал он, но вспомнил, что не один в комнате и зашептался. – Это Александр Эмильевич говорит. Да, здравствуй. Слушай, Ворохов, включай «матушку». Можешь, я разрешаю. «Невидимку» запустил? Вот, молодец! Командной, конечно, черт возьми! «Алекс». Да, – Гречишников нервничал, по ту сторону трубки долго ничего не было слышно, потом Ворохов заматерился, опять тишина. – Что? Попал? Умница. Слушай код: «мама мыла раму»… Да, просто и со вкусом. Получилось? Теперь проверь следующее… – он продиктовал номер банкноты, который наговорила ему Женя, и минуты через три услышал ответ. – Есть? Блядь!.. Так, Ворохов, компьютерный ты мой гений, убивай «маму». Да убивай, убивай! Все в порядке. Сколько у тебя оклад? Не возражаешь, если я повышу ставку вдвое? Бывай!
Грек взглянул на часы – оставалась минута сорок. Он перевел дух, попробовал что-нибудь сообразить по возникшему поводу, но ничего не получилось. Королевич отсутствовал, остальные игроки мирно беседовали, никакого внимания к персоне Гречишникова не проявляли. Ровно через одну минуту и сорок секунд трубка зачирикала.
– Да! – гавкнул Александр и услышал сочувствующий голос Жени:
– Проблемы?
– Рассказывай.
– Так вот, об условиях: с твоей стороны одно – ты его поставил, с моей стороны их очень много, перечислять не буду, а то запутаюсь. Приезжай – поговорим.
– Куда?
– Ты пересечешь мост Александра Невского, а с правого берега пойдешь пешком обратно, аж до Лаврского моста. Представляешь, где это? Вот, батенька! Это тебе за то, что ты слишком мелко меня ценишь! Кстати, забыла сказать: придешь совершенно один…
– Как один?
– Ты знаешь, что такое «совершенно»? Вот так и придешь.
– Я не могу один!
– Боязно? Ничем помочь не могу. Никому из твоих мордоворотов я не доверяю… как и тебе…
– Да пойми ты!..
– Понимаю, но извини – вешаю трубку…
– Стой!..
– Впрочем, – вдруг сжалилась девушка, – возьми с собой Майка.
– Майк в отпуске.
– Твои проблемы, Грек.
– Мне нужно время.
– Так попроси. Подсказать волшебное слово?
– Пожалуйста, – слипшимися губами забубнил Гречишников, – дай мне часа четыре.
– Ух ты! Ну ладно, в полночь. И если – вот это вот задолби в свою голову – если тебе дорога жизнь, то не разболтай о нашей маленькой тайне кому ни попадя, тем более – ублюдку Хеллеру. До встречи.
Александр присел на стульчик возле окна, секунду подумал, набрал номер Майка.
– Ну, где же ты, родимый? – и облегченно вздохнул, когда услышал сухое: «алло».
– Грек?
– Извини, Майк. Ты мне срочно нужен.
– Обойтись нельзя?
– Одна важная встреча. Мне вообще сказали одному приходить.
– О-о, серьезно?
– Да потом разрешили с тобой. Представляешь, какое доверие?
– Кто это такой бурый?
– Ну-у… – протянул Грек и, приложив ладонь к трубке, шепнул. – Женька…
– Кто?!
– Кто, кто… Глухой?
– Перчик?
– Да.
Майк замолчал.
– Ну, где ты там? – не выдержал Грек.
– Я буду… Через два часа.
– Порядок. Встреча в двенадцать.
– Где?
– Ты заедешь за мной к Королевичу.
– Хорошо. Уже в пути.
Гречишников отдал трубку Пашку, потом передумал, отобрал и положил в карман своего пиджака, отдыхающего от хозяина на спинке стула.
– Еще раз извиняюсь, – вернулся Александр к прерванной партии.
Тот, чью фамилию мы не называем, милостиво развел руками:
– Ждем Ефима.
Но Королевич не заставил себя долго ждать. Игра возобновилась. Греку везло по-прежнему, только он этого не замечал…
Майк появился в двадцать два двадцать восемь. Капитан не пробыл в своем домике на Вуоксе и трех часов, только успел расслабиться – и вызов с «большой горы», поэтому был он ужасно злым: ничего не спрашивал, односложно отвечал и казался намного холоднее и спокойнее обычного.
Грек все четко выполнял по инструкциям, данным ему Женей. Без двух двенадцать они с Майком были на Лаврском мосту. Чертыхаясь и матерясь, простояли на нем, как два барана, минут сорок. Потом поплелись обратно к машине. На площади им перекрыло дорогу такси. Выскочил небольшого роста с усиками и кроличьими глазками человек, пихнул в руку Гречишникова клочок бумаги и отгазовал в неизвестном направлении.
– Какого дьявола? – вспылил Грек.
– Наша Женя очень даже не дура, – без настроения сказал Майк. – Нас все это время выгуливали.
Гречишников обернулся: от них очень шустро, хромым метром Пола Дэзмонда из «Take Five» [13] , удалялся какой-то обормот.
– Что на бумажке? – спросил капитан.
– Евгения Ромашенкова. Невский, 177, квартира 3. Записку… съесть… Она развлекается! Идем.
В названную квартиру они проникли под той же аурой конспирации. Молодой мужской голос спросил из-за двери: «Кто такие и к кому пришли?» Им пришлось назвать свои имена и, соответственно, указанное в записке. Высокий, грузный, едва ли совершеннолетний, но блекло и цинично ко всему относящийся парнишка проводил их в одну из комнат. Ничего лишнего: скромный растительный дизайн, несколько дискусов и скалярий в аквариуме, зашторенное окно, столик. На столике, конечно же, «Мартини», «Уокер», две бутылочки черниговского «Талера», несколько сэндвичей с черной икрой на бутерброднице, наливная тара всевозможных емкостей и дымящаяся сигарета в пепельнице. Вокруг столика три кресла. В одном сидела Женя, прекрасная, как никогда. Что делает с людьми фактор свободы!
– Доброй ночи, джентльмены, – приветствовала их девушка. – Извините за некоторую театральность: проверка. Прошу к столу. По части напитков здесь самообслуживание. Кстати, фуршет, Грек, за твой счет.
– Наглость из тебя так и прет, – процедил Александр, усаживаясь в кресло.
Майк же раздольно плюхнулся, нога на ногу, откупорил бутылку пива и – прямо из горлышка, одним ухом готовясь слушать.
– Ты только не гунди, Грек, – попросила Женя. – У меня с утра голова болит, я все еще проветриться не могу.
– Я звонил Москиту и Владику. Они не отвечают, – Гречишников открыл виски.
– Ну, это уж не моя вина. Обо всем надо было заранее думать.
– Что ты имеешь ввиду?
– То, что нельзя было меня трогать.
– Не понимаю. Они что же?..
– Москита и Карлика замочил Владик.
– Как? – опешил Грек.
– В подробностях?
– Почему?
– Наверное, совесть взыграла.
– Совесть? – он так и не налил себе виски, поставил бутылку на место. – А где Владик?
– Это так важно? – пожала плечами Женя. – Ну, допустим, несчастный случай на дороге. Возможно такое? Бывает?..
– Ну и в положеньице ты меня ставишь, – посерел Грек.
– Пошлешь его тамбовской маме рождественскую открытку… Я спасаю тебя, придурок.
Майк усмехнулся. Женя перехватила его взгляд, и оба они успокоились.
– Что ты хотела мне предложить? – Александр напустил на себя благосклонный вид и откинулся в кресле.
– Вы невежа, мистер. Никаких одолжений от вас мне не надо, – девушка широко улыбнулась. – Сделка, она и есть – сделка. Если что-то не устраивает, можешь убираться.
– Ну, извини, извини. Я на самом деле внимательно слушаю.
– Вынуждена напомнить: поставлены не все условия моей стороны, а посему – вопросы задаю я. Расскажи мне о Ташане.
– Черт! Я думал, ты мне скажешь!..
– Скажу. Но позже. Сначала я хочу от тебя услышать.
Александр глянул на Майка, тот мягко, но утвердительно кивнул. Грек налил виски, выпил, зажмурился, причмокнул языком и закусил бутербродом.
– Ташан – пират, – сказал он, – левое горючее и все такое…
– Боженька милый, тебе мало киришского конфуза? Ты ведь хвалился мне своей ловкостью и зарекался: ни-ни!.. Ладно, что дальше?
Грек обиженно покосился на Женю, но по делу продолжал:
– Ташан легализуется. Но под него ФБР копает. А где еще можно честно заработать?..
– Правильно, только у нас, – вставила Женя. – От каждого по способностям… То-то я и смотрю: премьеры меняются с завидной регулярностью!
– Ташан искал партнера. Нашел в моем лице.
– Что за бизнес?
– Тебе не понять.
– А я попробую.
– Цель – потеснить нефтяных гигантов на Российском рынке. Всех: и наших, и зарубежных.
– Как?
– Дешевое топливо.
– Это возможно?
– Как виток для создания новой монополии, да. Процесс занял бы года три-четыре. Во второй половине июня прибывает первая партия танкеров.
– Есть товар, есть и деньги! Что же с деньгами?
– Послушай, Женя, – сорвался Александр. – Если ты думаешь, что я вот так вот, запросто, по-дружески с тобой беседую, то заблуждаешься! Сейчас Майк возьмет тебя за горло, и ты расскажешь все, что знаешь! А потом того жирного петуха, что открыл нам дверь, найдут захлебнувшимся собственной мочёй, а тебя вообще не найдут!..
– Я-то думаю, – хлопнула себя по колену Женя, – зачем тебе Майк нужен!
Грек замахнулся.
– Не забывай: я тебе больше не принадлежу! – предостерегла Перчик.
Он вернулся в кресло и чтобы как-то успокоиться, налил еще виски:
– Почему ты не пьешь?
– У меня впереди долгая, но светлая ночь. Не спать же.
Гречишников апатично хмыкнул, опрокинул рюмку:
– Что тебе еще надо?
Женя сейчас, как ей показалось, ясно представляла, что именно случилось в «благородном семействе», расставила по местам содержимое ящичков и коробочек своей памяти, и решила открыться после «первой раздачи».
– Сиди, – снисходительно кинула она.
Майк, живо наблюдавший эту сцену, закрылся рукой от Грека и состроил на своем лице гримасу полного обезоружения и капитуляции.
– Значит, честное слово бизнесмена и никаких контрактов? Хотели обойтись малой кровью? – откровенно спросила Женя.
– О чем ты? – заиграл в «непонятку» Грек.
– О том, что когда-то уважаемый мною Александр Эмильевич сдал приличненькую сумму на хранение в банк, а ключик оформил на предъявителя.
– За дурака меня держишь?
– Ты рискуешь в покер, но здесь рисковать не стал.
– Рисковать?
– Тебя «комитет» пасет. Любые контакты с Ташаном для тебя – небо в клеточку, а славы и власти хочется. Так ведь?
– Откуда тебе все это известно?
– У меня есть источники.
– Ну, хорошо. И?
– Дальше? Шесть миллионов триста тысяч долларов (теперь чуть-чуть поменьше) со вчерашнего дня в моем распоряжении. Есть второй такой же чемоданчик. Знаю, где лежит.
– И что это за доллары?
– Какой ты непонятливый! Твои! Или Ташана, это уж – как захочешь. Все одно – неприятность.
– Во-первых, у меня было восемнадцать миллионов.
– Тут уж, извини, отвечаю лишь за то, о чем имею представление.
– Пусть. Во-вторых, неужели ты намекаешь на нечистоплотность банка?
– Ни в коем случае. В курсе, что такое «опала»?
Грек побледнел:
– Мертвые деньги…
– Вот именно. Все равно какие там: просто изъятые из употребления и подлежащие уничтожению, бракованные… А черт их знает! Важно другое – что о тебе подумает Ташан, когда полученные денежки у него там, за границей, арестуют?
– Блеф. Невозможно.
– Но ты веришь мне, – улыбнулась девушка.
– Нет, не верю.
– Ты не веришь в то, что я это смогла сделать, но допускаешь мысль, что это сделал кто-то другой.
– Почему деньги у тебя?
– Потому что тот, кто это сделал – поступил умно: хранил деньги дома, а сыграл неосторожно: назвал мне шифр своего сейфа.
– Ян, – упал голосом Грек.
– А не затеялся ли весь этот сыр-бор с его подачи? Вспомни.
– Но он только обронил пару слов, – простонал Александр, проводя пальцем по лбу. – А я перехватил идею.
– Он сделал тебя, дорогой, как двоечника, сделал. Но возрадуйся: жизнь – это зебра! Не упусти свой шанс!
Грек опустошил третью рюмку, заулыбался и погрозил пальцем:
– Нет, нет!.. Что-то здесь не так! Опала – черт с ней, эти каналы мне не проверить. Банк, Женя, банк! Ты меня не проведешь! В Питере внедрить человека для такого дела Яну не под силу… Не проведешь!
– А я и не собираюсь. В одну реку дважды не ходят, тем более по чужому броду. Ты видел на дне рождения Хеллера такого лысенького очкарика-старикашку?
– Видел… – кашлянул Грек, растянуто и нехотя он вспоминал свои неприятные ощущения того майского дня.
– Имя Леонида Степаныча тебе ни о чем не говорит?
– Да, да… – Александр склонился над столом и тупо уставился в бутылку. – Это был он… Все-таки он…
– Кто? – спросил Майк.
– Подкорень… Лёня Подкорень… Как-то нас представляли друг другу, лет восемь назад… Мог… Этот мог… Старый хрен! Крыса банковская! Шакал! Вакцинатор ёбаный! – Грек схватил Женю за руку: – Где деньги?!
– Выпей еще виски.
Он ударил ее по лицу. Вскочил, повалил ее вместе с креслом, ударил еще:
– Майк!
Капитан дернул его к себе:
– Успокойся, Грек! Смотри на нее – она ничего не скажет!
Девушка лежала на полу, щека горела, губа припухла, но она торжествующе улыбалась. Александр, шатаясь, вернулся на место. Майк подал Жене руку, поставил ее кресло и сел между противниками.
– Мы же деловые люди, – сказала Женя, утираясь салфеткой. – Ты так ни цента не получишь.
– Что я должен делать? – Грек одну за другой принял две рюмки и уже не закусывал.
– Вот это самая интересная часть нашего фуршета. Я хочу сохранить то, что приобрела.
– Что же? – в ее взгляде он уловил что-то злое, отчаянное. – Извини, но с этим художником… Это не моя вина…
– Речь о другом, – оборвала девушка. – Сейчас мы заключаем новый договор, опять же на честном джентльменском слове. Ты позволишь, я приму на себя роль джентльмена? Так вот, с твоей стороны: счет в швейцарском банке – опять же на предъявителя (и заметь: никаких алиментов!) – плюс беспрепятственный выезд за границу. Меня устроит скромная сумма, небывало скромная, совершенный пустяк…
– Сколько?
– Согласись, я могла бы покуситься и на половину того, что имею сейчас, но я не попрошу даже того, что все вы – свиньи – мне задолжали! Триста тысяч.
Грек и не был особенно пьян, но после этих слов совсем протрезвел.
– Сколько? – не веря своим ушам, пропел он на высокой ноте.
– Ценишь мою щедрость?
Он усмехнулся:
– Так ты играешь в комиссионера. Спасибо. Твои два с половиной процента я обещаю.
– Улететь я должна завтра же.
– Вот это никак. Сначала мне надо все как следует проверить, потом уже заняться твоими документами и вызовом. Уйдет неделя.
– Если бы я не знала твоих возможностей, не говорила бы о завтрашнем дне. Ладно, к компромиссу я готова.
– Неделя.
– Ян приезжает в воскресенье. Поэтому я согласна на субботе. Ты меня понял?
– Я гарантирую твою безопасность.
– Троих из «твоей безопасности» я уже видела.
– Хорошо. Понедельник – самое раннее, – виски убавилось еще на рюмку.
– Воскресенье вечером. И чтобы Ян до моего отъезда не попал в свою квартиру на Невский.
– Идет.
– Вот и договорились.
– Когда я получу деньги?
– Перед тем, как сесть в самолет, я скажу, где лежит половина. А другую подождешь, пока я не обезналичу счет.
– Это несерьезно…
– Более чем серьезно, – оборвала Женя.
– Где гарантии?
– Мое честное слово.
– На тебя нельзя положиться.
– Другого расклада не жди. Завтра в Неве выловят мой молодой и красивый труп. Я иду на это с легкостью. А ты? Раскрой свои карты…
– Да-а, – протянул Гречишников. – Стерва еще та!
Женя покачала головой:
– Вспомни. Я тебя любила. А ты меня наказал, жестоко обидел, подставил. Ты меня продал, Грек, точно так же, как и все остальные покупали и продавали. Я злопамятна. Но сейчас… – она усмехнулась, – мне ничего не нужно, лишь бы не видеть ваши рожи. Я хочу исчезнуть, Грек. Это мое единственное настоящее желание.
– Нет.
– Рассуждай логически: эти миллионы мне с собой не увезти, они останутся здесь. Какой смысл тебя обманывать?
– Ты мстительная сучка – я знаю…
– Если и есть человек, которому я отомщу, то – не льсти себе – это Ян. Мой договор с тобой – сам по себе месть. Никакого удовольствия при этом я не испытываю.
– А почему ты не хочешь поверить моему слову? Ты же знаешь…
– Я знаю, что ты – бизнесмен. Ян – тоже бизнесмен. Между вами есть некое соглашение, о котором я могу только догадываться. Чем он там тебя за яйца держит – мне не интересно. У меня своя политика. Все движется по спирали. Я не хочу возвращаться в прошлое. Я должна родиться другой. Поэтому ты выполнишь мои требования.
– Куда ты летишь?
– Угадай с трех раз.
– Понятно.
– Я позвоню тебе в воскресенье утром.
– Не раньше полудня.
– Хорошо, в полдень.
Грек поднялся, следом за ним – потягиваясь и вращая лопатками – Майк. Женя вышла их проводить.
– Да, еще, Саша, – остановила она на пороге, – личная просьба – не играй больше в карты на людей.
Александр недовольно поморщился, тряхнул головой и выскочил на лестничную площадку.
Капитан обернулся, по-отечески глянул на «шантажистку» и поправил воротничок ее блузки, оттопырившийся после драки:
– Ты молодец.
Женя выглядела усталой: Александр теперь не видел ее, игра закончилась:
– Ты настоящий человек, Майк. Настоящий мужик. Жаль: я не свободна. И извини, если что не так.
– Квиты. Счастливо.
– Прощай.
Дверь закрылась. Майк догнал Грека на середине марша. Грек поежился:
– Что там еще?
– Призналась мне в любви, – ответил капитан.
– Чего?
– Сказала мне спасибо, что я тебя – болвана – вовремя остановил.
– Коза.
Они вышли на улицу.
– Война? – спросил Майк.
– Нет, братец, – зло засмеялся Гречишников, предвещая удивительные события (именно за такой смех и уважал его Майк), – войны не будет! Я не опущусь до бытовухи. У нас куча времени и прекрасная возможность отполировать эту немецкую задницу по Закону!.. Об одном сожалею: идея красивая! Сделку с господином Ташаном придется свернуть…
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
…Кубарем, белкой в карусель, в бездну
Катится стрелки якорь железный,
И у хвосточка вечность клубится.
Мертвая точка – снова влюбиться!..
Ах, друзья, что ж так хочется в Лондон!
Хитроу. Тоже город. Город гигантских бесперых дюралевых птиц. Здесь их тьма. Здесь тьма всего: магазинов, гостиниц, машин, людей. Люди делятся на служащих и не служащих. Не служащих больше. В душе они говорят на разных языках, здесь – на английском, даже если его не знают. Вот академично одетая женщина с гамбургским акцентом. Вот молодая парочка из Брюсселя. Вот физик из Дании. Дипломированная (в смысле вооруженная дипломатами) делегация черных самураев, спокойных, словно у себя дома. Ирландский террорист, в спешке на родину. Джинсово-кожаный ковбой (почему-то с «Мальборо» в зубах), веселый и очень начитанный (кстати, по-английски говорит хуже всех выше перечисленных). Хитроу. Этот монстр пропускает их через себя ежедневно сотней тысяч и не давится. С чего бы? Переварит и забудется восьмичасовым сном: 11 Р.М. – баста, хорэ летать, спокойной ночи. Птицы спят. Птичий город в бриллиантовой цепи огней. За надежными звуконепробиваемыми окнами отелей – мирное ожидание рассветного часа. Хитроу. Отсюда начинается дорога в Лондон… Пардон: и отсюда тоже.
Самолет из Москвы прилетел в понедельник утром, без пяти девять. Женя в смешении чувств ступила на английскую землю. Это странное существо без багажа несколько не вписывалось в общую картину. Ее шокировала необычайная чистота воздуха: об этом почему-то не говорится, но так оно и есть – лондонский смог с середины века благополучно превращен в миф. Пройдя паспортный контроль, Женя очень легко заблудилась в отточенной работе терминала, не говоря уж о многочисленных переходах и эскалаторах, различных надписях и вывесках, приводящих в отчаяние. При этом эталонный ноль внимания на TAX amp; DUTY FREE SHOPS [14] .
Женя периодически вспоминала о путеводителе по Лондону и разговорнике, покоящихся в сумочке, но оттого-то они и покоились, что надоели ей до тошноты в самолете: неведомо почему – все новое воспринималось с раздражением. В уравновешенное состояние русскую путешественницу вернула начерченная на стене красная окружность, перечеркнутая по горизонтали синей полосой с волшебным словом UNDERGROUND [15] . Но на метро она все же не поехала, обнаружив спустя минуту другой указатель: TAXI-RANK [16] .
Стоянку она отыскала без труда. Людей здесь было немного, черных жукообразных машинок гораздо больше. Кэбмэн лично открыл дверь «жука», когда интересная девушка прямиком вышла на него, но тут же расстроился, признав глупую иностранку: она сказала одно слово: «Centre» [17] .
Сказано – сделано (жалко, что ли?), правда, центр – понятие растяжимое. Ничего, начнем с классики: «Stop here, please» [18] . Описание того, что было увидено через стекло авто, можно составить тремя словами: много, ярко, не запомнилось. Но Букингемский дворец она узнала сразу, поэтому и просила остановиться.
Обитель британских королей (королев?) выглядела традиционно, как на черно-белой фотографии детских лет: серый камень, совершенно не помпезное здание – ничего лишнего – любая станция метрополитена имени В.И.Ленина куда залихватистее. Что ж, так и надо. Первый дом и должен быть первым. Только два ярких пятна: золотая линия пик на высоченной решетчатой ограде и солдат в караульной будке. На страже большая, словно черный мохнатый кокон, шапка, нахально-красный мундир, через плечо – оштыкованная миниатюрная винтовка. Он стоял, стоял, видимо устал и начал картинно разминать ноги, прохаживаясь вдоль дворцовой стены, отмахивая свободной рукой и гулко притопывая подошвами на местах разворотов.
Женя устала за ним наблюдать и прошла мимо белокаменного, окрыленного бронзовым ангелом памятника королеве Виктории в Сент-Джеймс-парк. Здесь она могла окончательно прийти в себя и сообразить, что же делать дальше.
Прекрасная страна детских грез не радовала и не удивляла. Женя так мечтала попасть сюда. Желание исполнилось спустя много лет разрушающей жизни – сокровенное смеркло. Лично ей умереть удалось. Но есть такая штука – память, которая не умерщвляется и, стало быть, не дает родиться заново. Может быть, и надо-то всего чуть-чуть – понять, куда сделать первый шаг и зачем – но, Бог ты мой, насколько это нереально. Пошлый пример: вас размазало катком по асфальту, сознание не отключилось, но вы даже заорать не можете, не то, чтобы звать на помощь…
Так думала Женя, сидя на аккуратненькой скамеечке, поглядывая на барахтающихся в озере толстых уток и поглаживая босыми ногами пушистую ковровую травку… Нет! Надела туфли. Первый шаг! Все образуется, все будет, только стоять нельзя. А куда идти? Дальше, по тем местам, что ей знакомы. У нее очень много времени! Потом – отель. Завтра – звонок в Женеву, ей перешлют деньги… Все начнется!..
Она была у Парламента, сизого, остроочерченного, готически грозного. Была у памятника Уинстону Черчиллю, очень странного памятника, реалистичного до неприличия: лысого, тучного, кривого на правый бок, опирающегося на трость (вот вам и «хитрая лиса» – премьер-министр Великобритании!). Женя была на экскурсии в гигантском Лондонском аквариуме, и чего там только не плавало! Гуляя по набережной Виктории и Нортумберленд-авеню, вышла на Трафалгар-сквер, украшенную колонной с монументом адмиралу Нельсону, пестрым столпотворением народа и ордами голубей. При всем при том, площадь была абсолютно чистой, нисколько не загаженной (кто и когда там успевает убирать?). И понесло Женю по площадям: Сент-Джеймс-сквер, Пикадили-сёркус, Лестер-сквер. Все они разные. Одна – строгая, тихая и зеленая. Другая – больше не площадь, а небольшой проезд с огромной рекламной вывеской, бедный крылатый лучник в центре этой сёркус того и гляди навернется с пьедестала. Третья – ярмарка всевозможных талантов. Еще на Пикадили Женя встретила памятник «невеселому гражданину Самому Себе»: напротив «Рок Сёркус» – это кафе такое с восковыми рок-идолами – взяв за постамент пивной ящик и разукрасив себя с макушки до пят серебрянкой (если быть точнее – «чугункой»), красовался часами без единого движения некий молодой человек. Впрочем, кесарю – кесарево. Чуть поодаль от «памятника» журчала волынка; шотландец, набивающий бурдюк воздухом, выглядел сомнительно, лишь наполовину по-шотландски: клетчатый килт и грязная длинная футболка с пацифистской эмблемой.
Нет, истинные чудеса на Лестер-сквер! Формула «кто во что горазд» отсюда: на каждый метр – индивидуум, зараженный своими философией или искусством, окруженный толпой благодарных слушателей или зрителей. Здесь и музыканты, и жонглеры огненными факелами, и танцоры, и немыслимые ораторы. Здесь довольно много людей и не очень чисто – нет урн и мусорных бачков – здесь нескучно и просто во всех отношениях. Кто-нибудь из виртуозов Лестер-сквер может выхватить вас из толпы, заставить играть по его правилам, выставить безобидным посмешищем и – как результат – утопить в краске смущения и аплодисментах публики. Нечто подобное случилось с Женей. Она имела смелость стоять в первых рядах кучки народа, собравшегося вокруг негра-танцора. Этот весельчак вытворял разные умопомрачительные, на первый взгляд, несложные штуки, усматривал себе жертву и вовсю потешался. Его быстрой речи Женя не понимала, но увлеченно наблюдала и смеялась со всеми, когда он трех мальцов учил ползать гусеницей, лежа на спине. У самого у него ловко получалось, эффектно. Она еще подумала: «Потом обязательно так попробую». А негр заметил раскосую синеглазую красотку и, не обращая внимание на ее шифоновую нежно-бежевую троечку, вытащил за руку к расстеленному на асфальте большому квадрату клеенки. Под хохот толпы она легла на спину, безнадежно и глупо уставилась в голубое небо. Музыкальным сопровождением служил стандартный шестнадцатиметровый бит с полным отсутствием мелодии и гармонии. Негр улегся рядом: «Come on!» [19] . И она представила себя этой самой гусеницей – мелькнуло в голове: «Мастерство не пропьешь!» – может быть неумело, но у нее получилось. Негр выглядел довольным и удивленным. Он выкинул мудреный антраша. «Э, нет, голубчик, такое уж совсем просто!» – коварно улыбнулась девушка… В последующие пять минут она сделала из него безвольную куклу: парень был пластичен, оригинален, но не до такой степени вынослив, как русская балерина. Однако, мучения негра окупились. Он получил несказанное удовольствие, а публика щедро одарила его мотоциклетную каску звонкой монетой. Танцор раскланялся во все стороны, замахал руками, что-то выкрикивая с явным отрицанием. Толпа, смеясь, стала рассеиваться. Женя наклонилась, чтобы поднять свою сумочку, но негр опередил ее.
– Thanks [20] , – кивнула Женя.
Он приложил руку к сердцу:
– Frank.
– Eugenia, – улыбнулась она.
– I’d ask you to make me a company for my early lunch, – он указал на мотоциклетную каску. – That’s your money [21] .
– I’m sorry, I don’t understand [22] , – попробовала отгрешиться девушка заученной фразой непонимания, но он деликатно взял ее под руку:
– I dare not insist, but entreat [23] .
И отвел ее, что называется, «to the nearest public house» [24] . Женя заказала овощной салат и «Мартини Драй», негр предпочел хищную пищу и две пинты «Спринг Бока». Он много говорил, чего она не понимала, похоже – шутил, после – смеялся. Постепенно что-то прояснилось. Слово ballet [25] уже было знакомо. Потом он, видимо, сообразил, с кем связался, усмехнулся, начертал на бумажке: friend Frank [26] и номер телефона, бросил веселое: «Bye!» [27] . – и помахал рукой.
Девушка купила пачку «Уинстона». Сигареты были странными, завернутыми в какую-то блестючую целлофанину. Закурила. Ничего не почувствовала. Вкус был другим, ни крепче, ни легче, а как-то непонятнее, возможно, приятнее. Не почувствовала… Столкновение с Фрэнком заставило ее снова задуматься. Как все невероятно просто может быть: незагруженные улицы, видимые издалека красные телефонные будки и двухэтажные автобусы, незыблемые стражи порядка – бобби [28] , свобода в поиске себя и своего места. Почему же ей так пусто и тоскливо? Она ушла от страха жизни и смерти. Что осталось? Одна она. Не это ли причина беспокойства? Нет. Да и беспокойства-то нет! Есть тоска. Пустота!.. Больше ничего не хочется. А говорят: счастье человека в отсутствии его желаний.
Женя затянулась еще раз. Дым задержался в легких, выпорхнул и, не рассеиваясь, завис над столиком. «Странно, – подумала девушка. – Не хочу». Она положила сигарету в пепельницу. В пабе звучала музыка – лирика Боби Скота и Рика Марлоу с тревожной интонацией, увековеченная битлами. «Что он там поет? – прислушалась Женя и, к своему удивлению, несколько слов поняла. – …Снова на моих губах вкус меда? Нет. Не правда. Это сказка». Она поднялась, пачку «Уинстона» бросила рядом с пепельницей.
На пороге ее догнал обнадеживающий голос Маккартни: «…I will return. Yes, I will return…» [29] – «Тоже неправда, – покачала головой Женя. – Не вернусь».
Неподалеку от паба, в котором она провела бесцветнейшие полчаса своей жизни, расположился угрюмый татуировщик, расписывающий тонюсеньким фантастическим узором предплечье стриженой под «ирокез» зеленоволосой девушки. «Ты, подруга, краше не станешь, – буркнула себе под нос Евгения. – И художник – так себе. Вот я знаю художника… Знала».
Она оглянулась: делать ей здесь было нечего. Но где? И что? Тут начинался Сохо, в другую сторону – Ковент Гардн, на север – Блумсбери. В конце концов обещания нужно выполнять, хотя бы данные себе. Она побрела в сторону Ист-Энда, пока снова не добралась до Темзы. Последнее напоминание о матушке-России – путеводитель по Лондону содержал весьма убогую карту центра города. Она отрезалась на западе по Грин-парк, а на востоке полностью отсутствовали Тауэр и часть Сити – со всеми вытекающими последствиями. Женя остановила небольшого краснолицего человека с седыми огромными усами и в клетчатой кепке:
– Excuse me, how do I get to Tower bridge? [30]
Но мало того, что человек заговорил бегло, так он еще оказался и кокни: замахал руками в неясных, как минимум, семи направлениях и совсем затуманил мозги приезжей.
– Thank you [31] , – обреченно вздохнула Женя и пошла дальше.
Она добралась до станции метро «Тэмпл», и тут ее осенило. По карте метрополитена девушка без труда нашла название «Тауэр Хилл», связав его с искомым местом, отправилась в дальнейшее путешествие под землей. Светлые тъюб-вагоны [32] мгновенно перенесли ее к садам Тауэра. Поверх деревьев виднелись мрачные башенки и крепостная стена. Пройдя вдоль нее, Женя прямиком вышла к заветному мосту.
Да… Пусть смеются над самомнением жителей столицы Альбиона, у которых, дескать, есть мост разводной – пусть! Но этот мост по-настоящему чудесен. Эдакая серьезная игрушка, символ порядочности, достоинства и наива. Фееричный, нарядный, воздушный. Сооруженный из светлого камня, а фермы, тросы и металлические ванты окрашены голубым.
Вход на мост был платный. Билет стоил два с половиной фунта.
Женя прислонилась к стене башни. Холодно. Будто солнце для нее не существовало. Глянула вниз. Темза такая же магнетизирующая, как воды невского разлива. Проплыл катер, рассек мутное зеркало. Получившиеся половинки закрутились по срезу бурунами. Но это должно было скоро пройти, как и все остальное, вернуться к покою.
Женя поднялась на верхнюю площадку. Как дошла – не заметила, ничуть не устала. Отсюда до плоскости воды было метров полста, не меньше. И где та великолепная панорама, что открывается с Тауэрского моста?.. Ничего особенного: левый берег – купол собора Святого Павла, небоскребы Сити; по центру – через Темзу три моста один за другим; правый берег – Саутуорк, ничем не примечательный с виду, у пирса здоровенный корабль Ее Величества «Белфаст».
«Вот тебе и здравствуй, – разочарованно прошептала Женя. – Впору говорить „до свидания“…» Ее словно током ударило: ведь это очень легко. Вода, вот она – панацея – самое покойное кладбище… Стало страшно. «Чего боишься, дурочка? Это все – свобода, сила и смысл – счастье! Признайся, ты этого хочешь. Ты увидела все, что могла, узнала больше, чем хотела, поняла самую малость из того, но, несомненно, самую важную малость. Что еще нужно, малышка? Один шаг. Верный шаг. Вода – прекрасное заполнение твоей пустоты. Иди. Боишься? Смешная…» Она оглянулась: вокруг никого, только флегматичный блюститель порядка в другом конце, у верхушки второй башни. Казалось, он не проявлял признаков беспокойства. Девушка глянула вниз еще раз. «Если падать туда, к подножию, – пронеслось в голове, – то ударишься головой о бык моста, и… тьма. Верный шаг». Она склонилась ниже. Ветер ерошил волосы. Тело сопротивлялось мысли, но глаза не боялись, посерели, стали похожими на Темзу.
– Верный шаг, – сжала крепче перила, вытянулась на цыпочках и приподнялась.
– Are you in a harry, mam? [33] – услышала она хриплый больной голос и поняла каждое слово – костями поняла.
В голове ударил колокол. Женя задрожала, отстранилась от ограды и медленно обернулась. Перед нею стоял Лесков, тощий, одичавший, с армейским биноклем на шее.
– Я третьи сутки не сплю и не ем. Вот, отвлекся на минутку – и тебя проглядел… – пожаловался он.
Перед ее взором художник стал принимать смутные очертания, искривился, поплыл. Потом она вообще перестала его видеть, сползла на пол и прижалась к стене галереи. Ничего не говорила, беззвучно и слепо плакала.
Евгений присел рядом и тихонько толкнул колено девушки:
– Чего ты, все нормально.
– Женька, – она повисла у него на шее и залила горячими слезами всю грудь.
– Все-таки мы утонем, – сделал вывод художник. – Почему ты плачешь? Это же я. Не веришь? Ну, плачь, плачь… Don’t worry, that’s all right! [34] – помахал он смотрителю и той же рукой стал расправлять ее локоны: – Ты успокойся, посиди вот так, а я тебе расскажу все, ладно?
Кивнула: стукнулась в него лбом.
– Дело в том, Женя, что у девочки, которую ты видела, есть мама. И мама эта уехала на Украину, в очередной раз посадив любимую дочу на шею своей родной сестры, то бишь Дины…
Девушка подняла заплаканные глаза.
– Да, дорогая, это всего лишь племянница.
– Господи, – простонала она.
– Господи, что?
– Я – дура!
– Ну, я подумаю над этим…
– Женька! – девушка снова уткнулась в него.
Лесков чувствовал, как радостно и легко бьется ее сердце.
– Слава богу, – вздохнул художник. – Куда бы сначала пойти? В какой-нибудь кафеюжник или сразу в гостиницу – спать?.. Знаешь, я снял номер в отеле – здесь, недалеко – но так ни разу и не побывал там: все караулю, днем и ночью. Хочешь в бинокль посмотреть?
– Мне неспокойно и больно, Женька, – она крепче прижалась.
– Вот те раз!
– Нет, это хорошо. Это потому что ты меня заполняешь. Я только что была сама не своя, я ничего не хотела и не чувствовала… Господи, какая же я дура: ведь если бы ты меня не нашел!.. А как ты меня нашел?.. Как ты попал?.. – Женя околдованно поглядела на него, полусонного, небритого, с незажившим до сих пор лицом.
– Все просто. Я оставил Динке тридцать тысяч. Она купит новую квартиру и все, что ей угодно, а старую продаст. Хотя, с другой стороны, думаю, никто ее искать не будет. Кому она нужна?.. А сам я в тот же день успел до закрытия в «Наследие» и использовал свой шанс.
– Какой?
– Помнишь, некий мистер Хоуп купил мои картины и оставил визитку? Вот ему-то я и позвонил. Он был еще в Питере. Мы встретились. Этот мистер Хоуп весьма состоятельная и влиятельная личность, к тому же, сведущий в искусстве человек. Он сделал мне очень интересное деловое предложение. А я, в свою очередь, убедил его в том, что мне немедленно нужно выехать в Лондон.
– Как?
– Я сказал, что мне надо найти и вернуть самого дорогого на свете человека. Он поверил.
– Поверил?
– Ему ничего не оставалось делать: я рассказал нашу историю и показал портрет. И вот – с субботы я в Лондоне, не моюсь, не бреюсь, не чищу зубы, жую жевачку, раздражаю полисменов…
Женя, наконец, рассмеялась:
– Ты гений, Женька. Я тебя люблю…
– Но-но-но! Без фамильярностей! Я, между прочим, по паспорту, теперь гражданин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Юджин Гроуви – мелочь, а приятно!
– Дурачок!
– Новая страна, новые имена… Нам надо знакомиться заново!
– А говорят: логика и романтика не совместимы, – щелкнула его по носу Женя.
– What wonderful weather! – воскликнул «незнакомец». – What a pretty girl!.. Do you mind letting me introduce myself? Eugene Grovy, – он коротко поклонился. – And what’s your name, Miss?.. [35]
Но прежде чем мисс успела что-либо ответить, наглец Юджин, крепко обхватив девушку, прильнул к ее рту своими «иностранными» губами. В них не было ничего нового – губы, которые она узнала еще в безнадежно далекой России, которые так будоражили и услаждали, заставляя стонать, смеяться и плакать, повергая в восторг и ужас, открывая перед ней незримую пропасть ощущений. Вспомнилось, как странно мучительно и самозабвенно делала она шаг к смерти и как потом просыпалась, полная радости и света жизни…
Перед затуманенным взором опять пронеслись холодный Поцелуев мост с натянутыми по нему жилками трамвайных рельсов, каменные дома с дрожащим в их окнах солнцем, маленький театрик на Садовой, слепой подвыпивший музыкант и другие лица – неприятные – людей уже не страшных, не имеющих права вторгаться в ее память… Это все было. Остался только наркотик-жизнь, единственное, что имеет над ней силу… Желанную силу…
Женя вдруг отчетливо поняла: счастье – это когда есть что терять. Это может быть совсем не много, но непременно важно. Сейчас это то, что бьется в груди, что током бежит по всему телу от висков до кончиков пальцев. Это то, что жадно проникает в нее, мятным вкусом плывет по нёбу и кружит голову. Оно дает ей новое приглашение в ту самую пропасть, в один из причудливых миров, оно зовет ее с собой туда, где можно будет терять и, теряя, обретать – туда, где вечное счастье, созданное смелой кистью неизвестного еще никому художника… и самым сокровенным цветом. Цветом света.
Примечания
1
Здесь и далее используются стихотворения Алексея Савватеева.
2
По-французски ( фр. ).
3
«…Слова любви шепни чуть слышно в тишине» (англ.). – Строчка песни из кинофильма «Крестный отец», музыка Н. Рота.
4
«Дом восходящего солнца» ( англ. ) – народная английская песня в исполнении рок-группы «Animals».
5
Положение ( лат. )
6
Отрывок из стихотворения Марины Ивановны Цветаевой «Бессонница».
7
«Дитя Печали сидит у реки…» ( англ. ) – Песня австралийской группы «Nick Cake amp; The Bad Seeds».
8
«Буре» ( от фр. ) – инструментальная композиция английской рок-группы «Jentro Tull».
9
Нет, мисс Юджинияю.
10
типа саквояж ( фр. ).
11
«Когда музыка затихает» ( англ. ) – песня американской рок-группы «The Doors».
12
«… до конца» ( англ.) – голос Джима Моррисона, певца группы «The Doors».
13
«Держи пять» ( англ. ) – известная джазовая композиция.
14
Магазины, торгующие без пошлины ( англ. ).
15
Метрополитен ( англ. ).
16
Стоянка такси ( англ. ).
17
Центр ( англ. ).
18
«Остановите здесь, пожалуйста» ( англ. ).
19
«Давай!» ( англ. ).
20
Благодарю ( англ. ).
21
Не позавтракаешь ли со мной? Это твои деньги ( англ. ).
22
Извините, не понимаю ( англ. )
23
Я не настаиваю, но прошу ( англ. ).
24
до ближайшего паба ( англ. ).
25
Балет.
26
Друг Фрэнк ( англ. ).
27
– Пока! ( англ. )
28
Так в Англии называют полисменов.
29
«Я вернусь. Да, я вернусь…» ( англ. ) – слова из песни «A Test of Huney» («Вкус меда».
30
– Извините, как мне добраться до Тауэрского моста? ( англ. ).
31
Спасибо ( англ. )
32
вагоны метро ( англ. ).
33
– Вы куда-то спешите, мэм? ( англ. ).
34
Не беспокойтесь, все в порядке! ( англ. ).
35
– Что за чудная погода! Какая красивая девушка! Разрешите представиться? Юджин Гроуви. А как ваше имя, мисс? ( англ. ).


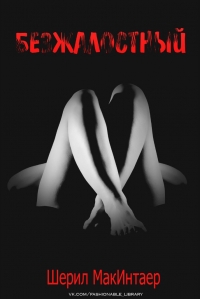

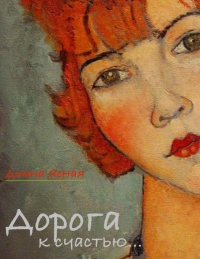


Комментарии к книге «Цветом света», Антон Ярев
Всего 0 комментариев