Галина ЩЕРБАКОВА СПАРТАНКИ… БЛИН…
Последний взгляд в маленькое зеркальце в глубине стеллажа. Будто бы так, по ошибке притулилось оно к чуть выдвинутому из ряда Киплингу, но у Элизабет ничего не бывает просто так. Вот этот ее последний перед сеансом взгляд в стеллаж – это как у молящегося «Господи, прости», как у суевера «Тьфу! Тьфу! Тьфу!», как у Гагарина «Поехали!». Жизнь Элизабет – четкий, организованный механизм. Ничего лишнего и все по делу.
– Садитесь, где вам удобно, – говорит она, красиво поводя рукой. Откуда пациенту знать, что три предлагаемых места – на диване, венском стуле и в кресле – уже тест, уже входная дверь в беседу, равно как и на секунду вытянутая для жеста рука с красивыми браслетами, дорогими кольцами и хорошо прилаженными накладными ногтями. Знак разницы. Знак этажа.
Женщина в длинной, не новой – видны иголочные прихваты по шву – юбке-годе моды восьмидесятых садится на краешек венского стула. Знала бы она, как насмешливо кричит ей в мыслях Элизабет: «Да сядь полной жопой, идиотка!» Но разве подумаешь такое о известном психотерапевте? Хотя теперь даже монашки могут залупить такой мат, что мало не покажется. Но, опять же, мат – почти изыск, это не расхожее, с земли поднятое – «жопа». Элизабет улыбается красивым ртом, губы очерчены карандашом чуть темнее цвета помады. Отсюда эта соблазнительная тайность глубины рта, будто в нем много чего есть, кроме заурядных зубов и языка, как у всех. Манки! Манки! Хотя подумать – на хрена ей обольщать эту закомплексованную, сидящую на ребре сидения тетку? Какие тайны, кроме своих забубенных, серых, как войлок, неудач способна она поведать? Сколько их таких перевидала и переслушала Элизабет?
– Зовите меня просто Бет, – говорит она самым располагающим из своих голосов.
«Почему Бет? – думает Марина. – Разве Бет не от Бетси? Господи, да откуда я знаю. Какая мне разница? Пусть будет Бет. Хотя чем ей не имя – Елизавета? Царское имя, не каждому пойдет, но ей вполне… Ногти вон какие. Господи, соберусь я когда-нибудь к маникюрше? Теперь уже даже стыдно, все заросло в хлам».
– Вам сорок лет, вы разведены и у вас проблемы по службе?
– Нет, нет. Даже не близко, – тихо говорит Марина. – Во мне поселился червяк. Он лижет меня изнутри, и мне не хочется жить.
– Нарисуйте мне его, – Элизабет подвигает ей листок.
– Господи! – говорит Марина. – Червяк фигуральный. Это я его так назвала. Ну, нечто… Ласкающее до смерти… Не болит, не стреляет, не кусается, без рук, без ног… Но душит…
– Это постоянное состояние?
– Нет. Это ночь. Это когда я одна.
«Как элементарен этот женский вскрик. Ей нужен мужчина, а его нет и не будет у такой техи».
Она подходит к Марине и поднимает ее волосы вверх. Длинная шея с родинкой под ухом. Мочки ушей кругленькие, мягонькие, так бы и укусила.
«Но, но! – говорит себе Элизабет. – Брось эти штучки неслучившейся лесбиянки!»
– Марина, – говорит она. – Не буду морочить вам голову. Вам нужен любовник. Вы сохнете на корню, и вам нужен обильный полив. – Она смеется пришедшей мысли. – Вам нужен внешний червяк. Он убьет внутреннего. Извините за прямоту.
Маринины карие глаза делаются почему-то серыми как цинк.
– Вам не нравится моя прямота? Скажу честно, я сама от нее не в восторге. Но вы хороши с поднятыми волосами, у вас красивая шея, вы образованы… А вы конаете себя. Сами себя сживаете со свету.
Марина улыбается:
– Я и вправду забыла, что konac по-польски – умирать. Мне надо было вспомнить польский.
«А я и не знала, что это по-польски», – думает Элизабет, радуясь возвращенной рыжеватости глаз.
– Знаете, – говорит она, – скиньте это чертово годе. Придумайте себе прическу, чтоб прямо в глаз. Погордитесь шеей, пока еще есть время. Эта деликатная девушка сдается раньше всех.
– Да я знаю, – говорит Марина, – но я не попадаю в ногу с этими лихими женщинами. Они всегда раньше меня всюду занимают место.
– Встаньте раньше их. Наконец, попробуйте с волосами сами. Начните себя показывать. Понравьтесь себе. А потом вы себя и полюбите. Вы у себя одна. И вы себе не груз, который тащат на вялых ногах. Впереди большая жизнь, много дорог, а вы ковыляете, как на последний причал. Зачеркните в себе это польское слово, я его уже забыла.
– Konac, – тихо говорит Марина.
– К черту его!
Собственно, все как бы уже и сказано. Но Элизабет берет деньги за честную работу, поэтому она должна поговорить еще. Ведь, в сущности, прическа – это насколько правильно настолько и примитивно. Должно быть что-то еще.
– Расскажите о своем замужестве, – говорит она.
– Первое сентября, мой первый учительский день. А у директора случилось пятидесятилетие. Ее завалили цветами, как могилу. Я бы, может, сама не сообразила эту мысль, но старшеклассники тихонько дудели похоронный марш и давились от смеха. Ну, меня тоже прорвало. Я захохотала, видимо, не очень тихо, а эта вылезла из могилы цветов и увидела, что я смеюсь не от радости ее рождения, а от чего-то другого. Ну, в общем, характер моей жизни в этой школе был уже предопределен.
– Перешли бы в другую. Насколько я знаю, учителей у нас всегда не хватало.
– Ну и что с того? Я ушла бы, за мной следом пошла бы телега. Мол, я циник, для меня нет ничего святого, и прочая идеология. Это говорилось вслух.
– А почему? Было что-то еще, кроме вашего неуместного смеха в первый день?
– Если человека надо схарчить, многого не требуется.
– И все-таки…
– Я увела мужа у химички.
Марина прикрывает глаза. Как это можно рассказать? Это ведь не могила цветов.
…Никита появился в школе через неделю после начала занятий. Вместе с молодой женой они получили какую-то наградную поездку в Болгарию. Они были любимцами в школе, и им даже разрешили на неделю опоздать. Вернулись загорелые, веселые. Химичка-птичка, крохотная женщина-ребенок, как бы специально созданная для торжественных переносов на руках через все пороги жизни. И чтоб подол ее платья свисал до пола.
Марина именно на подол обратила внимание. Тогда уже давно никто не носил юбки-колокол, вместо мини взметалось макси, а тут такая архаика болтается вокруг крошечных, почти детских ног. Это сейчас гордятся тридцать девятым размером, а Ума Турман даже сорок вторым. Время молодости Марины было перешейком между тем и этим, а крохотные туфли химички были последним отголоском прошлого. И вот это надо представить. Стоит приехавшая из Болгарии химичка Люся в своем колоколе, эдакая мышка-норушка, а рядом новое лицо в школе Марина – в джинсовой юбке в обтяжку, блузке-марлевке, вышитой крестом, и босоножках на хорошей, удобной платформе тридцать восьмого размера.
Что-то тогда и произошло с Никитой. Именно с ним. Как будто ему по жизни недовесили, а когда он это обнаружил, было уже поздно. Товар был на руках.
Во всяком случае, момент выяснения именно товарного эквивалента, как говорят, имел место быть. Две рядом стоящие юные женщины где-то в тонких эмпиреях скрестили шпаги и ранили мужчину. Никита так потом рассказывал Марине: «Ну, я на тебя глянул и сразу кончил. Ей Богу! Ты вся стояла такая большая и горячая. Сдержаться сил не было».
– Вам не приходило в голову, – из толщи времени она слышит голос Элизабет, – что удача в любви выше места работы? Что вы выиграли тогда, а не проиграли?
– Да, да, – отвечает Марина. – Я очень себе это внушала. Но время было еще советское. Это сейчас никакой грех не грех, а тогда… За мной потянулось нехорошее. Будто я чуть ли не младенца съела. Люсю все обожали, в школе ее называли «Светик солнце». Дети на нее просто молились. Я выглядела жабой-людоедкой. Но нет! Я была молодой и сильной. Я бросила школу к чертовой матери, ушла редакторствовать в издательство. Деньги приблизительно те же. Пришлось уйти и Никите. Но его сразу перехватили в другой школе, мужчина-учитель никогда на дороге не валяется. Вам что, рассказывать все подряд?
– Вовсе нет, – Элизабет чувствует в голосе Марины раздражение. – Только то, что считаете нужным… Но мне надо ведь понять причину вашего сегодняшнего состояния. Из чего оно выросло?
– Из чего же, из чего же, из чего же… – криво улыбается Марина. – Из дня и ночи. Из хлеба и чая. Из слов и движений. Из да и нет. – Она усмехается. – Я думала, вы меня положите на диван, проникнете в меня вашими способами и вытащите из меня эту сволочь.
– Для начала сядьте на стуле удобно. Вы стесняетесь занять больше места. Откуда этот комплекс краешка? – Она не должна была это говорить, Элизабет понимает, что неправильно в самом начале обозначить «предполагаемый диагноз». Это грубая ошибка. К комплексу краешка надо было подводить долго и осторожно. Это ее срыв. Она не смогла справиться с этим необъяснимым раздражением против этой юбки-годе, тусклых свисающих волос и бесцветья глаз. Но к ней ведь другие не ходят! Просто в остальных она ощущает покорность судьбе и готовность выслушать и бесконечно слушать врача. А эта, несмотря на краешек, все-таки непокорна, дыбится, сопротивляется. Зачем тогда пришла? Она даже от слов врача не сдвинулась на стуле, и дернулась вверх по вертикали, а не по горизонтали. Хороший, в сущности, медицинский случай. Надо с ним совладать.
– Я не кладу пациентов на диван, – нежнейшим их своих голосов говорит Элизабет. – Мне не нужны ваши покорность и беззащитность. Я предпочитаю разговор глаза в глаза. Вы не красите ресницы?
– Мне это не надо было никогда, – отвечает Марина. – А когда глаза, пардон, стухли, тушью это не поправишь…
– Зачем вы так, – мягко говорит Элизабет. – Стухли… Ничего не стухли… Период упадка сил, депрессии так же естествен и так же нужен, как восторг и упоение жизнью. Никогда одно не бывает без другого. Постоянность радости и ясности, постоянность оптимизма – признак недалекого ума. Однолинейность. В сущности, уродство. Вы другая. Вы настоящая.
Показалось или на самом деле – в глазах Марины мелькнула не то смешинка, не то скорбная ирония. Это уже прогресс. Значит…
– Вы умный человек и я умный человек. Вот и пойдем друг другу навстречу. Сколько лет продолжался ваш брак?
«Столько, – думает Марина, – что мне уже казалось – ничего другого и быть не может. Семь лет, на минуточку».
Она прижилась тогда в издательстве. Даже когда вся полиграфия посыпалась к чертовой матери, она без труда находила себе место в новых изданиях. Более того, через какой-то период возник вариант возвращения в школу. Туда, где работал Никита. Звал он сам, будучи завучем. Она тогда вспомнила запах школы, ее пронзительное многоголосье, ее стуки и грюки… Где-то что-то сжалось, но пересилило совсем другое: нежелание работать вместе с бывшим мужем. Не к месту и не ко времени почему-то вспомнилось: Люся и Никита тоже работали в одной школе. Но разве это одно и то же? Разве она Люся? И разве этот не ее Никита – тот ее Никита?
Он уже ничей. Об этом она уже давно знала. И был, был порыв – зачем врать? – опрокинуть время вспять, и чтоб все исчезло, и были они: Марина и Никита.
Бойтесь случайных мыслей. Из неведомых нам пространств они являются не случайно. Они как бы что-то знают искони, исперва. Они всегда все знают еще с дремучего времени, а вот являются не всегда, и не по зову, а так – мигом, блеском, секундным трепыханьем сердца. Боже! Все не так. Мысль – это ведь в голове. Это всегда слово. Слово было – Люся. Сто лет она о ней не вспоминала. Подол-клеш, изящные ножки, вся такая птичка-синичка. Знала, что Люся очень скоро после Никиты вышла замуж, родила двойняшек, уже директор элитной школы-новостройки. Но за все время ни разу они не встречались. Хотя жили на одной линии метро.
Так вот… Сразу после того разговора с Никитой («А не пойдешь к нам вспомнить свое настоящее образование?») и мгновенного возникновения мысленной Люси она встретила ее живую. В парикмахерской. Марина села в кресло, а в соседнем умащивалась женщина, вернувшаяся из глубины косметического зала. Боковым зрением Марина отметила: у клиентки ноги до пола не достают, она скосила глаза в сторону «лилипутки», но та уже восклицала:
– Марина! Ты? Господи, сколько лет, сколько зим!
Ну, во-первых, они никогда не были на ты. В голову бы такое не пришло в условиях тех обстоятельств.
– Здравствуйте, Людмила Петровна, – буквально по слогам ответила Марина, переполняясь чувством удовлетворения: и коротышка, и невоспитанная хамка, и все такое… Но мне-то плевать, зачем она мне и зачем я ей?
– Как вы там? Я слышала, ты ушла из школы. (Она слышала! Мать твою за ногу, да разве не из-за тебя меня «ушли»?) Многие поменяли профессию. А мы с твоим Никитой все пашем. (Они с моим Никитой! Ну, ты даешь, лилипутка!) Кстати, ему нужен предметник в старшие классы.
«Меня заклинило, – думает Марина. – Как она может говорить «Мы с Никитой»?» Какая-то мерзкая гадюка вклинилась в душу и стала вертеть мордой.
– А где работает ваш муж? – выдавливает она слова поверх гадюки.
Он работник бани. Кончал финансовый. – Кресло Марины резко развернули, и теперь она смотрела на Люсю всю – от волос, освобожденных от бигуди, до джинсовой юбки, что свисала кружевной окантовкой подола, и туфелек на высокой золотистой шпильке. Марина посмотрела на себя со стороны. Ну, что ж… На ней тоже хорошая джинса. И волосы у нее погуще. Босоножки, правда, никакие, на платформе, уже хорошо стоптанной.
– Я слышала, у вас двое детей, – говорит Марина.
– Земля слухом полнится. Близнецы, по шесть лет. Оба мальчики.
«Значит, она родила через год, как ушел от нее Никита. Не долго печалилась брошенка». Что это в ней говорит? Удовлетворение или удивление, что так легко у той получились дети?
Марина ведь делала аборт от Никиты. Потеря работы, маятня по частным квартирам, да и Никита нет-нет и впадал в депрессию. После полного достатка и защищенности с Люсей – столько проблем. Чтобы не усугублять их, она пошла в больницу и освободилась от лишней заботы. И вправду, все потом наладилось. Умерла мать Никиты, осталась комната. Умерла мать Марины, осталась еще одна. Одна и одна – будет две. Две из коммуналок в центре дали двухкомнатную хрущевку на первом этаже в Зюзине. Недавно их дом снесли и дали хорошую квартиру на десятом этаже в том же дворе. Вид из окна – лучше не бывает. Отдельные комнаты смотрят на две стороны света. Метро близко. Детей нет.
– Детей у нас нет, – говорит Марина.
Люся уже снова развернута и смотрит в зеркало. Туда же – а куда еще? – смотрит и Марина. Для своих тридцати Люся выглядит более чем.
У нее хорошая, гладкая, упругая кожа. Ей идет и короткая стрижка, и романтический сессон. Она сохранила фигуру и весит столько, сколько и в двадцать два года. У нее хорошая работа и любящий муж. Все, как говорится, тип-топ. Люся спрыгивает с кресла и, проходя мимо Марины, кладет на подзеркальник визитку.
– Давайте не терять друг друга. Мало ли что… – И она проводит ручкой со свежим маникюром по простыне, в которую еще обернута Марина.
– Какая очаровательная женщина, – говорит парикмахерша Марине. -А дети у нее – ангелы. Тоша и Гоша.
– Как попугаи, – смеется Марина.
– Антон и Георгий, – почему-то обижается за Люсю парикмахерша.
Да! Она совсем забыла. Тогда тоже все за нее обижались. Разве можно после Люси кого-то еще полюбить?
Возвращаясь назад во времени, Марина думает глупую мысль: а если бы от меня ушел Никита, сумела бы я тут же выйти замуж? Вопрос был не из легких. У Марины, кроме Никиты, ни до, ни после не было никого. Странное ощущение открытия. Только в очереди за черешней после парикмахерской все прошло. Вернулось позже.
– Семь лет – это хороший срок и для продолжения отношений, и для их прекращения. Седьмой год – кризисный. Он вам изменил? – Элизабет говорит четко, но тихо.
– Он? – с сердцем отвечает Марина. – Да господь с вами. Я во всем причина и следствие.
– Не вы первая, не вы последняя. Брать на себя вину – это крест русской женщины.
«Она меня встраивает в клин. Ей надо, чтобы я соответствовала болезни, которую она мне придумала».
Больше всего ей хочется уйти. Зачем она послушалась советов, будто ей нужен психолог, психотерапевт? Это же дурь – думать, что чужой человек, пусть даже самый умный доктор, может, поковырявшись перстами в ее словах, тех, что она сама сказала, вынуть из нее жало. А эта даже и не очень умна. «Краешек стула» – ишь нашла определение! Как ей объяснить, что я не люблю спинку стула, потому что не люблю чувствовать упор сзади, меня это раздражает.
Когда Марина была маленькая, ее забирала на лето бабушка «на хутор» в Донбасс. Отправлять ребенка «на шахты» было бы неэлегантно. В слове же «хутор» крылось для незнающих людей даже некоторое очарование. Ну там, значит, крыныця, хуторянки в хусточках, вишневый садок и прочая пейзанская прелесть. Слово «хутор» повторялось до противности упрямо, даже назойливо. Бабушкин же хутор лежал прямо под боком самого высокого в округе террикона. Бедняки лепили свои саманки, прямо притулившись к его боку. И хотя бабушкина хата стояла «далеко от террикона», но это только так говорилось – далеко, на самом деле тут же, но все-таки у речки Курдюмовки. И был у бабушки садок вишневый, и была недалеко криница, а еще «билля бабуси» (возле бабушки) всегда жили цыгане, вольно жили, табором. Они приходили – не звали, – и бабушка кричала им с порога: «Нечего подать, нечего! Идите с богом!» Вот эта фраза – «нечего подать» – как-то закрепилась в памяти. Спроси, с какой стати, – не ответить. Но в обиходе жизни и отношений она вдруг возникала и в точности определяла ситуацию.
Случилось так, как случилось. Они с Никитой смотрели в окно. Он в северное, она в южное. Ну, просто так смотрели, без смысла. Ибо нет в утре воскресенья смысла вообще. На работу идти не надо, выгуливать детей не надо. В холодильнике лежит продукт, в морозилке – чекушка к обеду. И тут, можно сказать, на ровном и счастливом месте возьми и выскочи эта фраза: «Нечего подать».
– Я на эти слова напоролась как на мину. Понимаете? За минуту до этого «любимый», «единственный» и вдруг – «нечего подать».
– Нет, моя дорогая, что-то, значит, было до слов. Из чего-то они выросли. Из чего? Или из кого?
Ну да – кого…
Ей тогда дали редактуру книги самого известного специалиста по Польше. Она приготовилась к длинной скукотище, а книга втянула в себя, через неделю она уже любила Польшу как родную, через две не могла дождаться прихода автора. Он пришел через два месяца, был, естественно, в Польше, книга уже ушла в производство. Редактуру ему отсылали по почте.
Он вошел с букетом странных голубоватых роз и спросил, кто из них в комнате Марина.
Почему она встала из-за стола? Почему не откликнулась простым «Это я»? Он подошел близко, и их разделяли только розы, от них шел тонкий холодок голубого аромата. И все случилось.
Она села не в свой троллейбус и поехала в другую сторону. Время расплылось, пространство вскрикнуло, параллелограммы домов, вздыбленные кранозавры, сырость неведомых вод толкнули и обескуражили. Ощущение себя иной во вздыбленном чужом мире. Марина щупала колени этой едущей незнакомки. Секундно возник даже ужас – потеря памяти! Я не знаю, кто я! Но откуда-то возник тонкий запах розы, он вскрикнул в ней и привел в чувство. «Дура ненормальная!» – закричала она в себе, выскакивая из троллейбуса.
Она перешла на противоположную сторону улицы, собрав себя в кучку, уже сообразив, куда ее занесли черти. Но выскочившие в сердцах «черти» были перекушены тут же и намертво. Ей уже самой хотелось вернуться в состояние забвения. Всю обратную дорогу она думала о нем, конкретном, теплом, единственном – вот ведь! – мужчине.
О том, как она будет с ним жить, какой у них будет дом и какие дети. Первый раз после того аборта она подумала о детях. От него! Растерялась от возникшего горя – невозможности всего этого. Но взяла себя в руки. На этом умении брать себя в руки они воссоединились – утренняя Марина и эта, запутавшаяся во времени и пространстве.
Дома Никита варил пельмени. Он стоял у плиты в трусах и ждал их всплытия. Весь такой домашний, свой, родной, но одновременно уже чужой и не любимый. Откуда ты взялся, мужик в трусах? Потом они ели пельмени, отвратительные ей на вид и вкус, а Никита метал их в рот не вилкой, а столовой ложкой, со звуком втягивал в себя жижицу.
– Тебе не нравится? А по-моему, колпинские лучше сибирских. Сочнее!
Он поставил грязную тарелку в раковину и уходил из кухни с защипленными попой трусами. «Боже! Как я его ненавижу!» – сказала она себе, и хотя тут же в умной голове выросло опровержение, она отпихнула его за ненадобностью. Как пришла, так и уйдешь, мысль.
Дальше все было как с горы, стремительно и страшно. Аркадий Сенчуков, автор книг и голубых роз, приходил в издательство так часто, что было уже почти неприлично. Цветочные изыски обескураживали, они требовали другого уровня отношений. Не пойдешь же с голубыми красавицами – уже гвоздиками – в кафе-мороженое, что рядом, в прошлой жизни – просто столовку. И никаких тебе лапаний там, никаких приближений. Дистанция букета оставалась прежней. Арсен (так она сплюснула про себя имя и фамилию, что лучше соответствовало возвышенной ненормальности их встреч, – тем более что Марина давно и сразу была готова на все), он был разведен, у него был взрослый сын-студент, который по гранту учился в Англии. Отец им гордился, но смеялся над свойством русских повторять и повторяться в ситуациях и поступках.
– Каждый век мы выбрасываем десант в Европу учиться, учиться и учиться. И ничего! Мы необучаемы системам ценностей и приоритетов, которые определяют успех. Знания, конечно, сами по себе бесценны, но они у нас, как правило, мимо денег. Никто лучше русских не производит текстов, тут нам цены нет. Но ведь нужно рукопись и продать! Конечно, мы эволюционируем, но уму у нас всегда противостоит зависть. И это посильнее, чем «Фауст» Гете.
Марина подпрыгивала, пытаясь соответствовать уровню эволюции и «Фаусту». Но больше всего ей хотелось, чтобы ее сжали, сдавили руками, закрыв ей дыхание вот этим говорящим ртом.
– И вам показалось правильным поддаться ничем не обеспеченному порыву и оставить мужа?
– А разве честно жить с человеком, который тебе физически неприятен?
Это было самое страшное после тех колпинских пельменей. Я все время слышала этот звук втягиваемой жижицы и видела след жира на подбородке. Это невозможно было вынести. Но самое главное даже не это. Думаете, Никита рухнул от горя? Потерял дар речи? Думаете, его переклинило? Ничего подобного! Оказывается, как он мне сказал, «наш брак изжил себя». Понимаете, не я это сказала! Я вообще даже не очень успела что сказать, я юлила, как змея под вилами, а у него уже жила под языком формула распада.
– Будем разменивать квартиру? – спросила я. Тут же осознав, как я падаю вместе с этим вопросом.
– Не-а! – ответил он. – Живи и радуйся. У меня есть прикол.
Если учесть, что Арсен водил меня по кругу своих непродажных мыслей о ненависти как любви и любви как ненависти, вечно снедающих Россию и Польшу, а Никита весело щелкал ремнями чемоданов, то я в этой ситуации выглядела дура дурой. У меня вдруг полезли волосы. На расческе оставался хороший клубок шерсти. Я узнала, что прикол Никиты – выпускница его школы, у них уже «все было», и они нетерпеливо ждали конца учебного года. «Случилось как с тобой, мать, – говорил он мне, – увидел и кончил». И засмеялся, довольный. Странно, да? Но меня всю скрючило.
Нет, не то слово. Было ощущение полного обрушения жизни. Оказалось, ненужный Никита был остро, до боли в солнечном сплетении, нужен как стена, на которую я, не любящая опираться, могу опереться. Но стена сдвинулась с места, я осталась без опоры, покачиваясь из стороны в сторону, безопорная, одинокая и, в сущности, никому не нужная.
* * *
Именно тогда Арсен принес непостижимой красоты фиолетовые гладиолусы, которые она всегда терпеть не могла, это уже было как сургуч на окончательную бандероль.
Но, тем не менее, она позвала его к себе попить чаю без всяких мыслей о чем-либо другом. Случилось то, что должно было случиться. Она слетала с ним так высоко, как никогда не летала раньше, эдакий отчаянный полет без посадки.
И, тем не менее, они стали жить да поживать, то врозь, то вместе. Так правильно, сказал он, все должно дозреть. Цветы менялись от прихода к приходу, но так и не пришло ощущение защиты, которое ушло вместе с Никитой. Польша-Россия, сирень и каллы, флоксы и ирисы, Глинка – эпигон Шопена, Тарковский выше по киноязыку, а Вайда по мысли.
Без малого четыре года.
Однажды он не пришел в назначенный вторник. Не пришел и в среду. В четверг позвонил и сказал, что у него ангина с высокой температурой.
– Я приду, – сказала она.
– Не вздумай, детка, это инфекция.
Но она пошла. Она никогда не была у него дома, но адрес знала, даже свои окна он ей показывал с улицы.
– Два хорошо пыльных – это мои, – смеялся он. – Домработницу жена забрала с собой. Я позвонил ей насчет окон: «Поделись Машей». А она мне: «Еще чего! С тобой только начни делиться. Звони в фирму, сейчас это не проблема».
Вот это «с тобой только начни» как-то задело, встревожило. Но ведь это может быть просто фразой из канувшего семейного быта. От Никиты тоже остались словечки. «Хлебушком надо делиться, а колбаской уже необязательно». Или это: «Умрем вместе, чтоб не было обидно?» Интересно, говорит ли он это своей юной подруге, с трудом понимающей пафосное «умрем вместе»?
В общем, она пошла на ангину. Поднялась на третий этаж. Дом без лифта. На предпоследнем пролете она услышала его голос с теми обольстительно-польскими интонациями, курс которых она прошла. Она приостановилась и подняла голову, и увидела поцелуй, который никакого отношения к ангине не мог иметь по определению. Женщина легко спускалась вниз. Все в ней, от легкой кепочки со слегка сдвинутым козырьком до скрещенных шнурков-полосок на щиколотках говорило о глубоком чувственном удовлетворении, и пахла она чем-то таким прекрасно непристойным. Она тогда замерла в позе человека «пойди туда, не знаю куда». Подняться на полтора пролета и посмотреть ему в глаза? Или вернуться, чтоб забыть все, а помнить только про фиолетовые гладиолусы? Не пахнущие никогда и ничем. Но теперь они всегда будут разить ей наслаждением в кепочке и скрещенных полосках на ногах.
И она пошла домой. Ничего не произошло. Он канул совсем и навсегда. Будто и не было между ними ничего, а так, сбежались петух и курица и разбежались, вздрогнув перьями.
Что это было? Конечно, что там говорить, настало время легкого, необременительного для обоих партнеров секса. В сущности, это лучше, чем «умри, но не дай». Во всяком случае, честнее по отношению к себе самой. Но одновременно и гадко. Чем-то мы все-таки отличаемся от кошек и куриц, зачем-то нам нужны слова… Господи, да их же с Арсеном было навалом, чего-чего, а слов было даже больше, чем цветов. Словесный понос был неукротим.
Это было эффект сладкого после соленого. Они с Никитой так давно «замолчали друг на друга»… Без ссор, без выяснений – типа «включу, выключу». «У тебя шесть уроков?» – «Еще дополнительные». – «Я приду раньше. У меня домашняя редактура». – «Пока». – «Пока». Считалось, крепкая семья. Как же было не вскочить между этими односложными словами девочке-нимфеточке? Самое место и время сбора урожая на заброшенной ниве.
Одним словом.
Не в Арсене дело. Он тоже просто пошустрил на рыбьем безмолвии.
– Так, значит, не потеря любовника – потеря мужа оказалась для вас основным ударом?
– Да нет, – отвечает Марина. – Нельзя говорить так и только так. Я бы справилась, если б сама могла разложить все по полочкам.
«Сука, – думает Элизабет. – Сама не можешь, а врача надо пнуть».
Марина думает: после той «ангины» она больше всего боялась звонка от Арсена. «Меня бы добила словесная вязь». Ложь-факт и ложь-слово, в общем, не одно и то же. Факт лжи можно принять, оттолкнуть, можно простить. Ложь в слове, получается, страшнее. Буквочки острее пронзают, более того, въедаются в тебя. На факт можно закрыть глаза. На сволочь-слово не закроешь. Оно пускает в тебе корни, оно – как раковая клетка, выскальзывающая целехонькой из-под ножа, чтобы, ухмыльнувшись, раздвоиться, расстроиться до полного твоего убийства.
* * *
Марина ни под какой пыткой не расскажет о своей попытке выйти из состояния женщины, от которой уходят как бы без сожалений. Взять Никиту. Он много раз потом заходил, подбирая оставшееся барахло. Именно барахло. Стала бы она, к примеру, возвращаться за керамической чашкой со сколом у загубья. Из-за скола он держал чашку левой рукой, чтобы избежать прикосновенья. Так пришел же за ней! Вернулся за родимой! Завернул в трусы, которые вырыл из бывшего своего ящика. В нем осталась всякая рвань, но он пришел перебирать ее руками. Потому, что у Марины уже был Арсен, не возникло ни раздражения, ни презрения. Никита был таким, каким был всегда. Нимфеточка не прибавила ему новых запахов и красок. Когда он рылся в ящике, у Марины даже возникло ощущение, что никуда он не уходил, что он тут живет, вот сейчас потянется, хрустнет костями, может, даже и пукнет. Свой в доску в своем дому.
– И где растут такие гидроцефалы? – спросил он, кивая на ромашки величиной с подсолнух.
– Это подарок любовника, – ответила она с вызовом ему, чашке со сколом, трусикам с вытянутой резинкой.
– А! – ответил он, и ничего больше.
Будто слово «любовник» давно жило в этом доме. Гидроцефалов не было, а любовник был всегда, то ли за шторой, то ли в шкафу. Где ему еще полагается быть?
Приходил Никита и за письмами, которые слали родственники из Германии. Он удивлялся, что Марина не вскрывала конверты. «Это же нам!» – говорил он, и как бы не было в этом разрыва и расставания. «Нам» – значит «мы». Тогда Марина вдруг подумала, что родственность в браке выше любви и уж точно выше родственности по крови.
Это она сказала Элизабет, та явно была удивлена существованию мыслей у снулой женщины.
– Это естественно, – сказала она и стала говорить что-то о нитях брака, некоторые из которых не умирают, ибо…
Вот на «ибо» она застряла, вспомнила свой развод, подобный побоищу, который не оставил после себя ни грана живой земли. Какие там нити! Рваные сопли пополам с блевотиной. Но со снулой у них совпадение – ее тоже спас другой мужчина.
Тема «другой мужчина» – любимая в ее лечении. Иногда она даже бывает груба: нет, так найди, черт возьми! Их, бесхозных, навалом.
Почему же с этой женщиной у нее не получается как обычно? Она явно не все говорит, а чувства вообще замкнула. Зачем тогда пришла? Она не так проста, хотя проста до ужаса. Хоть бы скорей ушла. Надо ей бросить чалку.
– Мне кажется, что вы знаете ответ вашей задачки. Вы пришли за подтверждением его. Марина! Смените прическу. Выкиньте эту юбку. Ваш возраст – это все еще возраст любви. Уходящий к другой женщине мужчина – еще не смерть. Это повод изменить имидж. А изменив его, изменить мужчине в отместку всем. Месть – хорошее лекарство. Обольстите мужика и бросьте на дороге. Это помогает.
Кажется, Марина встала слишком быстро, как-то суетливо быстро. Нет, положить конверт на краешек серванта она не забыла. Но жесты были такие мелкие, такие старушечьи. О Боже! Такими были пальцы ее умирающей тетки, мелко, мелко скребущие одеяло. Глупости! Это здоровущая баба, таких в России ломом не убьешь. Подумаешь, дура не удовлетворена сеансом. А Элизабет удовлетворена?
– Если что… Приходите еще, – говорит она. – Попьем чаю из самоварчика. Сегодня у меня затор. Но условие – новая стрижка и новая юбка.
Марина кивает, но дверь закрывает за собой как-то излишне плотно. Чтобы не просочиться назад? Не вернуться к ней, доктору?
Неудачи у Элизабет бывают сплошь и рядом. Это нормально. Себе она может признаться: она не высший класс в своем деле. Перемена жизненных ценностей в начале девяностых многих бросила в другие профессии. Бог спас ее от челночного бизнеса, как и от безработицы. Когда на месте их районной поликлиники выстроили модерновую бензоколонку, она, живя рядом, по старым карточкам нет-нет да и принимала своих больных. Она слыла хорошим невропатологом. Но так случилось, случай за случаем, она перешла к психологии или психиатрии – поди разберись – и закрепилась как психолог-надомница, дающая консультации женщинам с проблемами. Она начиталась книжек, она сама как пациент перебывала у всех именитых, и не очень, психотерапевтов. Она искала свою фишку. Нашла. Ее женщины – сорокалетние в поисках судьбы. Читай – бабы, увы, не всегда ягодки, в процессе ловли мужика. Клиент пошел. Она сама пережила два развода. Плевать! Но! От нее, не сказав дурного слова, слинял любовник. И после этого тишь, но не благодать. Дочь тоже была в поиске, у внука зачернели усики. Обычная забубенная семья с проблемами счастья и денег на перекрестке столетий.
Элизабет стояла перед плотно закрытой Мариной дверью. Ее задела именно плотность. Но все-таки она услышала уже за дверью какой-то шорох и слова Марины: «Вот черт!». Она открыла дверь. У Марины раскрылась сумка и из нее посыпалась всякая мелочь, и теперь Марина ее собирала.
– О! – сказала Элизабет. – Конфуз с замком. Это всегда на голову. – И она тоже пригнулась, собирая какие-то бумажки.
– Надо все выкинуть, а руки не доходят, – бормотала Марина, зло, комком пихая в сумку подобранное.
– Кажется, все, – сказала она. – Извините меня ради Бога.
– Господи, за что? Не хотите помыть руки?
– Да нет! Спасибо! Домой еду.
– Вот еще, – сказала Элизабет, нагибаясь и вытаскивая из-под половичка торчащий календарик.
– Выбросьте его, – ответила Марина. – Это старый, а сумку я держу уже за замок. Такой зараза! Можете добавить: чтоб в следующий раз я к вам пришла с новой головой, в новой юбке и с новой сумкой.
Элизабет смотрит на календарик у порога собственной квартиры. Этот номер сломал ей хребет так, что никакому корсету было не справиться. Но тогда на счастье – скажешь же такое! – разошлась с мужем дочь. Ее беда оказалась больше собственной. На слезах дочери сросся хребет.
Откуда у этой его телефон? На том самом годе. Если бы еще можно было определить месяц. Тот был февралем.
В ее квартире по-домашнему поселились какие-то его вещи. Думалось о серьезном и окончательном.
Раз – и канул. Но разве можно себе представить, чтобы он клюнул на эту бабу с зашитым руками швом на стародавней юбке? Дурь! Дурь! Дурь!
Все началось с ее пятидесятилетия. Она так тщательно хотела его скрыть, но куда денешься от тех, кто знал тебя с младых ногтей? В общем все получилось хорошо. Она скопила деньжат на платье с французских лекал, взбила волосы, чтоб положить на них пусть скромненькую, из чешских стразов, диадемку в компании с настоящим бриллиантом на пальце и ниточкой бабушкиного с желтизной жемчуга. Она выглядела даже на тридцать восемь.
В том же ресторане на совсем другом банкете был и Аркадий. Пригласил на танго. Оно у нее получалось лучше всего. На вальс не пошла бы из-за непрочности укрепления диадемы. Но эта дура (она тогда ее благословила – дура!) все-таки свалилась, когда он в повороте слегка пригнул ее к колену, чтобы потом прижать теснее. Диадема не выдержала наклона. Свалилась. И то слава Богу, что не затоптали. Она этого не заметила, но какой-то военный, плотоядно глядя в разрез платья, протянул ей ее.
«Ах, ах!» – «Это я был в танце неловок». – «Что вы, что вы…» – Он поцеловал ей руку и провел на место.
– Ну, мать, ты даешь! – с откровенной завистью сказала дочь.
– Как мне вас найти? – спросил танцор, чуть приостановив ее на выходе.
Она дала ему визитку. Классную, между прочим. Уже с этим именем – Элизабет, психотерапевт. Ждала звонка до нервности нетерпеливо. Его не было. Когда раздался, то, в общем, уже и не надо было. Жизнь текла уж очень быстро. И почему-то зло. В душе, как на хорошем хворосте, воспылала тогда былая ненависть ко второму мужу. Такая сволочь! Мыкались, мыкались на одну ее зарплату, а тут фарт! Старый приятель оказался крупным дельцом. Слово за слово, ну, как не порадеть родному человечку? Через три месяца шикарный костюм и прикрепленная машина, через полгода – уже своя, зарубежные командировки, далее везде… И эта фраза: «Нефть требует хороших переговоров!»
Девочка-секретарша осьмнадцати лет. «Понятия не имею, как с ней разговаривать. Я и слов-то таких не знаю». – «По-отечески, дорогой, по-отечески. А может, даже по-дедушкински. Внуку-то уже десять». Зря она это сказала. Машка не была его дочерью ни в биологическом, ни в каком другом смысле. Она дружила с родным отцом, часто у него бывала. Тот обожал внука Ваську, Васька обожал деда. У бабушки они бывали в гостях, но бабушкиного мужа называли официально Вадимом Петровичем.
Потом, примерно через год, эта фраза в ночи:
– Прости, но это выше меня.
– Да что ты говоришь? Это ниже тебя, посмотри внимательней.
Так по-честному, открыто у него начался крутой роман с секретаршей. Через месяц будет «свой ребенок» («свой» – это было подчеркнуто). Теперь он крупное чмо в Думе. Через раз показывают по телику.
Когда случилась эта бензозаправка на месте поликлиники, она позвонила ему.
– Вы, нефтяные задницы, хоть иногда думаете тем, что повыше? Или у вас у всех выше то, ниже?
Он положил трубку. И это ускорило строительство бензозаправки. И все. И с концами.
Через второй брак первый смотрелся идиллически. Даже неловкий секс казался ей теперь трогательным и нежным. А уж как они склонялись над колыбелью Машки, как замирали от каждого ее пузыря, как умилялись младенческим глупостям. Образцовая советская молодая семья, учитель и врач. Их даже вместе выбрали на какую-то важную конференцию – ну да, шестидесятилетие революции.
Разошлись они тоже почти по идее. Какой-то идиот предложил молодому отцу и мужу перспективную школу и должность директора где-то на БАМе. Элизабет, ну, тогда просто Лиза, москвичка в надцатом поколении, аж взвизгнула от одной гипотетической возможности обсуждать эту тему. Муж, провинциал из заплеванного впоследствии в анекдотах Урюпинска, как раз видел в поездке перспективу.
– Кто мне здесь даст целую школу? Я тут вечно буду в мальчиках.
Слово, два, поезжай к чертовой матери… Поначалу они переписывались. Письма его просто сочились тоской по Машке. Это оставляло надежду. Хотя… Тогда она вовсю стала вкушать радость свободной от мужа жены. Конечно, он не вернулся ни через год, ни через два. О его школе что-то там писали – хорошее, естественно.
Разводились письменно. Сейчас муж объелся груш профессор педагогики, преподает где только можно. У него двое детей. Жена – полная рюха, как говорит Машка. Нос пятачком и коротенькие ручки. Это не мешает дочери бегать к ним часто. Все лучшее на Машке – от отца. Хотя они не виделись, ни много ни мало, пятнадцать лет.
А с отчимом у Машки так и не заладилось, хотя выросла с ним. Вот почему Элизабет и не восприняла всерьез явление молоденькой секретарши у второго мужа. Во-первых, это пошлость – роман с секретаршей. Это даже сверхпошлость – поиски упоительной жизни низа с полудевочкой. Она видела, как раздражало мужа Машкино бурное взросление, плохо выстиранные трусики на батарее, прожорливость человеческого волчонка, чмокающего, чавкающего и одновременно перелистывающего страницы книги сальными пальцами. Книги оставлялись на столе, в уборной, они свешивались на бортике ванной со смятой серединой, в общем, всюду, где читались. Если разобраться, было от чего бежать.
Но ведь он бежал не тогда, когда все это было и бесило его до дурных криков. Он бежал, когда Машка жила уже отдельно, приходила редко, если не сказать до обидного редко. А она взяла в голову, что отвращение его к Машке-подростку закодировало его навсегда от романов с малолетками. В общем, скверней не бывает.
Вот к какой женщине подоспел тот самый танец в ресторане, а потом – не сразу – и телефонный звонок. Сошлись по-быстрому, а чего им ждать, немолодым и одиноким? Он сказал, что живет с матерью, устал от нее безумно, но оставить не может. «Извини, я хороший сын». Сейчас, крутя в руках календарик, она думает, почему он не предложил съехаться вместе, и пусть бы в отдельной комнате доживала себе старуха, в сущности, вещь самая естественная и человеческая. Но не сказала, а Аркадий никогда ни словом, ни намеком не предлагал этого. Он часто ездил в Польшу, он был, как это говорят, славист. Про Польшу он все знал назубок. Но вот живущие в ее дом вещи – свитер по имени «зимородок», осенний плащ, удобные стоптанные мокасины – все как-то укрепляло надежду, что будет хорошо, то есть лучше. Дело в том, что такая разделенная жизнь, в сущности, ей нравилась. Не было проблем с приемом клиентов на дому, не засасывала кухня.
Машка к роману матери относилась иронически – «не первый и не последний» – и с предупредительной опаской: «Не вздумай прописывать!» «Да у него своя квартира», – отвечала она. «А ты в ней была, ты ее видела?» – «Зачем? Там живет его мать. С какой стати мне туда идти? Я ему не жена, и это меня вполне устраивает». – «Врешь, – как-то вяло сказала Машка. – Врешь, мать, и сама это знаешь». В том-то и дело, что тогда она этого не знала. И так все хорошо, чего Бога гневить?
Он не дал ей возможности подготовиться к разрыву. Не сказал никакого упреждающего слова, не унес хотя бы для начала свитер-зимородок. Просто раз – и канул. Мобильник молчал, как покойник. По домашнему телефону старческий голос ответил: «Он в отъезде. Будет нескоро». И ни тебе обязательного или, скажем мягче, желательного вопроса – кто спрашивает и что передать. Она поняла, что «славист» – это не место работы, это просто такое слово, которое может что-то определять, а может и ничего. По нему не разыщешь человека.
Мучила даже не разлука, не потеря партнера в хорошей игре, мучило оскорбленное самолюбие. Она даже ненадолго слегла, испытывая нежелание что-то делать и с кем-то разговаривать. Она взглядом гипнотизировала телефон.
Пока не ворвалась с ревом Машка и не заорала, что застукала своего Петьку с бабой, стала на него орать, а он ей так спокойно, как мудрый врач: «Не ори, я ухожу. У меня не хватало духу тебе сказать, что мне – во! (И он провел ладонью по шее.) А Шурочка – солнышко. Я даже не знал, что так бывает. Не вопи! Я оставляю все, все, все… Мне ничего отсюда не надо. Только не ори. И не порть мне отношения с сыном». Тут Машка заорала пуще, что именно так и поступит, на что Петька ей сказал:
– Знаешь, и это не помеха.
Машка орала на мать, как резаная. Она требовала от нее каких-то движений, поступков. И мать встала с одра тоски и собственного горя и пошла к Петьке. И он ей мягко так, как больной, ответил: «Не ходите, а? Не лезьте, а? Вы сами не раз ходили замуж, так какие же у вас могут быть советы по жизни?»
– Вот именно, вот именно, – бормотала она. – Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь…
– Пословицы. Том второй. А раз не знаешь, то давайте замолчим друг на друга. От вас ведь, насколько мне известно, ушел ваш сладкоголосый лысый господин?
Почему-то задело слово «лысый». Аркадий, конечно, был плешив, но плешив был и Петька. Она развернулась, дала ему по морде и ушла. И ей показалось, что никогда она не была такой счастливой и освобожденной. А всего-то ничего – хлясь по морде лица за Машку, за себя, за всех женщин сразу, которых она опекает, учит и никогда не присоветует рукоприкладства. Так пусть это будет и за них. Между прочим, удар был не слабым, он сломал Петьке шатавшийся зуб, он, выплюнув его в ладонь, сказал, что счет за работу стоматолога пришлет ей. И прислал через месяц, и она его оплатила от греха подальше, не говоря ничего Машке. Ей она сказала, что Петька свихнулся на бабе, что если на мужиков это накатывает – вспомни мой случай, – лучше отступить. Тебе он такой, из чужих рук, уже не нужен. Машка затрясла головой, завыла. Господи, откуда у нее такая истеричная дочь? Жалела ее, прижимала к себе, но, честно говоря, ей это было противно.
* * *
Вот что предшествовало падению из сумки календарика за 2001 год. Уж не год ли змеи это был? Может, и он.
Но сейчас не давала покоя мысль: что могло связывать Аркадия с этой теткой в юбке-годе? Хотя могут быть триста случаев случайных номеров в любой сумке. Дал кто-то календарик чего-то там узнать, ну, в какой день недели, к примеру, восьмое марта, а на календарике уже был написан этот номер. Кто-то его потерял, а халда просто забыла вернуть. Марина работает в редакции, он собирался сдавать книгу – нормальное пересечение, ни к чему не обязывающее. Телефон на случай… Это ведь нормальный коммуникативный путь в большом городе. Но надо вспомнить, с чем к ней пришла Марина. Разведенка, хотела выйти замуж, но был человек – и не стало. Не сказал ни два, ни полтора.
А разве у нее не так? И разве не так происходит всегда и везде? Стихи еще такие есть… Не помнит, чьи… Когда-то зацепило. Памяти совсем не стало. Вот теперь она будет ходить, искать в хламе памяти те строчки. Еще бы знать, чьи…
Если Марина придет еще, она спросит ее напрямую. В конце концов, опыт их разговора может стать бесценным вкладом в ее копилку. Она, Элизабет, откроется Марине, а Марина проплачет ей свою историю. Ах, вот эти слова:
Вчера еще в глаза глядел,
А нынче – все косится в сторону.
Ля-ля, ля-ля, ля-ля…
И кончается убойно: «Мой милый, что тебе я сделала?» И еще там где-то есть слово «вопль».
Элизабет еще не знает, что Марина никогда к ней больше не придет, что призрачная надежда разобраться в себе при помощи другого канула сразу, едва переступив порог. Она не знает, что Марина перебирает в памяти ее зоркий охват юбки и волос, и сплетенных на коленях рук, и удивление, что она не по правилам сидит на стуле. Откуда другому знать, что всякие спинки выдавливают ей сердце, что она предпочитает табуретки. Марина думает: все это не стоило ни нервов, ни денег. Одно хорошо: выпал этот чертов календарик с телефоном Арсена. Она уже забыла, что он где-то в недрах сумочки валялся. Ну, вот он и выпал. Окончательная точка в их истории. А собственно, что было-то? Просто связь назло Никите, не тебе, мол, только была нужна, а и другим понравилась. В фильме «Секс в большом городе» все так. Мужчина как аспирин от другого мужчины. Но что немцу хорошо… Она вот попробовала – не получилось. Она – опять же! – по американской науке пошла к ярбух-психоаналитику – полный провал. Ни она ей, ни ей она… Посидели, поглядели… Ученая дама подобрала ненужный Марине телефон. Это хорошо, что именно она выкинет его в ведро. В таком деле нужны чужие руки. Свои дрожали бы. Сумка Марины стала как бы легче. Так вот неожиданно и поймешь, какой груз тебя тяготит.
* * *
Неисповедимы пути тонких материй, но освобожденная, облегченная Марина вдруг ни с того, ни с сего обрела покой и даже непонятную ей самой силу. Она пошла иначе, быстрей и выпрямленней. Она думала маленькую простенькую мысль: никто не знает, что нас ждет завтра. Приходил чинильщик антенны, посмотрел на полку с книгами. «А эту я люблю, – сказал он, вытаскивая зажатого в томах Бальзака Брэдбери. – Мальчишкой я с ним летал. Такой был кайф. Куда они все делись?» – «Это не они делись – мы. Стали взрослыми». – «Дайте почитать. Верну, не бойтесь». – «Я не боюсь, – сказала она. – Но если вы его замотаете, мне будет грустно, и я о вас подумаю плохо». Господи, при чем тут это? Он ведь не сказал ей «У вас красивые глаза» или «Вы интересная женщина». Он сказал ей про кайф с Брэдбери, по нынешним временам заявление почти сродни непристойному, но зернышко уже лопнуло, выпростав слабенькие лепестки. Чего, дура? Неважно. Просто стало хорошо. Не мало во времени, когда его, хорошего, по крупичкам, по капелькам.
Одновременно! Элизабет была просто придавлена к земле этим календарным квадратиком. И из всех возможных глупых телодвижений она избрала это: стала звонить по написанному на нем телефону. И телефон ответил. Почти через четыре года молчания.
– Это я, – сказала она. – Можешь вспомнить?
– Запросто, – голос был тускл и равнодушен. – Привет, Эльжбета (так он ее когда-то называл – на польский манер).
– Моя клиентка выронила календарик с твоим номером. Я говорю ей: «Спрячьте». А она мне: «Да выбросите его к чертовой матери».
Такой был взят ею тон. В последнюю секунду она заменила «родную мать» на чертову.
– И что за пациентка?
– Снулая баба с тусклыми волосами. Садится на краешек стула. Юбке сто лет. На шее родинка. Говорит тебе это что-нибудь?
– У меня не бывает снулых. Что угодно, кроме этого. Как там ты? Все вправляешь мозги бедному женскому человечеству?
– А что мне сделается? – ответила она лихо, едва сдерживая колотящееся сердце: на что она рассчитывала? Что скажет – сейчас приду? Или: «Боже, как я рад тебя слышать»? Даже не вздрогнул на гласной, не поперхнулся на согласной, не замер на запятой. Ё-моё! Какая идиотка. И теперь, если он положит трубку, она останется еще в большем отвале, чем раньше. Раньше – просто исчез. А сейчас исчезает на глазах, вернее, на ушах… Раньше можно было подумать – мало ли что… Теперь никакого «мало», а большое – иди-ка ты на хрен, чего звонишь, дура?
Из этой ситуации надо было выбраться хотя бы без оскорбительного для себя урона.
– Как мама? – спросила она.
– С божьей помощью помре уже два года как…
– Прости. Не знала. Ты все так же польский резидент?
– Ты случайно меня застала, – почему-то она точно знает, что он врет, – я как раз собираюсь улетать в Польшу. Гружу чемодан.
– А книга вышла?
– Конечно. Я не делаю пустой работы.
– Намекаешь? – зачем-то спрашивает она, уже заранее предчувствуя хамство.
– Намекаю, – как-то зло отвечает он. – Бэт! Не тяни кота за хвост. У тебя ко мне дело?
– Ну, знаешь, – кричит она ему. – Нечего хамить. Я позвонила с добрыми намерениями… Узнать… Ты тогда так исчез…
– Ё-моё! – уже кричит он. Вспомни еще советскую власть.
– А что она тебе сделала плохого?
Ее затягивает какая-то наглая, тупая трясина. Да скажи ему: «Пошел ты на …й!» Или вежливо так: «Ко мне пришли». Но ей будто всласть это истязание.
– Пока, Бэт! – говорит он. – У меня дела. Ко мне пришли. – И первый кладет трубку.
Какому слову научила ее Марина? Konac — по-польски смерть. Она знает: это слово у нее – от него. И не случаен этот выброшенный календарик. Ее хотят убить! Ей посылают знак смерти! Боль пронзает ее насквозь.
Надо срочно позвонить Ольге. Она умеет снимать порчу. Элизабет у нее училась, с ее помощью переучивалась, восхищаясь ею и, что там говорить, завидуя. Красивые пальцы с перстнями, ноги длинные с красивой изящной стопой, вал волос.
– Никогда не перебивайте говорящего. Ждите следующей фразы. В ней может быть смысл. Она может напрочь опровергнуть все предыдущее. А все произнесенное вслух – практически уже лекарство. Выговорившемуся надо только утереть губы.
Она была успешна во всем, эта Ольга, и сейчас Элизабет услышит ее голос, мягкий, спокойный, спасающий. Но было занято. Глухо занято. Долго-долго. Хотя время Элизабет уже было совсем другим. Оно уже не понимало минут и стрелок. «Не перебивайте говорящего. Ждите следующей фразы. В ней может быть смысл».
Элизабет цепенеет от отчаяния. С ней такого не было никогда. «Пока, Бэт! Ко мне пришли». Как она, сильная, двинула Петьку, пришлось тому зуб выплевывать. А как она разбирается с этими комолыми телками, как стягивает рваные нитки отношений, связей. Она умеет. Она умная. Она сильная. Но слова, ее же слова, не проникают внутрь, они пролетают мимо, как стрелы бестолкового лучника. Вдруг откуда-то, прямо из-под кожи, слова Машки: «Да это ты во всем виновата. Я не видела тебя счастливой. Вечный гон… Куда? Ты хоть помнишь меня маленькую?» Всем телом Элизабет хочет вскрикнуть: «Я все помню, доченька. Все!» Но, оказывается, нет у тела органа, чтоб докричаться до дочери. И вдруг, как на транспаранте, ЭТО: «Я уже никому не нужна. Я уже климактерическая особа. Мой удел… Konac». Удел, узел, увал, увалень… Почему она раньше не замечала неуклюжесть буквы «у», как бездарно она тычется рогами?
Ей становится душно, вот и снова душное «у». Надо выйти на балкон. Он у нее хлипкий, из тех, что ставили еще в скорости советских застроек-башен. Чем ему не угодила та власть? Она хочет туда, обратно. Она была тогда молода. Она была тогда девчонка. У нее было будущее. Какое еще будущее, если в нем два «у»? Она держится за перила и смотрит вниз. Упасть. Но с какой стати? Ей, сильной, удачливой. Нет, упасть…
Черт! В ее удачливости тоже эта рогатина «у». Нет, все-таки упасть. Ничего больше не будет. Ничего. Упасть. Она успела подумать, что в слове «думать» тоже живет «у». И «умереть» – тоже с этой буквы. Никому не ну…
* * *
В Марине же не кончался этот ни с того, ни с сего возникший подъем, она вдруг стала смотреть по сторонам на пялившееся на нее богатство витрин и машин, но все это не вызывало обычного раздражения и злости, было даже какое-то веселое смотрение на усилие вещи и ее цены бросить на тебя крючок, чтоб приторочить к себе навсегда. Богатый мир не раздражал, а веселил скорбностью своего бесчувствия к чему-то самому важному. Ишь как распетюкался дурачок! Думаешь, ты все? А ты ловил кайф с Бредбери? С Булгаковым? А ветер гнал тебя в лицо так, чтоб назад волосы? Марина даже видела это со стороны, будто она на стремительной лодке с парусом, а впереди остров, где ее ждут. «Размечталась», – засмеялась она, но все равно было хорошо, и она купила коробку «Шармели». «Она так это любит, – думала о той, для кого купила. – Я такая свинья, сто лет у нее не была».
…Надо долго ждать, пока она откроет дверь. У нее очень мелкий шаг, даже и не шаг вовсе, а так, скребок тапки по полу. Ширк, передышка, ширк… И очень нескоро тонкий, но какой-то очень наполненный – хотя как это может быть в тонкости? – голос:
– Кто там?
– Это я, Марина, Нина Павловна.
– Сейчас.
Снова надо ждать ее усилий повернуть ключ в замке. Это всему человечеству раз плюнуть, а одному человечку, может, это как взятие Бастилии.
Вот она. Крохотная от согбенного позвоночника. С белыми, в смысле седыми, волосами, хорошо взбодренными липучками бигудей.
– Марина! Как хорошо, что вы пришли. У меня к чаю сушки с маком. Принесла Леночка! Знаете Леночку? Это такое брошенное всеми дитя. Не подумайте, ради Бога, плохого. Просто родители борются за выживание себя и чад. У них двое детей. Старший, мальчик, уже завтрашний призывник, а взятку военкомату им надо заработать потом и кровью. Видите дьявольскую логику? Своей кровью они спасают сына от его возможной крови. Не фигуральной – пролитой. Девочка не подлежит государственному уничтожению по плану власти, поэтому брошена и выживает сама. Сушки от нее.
Ей всегда неловко вручать подарки Нине Павловне. Она так раскудахталась над «Шармелью», что можно было подумать – ей принесли что-нибудь из магазина супер-пупер, куда Марина просто дороги не знает.
Они пьют чай из хороших фарфоровых чашек. Марина с ужасом наблюдает, как исчезают из этого дома добротные вещи. От большого чайного сервиза остались две чашечки и заварной чайник. Марина узнала, что сахарница и все остальное ушло женщине, которая приходит раз в месяц убрать в квартире.
– Мариночка! Я сделала наблюдение о трагедии человечества. Учтите, я не феминистка в разделении общества на мужчин и женщин. Одним изначально больше, другим изначально меньше. Знаете, кто был умница в понимании этого вопроса? Ликург! Это дурь, что говорят про его законы и про спартанское воспитание. У Плутарха черным по белому написано: девушки были там как юноши. Они были сильными, красивыми, им в голову не могло вспрыгнуть – слабый пол! Аристотель дурак, он не понял этого и написал, что спартанки взяли над мужчинами власть. Понимаете, даже он! А ведь это просто равенство. А теперь посмотрите, до чего добрели люди! Проституция – унижение, ибо купля-продажа. Брак, по сути, то же самое. Но самое страшное: даже самая умная и состоявшаяся женщина сама позволяет себе быть брошенной, униженной, второсортной. Эта бездарная идея происхождения из ребра… Ну, ты меня понимаешь… Вместо того, чтобы взять за основу гордую и независимую естественную Лилит, стали подражать искусственному товару.
Ее, скрученную старушку восьмидесяти лет с хвостиком, нельзя остановить. Она всерьез прокачивает в своей голове миры и философии. Ей нравится искать концы и начала. И хотя Марина давно знает, что и Аристотель, и Плутарх нужны ей на раз, что завтра это будет генетика Гитлера и Сталина, а послезавтра сходство Путина и Иванова (не к добру, детка, два птенца из одного яйца для этой земли), она знает и другое. Та жизнь, которая за порогом и которую не видит Нина Павловна, совершенно естественно живет в этой кухне, за столом с тонким фарфором. Сюда приходит истопник, чтоб выпить «в приличных условиях», она дает ему и поспать, чтоб не являлся «диким в семью». К ней в надвинутой на глаза кепке и темных очках приходил депутат госдумы. «Господи! – кричала на нее Марина. – Зачем он вам, говно такое?» – «Мариночка! Говно – это еще не убийца. Он просто обычный слабый мужчина. Он припадает сначала к голеньким, а потом соображает, что кайф со мной у него получается длиннее. Ибо нет ничего важнее для человека, чем обмен мыслями». – «Скинул сперму, а потом пришел обмениваться! Ничего себе!» – «Вы знаете другой путь? Сперма ведь и отягощает. А работа мысли обогащает. И он, имейте в виду, не убийца, не кагэбист, не стукач». – «Он чмо», – смеется Марина. «Он чмо, – отвечает Нина Павловна, – человек малого образования. Таких «думцев» тысячи по всей стране. Им не с кем разговаривать». – «Ну да, ну да. Отца Меня убили, Лихачев умер, к Солженицыну еще пробейся». – «Вот-вот… А у людей фобий не счесть… С ними или борешься или смиряешься. Смиренных больше».
– Как твои дела, детка? – спрашивает вдруг Нина Павловна. – Мне нравятся сегодня твои глаза. Они как бы увидели что-то и зажглись. Слава Богу, слава Богу! У тебя были такие ненастоящие мужчины, что страдать из-за них – себя не уважать…
– Да я не из-за них.
– Ну-ну, – смеется Нина Павловна, – то-то и дело, что из-за них. Таких, чтобы ради них можно было забыть собственную душу, вообще нет. Нет! А вот чтоб забыть себя – есть. Но это редкий случай… Раритет, можно сказать. У меня – ну, ты знаешь – был такой. В сороковом году. – Да, Марине придется выслушать эту историю. Странно, она про одно и то же, но всегда разная. – Мне было шестнадцать, Грише восемнадцать. Он не боялся войны, он не верил в нее. Музыкант, он верил в другое – в эманацию духа народа. Я уже потом, много позже, поняла, какое страшное зло – отсутствие правдивой информации. Немцы уже вовсю гуляли по Европе, а мы, дураки, верили в какие-то мудрые пакты. Так вот, мой Женя верил, что народ Бетховена, Баха, Гете, Шиллера, Гейне, Гофмана, наконец, по сути своей не способен на глобальное зло. Он не дурак был, не наивнячок, он в самом деле верил в дух народа… Марина, он есть, этот дух. Это говорю вам я сегодня. Но дух может быть разным.
– Пердячим паром тоже, – сказала Марина.
– Куда ж без него? – засмеялась Нина Павловна. – Это тоже сущностная субстанция… Вот в вас, к примеру, есть желание понять, что есть что… Во мне – желание досмотреть до конца фильм ужасов в собственной голове под названием «Ненависть». Или «Зависть». Вы думали когда-нибудь о том, что, в сущности, это синонимы? Так вот, дух есть. Он – сложение векторов. Вектор Пушкина никогда не сойдется с вектором Сталина, а вектор Чайковского с вектором, к примеру, Жириновского. Но однажды в какой-то точке они все непременно пересекутся. И не в том дело, кто из них сильней, а кто из них подымет за собой большую часть народа, вернее, плебса. Ты же понимаешь, что это разные категории. Суть в мгновенном совпадении ритма. Однажды это случится. И все дело в том, кто будет в этот момент совпадения держать палочку дирижера. Дух единения, детка, это музыкальный момент развития нации. Так его хочется и так его страшно. Так вот, мой Женя, помня о Гете и Шиллере, напрочь забыл о векторе псов-рыцарей и вандалов. Накануне путешествия в Бабий Яр он играл мне Гайдна и говорил, что если у людей есть такая музыка, они не смогут переступить черту.
Я после его смерти не могла не то что кого-то полюбить, я так и не полюбила, а просто признать право существования рядом со мной другого мужчины. Опыт «партизанского» мужа это подтвердил. Ты думаешь, я согнулась в старости? Я согнулась сама в себе в тот день, когда пришла к Бабьему Яру. Я слышала в эти минуты Гайдна и прокляла его на всю оставшуюся жизнь. Теперь все цитируют: «Какая гадость эта ваша заливная рыба». А я до сих пор так думаю о Гайдне. Где ты был, сволочь? Почему не уберег, если в тебя так верили? С тех пор я неверующая. А историю с готовностью убить сына вообще считаю чудовищной. Но каков парадокс: не устаю читать Библию. Мы там все, как в зеркале. Святые и уроды. И еще люблю отца Меня. Если убивают священника, ищи за ним правду. Я допускаю пересмотр своего неверия. Надеюсь успеть.
– Успеете, – отвечает Марина, наливая себе очередную чашку. В ее домашнюю утреннюю дозу – керамическую кружку для пива – таких, как эта, входит минимум четыре или даже пять.
– Я была сегодня у психотерапевта, – говорит она. – Мне почему-то полегчало, хотя я еще до прихода к ней решила с этим завязывать.
– Я не верю в современных невропсихологов, обучающихся на курсах повышения, так сказать, квалификации. Квалификации в чем? Квалификации зачем? Без ответа. И они лекари души? Лекари скорби? Что вам помогло сегодня?
– Я рассыпала у нее сумочку, и из нее выпал номер телефона Арсена, помните, я вам о нем рассказывала?
– Как же! Как же! Спец по польской литературе, любящий Лема и не любящий Ежи Леца.
– Странно, вы помните, а я об этом как-то забыла.
– Правильно сделали.
Зачем ей нужен этот монолог о Спарте, о Бабьем Яре, о Гайдне? Она слышала это сто раз. У Нины Павловны уже давно плохая память. Тот человеческий сброд, который она пестует, как правило, не помнит ее повторений. Это им ни к чему. Она, Марина, помнит, но не скажет, потому что и в сотый раз ей почему-то приятно слышать про то, что Аристотель был неправ, а Плутарх – умница. Что плебс выбирает вектор Жириновского и ему радостно быть сдуревшим. Что сейчас она уйдет, а порог этой квартиры может переступить абсолютно неожиданный человек – вор, присмотревший в прошлый раз на стеллаже хорошенькую антикварную пастушку и уже мысленно убивший бабку, чтобы пошарить спокойно по другим местам. А может войти и Лем, приехавший на какой-нибудь семинар и сбежавший от скуки, чтобы поклониться Нине Павловне, попить с ней чаю с ее, Марины, «Шармелью» («Была тут у меня одна из многих, для которых счастье – только мужчина. Пан Станислав, польки такие же дуры?»). Они оттянутся на фантастике, побродят по Солярису, два старичка-дождевичка, пережившие свое время. Но почему ее, Марину, тянет сюда? Она, конечно, плохо соответствует возможному путешествию по мыслящему океану, не той она закваски. Но если сложить вместе облегчение от выроненной бумажки и встречи с Ниной Павловной, то получается, что есть в той энергия жизни, которая ей, дуре последней, сегодня, сейчас – как свеча в ночи.
Ощущение освобождения и легкости не покидало Марину до самого вечера. А утром, около десяти, ей позвонили из милиции и сообщили о смерти Элизабет. Получалось, что она последняя, кто видел ее живой. Так во всяком случае решили следаки, изучив отрывной календарь на столе Элизабет. Марину приглашали к следователю Никоновой. Марина по секундам перебирала свой приход и уход от Элизабет. Все было обычно, кроме распахнувшейся сумки за дверью и того, что Элизабет услышала это и вышла помогать собирать всякую высыпавшуюся ерунду. И этот найденный ею календарик, от которого Марина отказалась. «Выкиньте», – сказала она. Марина казнит себя за это, потому что не дело другого человека выбрасывать наш мусор. Даже если это бумажка.
Но ведь не факт, что после Марины у Элизабет не было другого пациента. Пришел кто-то по звонку. На том упавшем календарике был телефон Арсена. Сейчас она даже не может его вспомнить. Но при чем тут он? Даже думать об этом нечего. Нельзя же вообразить, что Элизабет зачем-то позвонила по этому телефону, ей ответили… Ну и что? Как дальше может развиваться разговор чужих людей? Марина мусолит всю эту чушь.
У следователя Никоновой под глазом синяк, в просторечьи – фингал. Он хорошо заретуширован, но у Марины зоркий глаз. Наличие следа нелучшей жизни как бы смиряет ее со следователем. «Тебе тоже не сладко, киска, – думает Марина. – Я тебе сейчас нужна как рыбе зонтик, как мертвому припарка, как корове седло, как козлу ворота. И ты мне, между прочим, так же.
Никонова Ольга Степановна думает в этот момент о другом. О том, что синяк замечен этой с виду простоватой особой. У нее глаз сразу так блеснул, что ясно – узрел. Больше всего Никонова не любит так называемых простых женщин. Хуже них только воровки по-мелкому. Эти же – простые – самые лютые в мире хитрованки. Ишь как она снимает с рукава будто бы нитку, а никакой нитки не было, это ее способ отвлечь себя от лица следователя и главного к ней вопроса.
– Вы были последней у погибшей Смелянской?
– Без понятия, – отвечает Марина. – Откуда мне знать, я ей не подруга. Впереди у нее был и день, и вечер.
– Вечера у нее не было. Во сколько вы от нее ушли?
Фингал интригует, заманивает. И Марина врет время.
– Я ушла от нее еще не было четырех.
На самом деле она ушла в десять минут пятого. Зачем ей, не имеющей к смерти Элизабет никакого отношения, искажать картину? Зачем? А затем, что Марина испытывает легкую дрожь от удовольствия доставить этой дуре, которую бьют по морде, некоторые затруднения. Она не любит милицию как всякий нормальный человек. За всю свою жизнь она не встречала не только толкового, а просто адекватного милиционера. Телевидение завершило формирование «светлого образа ментов». И не случись ее «визита к доктору», она бы в милицию ни ногой. Ни за что! Бандиты лучше, они хоть в полоску, а эти сплошь серые. А еще с фингалом!..
– Я ушла не было четырех, – повторяет Марина ложь, одновременно как бы выводя себя из игры. Ищите, следаки, мои полчаса! Ищите!
– Не было ли во время вашей беседы звонка по телефону или чего-то еще, что вызвало у Смелянской возбуждение или просто перемену настроения?
– Все было как обычно. Побеседовали, я положила гонорар на сервант и ушла. Она закрыла за мной дверь.
Глаз над фингалом начинает дергаться. Никонова делает вид, что опирается головой на руку, сделав над глазом зонтик-прикрытие. Это все чертов тик, от которого ее лечат. Ей сделали неудачный укол, не первый раз, между прочим, и поплыл синяк. Ходит теперь, как подбитая. Эта свидетельница видит синяк и презирает ее за это. В ее голове наверняка смачная картина, как ее, следовательницу, дома таскают за волосы и бьют по морде. Разве после таких воображаемых картин скажешь правду? Хотя и в неправде ее не уличишь. Когда пришла, когда ушла – как скажет, так и правда. Свидетелей никаких. Ни бабушки на скамейке – скамейки украли, ни мамаш с колясками – негде с ними повернуться, машины одна на другой. Даже падение Смелянской не сразу было замечено, пока подруливший шофер не увидел тело и не забил тревогу. Дом же стоял, как мертвый. «Что-то где-то шмякнуло, – сказала женщина со второго этажа, из квартиры с окнами на газон. – Да если я на всякий шмяк буду бежать к окну, так я спячу! Недавно выбросили старые подушки. Три штуки. В белый день, не в ночь. И никто не сознался. Так и взмокли под дождем, срамные такие.
Никонова достает календарик. В ней испокон, с детства, на самом деле неизвестно зачем, жило некое знание природы вещей и людей. Маленькая, она висела на надломленной ветке, зная, что та не обломится. Она еще на подходе отца к дому узнавала количество выпитого им и какая из трех его коронных фраз будет сказана на пороге дома. Глядя в окно, как отец вытирает о решетку ноги, она уже слышала: «А где же мои чадные домочадцы?» Или: «Пожалейте меня, детушки, совсем я у вас обоссавшись». Или это, самое противное: «Пришло к вам, бабьё и дитьё, стегание ремнем. Что-то вы забыли у меня уроки марксизма». Она ни разу не ошиблась. Потом даже упреждала мать, что пришло: доброе «чадо», обиженное «обоссавшись» или жестокий «урок марксизма». А матери было не до удивительных свойств дочери.
Вот и сейчас что-то в ней стало раскручиваться. Зачем Марина соврала время? А соврала – точно. У Никоновой нюх ищейки, и она как бы стала «видеть». Они отчего-то разгорячились обе – врач и клиентка. Вышли на балкон, ну, вроде как освежиться. И тут их склинило. Марина сильная. Элизабет, правда, тоже не крошка, но Марина моложе. Та ей про психологическое, а эта ее за ноги – и вниз. Уходила быстро, потому и потеряла календарик. Никонова как бы забыла, что дверь была заперта изнутри. «Я подумаю об этом потом». Но как же было бы славно и для здоровья нервного тика, и для отчета так быстро и легко закрыть дело. Она думает, что нужно не забыть снять отпечатки пальцев у Марины. Это из пустяков – главное. И понять, вернее, придумать причину ссоры.
Никонова была хорошим следователем. Она не упускала мелочей, умела как никто «читать улики». Она протягивает Марине календарик.
– Значит, – говорит она, – вы уронили его? Она не звонила при вас?
– Когда у нее пациент, она отключает телефон. – Но что сделалось с ее голосом? Он как бы стал тоньше, и она им даже поперхнулась.
И тут Марина сделала то, чего от себя совсем не ожидала.
– Это мой календарик, он выпал из сумки. Он старый, на нем не помню чей телефон. Я хотела его сама выбросить в ее мусорное ведро, а Элизабет сказала: «Не беспокойтесь, я выброшу».
– Вы не помните, чей это номер?
– Я же сказала, – голос прежний, занудливо склочный. – Стала бы я выбрасывать нужное.
– Это телефон Аркадия Сенчукова. Знаете такого?
– Знала. Он несколько лет тому издавал у нас свою книгу. Я была редактором. Календарик с тех пор задержался в сумке, но мне он уже давно ни к чему. Общую работу мы завершили. И делу конец.
– А Смелянской вы говорили, чей это телефон?
– Так я же вам русским языком говорю – я забыла напрочь, чей он. Вы мне сказали – я вспомнила. Я оставила календарик как мусор.
Зачем она ляпнула правду? Хотя какое это имеет значение? Они уже знают, что это телефон Арсена. Дальше что? Предположим самое неприятное – они узнают про их отношения. При чем тут Элизабет? Говори хоть правду, хоть брехню, к смерти Смелянской это отношения не имеет. Ну, вот спроси ее, Марину, с чего это богатой бабе, у которой, как теперь говорят, все схвачено, кидаться вниз? Если ничего не украдено, ничего не взломано, значит, не было убийцы? Значит, сама? Марина перебирает в памяти разговор. Смените прическу. Выкиньте юбку. Как это она сказала: «Мужчина – всегда аспирин от другого мужчины».
А сейчас Марина думает – вот бы рассказать это Нине Павловне. Та бы сказала: «Ни одна свободная спартанка не ставила свое счастье и судьбу в зависимость от мужчины. В полноценной женщине есть весь арсенал самодостаточности. Даже в сексе она главная. В ней все – и наслаждение, и рождение, и дарение. Сейчас нет женщин. Есть бабы. Тетки. Клуши. Стервы. Подстилки. И растущее в геометрической прогрессии количество дур. Снижение самодостаточности, самоуважения женщины гибельно для мира. И она умрет последней на этой земле, оставив после себя кровь и грязь от последнего аборта.
Сказать это Никоновой? Глупость несусветная. Где поп – где приход… Она говорит другое.
– Такие как Элизабет из окон не выпрыгивают. Они ведь победительницы по жизни. – Она чуть не добавила: «Не нам чета». – У нее есть, то есть было чему поучиться.
– О чем все-таки вы с ней говорили? Я понимаю, что вторгаюсь во врачебную тайну… У вас проблемы? Или у вас отношения другого рода? Старые знакомые, то да се…
– Я пришла по нужде. У меня тонус на минусе. Мне посоветовали Элизабет.
– Почему вы так ее называете?
– Потому что это ее творческое имя – Элизабет Смелянская. У нее так и на визитке. Никаких Елизавет Николаевн. Это ж теперь модно. Искажение сути на иностранный манер.
– Она вам помогла?
– Сказала, чтобы я сменила прическу и выкинула эту юбку. Вот хотела сегодня пойти в парикмахерскую, да вы помешали.
– Прическа и юбка – это то, что вы хотел от нее услышать?
– Я не знаю, что хотела от нее услышать. Но то, что она сказала, – мимо. Про прическу я сама знаю. И даже сама умею ее делать, если понадобится. Юбку не выброшу. Я ее люблю. У меня есть свойство срастаться с вещами. Это, конечно, поперек моды. Но я, как это теперь говорят, себя с нею не позиционирую. Мы живем как-то врозь.
– Тут вы не одна…
– Это для меня не важно. Я могу быть и одна.
«Сейчас я ей выдам, – решает про себя Марина. – Я человек гордый и самодостаточный». И говорит:
– Самодостаточные не должны тупо следить за модой и ходить по пустякам к психотерапевтам. Это была моя глупость.
– Откуда вы ее узнали?
– По цепочке. Элизабет мне порекомендовала наша бухгалтерша. У нее проблемы с внучкой. Типа: «Ты, бабуля, отстой!» – «А ты соплячка!»
– Ну и что, помогло бухгалтерше?
– Как же! Бабка лежит с инсультом, а только-только вышла на пенсию. А внучка гуляет по кладбищам – она гот.
– Кто? – не поняла Никонова.
– Вот, вот! Такая новая субкультура. Ходить по кладбищам, носить черепа, выбеливать лицо и поклоняться Мэнсону. Его вы тоже не знаете?
– А надо? – спросила Никонова, чувствуя, что треп свидетельницы увел ее куда-то в сторону, она непрофессионально прибалдела, а это неслучайно. Ее запутывают, сбивают с толку… А все ведь может быть очень просто. Кроме прически и юбки, был дан еще какой-то совет…
Марина знает, что эта женщина с фингалом изучает ее. Сказать, что ли, что она сейчас пуста, как банка, что ей нечего больше сказать? И то! Разговорилась о бедняге-бухгалтерше, приплела этих придурков-готов.
У Никоновой же свое смятение. Почему-то не оставляет память о детстве, об отце. Маленькая, она любили этого идиота. Она бежала навстречу алкоголику, как восторженные барышни к Гагарину. Она целовала его и обнимала. Она подставляла попу для «уроков по марксизму». Никонова с детства знала, что замуж не выйдет никогда, что возьмет из детдома кроху-девочку – и не надо ей другого.
Но одно дело точно знать, что ветка не обломится, совсем другое – воздух в лицо и в спину, слово в ухо и тычок в бок, все то несущественное и даже, можно сказать, глупое, но из этого и состоит жизнь. Она, вопреки внутреннему знанию, вышла замуж за соседа по площадке. Он помогал хоронить ей родителей, больше было некому. Тихий такой человек, на двадцать лет старше, не имевший никакой мужской силы. Ну ладно, ей это не надо, но все равно было почему-то обидно. А кроху из детдома он не захотел. «Зачем? – удивился он. – Нам ведь так хорошо вместе». Еще бы не хорошо! Все куплено. Все помыто. Уколы ей сам делает, он медбрат на «скорой». И никогда никаких синяков, а тут пошла в больницу, и нате вам – фингал.
Почему пошла в больницу? Да потому что тихий, незаметный муж умер в постели. И она проспала полночи с трупом. Более того, встала – ей ко времени, а ему в ночную смену, – укрыла его одеялом и ушла на работу. И только вечером обнаружила уже вконец окоченевшего. Испытала странное чувство – облегченное сожаление. Конечно, быт был на нем, но и скрипу, и сопенья, и кряхтения было под завязку. Мечтал о пенсии. «Буду солить помидоры. Эти уксусные – ужас. Я лично их не могу…». Светлое помидорное счастье не состоялось.
Она отпускает Марину. Связь той с гибелью Смелянской, конечно, есть, но не прямая. Скажем – изобарическая, придавленная.
К ней сегодня придет Мария Смелянская, дочь погибшей. Она уже орала в милиции, что мать убили психи, которые у нее лечились. На вопрос, кто именно, она с высокой ноты упала на низкую и жалобно сказала: «А хер их знает. Но психов сейчас ведь больше, чем нормальных, разве нет?»
«Марина не псих, – думает Никонова. – И бухгалтерша, давшая ей адрес, которую гнобит внучка, тоже. Это тот человеческий пласт, который ломается изнутри, но сам не способен сломать то, что снаружи. Не к нему ли принадлежит и сама погибшая? Вот и она, Никонова, никогда не решилась бы сломать жизнь угревшегося возле нее слабосильного мужика. Она думала, что умрет раньше и он хорошо ее похоронит, и будет высаживать на ее могиле луковицы тюльпанов и траву-газонку, и заведет в хозяйстве детскую пластмассовую лейку и будет приходить протирать ее фотку носовым платком, а на обратной дороге, если припечет солнце, платочек уголочками завяжет на лысине от солнечного удара. Боже! Как она ясно это видела. Старик с лейкой и носовым платком на голове, умиленный проделанной работой и верностью жене. Ну, и где она, и где он?..
Машка пришла во зле. Хлопоты по смерти оказались страшней самой смерти. Денег у нее не было. У матери были, но она не знала, где они. Валявшаяся в ящике сберкнижка была обнулена, значит, где-то они существовали – бабки, баксы, рублики, тугрики. Машка не алчная, нет. Но живых денег у нее не бывает сроду. То одно, то другое сметает их в момент. А тут еще эта чертова милиция. Ну, что она может знать? Что?
Никонова смотрит на Машку как бы незаметно. Заметно нельзя – больно глазам: таким жаром злости и гнева дышит дочь покойной.
– Меня там и близко не было, – на высокой ноте говорит Машка. – Я ее вообще уже неделю не видела. Говорили по телефону – то да се. Ее всегда больше интересовал внук, чем дочь.
– У вас есть предположение, что могло заставить вашу маму пойти на это?
– На что? – спрашивает Машка. – На спрыгнуть? Ничего! Она сильная, как вол. Ее скинули и увели деньги. Денег в доме нет. Я в долгах по самое никуда в связи с похоронами, а у матери деньги были…
– В квартире ничего не тронуто.
– Значит, он знал, где что лежит. Я не знала, а он знал, – злеет Машка.
– Кого конкретно вы имеете в виду?
– Никого! Она не знакомила меня со своими любовниками. Но они у нее водились. Это мне известно.
– Вам что-нибудь говорит имя Аркадий Сенчуков?
– Это уже древнегреческая история, – отвечает Машка. – Он ее кинул сто лет тому, а она чуть не спятила. Я как раз тогда расходилась со своим. Вместе с матерью нам просто нельзя было находиться. Такой от нас шел пожар.
– Телефон Сенчукова лежал у нее на столе.
– Идиотка! Он же просто бросил ее об землю. Четыре, нет, уже почти пять лет назад. У нас с ней оказалась общая арифметика. Меня тоже тогда бросили.
– Могла ваша мама через эту тыщу лет – четыре с лишним года – позвонить Аркадию Сенчукову?
– С нее станется. Последнее время она, как говорили в старину, забросила чепец за мельницу. У нее все было схвачено, и она хорошо зарабатывала. Она была в победе. Я просто сужу по ее помощи мне и сыну. Мы с ней по жизни конфликтовали всегда, она крутая, а я негнущаяся, но в моей бедности мне без нее бы – крах. Может, на своем гребне она и решила позвонить этому козлу. Поддеть его или там унизить… Она это умела.
– Лично вы его знали?
– Никогда. Мать была чистоплотная, следов за собой не оставляла. И никаких пересечений не допускала.
– Последней у нее была Марина Крылова. Вы знаете ее?
– Без понятия. Вы должны найти убийцу, он же вор. Я перевернула все – в доме нет денег. А они были.
Никоновой было некогда, но она решила сама съездить в квартиру Смелянской. У нее внутри зачесалась некая точка и сказала ей: «Сходи сама!»
По документам следаков, в квартире после гибели Элизабет был полный ажур. Чистота, порядок, все, что надо, блестит. Что не надо – мерцает. Никонова же попала в квартиру, в которой истерически искали деньги. Она как-то очень хорошо увидела мечущуюся из угла в угол Марию, то, как она скрипит зубами от отчаяния и кидается опять и снова в одно и то же место. Секретер – сервант, сервант – секретер. Потом подушки, посуда, книги. Книги, посуда, подушки. Туалет – ванная. Ванная – туалет.
Никонова села в кресло и очень сильно захотела на минуту стать Смелянской. Женщиной в победе, как говорит дочь. Вот она сидит в кресле и смотрит на дом рук своих. Все добротно, все качественно. Кресло поглощает тело, журнальный столик манит хрустальным бокалом. Если протянуть правую руку к стеллажу с хорошими книгами, упрешься пальцами в хорошее виски или в хорошую немировскую горилку. Кстати, они одного цвета. Напитки, в смысле. Так она сидит вечерами. Одна – один бокал. И кресло возле столика – одно. Другое запячено в угол к окну. Его еще вытяни оттуда…
Могла Мария, в панике ища деньги, выпить и оставить этот бокал? Никонова опускает в него пальцы. Ни водка, ни виски не липнут, но пыли соберут больше, чем надо. Бокал чист, он искрится, он счастлив, что его взяли в руки. Так Смелянская сидит вечерами, если одна… Никонова идет к другому креслу. Оно уконопатилось ножками в ковер. Становится ясно, что его давно не сдвигали с места. Никонова идет в спальню, где на большой кровати лежат подушки без наволочек, хорошо смятые и прощупанные Марией. Не найденные деньги не подают знаков, и Никонова начинает думать, что, может, их тут и не было вовсе. Но это тоже странно. На серванте нашли только конверт с гонораром от Марины. У такой женщины, как Смелянская, не могло быть в ходу только полторы тысячи рублей. Всего ничего, около пятидесяти долларов. Для Никоновой – это деньги. Это Никонова на полторы тысячи живет четыре, в натяг – пять дней. Без театров, концертов, без денег на колготки и дешевую помаду. Только на пожрать и мыло.
Могла ли Мария найти деньги и валять перед ней Ваньку? Никакого резона. Деньги в любом случае ее, она дочь. Дочь, не знающая матери. Не взятая матерью в союзницы, ну, к примеру, на случай беды. Вот такой, какая произошла. Была бы у нее, Никоновой, дочь, даже приемная, она бы ей сказала: «Дочь! Если я, не дай Бог, конечно, попаду под трамвай, на несчастный случай у меня есть тысяча долларов (они на самом деле есть у Никоновой), они в конверте лежат в банке, на которой написано «Пшено». Там двойное дно, подковырни его ножом».
Никонова встает и идет на кухню.
Железные банки для круп, такие же, как у нее, привезенные как сувенир из Прибалтики, в которой – тогда казалось – было все. И еда, и тряпки, и море, и воздух. Банки стояли на полке. Большая для муки. Поменьше для гречки. Еще поменьше для пшена. Еще для манки. Совсем ниже и ниже – для соли и перца. Она берет банку для пшена. Та пуста. Двойного дна нет тоже. Гречка на донышке. Дно одно. Мука. Банка наполнена почти доверху. В ней копошатся черные жучки-червячки. Маловероятно, что ее вообще трогали. Нет, ее, никоновская, логика двойного дна для Смелянской не годилась.
И она вернулась в кресло. Она налила себе капельку виски. Она глотнула и замерла для получения ощущений. Зажглось в горле и слегка всколыхнулось сердце. Никонова – дама непьющая. Она считает: самое бездарное – горькую несложившуюся судьбу заливать горькой. Просто сейчас у нее эксперимент по теории перевоплощений, правда, несколько рискованный. Телефонный звонок врывается как камень в стекло.
Она берет трубку.
– Простите, мне нужна Элизабет.
Странно выделена первая часть имени – «Эли». Сильное «э» и двойное «л».
– Ее нет, – отвечает Никонова, вкладывая в «нет» полное отрицание. Нет как нет, в смысле – нигде и никогда. Видимо, от виски она забыла, что у такого телефонного ответа куча оттенков: нет дома, вышла, будет через час. Да мало ли? В туалете…
– Скажите ей, что звонил Аркадий.
И отбой. Она растерялась от глупой ситуации, от того, что она не овладела моментом этой случайной связи, да что там говорить, она ввела человека в заблуждение, и теперь это «скажите ей» сначала постепенно, а потом внезапно накрыло ее ощущением бездарности прихода в этот дом, стыда за отпитое виски… Зачем? Для чего? «Для того, – сказала она вслух, – чтобы убедиться, что Аркадий Сенчуков не имел никакого отношения к смерти Смелянской, потому что он даже не знал, что эта смерть имеет место быть».
Самое же нелепое и удивительное случилось чуть позже: Никонова нашла в квартире деньги, уже не ища их и покидая квартиру. Слева от двери висел ящичек сигнализации. Он не был включен, видимо, с того самого дня, когда все произошло и хозяйка была жива и здорова. Никонова тронула его рукой просто так, неведомо зачем. Он чуть-чуть шевельнулся, чего не должен был делать. У нее дома был такой же, прикрепленный к стене намертво. Мощные шляпки шурупов чуть-чуть торчали из пазов. Она взяла в кухне нож и легко развинтила конструкцию. Там лежали завернутые в пакет доллары и сберкнижка. Спрятать деньги в сигнализацию – это хороший ход: просто вор лапать ее лишний раз не станет. Он будет пытаться отключиться – есть такие знатоки.
Недовернутые шурупы тоже не представляли загадки. Смелянская была дома. Уходя, она наверняка все бы закрутила. Она не выходила – это теперь точно известно. Видимо, она хотела положить свежий гонорар от Марины на кредитку и хотела ее взять. Не случись того, что случилось, Смелянская пошла бы в банк.
Теперь давайте войдем в душу Никоновой и поозираемся по ее углам. Душа ее отторгает размышления о покойной. Душа извернулась и думает о другом.
По долгу службы Никонова бывала на случаях изымания разных денежных сумм. Всегда это было дело прилюдное и протоколируемое, с понятыми. Здесь было количество денег, в общем-то, для нее фантастическое. Двести тысяч на книжке и пачка долларов – в сорок-пятьдесят тысяч. Лицом к лицу, без свидетелей, такая сумма никогда не стояла перед Никоновой. Странное чувство. Она вдруг увидела себя на берегу моря, волны, нежно лизнув ей ноги, стекали назад, и она видела в этот момент пальцы своих ног, но не тех, на которых она сейчас стоит и на которых желтые наросты кутикул вокруг ногтей. Другие ноги и другие ногти – с перламутро-солнечными овалами. Она могла бы так стоять на берегу хоть изредка, будь у нее такие деньги. Она жила бы не от и до, не отсюда досюда, не тютелька в тютельку суммы и времени. А сколько хочет. Досыта, допьяна, до счастья. Хоть бы раз. Хоть бы в чем-то.
Все это клубилось в одном углу ее души. В другом же трепыхалось гневное. Сколько же ей не доплачено за всю ее жизнь, сколько раз она ударена мордой об стол. «Вы бездетная, вам и ездить по командировкам». «Ты комолая, чего тебе стоит дать страждущему товарищу за так и тут же?» «Вам это не идет, женщина, у вас не та фигура. А у нас бу-тик». «Я думал-думал, что тебе подарить, дорогая, и решил, что тапочки у тебя совсем скособочились. Смотри, эти в клеточку, мягонькие. Из Белоруссии».
Она плачет, держа в руках нож-отвертку. Что-то ведь ее сюда привело. Она кладет половину долларов в лифчик, пакет с другой половиной и сберкнижкой пусть лежит. Она намертво завинчивает шурупы. Она тщательно протирает ящик сигнализации. Она уходит, и в душе у нее тихо.
На следующий день она закрывает дело Смелянской, сняв все вопросы о возможности убийства, и приглашает Марию.
– Я была в квартире. Какой вы учинили разгром! Вас, не имей мы данных о более раннем состоянии квартиры, вполне можно было бы заподозрить в нехорошем. Я хочу вам дать совет. Если деньги остались в квартире, попробуйте поискать их в старых приемниках, телефонах, в том, что с виду и не имеет никакой ценности.
– Я смотрела, – сказала Мария.
– Ну, значит, их нет вообще, – ответила Никонова, подписывая пропуск. – Глупо было со стороны матери не оставить вам адрес денег. Случай несчастья всегда надо иметь в виду.
– Где-то они лежат, – вяло сказала Мария.
– Может быть… Да! Забыла сказать. Когда я была в квартире, звонил Аркадий. Мы о нем с вами говорили. Я не успела ему сказать, что случилось с вашей мамой. Он попросил ей сообщить, что, мол, звонил Аркадий, и положил трубку. Он не знает, что она погибла.
– Ну, уж я ему сообщать не собираюсь, сволочи такой.
Машку переполняла злость. Все навалилось, и со всем надо разбираться. Похороны прошли, можно сказать, никак. Народу было пять человек. Если не состоишь где-то в штате или еще в каком коллективе, если не обзавелся родней со всех сторон, кто тебя знает? Так и у матери. Были она, Машка, сын-внук, эта тетка, что была у нее последней, соседи по площадке. Такие серенькие похороны на слабенькие деньги.
Сейчас проблема с квартирой. Она наследница, слава Богу, тут все в порядке. Надо решить: где лучше жить или что лучше сдать. Ее квартира побольше, но подальше. Материна в центре, но всего две комнаты. А сколько им надо с Юркой? Одна ей, одна ему. Но он взвоет. Дома у него своя тусовка, рядом школа. Конечно, ему уже шестнадцать, может и ездить в школу, не барин. Машке хочется в центр. Опять же должны где-то быть деньги. А так сдашь, а кто-то дуриком их найдет.
Надо выяснить порядок цифр сдачи в вариантах «далеко – близко». Значит, нужен риэлтер. Опять за рыбу деньги. Но если она хорошо сдаст свою квартиру, многое начнет решаться проще. Деньги – это ключи от замочка, за которым лежат еще большие деньги. Они же – ключик от замочка за которым висом висят неразрешимые проблемы. Во-первых, во-вторых, в-третьих… Армия, от которой надо уже сейчас выстроить оборону. Юрка ей сказал: «Не откосишь – убегу за границу. Я в эту вонючую свору ни за что не пойду». Какая неудача, что он абсолютно здоровый! Ни близорукости, ни плоскостопия, ни туберкулеза… Хотя сейчас хватают всех. Озверелая страна, будь она проклята. И она думает: пусть бы бежал за границу. Но ведь это только так говорится, кому он там нужен? Странно, но последнее время горячая мысль «а как же я без него?» уплыла, не оставив адреса. Душа ее страданиями уязвлена стала. Родства нет как такового. Нет родства, нет любви, нет дружбы, нет сострадания. И у нее с матерью не было, и с Юркой нет. То есть понемногу, на определенное время, есть как способ выживания себя самого. Маленькому мама нужна, она кормит. Друг нужен – вдвоем отбиваться легче. Любовь – это секс, вырабатывающий стероиды роста, физического развития, – тоже нужна. Ничего другого. Ни-че-го. Она ждет времени, когда Юрку можно будет отделить. В этом смысле выгоднее остаться сейчас в трехкомнатной квартире. Со временем ее разделить, а на деньги от сдачи материной учить его, дурака. Но только на расстоянии. Не побуждать своим присутствием затянуть на ее же шее удавку. В такие, полные мрака минуты Машка мечтает об атомной бомбе на Россию, в которой никогда нет хороших людей, и останься Россия навсегда – другим мало не покажется. Вот такой Машка была по дороге из милиции. Она ехала в материну квартиру, чтобы поставить ее на охрану. Тогда, когда она рылась по углам, то забыла это сделать.
* * *
Марина же… Несмотря на жалкое погребение Элизабет и отвратительную кутью поминок в столовой, в ней, непонятно, с какого полива, продолжал трепыхаться некий росток надежды на что-то. Никаких оснований для нее, если не считать эту ерунду – выброшенный календарик, жизнь ей не подавала. Неинтересная редактура книги о кино периода оттепели. Ее удручало несовпадение впечатлений от того кино своих и автора. Автор, старый киношный критик, взрослым человеком видел все эти шедевры в момент их рождения. Она их тоже видела, но уже потом, через двадцать-тридцать лет. И будь они, шедевры, вином, они должны были бы отстояться, породить особый смак, но, на ее глаз, чуда не произошло. Она говорила автору: «Меня качает уже от первой картинки тех фильмов. Трубы и блочные стройки, расходящиеся железнодорожные пути, непременный самолет с белым хвостом в небе. Почему все так снимали? Почему этот штамп так вдохновлял?» – «Это был не штамп, – говорил автор, – это были родовые схватки новой жизни после сталинщины». – «Но почему так однообразно? Почему так пафосен этот чертов след самолета?» – «Гагарин, – отвечал он. – Небо – это он, символ преображения».
Она больше не спорила. Она даже не сказала, что те схватки кончились мертвым ребенком. Не стала обижать старика. Пусть ловит вчерашний кайф. А разве это так уж лучше, что у нее нет задыхания от молодых шестидесятников в фильме «Мне двадцать лет»? Такие светлоглазоясные с этим разговором о картошке и репе. Понимали ли, о чем спорили, понимали ли, что этот патриотический оселок обременительно вечен и несть ему конца, как нет конца лежащему Ленину и всей этой красной кремлевской стене, по идее ведь, стене плача, но только русского, умиленно-восторженного, глупого плача-восхищения.
Зачем она думает про все это? Если тебя ждет радость завтрашнего дня, забудь, где живешь, а помни, что просто живешь, дышишь, смотришь и ждешь… Отвернись от русской стены горя. Пути неисповедимы, и жизнь может кончиться мгновенно, как у Элизабет. И уже не будет ничего.
…У подъезда дома стояли двое. Девчонку-соседку она хорошо знала. Лелька-кнопка – так звали ее в школе за неподверженность акселерации. Девочка была мала, изящна и сходила за четырнадцатилетнюю. Она разговаривала с молодым мужчиной. И то, как она разговаривала, грубо разрушало представление о девочке-кнопке. Лелька, что называется, выеживалась перед мужчиной всеми своими глазками и лапками. Она млела от возбуждения гормонов, не беря в расчет ни людей в окнах, ни котов на подоконниках. Более того, было ощущение, что она это делает назло всем, выставляясь по максимуму. Вишь, ножку на лавочку поставила, показав просвечивающиеся через колготки желтые трусики. Она манила ими, она завораживала стоящего рядом дядьку. Дядьке было где-то под сорок, и у него был вполне пристойный вид. Он даже не глядел в межножье своей собеседницы, а смотрел на то, как гордо, вниз головой, с сознанием своего бессмертия падает вниз головой турман.
Время выпихнуло из своих дворов голубятни, но во дворе остался один фанат, он устроил на своем балконе, на пятнадцатом этаже, голубиное жилье. И теперь все могли наблюдать эти смертельные птичьи трюки. Что интересно, против голубятен раньше базарил весь двор. Голубятня же вверху как бы даже доставляла радость. Никто не бухтит, что птицы покакали на подоконник, получается, даже радовались их воркованью. Знать бы… Может, и не вопили бы раньше, когда боролись против, знать бы за что за… Теперь почти друг на друге стоят на месте голубятен машины. Всю ночь трещат сигнализации, это вам не голубиный клекот.
– Привет, Лелька, – сказала Марина.
– Здрассте, теть Марина, – ответила она. – Это мой двоюродный брат, – представила мужчину. – Он будет у нас жить… Вы не будете возражать?
– Я-то при чем? – засмеялась Марина.
– Это мама волнуется, что соседи скажут – мол, понаехали черте откуда, а мы, дураки, их покрываем…
– Не говори глупости, – рассердилась Марина, смущаясь и стыдясь перед мужчиной всех этих слов. – Не слушайте дурочку, – это она ему, – живите на здоровье где хотите.
– У него еще нет регистрации, – крутилась на одной ноге Лелька, – так что ваше право заявить на нас в милицию.
Только тут Марина заметила, что мужчина смеется внутри себя и только сдерживается. Хотя чего тут сдерживаться? Захохочи, ведь глупость городит девчонка, ты же брат! – Ах, вдруг поняла Марина, никакой он не брат. Совсем чужой человек, не родной, не близкий, потому-то и заголяется Кнопка-дура, вступившая в опасную фазу развития, когда турман летит вниз головой.
– Вы откуда? – спросила вдруг Марина, хотя какое ее собачье дело?
– Из Грозного, – ответил он и протянул руку. – Меня зовут Алексей. Бывший преподаватель университета, бывший неудачливый бизнесмен… Ничего там не осталось. Вот приехал начинать все сначала.
– Бог вам в помощь, – сказала Марина, направляясь в подъезд.
Кнопка и бывший пошли за ней. В лифте стало тесновато, потому что все время крутилась Лелька, и Марина подумала, что если дома нет Вари, матери Лельки, и она останется вдвоем с гостем, с девочки станется… Но тут же она окоротила себя. Это меня не касается. Это их проблемы, а у меня свои. Но тут же сообразила, что свои проблемы уже несколько дней ее не мучают, она даже оставила в рукописи о кино все авторские закидоны о фильмах шестидесятых как русском неореализме. Думай, старик, как хочешь. Я сама обожаю итальянский нео, и «Рим в одиннадцать часов», и «Полицейские и воры». Но нет там пафоса разъезжающихся путей. Там дорога – просто дорога, а не родовые схватки будущего. Там горькая радость жизни, а мы всегда производим пафос сладкой смерти.
Она оставила «закидоны», потому что автор имеет право на это. И не ей хлопотать о том, чтобы он стал думать иначе. Всегда существование двух мыслей интересней одной. Она что, не знала этого раньше? Знала, конечно, но в ней вдруг что-то лишнее обрушилось, и теперь она идет по обломкам собственного вчерашнего сознания. Главное – что идет. Поэтому пусть люди живут, как им лучше, а не как кем-то принято. Лучше – это всегда вперед, принято – это всегда назад.
Они расстались на площадке, Марина, готовая пасть Лелька и мужчина без прошлого. Только закрыв за собой дверь, Марина сообразила, что он хорош собой, этот Алексей, хорош на ее вкус, когда в расчет берутся не стати, не то, что теперь называют «мачо», а умение смеяться внутри себя и эта освобожденность (как у нее) от прошлого. «Я бывший преподаватель, бывший бизнесмен», но, ей Богу, люди, не надо рвать по этому поводу в себе жилы. Ведь у многих, многих уже нет завтра, а у тебя есть.
Звонок раздался примерно через час, Алексей стоял на пороге. Марина уже успела влезть в халат, он у нее мягкий и пушистый и хорошего бирюзового цвета. Она ведь дома, она не ждет гостей. У нее волосы собраны в пучок бирюзовой закруткой.
– Извините, Бога ради! Варя мне сказала, что вы работаете в издательстве. Мне бы хотелось с вами поговорить.
– Заходите, – сказала Марина. – Вы на самом деле родственники?
– Варина мама и моя покойная мама – троюродные сестры. Так что родня, но уже приблизительная. Так сказать, последняя вода на киселе. Я ведь по профессии филолог, успел даже защититься в грозненском университете, пока его не разрушили. Я мог бы пригодиться в издательстве? Или это бред сивой кобылы?
– Вообще-то бред, – ответила Марина, – если вы имеете в виду мое издательство. Мы людей не набираем, мы их выпихиваем. Но ведь сейчас тьма тьмущая частных. Их порядки я не знаю. Могу вам дать пару-тройку адресов.
– Я после университета выпускал газетку. Пока нам не обломали рога. Торговал лекарствами. Это был хороший бизнес, но весьма криминальный. А я человек смирный, я люблю дружить. Бороться и искать, найти и не сдаваться помните эту речевку? – это не мое. «Искать и найти» для меня антиподы «бороться и не сдаваться». Но сейчас это выглядит дурью… Хотелось бы найти и беречь без грубой силы.
«Боже! – подумала Марина. – А я ведь была уверена, что таких людей уже нет. Даже те, которые нынче проповедуют мир в душе, орут об этом, как в атаке. Говорят – благодать, покой, смирение, а в глазах – «убей его!».
– Давайте попьем с вами чаю, – сказала она. – У меня есть сушки с маком и кусочек сыра. Я плохая хозяйка.
Но чая не получилось. В дверь позвонили настойчиво, и резко явилась Лелька и сказала, как отрезала:
– Сказал, на минутку, и застрял. Мама уже налила суп. Идем быстро.
Марина осталась с чайником в руке. Она успела поймать его расстроенный глаз и слова, что он придет потом. Вечером.
Марине хотелось прибить Лельку. Она так ясно увидела, как та будет кружить вокруг Алексея, пока тот не стащит с нее трусики. «И никуда ты не денешься, если не имеешь грубой силы, дорогой товарищ Алексей», – думала Марина. Где-то вскользь мелькнула мысль, не поговорить ли с Варварой. Но как мелькнула, так и ушла. Не ее это дело – стеречь чужую невинность.
Вечером он не пришел, а пришел через три дня, и не вечером, а утром, когда она собиралась на работу.
– Замечательно, – сказал он. – Я вас провожу.
«Понятно, – подумала Марина. – Лелька в школе».
Она выбрала наземный, длинный маршрут. Длинный, непрерываемый разговор ни о чем. Слова какие-то другие, то есть те же самые, но с цветом, запахом. И не плоские, как на бумаге, а объемные, красивые, как купол там или дуга моста. Или как зеркальная витрина, множащая саму себя. У подъезда Алексей взял ее за руку и сказал, что так, конечно, не бывает на этом свете, и, значит, он уже на другом, но он не хочет расставаться с ней ни на секунду, что он заночует, если надо, на этих ступенях, но дождется ее с работы.
– Господь с вами! – ответила Марина. – У меня сегодня полусвободный день, я только что сдала книгу про кино, про то…
В небо стремительно подымался самолет, оставляя за собой след.
– Про что?
– Про след, который остается в искусстве навсегда, в отличие от следов, скажем, технологических. Но это так, приблизительно. Ведь технологический след – тоже немало. Это мне пришло в голову сейчас. Подождите меня в вестибюле. Там стоят кресла и есть газетный киоск. Многие авторы коротают в нем время, ожидая судьбы. Я вернусь через час.
Она боялась, что спустится, а его нет. Она торопилась, но он сидел и читал газету, как ему было велено. Марина придумала, что, купив по дороге еду, надо тихо вернуться домой и там замереть. Варвара еще на работе, Лелька в школе. Этот номер может пройти, если они не попадутся на глаза вездесущим бабулькам из их подъезда. Бабульки действительно о чем-то голосили на лавочке, а турман смертельно падал вниз.
– Заходим поодиночке, – сказала Марина. – Вы вперед, а я отвлеку от вас старух.
– Я не смел вам это предложить.
Он быстро вошел в подъезд, а Марина вскрикнула: «Боже ж ты мой! Каждый раз я думаю, что он разобьется!»
– Кто? – спросили старухи.
– Кто-кто! Голубь!
– Нашли, над чем печалиться. Птицу пожалели. Да их убивай не убивай – их все равно туча. Пожалели бы лучше пенсионеров.
– Я жалею, – сказала Марина, вынимая из сумки палочку-выручалочку – коробку «Шармели». – Угощайтесь, мне сегодня дали зарплату.
– И сколько? – спросили бабки. На этот вопрос полагалось соврать, чтоб не стали ненавидеть.
– Заплачу за квартиру, за проездной, куплю мыло, свечи, керосин – и с концами. – Это выражение ее бабушки, которая так определяла минимум достатка.
– А что, уже надо покупать свечи? – это другое поколение стариков с задержкой в развитии чувства юмора. Поэтому и вопрос в лоб.
– Это такая шутка, – ответила Марина. Старухи уже жевали зефир, разговор не требовал продолжения, и можно было уходить. А Сергей ждал ее у двери.
Они прошмыгнули, как озорничающие подростки.
Так получилось, но за дверью они кинулись друг к другу, как после долгой, уже не обещающей встречи разлуки.
Это был день счастья. И так естественно было сказать ему: «Останься навсегда», но она помнила о двери напротив. С этим надо было что-то делать.
Он ушел поздно. Марина слышала, как закудахтала, открыв дверь Варвара, и радостный визг Лельки.
Договорились, что он скажет, что нашел квартиру. Марина позвонила Нине Павловне и попросила принять знакомого всего на несколько дней. На что был расчет? Только на то, что у Лельки кончится течка, а Варваре по определению должно стать лучше: мужик с возу – кобыле легче.
Но жизнь не подчинялась фольклорной логике. На следующий день к Марине пришла Варвара. Каждый раз, встречая ее, Марина думала, что ей самой уже много лет. Тридцать девять – это вам не халам-балам. Расплывшаяся крашеная блондинка, живущая напротив, была ее ровесница. И это било Марину под дых. У Варвары, как и у Марины, не было мужа. Он бросил ее, когда Лельке было всего десять. Это был год дефолта, и мысль, как жить дальше, навсегда оставила на лице Варвары какой-то странный след обиженного удивления. Это удивление оборачивалось животным страхом, который выходил из Варвары криком. Все равно на кого. Но, конечно, больше всех доставалось Лельке. За все сразу, за отца-подлеца, за власть-суку, за людей-сволочей, за жизнь-паскуду. Смотри, дочь, и учись на опыте матери. Лелька орала в ответ. В стены стучали соседи.
Варвара приходила только по случаю перегоревшей лампочки («У вас случайно нет лишней?»), занятого спарщиками телефона («Можно от вас позвонить? Эти сволочи…») или неудачной покупки («Может, вам подойдет? Взяла, дура, не меряя»).
Сейчас у Варвары был странный затуманенный взор.
– Я к вам посоветоваться. Вы видели, у нас сейчас живет мужчина. Он дальний родственник. Видели его?
– Да, однажды… – каким-то не своим, искаженным ложью голосом ответила Марина.
– Он меня моложе на три года. Но кто сейчас на это обращает внимание? Я хотела бы его оставить. Он сказал, что будет снимать квартиру, я ему сказала: «Да живите на здоровье!», а потом чего-то забоялась… Ну, во-первых, он хоть и русский, но все-таки из Чечни… Как вы считаете, это не опасно?
Марина была в идиотском положении. Ей надо было сказать правду – не опасно. Одновременно ей надо было соврать – чтоб от Алексея отвязались.
– А как к этому относится Леля? – сказала она третье.
– Он вроде ей нравится.
«Она что, слепая? – думала Марина. – Или Лелька при матери не показывает ему трусики?» Одновременно ее охватил стыд от круговерти, которая идет вокруг мужчины, и в ней она тоже участница.
– Знаете, – сказал Варвара, будто уловив край ее мысли, – плохо без мужика. Вот он неделю живет, дух в доме другой. Лелька не базарит. А то мы, как две сучки…
«Почему как? – подумала Марина. – Именно то слово, но ты, мать, еще не все знаешь. Скажу…»
– Имейте в виду, что Леля в том возрасте, когда молодой мужчина может и ее заинтересовать.
– Ну, знаете, – почти закричала Варвара. – Уж ей я желалку зашью. Думаете, я ничего не вижу? Строит, зараза, глазки, но пока в доме я главная. Подумает о чем не том, выставлю как пить дать.
– Ну, и куда же вы ее выставите?
– Выставлю… Знаю куда… В общем, вы считаете, что не опасно, что из Чечни?
Ничего этого Марина не говорила. Но она поняла, что больше не будет у нее дня счастья. Она никогда не вступит в это состязание.
– Причем тут Чечня? – сказала она. – Он ведь русский. Просто надо у него спросить: ему подходят ваши условия? Ведь, я так поняла, он вам не как жилец нужен?
– А чего я перед вами буду ломаться? Конечно, не как жилец. Он одинокий, я одинокая… У него ведь жена была чеченка, его студентка. Ушла в горы… Сказала ему что-то не то…
«Странно, – думает Марина. – У нас с ним до таких подробностей дело не дошло. Мы, как два брошенных щенка, присосались к блюдечку с молоком радости. А сколько места в его сердце принадлежит той, что ушла в горы? Может, я ему – просто место привала… Мне это надо?» И все в ней колотилось – «надо», «надо», и все в ней кричало – «на фиг», «на фиг».
– Не знаю, Варя, что вам сказать. Я понимаю ваше одиночество – сама такая, я же вас и не понимаю. То, что вы, предлагая жилье, предлагаете в придачу и себя. Дайте ему снять квартиру, оглядеться. Кто знает? Может, он и сам поймет, что вы самое то…
– Да? – вскрикнула Варвара. – Да вы первая перехватите его на дороге. Я это нутром чую. Он ведь к вам заходил…
– Я вам не соперница, Варя. Я у вас на дороге не встану.
«Еще как встану! – думает Марина, но понимает – не встанет. Горький остаток радости от счастья скукоживается внутри нее до полного ничего. – Это ошибка, – плачет она внутри себя, – что мы кинулись друг к другу. Как кинулись, так и разбежимся». Как-то некстати (хотя почему некстати, самое что ни на есть кстати) вспомнился ей тот пролет лестницы, на котором она стояла, слушая звуки поцелуев Арсена. Тогда тоже было счастье, нечего назад плеваться, были цветы и слова, был календарик с телефоном, что отвечал ей голосом любви. Где он? В милиции, как свидетель обвинения. Там ему и место. Но второй раз ее на вилы не поддеть. Она не пойдет на кулачный бой с соседкой и ее дочерью. Вы свободны, сэр! Гуляйте по жизни без меня. Считайте, что я тоже ушла в горы.
– Бог вам в помощь, Варя, – сказала она. – По-моему, он хороший мужик, его не надо опасаться. У вас в соперницах дочь, это помните.
– Ну, эту гору я сдвину, – ответила Варвара. – Я обломаю ее сучьи повадки. Между нами… Мне покойная тетка оставила однокомнатку. Лелька не в курсе, хотя это для нее. Кончит школу – и плыви себе, дитя Дуная. Сейчас там живут два мужика с рынка. Хорошие деньги платят и в срок. Не хотелось бы это терять… Но если начнет вспухать, отделю дуру. Хотя к деньгам так привыкаешь…
– Придется выбирать, – смеется Марина. – Запах мужчины или запах денег.
– Это верно, – отвечает Варвара, – два самых сильных запаха. А какой-то дурак говорил, что деньги не пахнут.
– Был такой римский император Веспасиан. Он наложил налог на сортиры.
– И он прав. И я права. Тут два разных случая. – И она даже засмеялась. И Марина увидела, что она очень даже ничего, ее располневшая соседка, что есть в ней, как это говорят теперь, драйв. И в кулачном бою с глупой Лелькой она бы, Марина, поставила на мать.
Расстались они сердечно.
А на следующий день Алексей ждал ее в вестибюле издательства. У ног его стоял чемодан.
– Я ушел, оставив записку. Вы говорили, что есть какой-то вариант.
– Я вас отвезу, – сказала Марина, – к одной старой даме. Но это не надолго. Пока не найдете себе другой вариант.
– У меня не будет вариантов, – сказал Алексей, отвечая ей на другой вопрос.
– Не будем об этом, – сказала Марина. – В наше непредсказуемое время день счастья – это уже очень много. Можно и остановиться.
В такси, по дороге к Нине Павловне, Марина думала, что, вопреки вчерашним своим мыслям, она уже вступила в борьбу за мужчину. Почему-то ей было и стыдно, и радостно сразу.
А вечером на площадке ее ждала Варвара.
– Не у вас? – спросила она.
– Что? – ответила Марина.
– Кто! – сказала Варвара. – Вот читайте.
Она читала. Какой хороший, ясный, опрятный почерк.
«Спасибо за гостеприимство. Но, как говорится, бойся гостя… И лежащего, и сидящего, и стоящего. У меня есть несколько пока неопределенных вариантов. Остановлюсь окончательно – сообщу. Не выйдет – уйду в горы. Шутка. Спасибо за доброту, за участие, за терпимость. Леля, учись хорошо и не расстраивай маму. Войны кончаются только благодаря умным и образованным. Берегите друг друга, и хранит вас Бог.
Ваш Алексей».
– Понятно, – сказала Марина.
– У него с собой не было никаких вариантов, кроме нашего. Откуда они взялись, скажите на милость?
– Но у вас есть телефон, и вы не всегда были рядом. Куча объявлений там и сям. Вы не допускаете, что ему неудобно жить с двумя женщинами? Что ему нужна отдельность…
– Знаю я, для чего мужику отдельность, не вчера родилась. Это он Лельки испугался… Она просто висела на нем.
«Дошло, наконец, – подумала Марина. – И этой дуре он писал, что умные и образованные спасут мир».
– Успокойтесь, Варя. Вы же разумная женщина. Не тот случай, поверьте мне, чтобы копить ненависть. Он ведь ничего вам не обещал?
– Да пошел он в жопу, интеллигент вонючий! – вдруг в сердцах закричала Варвара. – Я почему пришла, у меня в душе скребли кошки, что он у вас.
– Заходите, посмотрите.
Варвара не погребовала, прошлась по квартире. И заглянула в ванную. Досмотр был откровенный и, в сущности, наглый. И если бы не неожиданный телефонный звонок, Варвара успокоилась бы, но тихий ответ Марины: – «Я сама перезвоню» – снова наполнил ее подозрением.
– Это он? – спросила она.
– Да что вы себе напридумывали, Варя! – Но это был он. И теперь надо было, чтобы Варвара ушла. Но та не уходила и тупо смотрела на телефон.
В какой-то момент она как бы встряхнулась и пошла к двери, не сказав больше ни слова.
Марина крутилась возле телефона, но звонить почему-то не хотелось. «Я же обещала», – говорила она себе. «Я никому ничего не должна, – отвечала себе же. – Хватит на моем веку стремительных мужчин». И почему-то неожиданно и некстати заныло сердце о Никите, даже не о нем, а о том, как они тогда в учительской обнялись взглядом. Думали, что навсегда. Нет, Арсена она не вспоминала, выброшенный календарик сыграл какую-то мистическую роль в их отношениях. «Выбросите», – сказала она Элизабет, и та… И та выбросилась с балкона…
Почему-то это торкнуло. Случайность? Конечно, она… Что же еще… Какие могли быть у них линии пересечения? Но ведь от кого-то он ушел к ней, как потом от нее ушел к другой. Дурь! Миллионы мужчин и женщин совершают такой круговорот. Могла ли выстроиться между ней и Элизабет такая коварная конфигурация? Дурь! Это надо, чтобы всемогущий сверху так раскинул карты. И тут вспомнилось то, что напрочь забылось. Элизабет держит в руках календарик и у нее звенят браслеты. С чего бы им звенеть? Задрожала рука. Звенят, звенят браслеты.
Марина тоже помнит этот номер. Марина его набирает.
Он отвечает.
– Это Марина, – говорит она как можно более жестко и равнодушно. – Помнишь?
Это жалкое «помнишь» портит правильную ноту.
– Что-то с моими бывшими бабами стряслось, – отвечает он. – Вспомнили старика.
Ладно, она стерпит хамоватый тон и простит «бывших баб». Ей надо знать.
– Тебе звонила Элизабет! – не спрашивает, а утверждает она.
– Ах, Эльжбета! – смеется он. – Очень интересно, откуда ты знаешь про движения моих самочек.
– Элизабет погибла, – говорит Марина.
– Ни фига себе! А ты при чем? Душеприказчица? Дальняя родственница?
Невероятно. Он даже для приличия не выражает сожаления, не спрашивает, как… Самочка.
– Ты был последний, с кем она говорила.
– Серьезно? Ты что, была при этом? Свечку держала? На проводе висела?
– Нет. Догадываюсь.
– Оставь это при себе. Мне звонила какая-то дура из милиции или прокуратуры – я не в теме. Тоже задавала вопросы. Ну, какой вопрос – такой ответ. По телефону не убьешь. И из окна не выкинешь.
Значит, он знал. И тем не менее – самочка. Марина вешает трубку. Она сейчас Элизабет. И у нее дрожат несуществующие браслеты. Она так близко стоит от балкона. Если он и ей так сказал – «повадились звонить», «бывшие бабы» – ей, сильной, уверенной, самоуверенной… И тут Марина понимает, что не ее, слабую, а сильную Элизабет легче всего сбить с ног – такие не ожидают удара. Они от него обескураживаются. Ах, какое замечательное слово! Элизабет на минуту лишили ее куража, ее отваги, силы, с балкона шагнула слабая, немощная женщина. Обескураженный человек. Слава слабым. Они всегда имеют при себе соломку, чтоб подстелить, они заранее ни в чем не уверены, они ждут засады и нападения и сумеют спрятаться. Все подворотни ими просмотрены, а в сумочке лежит пшикалка в глаза.
Элизабет шла по жизни, как прет океанский лайнер, не ожидающий айсберга. Слабые же ездят на электричках, не садясь у окна.
Марина только не знает, что сама была айсбергом в жизни Элизабет. Что эта любимая ношеная-переношеная юбка годе сразила даму в прикиде из дорогого бутика, что браслеты звенели от гнева на несправедливость: это она, никакая с точки зрения Элизабет, вытеснила ее, когда ей так было хорошо. Не точный факт, но возможен… еще как!
Марина слабая. Она не уверена в себе, а потому считает нужным не звонить Алексею. Пусть был день счастья. Но никакой счастливый день не выдержит, если на него взгромоздить всю оставшуюся жизнь. Она выдергивает телефонный шнур из розетки.
* * *
Нина Павловна поит Алексея чаем.
– Ужасная война, – говорит она о Чечне. – Когда-нибудь этот позор будет вписан в историю России. – И без перехода: – Вы не волнуйтесь, что Мариночка не звонит. Она очень обязательный человек. Значит, что-то ей мешает. Трудно стало выживать. Посмотрите на нас. Два – или три? – поколения выросли в ожидании ареста и пайки. При великом застойщике не было арестов, только пайки. Рабочая или пенсионная. А тут людей взяли и развернули резко назад – и сразу вперед. Или поспевай, или умри на месте. Вот я жду смерти, а таким, как Марина, надо крутиться. В их издательстве оставили минимум работников, а работы стало больше. Она одна. Случись что… Ей приходится жить мощно, но осторожно. В ее редактуре выходят прекрасные книги, но она боится завтрашнего дня. Все боятся. Россия – страна не для людей. Для волхвов, странников, юродивых. Их может быть в России бесконечное множество, а людей работы, пахарей и плотников надо чуть-чуть. Мы народ мистический, не реальный. Слава наша в искусстве, в гжели, жостове, хохломе и прочих непременно индивидуальных вещах. Нам бы дружить с чеченцами, мы бы творили, а они оберегали бы творчество русских, его самобытность. А мы вообразили себя воинами, а мы захватчики-идиоты. Захватить и испоганить. Извините, мне просто не с кем поговорить. Расскажите о себе. Кто ваши родители?
– Мать чеченка. Отец русский. Их разбомбили в самом начале первой войны. Во мне два начала. Русское сильнее. Поэтому я здесь. Почему сильнее русское? Потому что мама обожала отца. Она в нем растворилась. Она знала наизусть не только Пушкина – это само собой. Тютчева, Гумилева, почему-то даже Хлебникова. Она в отличие от вас считала, что русские – самые великие люди на земле, что ей выпало счастье быть женой русского. Нас уже бомбили, а она говорила, что это гром, русские бомбить не могут. Я думаю, Бог ее пожалел, дав смерть сразу. Бомба попала прямо в родительскую спальню. Я в ту ночь был с девушкой. Чеченкой. И она мне кричала, что будет мстить за каждого убитого этой бомбежкой. Что русские – это пьяная свора недоумков, и я до сих пор помню ее взгляд, горячий до ожога. Она сказала: «Выблядки!» Слово-то непростое. Откуда ей было его знать? И я подумал, что, пока мы целовались, она твердила его, чтобы не забыть. На всякий случай. На этом слове кончилась моя молодость. Кончилось все. Слово содрало с меня кожу, И я стал наращивать другую, грубую, корявую, не знающую, что такое нежность и любовь. И тут вдруг мне показалось… Как говорила моя русская бабушка, что-то приблазнилось…
– Вы о Марине.
– Раз она не звонит, значит, не о ней. Я научился отрезать боль, чтоб выжить, и счастье, чтоб не оглупеть. Боль и счастье одинаково обременительны в мире, в сущности, животного выживания.
Она постелила ему за шкафом, на задней стенке которого был огромный лист календаря за октябрь. Ему показалось, что с календаря на него смотрит Марина.
Он включил бра над раскладушкой. На календаре были «Подсолнухи» Ван Гога. Крайний справа с поникшей головой был явно вопреки желтой радости, но Алексей был сейчас далек от грубых параллелей. Мысль его была тоже не из тонких, но язвила изощренно. В доме Марины на холодильнике стоял огромный фальшивый подсолнух. Такой же подсолнух был в его родительском доме. И он тоже стоял на холодильнике. Модный признак семидесятых. Вспомнился какой-то известный фильм: там на грузовичке с грудой мебели едет девочка, держа в руках такой же подсолнух. В ее очках бликует желтый цвет как цвет надежды. Вангоговские подсолнухи, в сущности, не бликуют, не зажигают желтым огнем, они настроены весьма индифферентно, смотрят на тебя семечками глаз довольно равнодушно, все, кроме правого крайнего. Уже обреченного и принявшего судьбу.
И тут пришла обида на Марину за то, что отторгла, высадила за чужой порог. Он встал и идет в коридор, где на тумбочке стоит самый старый из возможных телефонов. Он набирает номер. Глухо. Безответно. Что ему делать завтра? Куда идти? Что первее? Найти работу или найти квартиру? Первее регистрация. Нина Павловна обещала назвать его племянником, приехавшим в гости и ей, старой, в помощь. Говорила, что сработает, у нее там свои люди. Алексей старается думать об этом, повседневном и насущном. Думается плохо, ноет душа. Смешно, но так болела душа, когда начались бомбежки, а мама говорила: гром. Но разве можно это сравнивать! Он знает Марину от силы неделю. Но боль не поддается идентификации, она просто лижет сердце, царапает горло, щиплет глаза. «Я спятил от одиночества», – говорит он вслух. За шкафом по-старушечьи всхрапывает Нина Павловна. Эх вы, подсолнухи! Нет от вас радости. Подсолнечное масло – вот ваш удел.
* * *
Маша же нашла деньги. В обычном автоматическом зонтике, висевшем под плащом. Она стянула с него колпачок, чтобы проверить, в порядке ли он. Из ее зонта вылезли спицы и встали колом. Распахнула материю – и выщелкнула из нутра полиэтиленовый пакет с живыми деньгами. Это же надо придумать такое место. Она вытрясла деньги на стол, сняв с них резинку. Глупо. Пересчитать можно было и в стопке. Но было приятно трогать тысячные купюры. Их оказалось сто штук.
Маша выдохнула – уже кое-что. Где-то должны быть и другие деньги. Теперь она знает, где искать: там, где их по определению не может быть. Но не бывает везения дважды на дню. Наоборот, когда уходила, у нее не получилось поставить квартиру на охрану. Просто не было связи. Ладно, черт с ней. Она посмотрела на ящик охраны. В следующий раз она вызовет мастера. Она положила деньги в трусики, прицепив пакет булавкой. Они плотно прижались к пупку, вызвав у Маши даже некое сексуальное чувство, которое в последнее время настигало ее буквально на ровном месте. «Скоро я буду кончать от одного вида фонарного столба», – говорила она себе. Но это не смягчало ее непримиримого отношения к мужчинам, «этим козлам и кретинам».
Она шла уверенно, пупку было тепло и щекотно, и жизнь вырисовывалась как-то иначе. Ну, блин, чертовы деньги. Играют же!
«Могу зайти и купить себе туфли на тонкой шпильке». Или там… Длинное черное бархатное платье с разрезами по самое то. «На этом и кончатся деньги», – печально сообщила арифметика. Где-то у матери лежат другие деньги. В крайнем случае – сберкнижка. А она – единственная дочь, даже если не оставлено никаких указаний. Она наследница. Какое заразительное слово! Наследница по прямой. Полегчало в душе. Какой дурак сказал – не в деньгах счастье? На сегодняшний день деньги – это здоровье, это покой на душе, это уверенность не в завтрашнем дне – в себе самой. Мать это знала, поперек себя сломала, а стала добытчиком денег.
Вспомнилось давнее предавнее время с папой. У папы тридцатилетие. Первое большое застолье в ее жизни. Не дома – в кафе напротив. Почему-то запомнился дядька с лысиной и курносым в пол-лица носом. Он жал ей руку, больно между прочим, и твердил, что ее родители – основа основ государства.
– Это как? – спрашивала она, шестилетняя.
– Инженер и врач. А ты будешь учительницей. Краеугольные камни прогресса.
Она, маленькая, и на самом деле хотела быть учительницей, но вот камнем ей не хотелось быть. А курносый все сжимал ее руку, а когда бросил, она увидела смятую ладошку и склеенные пальцы. Она тогда заплакала и убежала, но этого никто не заметил. Мать нашла ее в коридоре и закричала: «Ну, что за нюни? Когда ты научишься не пускать сопли по каждому поводу?»
Странно устройство человеческой природы. Оно наоборотное. С момента склеенных пальцев она разлюбила учить кукол и ставить им отметки. Глупый курносый человек хотел как лучше, а получилось как всегда – задолго до чеканности этой фразы совсем в другую эпоху. А потом отец уехал в Сибирь. Обещал вернуться. Так и канул. Росла с отчимом. Но и он спрыгнул.
В отмщение мать сразу завела себе любовника. И потом сколько-то лет ими и жила – то блондином, то брюнетом, а то и вовсе негром. Пока не сменила профессию. Статус психотерапевта требовал другой оправы. Искала солидного мужа. И был один, помеченный ею. Красивый дядька из литераторов. От него хорошо пахло, и он был насмешлив. Он кинул мать об землю без слов и сожалений. После этого она надломилась. Маша сформулировала это так. Если тебе за пятьдесят, мужчин надо иметь по вызову. На раз. Прикипать к телу, а тем более к душе нельзя. Категорически. «Я запомню это», – сказала она себе тогда. Сейчас ей тридцать восемь. У нее уже нет мужа, но нет ни любовников, ни мужчин по вызову. У нее есть сын. «Вот поступлю его в институт – займусь собой». Он кончает школу, и она ради него строит глазки военкому, благо он сосед по площадке. Военком пугает Ваську в лифте:
– Вот забрею тебя, балбеса, поймешь, где дно, где покрышка.
Теперь у нее есть деньги. Ей легко будет их передать. Позвонит в дверь и скажет: «Коля! Возьми и не пугай нас больше». И не надо будет приглашать на рюмку чая, а потом на посидеть на диване, а дальше по меню и прейскуранту. Не гулевая, по-советски нравственная, она была вопиюще несовременна для начала нового тысячелетия. Но она так о себе не думала. Просто ей пока не везет с мужиками. Какие-то все не те…
Она ни за что не признается ни себе, ни кому другому, что сердце ее стонет по бывшему мужу. Уж сколько она на него помоев вылила – не считано. Уж так орала на процедуре развода, что их развели в один миг, сочувствуя мужу. А она косила глазом, как он поднимал на выходе воротник пальто от капающей крыши, как легко сбегал со ступенек, как в его руки прыгнула женщина. Ничего особенного – в очках, и еще Машке показалось, что она припадает на одну ногу. Ерунда! Просто она неудачно шагнула с крыльца, но так сладко было растить в себе и сообщать налево и направо: «Она и слепая, и хромая». На такой фантазии легко рос кактус надежды на согбенное возвращение мужа. Придет и кинется. Вот это «кинется» было вышито на шелковой ленте, которая обвязывала сердце снизу доверху, цепляясь за верхнюю коронарную артерию.
…Дверь была заперта на один поворот ключа, значит, Васька был дома. Его ботинки, действительно, стояли носами друг к другу, так наискосяк самой природе вещей он их снимает.
Конечно, она не скажет ему о деньгах – еще чего! Они еще не договорились, где и как будут жить. Комната сына была закрыта. Она толкнула дверь – ведь в своем дому. И все было сразу – голая попа сына, ритмично двигающаяся вверх-вниз, розовые ступни на его спине и резкий, но весьма спокойный голос: «Мать, закрой дверь!»
То, что он не спрыгнул, не прикрылся одеялом или что там у него было под рукой, а сказал просто «Закрой дверь, мать», сбило ее с ног. В движениях, пятках, в голосе была, как бы это сказать точнее, привычность, обыденность происходящего. Как будто она уже не раз видела это, и ей только и остается, что приторкнуть дверь и не мешать. Что она, между прочим, и сделала. И вдруг она ощутила резкое, болючее жжение под ложечкой. Она слегка согнулась, и тут вспомнила про пакет с деньгами.
Все не складывалось в единую картину. Умиротворение, с которым она возвращалась домой, и этот юный секс, мысли о собственном женском желании, и эти розовые ступни, что как бы выпихивали ее из жизни страстей. Она пыталась представить себя на месте девчонки, собственные стыдные ноги на чьей-то спине. Это в голове не помещалось. Ее подташнивало, и почему-то подумалось о матери, которая, возможно, пережила такой же шок от разрушенных пазлов жизни и шагнула с балкона от бесполезности затеи складывать пазл снова. Маша посмотрела на свой балкон. И кто его знает, как бы оно было, не войди перепоясанный полотенцем сын с насмешливым:
– Что же ты врываешься, как тать, на самом интересном?
А за спиной его вырисовывалось тонкое тело, выросшее из ступней. Лицо у тела было обескураживающее обиженным.
И думать нечего. Они давно этим занимаются, когда ее нет дома. Но она об этом узнала сегодня, когда нашла вожделенные деньги. Они по-прежнему жгли ей живот. Деньги, между прочим, для спасения от армии. Его, сына, сексуального маньяка.
– Ну, извините, – сказала она, – виновата.
Пусть выйдут, думала она. Тогда я сниму с себя все. Но тут девочка закурила, от ее сигареты прикурил некурящий сын, и снова все стало разваливаться, и потемнело в глазах. Откуда что берется? Она думала, если потеряет сознание, они начнут приводить ее в чувство, расстегивать то да се и обнаружат деньги. «Фиг я их потом получу», – думала она не остатками мысли, а остатками страха. И она выпрямилась и сказала – пусть выйдут, она разденется и все пройдет.
Они вышли и закрыли дверь, оставив запах табака пополам с запахом молодого разгоряченного тела.
Она вынула деньги и спрятала их в горшок со слабенькой геранью, которую жалко было выкинуть. Она, как какая-нибудь землеройка, вырыла в земле ямку, раздирая гераньи корни, и положила туда пакет, притоптав следы. Потом она пошла в ванную и мыла грязные ногти щеткой, потом сделала себе контрастный душ и, завернувшись в большой махровый халат, пошла на кухню поставить чайник. Но он уже вовсю кипел. На ее месте сидело тело, перед ним стояла ее чашка.
– Быстро отсюда! – сказала Маша, прогоняя захватчицу и выдвигая из-под стола третью табуретку.
– А тут было удобно, – сказало тело, но пересело. Маша поставила перед девчонкой другую чашку.
Она видела, что Васька злится, хотелось его ударить, и побольнее.
– В старые времена на Руси даже дворовые девки имели имена. А уж те, кто в дом входили и в постель ложились, те были даже с отчествами и фамилиями.
Она думала, что сын на эти ее слова вскочит с места и опрокинет стол, табурет или чайник. Но они оба захохотали, будто их не только не обидели, а как бы и вознаградили юмором.
– Дворовую девку, – давясь от смеха, сказал Васька, – зовут Настей. Отчество у нее – какое у тебя отчество? – повернулся он к ней.
– Простое. Ивановна я. И фамилия моя Иванова. Чтоб не ошибиться.
– Тогда тебя для прикола надо было назвать Иванной, – сказал Васька.
– Нет уж! Иван – Жан, значит, я Жанна.
– Жанна – д’Арк, – ответил Васька. – Других не знаю.
– Ну и дурак. А Агузарова, а Фриске? Их много, Жанн, как и Насть. Может, даже больше. Жанна – это во всем мире, а Настя – только у нас.
Они щебетали о именах, будто матери здесь и не сидело. Они перескакивали на английский язык небрежно, как с ветки на ветку. Маша не заметила, что они обсуждают уже ее имя во всех возможных модификациях.
– Мери лучше, чем Мария, – сказала Настя. – И лучше, чем Марион, и Марьяна. Мери – коротко и забойно.
«Я потом разберусь с ними», – сказала себе Маша. И ушла к себе в комнату. Первое, что она сделала, – ткнула палец в гераневый горшок, коснулась пачки. Она еще не знает, что какое-то время это будет ее главным жестом по приходе домой. Что на работе она будет думать, не подложил ли кто (кто?) просто пустой пакет, и тогда дома она, как та же землеройка, будет отрывать и открывать пакет снова и снова. И ей не придет в голову, что это начало конца всей ее жизни, которая, по сути, так и не начиналась. Осталось только решить вопрос с Васькой. Для начала спросить хотя бы, из какой семьи эта Настя Ивановна. Может, из семьи чмо? И знает ли ее чмо-мать, что дочь уже умеет закидывать ноги на спину мужчине? Но если чмо, то и говорить не о чем. Как-то вяло, боком пришла и села рядом мысль: а пусть Ваську заберут в армию. Она даже приплатит военкому (это ведь уже будет меньше?) за незасыл его в огневые точки. Пусть закинут его на север, пусть на океан, только не туда, где стреляют. Чего она раньше боялась? Еще и дедовщины. Но, оказывается, она не знает своего сына. Может, он сам кого хочешь скрутит, он ведь уже вон как продвинулся по жизни, а она ему все носки стирает и обувь ставит по правилам, а не наискосяк. Позвонить, что ли, отцу сына? Но они с тех пор, как она бросила в него керамическую вазу и расшибла ему голову, не разговаривали. Их развели на раз-два, и хорошо, что он не подал на нее в суд, голову она ему прилично поранила. Сейчас он глава какой-то фармацевтической фирмы. Ваське помогает систематически по минимуму, но без всякого с ним общения.
– На фиг он мне нужен, – говорил Васька, обласканный матерью и бабушкой.
Но тут Маша вдруг заплакала не капелькой-слезинкой, а, что называется, навзрыд, сразу обо всем – о матери, о своей бабьей доле, о сыне, который уже не ее, а девчонки Насти, откуда она взялась на его голову? Она забыла, что не одна дома, и они прибежали оба (значит, она взвыла так взвыла), и Васька, дурака кусок, стал ей говорить, что они с Настей после школы поженятся, пусть она не волнуется. У них это навсегда. И он обнял девчонку, демонстрируя это самое навсегда.
– Ты дурак, – сказала Маша. – У тебя таких… – на этом слове она споткнулась, таким затасканным, замусоленным повторением тысячей матерей оно было, что уже утратило смысл, стало голиком. А голик – это голый веник. Им только снег с валенок в деревне сбивают. Слово растворилось, исчезло, а девчонка несла ей из кухни воду в ковшике, который существовал только для варки яиц. И это сбило Машу с какой-то нарождающейся мысли. И она стала глотать воду. Невкусную, алюминиевую…
– Пойдешь в армию, – сказала она сыну.
– Не пойду, – ответил Васька. – Настя сирота и беременная. Пусть попробуют забрить, я их по судам затаскаю.
Она уже ничего не понимала в жизни. Это ее мальчик говорит про суды? А девочка даже не чмо – сирота убогая. Деньги лежат в герани. Материна квартира свободна. Она, Мария (Мери – коротко и забойно), вышла на неизвестной остановке, ни север, ни юг, и звать ее никак.
– Отец мне поможет откосить. Он обещал. Настя может у нас жить, а то ей у тетки голодно.
Она ничего не слышала, кроме того, что был, оказывается отец. Когда он возник? Как? Почему такие вещи прошли мимо нее?
– Ты согласна? – спрашивает сын.
– Он же знать тебя не знал, – тупо отвечает она.
– Настя полы мыла в его офисе. Там и встретились. Он нормальный, мама.
«Она еще и поломойка, – думает Маша. – Баба Лиза бы спятила». И она подумала, что хорошо, что ее нет, а значит, нет умножения трагедии. Все досталось ей. Целиком.
– А в школу ты ходишь? – спрашивает она, глядя не на девочку, а в окно, эти проклятые стекла пора мыть. Если она поломойка, пусть помоет и окна.
– Я кончила школу в прошлом году. Хотела поступить в медицинский, но родители попали в аварию. У меня братик во втором классе. Нас взяла тетка, но учить не захотела. Я пошла к Петру Семеновичу (Боже мой, это Петька). Он мне очень помог. А потом выяснилось, что он ваш бывший муж.
– Ты забыла, мама. Мы с Настей уже дружим два года. Сколько раз ты мне говорила: «Тебе звонила Настя». Забыла?..
Почему она должна это помнить? Звонили и Лены, и Оли, и Ксюши. Это что, повод запоминать?
Сбылся страшный школьный сон. Ее вызывают к доске и спрашивают о битве под Полтавой (всегда почему-то именно о ней), а она не может вспомнить, что такое Полтава. Влтаву знает, Полпота почему-то тоже – тиран, а Полтава рассыпается на буквы. Не помнит ни-че-го. И просыпается в ужасе, и хочет уснуть снова, чтобы ответить на вопрос: оказывается, вне сна она знает ответ даже очень хорошо.
– Окна помоешь? – спрашивает не она, а какая-то совсем другая, не чужая, а чуждая ей женщина с другим, подловатым голосом.
– Конечно, – отвечает Настя.
– Нет, – говорит сын, – окна я ей мыть не разрешаю. У нее может закружиться голова. Я сам помою.
– А ты знаешь как?
– Познаю! Познаю! – смеется сын. Это его детское слово. Когда он, маленький, спрашивал ее, а она отвечала «не знаю», он требовал: «А ты познай, познай!».
Как давно это было, как бесславно прошло. Что он еще говорил про девчонку?.. У нее маленький брат, ей голодно у тетки и она… Ну да! Это же главное. Она беременна! Внутри этого детского тела уже живет ее внук или внучка. Этот непрошенный родственник ей кружит голову, а сына наполняет неведомой силой борьбы: затаскаю по судам. Чужой, неведомый мир. Ее в нем нет. Она зависла над пропастью, зацепившись руками… за что? За что она может зацепиться руками? Если не за кого, то и не за что, отвечает себе же. Это же чижу ясно. Или ежу? Но почему, черт возьми, ежу ясно, а ей нет? Опять эти легкие, невесомые мысли о матери. Она понимает ее состояние ухода навсегда. Вот и у нее балкон – протяни руку. Но эти двое рядом. Жанна не д’Арк, сын не солдат. Они смотрят на нее. Девчонка допивает воду из ковшика и трется мокрыми губами о плечо Васьки. Васька разглядывает окно, на котором следы дождя и грязи.
Она говорит неожиданно для себя самой:
– Конечно, пусть живет у нас. У нас не голодно. Но там ведь есть брат, мальчик?
– Тетя его обожает, – торопливо говорит Настя. – Она меня не терпит.
– Есть за что? – спрашивает Маша.
– Она боится. У нее муж кобель. При каждом случае лапает.
Это уже кое-что. Но она должна теперь знать точно, чей ребенок.
– Он с тобой спал?
– Мама! – кричит Васька. – Ты чё городишь?
– Горожу, – говорит она. Она уже зацепилась за край мысленного подоконника и тихонько на животе вползает в жизнь. Спасать сына. Сына-дурака, сына-малолетку от этого облапанного мужиками тела. Они как будто бы видят ее напряг, глаза у обоих круглые, перепуганные. Сейчас она выдохнет и поставит все на место.
Никаких «пусть живет тут». Это она сказала от безумия. Еще чего! Потом она позвонит бывшему и скажет как отрежет, что он похабный сводник, но сына она ему не отдаст.
Она уже тут. Она в кресле. Она дышит с присвистом, это же какой труд – выбраться из упасть.
– Мама, – мягко так, плюшево говорит Васька. – Успокойся. Настя – честная. И я у нее первый и последний. Я знаю точно. Если не здесь, мы можем теперь жить в бабушкиной квартире. Окна я тебе вымою, не думай! Мы проживем, мы уже взрослые. Отец поможет.
Лучше бы он этого не говорил. Лучше бы он лепетал про то, что он первый и последний. И она кричит. Она даже не знает этого. Из нее идет нечто звериное, она хватает себя за рот, и ладонь наполняется ее слипшимся голосом.
Ее кладут на диван, ее поят водой уже не из ковшика, а из чашки, выщербленной по краю, сын обнимает ее и что-то горячее падает ей на лицо. Он плачет. Девчонка же обнимает его и своей ладонью вытирает его слезы.
– Это пройдет, – говорит она ему, – это истерика. Я это не раз видела.
И действительно, тело ее перестало кричать, оно теперь бьется в ознобе. И они укрывают ее пледом одним, потом другим. Девчонка несет ей горячий чай. Он сладкий, она не пьет сладкий, но этот почему-то ей вкусен. Озноб усмиряется. И ей уже хочется спать, но нельзя же так заснуть, она же должна сказать главное. А где оно, главное? Какое оно? Как выглядит?
– Простите меня, – шепчет она. – И не бросайте. При чем тут отец, когда есть я? – Последние слова шепчутся уже сквозь сон, но она формулирует себе задание: «Я потом скажу им это четко. Дуракам малолетним…»
* * *
А в это время Марина только что проснулась. Она мусолит в руках мобильник: звонить Нине Павловне или нет? Утром к ней приходила Лелька с сумкой через плечо, по дороге в школу. Марина была еще в постели, шла к двери босыми ногами в халате, накинутом едва-едва. Лелька вошла и зыркнула на мятую постель.
– Я так… – сказала она. – У вас есть «Горе от ума»?
– Зачем тебе? Ты ведь уже это прошла.
– Мы ставим пьесу, – нагло врет девчонка.
– И кем ты будешь?
– Я? Ну, этой, как ее… Не главной – служанкой.
– Лизонькой.
Лелька смотрит на Марину оторопело.
– Ну, значит, ею, – говорит она. – Помнить все невозможно. Тем более второстепенное. – И она поворачивается уходить.
– Так тебе нужен Грибоедов? – Марине хочется сказать ей другое: «Пошла ты на хер. Нет у меня Грибоедова, нет и Алексея, нет из-за вас, сексуально озабоченных сучек. Всю жизнь мне скурочили, сволочи!»
– Так нужен или нет Грибоедов?
– Ну дайте… Я уже все забыла, не помню ни про что, ни где. Знаю только, что Грибоедова убили чеченцы.
Марина дает ей книгу. Не будет она ей ничего ни объяснять, ни поправлять.
– Можно я у вас помою руки? – Девчонка шныряет в ванную и тут же выходит.
– В туалет зайдешь? – смеется Марина.
– Да ладно вам. Мать уверена, что он прячется у вас. Сходи, говорит, проверь.
– Не стыдно? – спрашивает Марина.
– Стыдно, когда видно, – парирует Лелька и уходит, помахивая книжкой.
Почему так неловко бывает от чужой наглости? Но тут же Марина перекусывает эту верхнюю, неверную мысль. При чем тут чужая наглость? Спроси лучше: почему находишься в зависимости от своих соседок? Почему ты не звонишь Алексею из-за этих дур, будто в чем-то перед ними виновата? И так ведь всю жизнь – полная несвобода от чужого правила. В садике две тощие косички – так велит воспитательница. Две одинаково слабых косички, но бантики разные – синий и красный. Велено! В школе – пенал обязательно должен лежать слева. «Так вам удобнее», – объясняет учительница. Ей всегда было удобней справа, но нельзя. Потом она уже сама учительница.
– Мариночка, – это шепчет ей директор в туалете, – пожалуйста, в школе без этих стрелочек у глаз. Зачем вам это? Вы уже замужем, и муж вас любит и без них.
Пенал, глупые замечания директора, разноцветные бантики – все это было ей неудобно, все не нравилось, но это было правилом. И нет конца капкану бездарных уложений. Нет! К ней вламываются в дом и проверяют, есть ли у нее мужчина. А был бы? Тогда бы она услышала визг подъезда, визг радости от возможности укусить, тяпнуть, придавить за нарушение чьих-то, не ее, правил. Всегда, всегда хамство свободно в своем выражении к ней, а она закомплексована. И всегда так было. Человек выбирает: сам он или хам. Легко сказать, а если выбиралка сдохла в детстве? Но разве не свинство сваливать свои комплексы на маму, которая учила сидеть интеллигентно, культурно, на краешке стула, на воспитательницу детсада в синей вытянутой шерстяной кофте и подрезанных валенках, на учительницу, которая произносила «пэнал», на директрису, уже старую вдовицу, которую давно никто не любил. И она до смерти боялась возникновения в школе этой странной и опасной возможности. Господи, спаси! Так можно все свалить на крепостное право и на чудовище Сталина. Но сами мы – кто? Взялось же из ничего это сегодняшнее безбашенное поколение, идущее вслед. На каком дереве выросло оно, отважное и бесстыдное?
Скарлетт О’Хара сказала бы: «Я подумаю об этом завтра», а она тянет эту бесконечную мысль за собой на работу, по дороге опутывая ею людей, как опутывается сама мыслями о других, о дороговизне, о стонущей от артрита коленке, о том, что каждый у себя один, как было бы правильно, а просто часть больного, никому не нужного человеческого тела. На работу шла усталая, разбитая женщина. А ведь всего накануне у нее был день счастья. Или ей показалось? Во всяком случае в этом свалившемся на голову без знака предупреждения дне была возможность счастья.
«Бурмин побледнел и бросился к ее ногам». Она не знает лучшей строчки о любви – как обвале, смерче, как о невыносимом слабым и глупым телом испытании счастьем. Как она плакала девчонкой над «Метелью», и вот плачет сейчас. А надо вытереть «морду лица», она ведь идет на работу. Это вам не стена плача.
Возле ее стола сидел и ждал – кто бы вы думали? – Арсен. Такой же выутюженный и стильный, как три года тому назад. А на столешнице стоял огромный ананас, не фрукт, не ягода – ощетинившийся зверь.
– Я уже говорил с главным (это вместо «здрассьте»), он заинтересовался книгой и направил к тебе. Она – в смысле, книга – о наших пересечениях с польским кино уже сегодня, о нашем интересе друг к другу и недоверии. О симпатии и старой-престарой нелюбви. Еврославянство и евразийство. Одни словом, твердо и вкусно, сладко и горько.
– А на обложке ананас? – спросила Марина.
Он засмеялся.
– Вообще-то я имел в виду ананас в шампанском, но на обложке тоже годится. Если играть образом этого варяжского гостя, то некая символика образа есть. Ана-нас как они-нас, а мы-их. Сущность взаимодействий. Но во первых строках я настаиваю на ананасе в шампанском.
– Не актуально, – ответила Марина. – Оставляй рукопись. Посмотрю. Позвоню. Напомни свой телефон.
Он кладет ей визитку. Номер тот же, картинка другая. Они на секунду замолкают. Это пришла и села рядом Элизабет.
– Я хотел у тебя спросить, что тебя связывало с Эльжбетой.
– Я лечилась у нее от тебя. Откуда мне было знать, что у нас с ней одна болезнь.
– Боже мой! Девушки! – Он как бы тоже чувствует присутствие Элизабет. – Слишком много чести одному кобелирующему холостяку.
– Да уж это точно, – отвечает Марина. – Говна пирога. – Элизабет хлопает в ладоши, и браслеты ее позванивают.
– Я никого не неволил. Сами пришли, сами все дали. На мне вины нет.
– Что ты ей сказал, когда она позвонила?
– Неужели я это запомнил? Что-то сказал… Прямо скажу – без энтузиазма. Но ничего такого… Я не бью слабых.
Она чувствует: Элизабет уже нет. И это как приказ замолкнуть о ней.
– Тебе стало лучше от лечения? – иронизирует Арсен.
– Хуже не стало, – ответила Марина. И как-то жгуче защемило в сердце. Будто она бросила в Элизабет камень. Но она так и не узнает, какой камень бросил в нее Арсен. Его удара не выдержала преуспевающая, не сдающаяся никакому врагу Элизабет, она же Эльжбета.
– Ладно, иди, – сказала она Арсену. – Прочту твои изыски.
– Как-то очень официально, хотя и панибратски. – Он встал, человек, от которого ее лечила Элизабет, лечила – не вылечила и ушла в окно. А вылечил незваный гость из соседней квартиры. И напрочь стер отпечатки этого, который пришел с ананасом в расчете на шампанское. Она смотрит на Арсена почти удивленно. И из-за него она лезла на стену? Пошляк в противном парфюме от…
– Забери ананас, – говорит она, – я его терпеть не могу. Чуждый моему естеству фрукт. (Равно как и даритель, подумала она, но такое не говорится. Она при исполнении, а Арсен вполне может заложить ее начальству за дерзость.)
Он взял ананас. Он чуть-чуть не в своей тарелке.
– Бог с тобой, золотая рыбка. Я хотел нежного понимания, получил отлуп. Но я уверен, на оценке моего труда твое неприятие ананаса не отразится. Ты ведь до противности порядочная.
«Главное тут слово – до противности», – подумала Марина.
В дверях он отвесил ей поклон, сдобренный кривоватой улыбкой.
Марина отложила рукопись. «Не сегодня и не завтра, – сказала она себе. – Я отложу это на потом. Перебьется – не война».
Почему-то подумалось: вот теперь она окончательно (а разве было не окончательно?) излечилась от Арсена и позвонит Нине Павловне, и спросит небрежно: «Ну, и как там мой вам подселенец?»
* * *
Нина Павловна была возбуждена и сказала, что Леша (вот так!) ушел насчет работы.
В их дворе уже не метут с того времени, как обрушилась старая голубятня и голуби так взметнулись в небо, что только их и видели. Хозяин криком кричал, потом из обломков ладил для них новое жилье, но вернулась только парочка. Эту историю Марина слышала от Нины Павловны уже не первый раз. У нее в своем дворе был свой турман, соблазнительный самоубийца-показушник.
– Если его возьмут в дворники, – продолжала Нина Павловна, – то, может, дадут какую-нибудь крышу, хотя сейчас эти правила могут и не действовать.
Но тогда он поживет у нее. «Леша не выдышивает чужой воздух. Это, между прочим, редкое качество».
Возникло ощущение ненужности. Она ведь отдавала себе отчет, что работа по филологической аспирантуре из Грозного ему не светит по определению. Она планировала, не говоря себе это словами, капельный вход беженца в Москву. По чуть-чуть, незаметно. Но ей голову не могло вспрыгнуть быстрое – в дворники.
– Я скажу, что вы звонили, – сказала Нина Павловна. – По-моему, он хотел вам звонить вчера, но стеснялся.
– Он что, мальчик? – возмутилась Марина.
– Нет, – ответила Нина Павловна, – это несвобода, помноженная на деликатность. Как и у вас, Марина! Вы же мне его, извините, сбросили, но позвонить не посчитали нужным.
– Все сложнее, – ответила Марина. – Тут его у меня разыскивают две женщины, юная и не очень.
– А вы прячетесь? Его прячете? Как вам не стыдно! Я вам дам Плутарха. Прочитайте про достоинство спартанок. Им бы в голову не пришло делить мужчину, как товар, как и мужчинам – делить женщину.
– Да ладно вам, – уже смеется Марина. – А чем же еще интересна половая проблема как не этим. Отнять, захватить, прикарманить.
– Не хочу слушать и слышать, – резко ответила Нина Павловна. – Я скажу Леше, что вы звонили.
Нине Павловне 85 лет. Вдовеет она уже шестьдесят. Ее муж, как она его называет – партизанский, был убит в июне сорок пятого. Его забил насмерть пьяный в поезде. Они оба возвращались домой с победой. Пьющий и непьющий. Никогда о нем. Ни слова. Как его не было. Один раз сказала: «Это была попытка жизни после смерти. Такой нет».
Шестьдесят лет целомудрия – это что? Патология? Норма? Нонсенс?
Однажды за какой-то лишней рюмкой вермута Марина задала этот неправильный вопрос.
Нина Павловна блеснула молодым глазом и сказала:
– Мне не хотелось. Мне не хотелось другого мужчины. Правда, была попытка, где-то в конце сороковых. Да что там юлить? Я помню это отлично, июль сорок восьмого. Море, пансионат и все для греха. Ничего более противного, чем прикосновения этого мужчины, вполне импозантного, между прочим, не знаю. Я ведь уже стала забывать Гришу, прошло семь лет после сорок первого, мое тело гудело и требовало своего, и тут такой пшик. Под этим, извините, любовником Гриша вспомнился так ярко, так остро, но соединиться физике тела и химии воспоминаний не удалось. Они уничтожали друг друга. Мне даже жалко было этого Володю из Челябинска. Он старался, а меня душили и смех, и слезы. С тех пор у меня восстановилась память о Грише, вся, даже та, о которой я не подозревала. И для меня оказалось естественно жить только памятью. У меня были достойные поклонники, но ни один, даже самый лучший, не мог сравниться с тем, кто во мне был жив. Это, Марина, не фигура речи, это во мне до сих пор. Знаете, я наслаждаюсь памятью о нем и насыщаюсь этим сполна. И скажу вам больше: те, кто играют с плотью для разнообразия, обделены. Много не есть хорошо. Истинное наслаждение уникально и единственно. Оно штучно. Конечно, кто поверит старухе, но ведь истинный гурман не променяет изыск на перловую кашу. Вы смотрите на меня с иронией, чтоб не сказать с издевкой. Ваше право. Я же не проповедую правил верности. У каждого свои. Но запомните слова старой дуры: большая любовь приходит на чистое место, не захватанное разными руками. Любовь, Мариночка, брезглива.
Как-то естественно подумалось: старуха, что с нее взять. Она уже напрочь забыла, как может само по себе кричать тело, мечтая хотя бы о перловой каше. До капли сознавая, сколь неполноценен обмен. Но тысячи женщин так живут. Хочется мужчину – значит, он будет, какие проблемы? Высокое, духовное, отчего взлетает душа, еще то ли будет, то ли нет, а к самцу глядишь и привыкнешь, глядишь, у него еще кой-какие достоинства есть. В конце концов ребенки рождаются от простого соединения клеток, а не от сложных метафор. И еще неизвестно, любимые Ниной Павловной спартанки отдавались по любви или по жару тела. В этом тонком деле двоих ложь рождается без предупреждения. Может, постель – самое первое место по производству лжи, легкой, необременительной, почти правдивой лжи. Потому что удовлетворение – это почти счастье, а счастье – это почти любовь.
Марина тогда всей душой пожалела Нину Павловну, одинокую женщину в жизни без радости. Она сказала себе тогда: я никогда не допущу себя до такого. Это был период ее романа с Арсеном. Как она упивалась этим чувством, как по-хозяйски располагалась в нем, даже на секунду не допуская возможности быть выброшенной за его пределы. Думала, навсегда.
И о чем она тогда больше всего жалела? Об утраченном сексе, и все. Ненасытный секс валит с ног женщин, зрелых и младых, посмотреть хотя бы на Лельку. Или на Варвару. Спросить бы их, готовы ли они жить духом и только им. Могут съездить за это по мордасам. И не надо про монахинь, про «я другому отдана». Могучая плоть делает свое дело, она, не боясь греха, способна даже на свальный, делая с молодыми и не очень то, что хочет.
А вот теперь она, Марина, чтобы к ней вернулся телесный, теплый Алексей, и готова ради этого, извините… Тут она останавливается. Да ни на что она не готова, ни на что!
Он ждал ее вечером после работы внизу, в вестибюле. Она заметила его сразу, он еще не видел ее. Алексей сидел прямо, напряженно, неуютно. Марина знает эту позу сломленности, которую не хочешь показать, и вздергиваешь голову, и прямишь спину, не зная, что внутренняя боль уже застыла в позе знака восклицания.
Она подошла, а он продолжал сидеть, не видя ее, а когда увидел, то так вскочил, что сдвинулось кресло, едва не свалив старый умирающий фикус, который снесли вниз, ибо он уже никуда не годился. Ни красоты, ни величественности, одна высыхающая смерть.
Марина вошла в его растерянные руки и прижалась щекой к его груди. Это было не специально, так двинулось тело. И она услышала, как громко дергается его сердце. Не бьется, а именно дергается. Она даже испугалась этих систолических подпрыгиваний. И что бы он ей ни сказал, уже не имело значения, они вошли в контакт сердцебиений.
– Ну, как дела? – спросила она.
– Меня готовы взять дворником. Надо только легализоваться. Регистрация, место жительства и все такое.
– А ты умеешь дворником? – спросила она.
– Откуда же я знаю? Надо попробовать. Других вариантов нет.
«Ловушка, – подумала Марина. – Вот та самая ловушка, которую ставит людям чертово государство. Варвара запросто женит его на себе, даст ему легализацию, себе постоянный секс. Дальше – как будет. Будет скандал с дочерью, и мать выпихнет ее в грудь если что… Без выбора».
«При чем тут Варвара? – сама себе говорит Марина. – Варвара – это образ. Образ любой женщины. А значит, и мой. Я ведь тоже могу все это сделать – прописку, квартиру, а главное, я готова к этому. Но мне надо, чтобы он дал знак, что он тоже этого хочет… Я же не могу так, сама… Распахнуто прыгать навстречу…» И остро, как игла в сердце, – а разве стыдно быть распахнутой?
– Я вас к себе, – говорит она, трусиха, – не приглашаю, там настороже мои соседки.
– С какой стати? – удивился он. – Я им все объяснил.
Ну что ему сказать на это?
И тут она услышала то, что хотела услышать, но уже не чаяла и стала сомневаться, хочет ли она его слов, потому что это может оказаться глупостью, вступив в которую, уже ноги не вытащишь, а она не хочет глупой жизни, она хочет умной и чистой. И чтоб!!!
– Марина, – сказал он, – если бы я был мужчиной с работой и квартирой, если бы мне не надо было бояться явления милиционера как судьбы, если бы за моей спиной не пылали дома, возможно, подожженные девушкой, которую я любил, если бы я был равен в правах с вами, а не был тем, о которых говорят «понаехали», я бы попросил вас стать моей женой. Я бы поклялся, что никто вас не будет любить так, как я.
Ну, чего тебе еще надо, дура? Ну, кинься еще раз на грудь, где неправильно стучит сердце. Скажи ему, что и у тебя тоже экстрасистолия. Какое изысканное слово, совсем как импрессионизм или там аристократия. А речь конкретная, она ведь о дворницкой судьбе. И она на данный момент – Варвара.
Ей хочется заплакать одновременно от горя и радости. Но это нонсенс.
– Мне, – говорит она, – надо срочно поменять квартиру.
Разве же это ответ на признание в любви, но получилось, что другого не было. И они поехали в район Нины Павловны и оставили на подъездах написанные от руки кричащие слова: «Двухкомнатную на двухкомнатную. Срочно, в этом районе».
* * *
«Припекло кого-то», – подумала Никонова, входя в свой подъезд. С тех пор как у нее появились деньги, у нее изменилось зрение. До этого она в упор не видела вычерневший мусоропровод с регулярно свисающим наружу сборным ящиком. Дом был не старый, кирпичный, но он – как тот тип женщины, что выходит замуж – и ну их, ногти. Сгрызу и подпилю, чем буду выбрасывать деньги в парикмахерской. Комбинация посерела и обвисла, так кто ж ее видит? А от бигудей волосы секутся, а мне ведь жить и жить… Пусть висят. Дом, как та самая женщина дряхлел от потери товарного вида, а Никоновой, имеющей деньги и уже ходящей в замшевой куртке с мехом, хотелось чего-то чуть поавантажней. Интересно, а что предлагают взамен?
И она позвонила по указанному телефону. Боже! Место у зоопарка, и все про все рядом.
В разговоре по телефону обе не узнали друг друга. При встрече вспомнили.
– Какой у вас интерес? – спросила Никонова.
– Мне и мужу ближе к работе. – Никонова про себя профессионально отметила: совсем недавно свидетельница замужем не была. Ну, да это не ее дело.
Квартиры оказались почти одинаковые – «трамвайчики». Советский модерн. И дверца мусоропровода не висела. Договорились до того, что большие предметы – шифоньер, кухонные полки – не будут срывать с места, все они похожи друг на друга.
С помощью Никоновой все прошло без лишних бюрократических ожиданий. Через две недели они обменялись ключами. Марину скребло присутствие чужих вещей, но она знала: скорость переезда стоила этих ощущений. Обживет все, добавит своего – и будет как надо.
Главное – они расписались. И Алексею тут же предложили часы в соседней школе, правда, не полную ставку. Алексей даже подумывал, не совместить ли это с дворницкой службой. Но Марина сказала: «Нет! Учитель у нас последний человек в государстве, он если и держится, то только своей выпрямленной спиной, значит, гнуться не будем. Пробьемся».
Они чистили, обновляли мебель, оставленную Никоновой. Слава Богу, в помощь ей теперь есть целые магазины. И скоро квартира приобрела свой цвет и запах. Хлопоты, новая работа Алексея почему-то рождали страх потерять то, что, казалось, оба нашли. Однажды Марина проснулась в испуге. Облокотившись, Алексей смотрел на нее спящую.
Она быстро включила свет и увидела, что он плачет.
– Что случилось? – спросила она напрягшись и будучи изначально готовой только к плохому.
– Я уже не верил, – сказал он, – что может быть счастье. Но я увидел, как оно может мирно дышать со мной рядом. – И он обнял ее, и она успокоилась в его руках, хотя сердце глухо било тревогу. И тогда она тоже заплакала, и тревога замечательно истекла слезами.
Никонова же теперь ходила гулять в зоопарк. Ее полюбил старый поношенный волк, он, видимо, стал ее узнавать и однажды подошел к сетке и прижался к ней носом, обнажив желтые клыки. Странно, но ей хотелось поцеловать его. Чуть пригнувшись, она сказала ему: «Вот и встретились два одиночества».
Подумалось, не взять ли собаку? Но как подумалось, так и раздумалось. «Мне хорошо одной, особенно теперь, когда за окном перекликаются какие-то птицы. Мне никто не нужен. Я у себя самка». Она поперхнулась этим неверным словом. Какая же она самка, если она категорически и принципиально са-ма? Одна у себя. И ей никто-никто не нужен. Выставись хоть тысяча самцов.
Она благодарила судьбу за счастливые для нее смерти. Элизабет и мужа. Ну, с первой все ясно, за что и почему. Но как был бы некстати при ее деньгах муж! Разве ему можно было бы сказать об охранном ящике (какое точное в ее случае определение), о том, как на раз, одни поворотом ножа она он открылся. Сто лет пришлось бы объяснять ему, дураку, что там осталось достаточно и для дочери, а у нее это, можно сказать, единственный случай в жизни стать женщиной и купить трусы не «с земли у несчастных белорусок», а в магазине под названием «Миловица». Разве этот дурак смог бы понять разницу? Она сейчас ходит гулять «к волку» не в том, в чем она ходит на работу, и был случай: проходил знакомый милиционер, глаз на нее бросил – и мимо. Не узнал. О, какая это радость была – остаться неопознанной, неузнанной, а потому и свободной. Идти и думать мысль о всех этих стряпухах замужем и не замужем, о всех зацикленных на мужиках бабах. Ни о чем ведь не думают, кроме них. Они в «Миловицу» зайдут на раз ради нового хахаля, а она – для себя самой, любимой и единственной. И ей дышится легко и чисто. Жизнь крутила, мяла, но, черт возьми, удалась же! И Никонова только ей известным жестом незаметно поправляет непривычно скользящие на теле нежнейшие трусики. Но она их приучит к месту. Подтягивать приходится все реже.
* * *
Маша тоже переехала – в квартиру матери. Она взяла с собой только цветок герани, предварительно проверив в горшке наличие пакета. Она ведь и бежала из своей квартиры, потому что боялась: ушлая Настя заметит ее жизнь землеройки и ограбит ее как пить дать. Так и ехала в метро с завернутым горшком, беженка судьбы и страха.
Все в материной квартире, даже покрытой пылью, выглядело стильно и красиво. Умела та жить. «Умела, потому что все для себя, – думала Маша. – Я едва замуж вышла – и за порог. Мать же все о себе, все о себе».
Маша не стеснялась этой своей уже бесполезной злобы. Даже мысль «Вот, мать, я в твоем гнезде, одна чирикаю» не пробуждала в ней ни жалости, ни сожаления, ни, Боже мой, благодарности. Мать и в гробу все равно оставалась виноватой перед ней. Даже за то, что у этой чувырлы Насти в брюхе сидит дитя. И она, Машка, не уверена, запихнул ли его туда малолетний Васька или кто другой. Она ему до последних дней терла спину и видела такой бессильный стручок, что даже полезла в книжки смотреть, годится ли к росту и развитию такой перчик. Ее собственный опыт был никаким. В пионерском лагере на нее напал в лесу вожатый. Было больно и противно. Поэтому муж Петька был, по сути, первым. И ей снова было больно, и снова противно. Ну, потом дело наладилось, и все было как у людей. Хотя как у людей – она не знала. Некоторые, говорят, «улетают». Мать выдала ей без комментариев презервативы, те почему-то у них лопались, в результате Васька сумел проскочить сквозь дырку.
После мужа она бросилась во все тяжкие. Кидалась в секс как в спасение от обиды, от измены. Помогало редко, чаще нет, три аборта со стороны испортили ей характер, а потом появился этот призрак СПИДа, испугалась до мокрых штанов, а безмужняя мать в это время расцветала от любовников, как роза в саду ангелов.
– Я нагуляюсь, – говорила мать, – за свою молодую целомудренность и за жизнь с твоим отцом-импотентом и выйду напоследок замуж за богатого короля этого дела. И он появился, такой. То ли журналист, то ли писатель. Они вели очень наглядную жизнь – выставки, театры, рестораны, пока однажды тот куда-то не канул. Но тогда от нее уходил Петька. Они оказались с матерью в одной ситуации, с той только разницей, что Машку душили ненависть и злоба, а мать – отчаяние и ревность. Никто никого не жалел, никто никому не сочувствовал. Машка так и осталась с черной дырой в себе, а мать, поскулив-поскулив, сделала подтяжку, накупила себе модных шмоток и пошла вперед и выше. Только раз, отдавая, как у них было принято, Машке то, что уже вышло из моды, мать сказала: «Никогда его не прощу, пока не приползет на полусогнутых». «А такое возможно?» – удивилась Машка. «На свете, глупая моя дочь, возможно все и даже больше. Надо уметь ждать и оставаться во всеоружии собственной силы». – «Но говорят, сила женщины в ее слабости?» – «Забудь! Надо быть сильной, уверенной в себе и независимой материально, и мужик придет и станет к ноге. Поверь, эта сволочь еще будет у меня есть с рук. От таких, как я, не уходят». Мать в это свято верила: «к ноге и с рук».
Дома, примеряя на себя материны одежки, Машка примеряла и материнские мысли. Откуда у той такая пафосность? Вот ее Петька ушел, и у нее и мысли нет, что он назад хвостом застучит. Эссеист же тоже не торопился, слинял в какую-то заграницу и с концами. Почему-то Машке это было приятно. «Единственная правда – это независимость и уверенность», – твердила мать. Это, конечно, немало, но куда денешь годы? Матери пятьдесят семь, и что бы она с собой ни делала, столько на лице ее и написано. Хотя, конечно, Машка по сравнению с ней в пролете. Ей всего тридцать шесть, а малолетки из песочницы кричат ей: «Баба, кинь мячик!» Убила бы.
У нее по-прежнему не работала охрана квартиры. Она вызвала мастера. Тот ковырнул ящик отверткой, и оттуда выпал целлофановый пакетик.
Машка стояла рядом и поймала его на лету.
– Это, – затараторила она, – мать-покойница прятала то там, то сям партбилет. Мало ли, говорила, что будет завтра? А он у меня сбережен. – Ей не было стыдно говорить такую чушь, мать сроду не была в партии, но ведь давно известно, глупость и дурь выглядят куда как убедительней правды.
– Не дождалась бедолага, – засмеялся мастер. – Надо было бы его с ней и зарыть.
– Так откуда ж я знала, где он? Она его перепрятывала. Конечно, положила бы на грудь.
Мастер ушел, исправив поломку, стоившую ей приличную сумму. Машка, едва закрыв дверь, вскрыла пакетик. Там лежала сберкнижка на ее имя с очень хорошими деньгами и доллары в чистом виде.
Когда на голову сваливается такое счастье, его можно и не пережить, и Машка потеряла сознание.
Никто не дул ей в лицо, не брызгал водой, оклемалась сама. Она лежала на полу, рядом с диваном. Тела не существовало. Зато сердце оглашенно билось в горле, а мозг со скрипом выдавливал мысль, что теперь Ваське не надо жениться на беременной, она в силах откупиться и от Насти, и от армии. Мысль была крепкая, живучая, она подтягивала к себе и остальные, уже мелкотравчатые мыслишки типа купить хороший музыкальный центр и танцевать под него, танцевать. Она так любила это в детстве и была бита за это матерью, потому что, кружась по комнате, пару раз сбивала безделушки, например, двухцветную пластмассовую негритянку. Статуэтка раскололась по стыку красного платья и черного тела, и мать стала причитать над убиенной, будто это невесть какое сокровище. Черт знает, почему вспомнились эти две половинки.
Маша приподнялась и вползла на диван. Ее глаза были как раз напротив двери на балкон, на который вышла в последний раз мать. Сказалась то ли только что пережитая близость к собственному концу, то ли пробуждение в беспамятстве давно закопанных естественных чувств, но она заплакала. Она увидела этот крошечный, всего в четыре метра, путь от исполненной силы женщины до ее падения. Как могла сила жить превратиться в свою противоположность, в последний шаг? Первый раз за долгие годы Маше захотелось не отпихнуть мать в грудь, а понять, разобраться в ней, с ней. Застучало в висках, и она зажмурилась от вида балконной двери. Закрытые веки выдавили пару слезинок, и те медленно высыхали на щеках.
* * *
Они спали на оттоманке, хорошо продавленной в середине. Ночью они скатывались в ложбину, и Васька считал, что большего счастья не бывает. Однажды он застал Настю за встряхиванием старых одеял: девчонка хотела выровнять ложе. Откуда ему было знать, что накануне мать встречалась с Настей и прямо спросила девчонку, сколько она хочет за аборт и отказ от Васьки, чтоб он ее больше в глаза не видел. Машка была натянута, как струна, такой ее Настя не видела.
– Я дам денег на аборт, – сказала мать, – я не верю, что у тебя от Васьки.
– Да бросьте вы пугать и пугаться, – засмеялась Настя. – Я не беременная. Мне дома жить сил нет, а Васька добрый. Я б ему сама сказала, что, мол, ошибочка вышла. Дисфункция яичников называется.
«Слава Богу, – облегченно подумала Маша, – одной бедой меньше. Какая я, к черту, бабушка». И она тут же легко простила девчонку за брехню, и даже подумала: а ну их, пусть живут вместе, она снабдит дуралеев нервущимися презервативами, а еще лучше – поставит девчонке спираль. И Васька не будет никуда бегать. Только чтоб не регистрировались, но это, кажется, сейчас не принято. Да и не идиоты они ввязаться по-крупному.
Настя точно идиоткой не была. И мысль о деньгах в нее вскочила.
– Не нужен мне ваш Васька, если уж по-серьезному думать, – сказала она. – Он пацан, ему учиться надо, если не загремит в армию. А это еще сколько лет? Скажу честно: у меня безвыход. А у вас на двоих метров навалом. Поделитесь, и я растворюсь в пространстве, как дым.
Маша готова была себя убить за то, что сама начала разговор о деньгах. Могло бы все проскочить по-тихому, почти по-родственному.
– Ну, раз ты не беременная, так мне с тобой и говорить не о чем. Нашла дурака, но я-то не дура. С какой стати мне тебя жильем обеспечивать?
– А я возьму и забеременею не понарошку. Я ж раньше спринцевалась.
– Опытная какая!
– А то!
Машка вдруг все кожей, всеми потрохами поняла, что эту девчонку ей не обыграть, что в ситуации она и голая подружка под ее сыном она всегда потерпит поражение.
И она отступила. «Пусть живут, черт с ними. Кормежка двоих – это дешевле, чем снимать (с какой стати, собственно?) ей комнату.
– Живите как хотите! – сказала она почти миролюбиво, на что Настя засмеялась визгливо, ядовито.
– Подумайте, подумайте над своим первым предложением. Так хочется отдельности! А ваш диван продавлен почти до пола.
– Я куплю вам хорошую кровать. А пока подложи одеяло из чулана. Но чур – не беременеть.
* * *
Ваське же не нравилось спать по-новому. Подружка теперь отползала к краю, и не было детской радости кучи-малы, сплетенных в тесноте рук и ног, нежнейших волос Насти, что попадали ему в рот.
А Маша сдержала слово – завезла широкую двуспальную кровать, выкинув оттоманку на лестницу.
Странное дело, но на другой день оттоманки уже не было. Одним на дух не была нужна, а кому-то – позарез. Машка в который раз удивилась, сколько на свете полунищих, всякий лом – им самое то. И только Васька печалился всем сердцем о продавленном ложе любви. На двуспальной кровати он вообще потерял Настю. Та заворачивалась, как в кокон, в отдельное одеяло и допускала Ваську к телу только по принципу собачьей кормежки: по чуть-чуть, чтоб злее был.
* * *
У Никоновой же фобия покупать красивые вещи уже зашкаливала. И чем быстрее у нее уходили деньги, тем стремительней мчалась она в магазин. И все чаще возникала мысль: она дура, что не взяла все. Проклятое советское воспитание – тебе половина и мне половина. И чем круче была злость на себя, тем серее был на работе старушечий цвет одежды, тем более несвежим казался пучок на затылке. Рядилась дома. Платья на тонких лямочках с лодочками в цвет. Многослойные разновеликие клинья юбок из тончайшего шелка с ниточкой жемчуга на темно-розовой романтической блузке. Коротенькая шубка до пупка из голубой норки и шляпка набекрень с синим муаровым бантом над левым ухом.
Волк все так же подходил, узнавал ее в разном, грызя желтыми зубами металлические сетки. Возле волка и встретились немолодой мужчина в теплой куртке с капюшоном и она. Бант все-таки себя оказал.
– Нравится стервец? – спросил мужчина.
– Что-то в нем есть, – ответила Никонова. – Мне кажется, что он все про меня знает.
– Вам это приятно – быть познанной?
– Отнюдь. Познаваемых хочется убить.
– Вы опасная женщина.
– Это профессиональное. Я из охранительных органов, – так пошло и глупо представилась она.
– Ничего себе охрана, если ей хочется убивать, – засмеялся мужчина. – Что-то совсем наоборотное.
– В общем вы правы. И меньше всего на свете я хотела бы принести зло этому волку-дознавателю. Я давно знаю, звери лучше людей.
– Из мизантропов будете? – снова засмеялся мужчина.
Случился казус: она забыла значение слова «мизантроп», поэтому, хмыкнув неопределенно, пошла и от волка, и от человека.
То, что он идет за ней, она заметила сразу и крепче прижала ридикюль. С чего это она надумала наряжаться на погляд белому свету? Так и накалывают дур. В темном подъезде перо в бок – и с концами. А он сворачивал там, где сворачивала она. Вот и дом уже рядом, только перейти дорогу. Она перебежала прямо перед машиной, перед этой же машиной мужчина сделал то же самое. Они шли в один и тот же двор. Ее обуял страх, даже некое предчувствие смерти, и она прошла свой подъезд, чтобы дойти до автостоянки, где всегда были мужики. Видя в них единственное спасение, она не заметила, что «убийца» вошел в ее подъезд. Если бы она знала, что тот шел в ее квартиру, она умерла бы прямо здесь, на стылой земле, во всей своей временной красоте.
А это был не кто иной, как эссеист Аркадий Сенчуков, он же Арсен. Он уже много раз не заставал на работе Марину, звонил – не дозвонился и теперь шел к ней домой в ту квартиру, которую знал, куда же еще? Шел, чтобы резко сказать, раз она так долго возится с рукописью, то их издательство не последнее на этой земле, просто он думал, что она старый и верный друг, а главное, замечательный редактор, поэтому ему не хотелось бы… И так далее.
Он долго звонил в дверь, а чего звонить долго? Три шага – и у двери, если ты дома.
Уже на крыльце он снова столкнулся с этой нелепой теткой в вещах с чужого плеча. Она остановилась, чтобы быть на улице, на виду, и он обошел ее молча, потому что был занят мыслью: куда черти могли деть Марину? Придется звонить главному и сказать ему свое «фэ».
* * *
Марина же сидела дома, в новой старой квартире. Ей надо было закончить работу над книгой Сенчукова. Классная у него получилась книжка о всех оттенках внутренней свободы польской культуры, которая и при замшелом социализме и при новорожденном капитализме старается не фальшивить, не подсюсюкивать власти, а оставаться вечно «польской незгинелой». В отличие от вечной русской внутренней несвободы. Ей хотелось прочесть куски из книги Алексею, но было почему-то неловко: как никак автор несколько лет был ее любовником. Все, что было до Алексея, – Никиту, Арсена – хотелось задвинуть в черный непроходимый угол и затаранить его навсегда.
Хотя в этом была и некая дурь. Он ведь тоже пришел к ней не непорочным мальчиком. И все-таки, все-таки… Сердце упорно отторгало прошлое, как бы очищая себя. Да и не тем Алексей сейчас занят. Он ей как-то сказал, что война выкорчевала из него литературу. Нет ли у нее чего-нибудь небольшого, типа «Горе от ума», чтобы перечитать по-взрослому, но умному «на опыте смерти». «Я куплю, я знаю, где», – ответила она. А в глазах ее встала Лелька, уходящая и потряхивающая абсолютно не нужным ей Грибоедовым. «Его убили чеченцы», – сказала она тогда.
Но она так и не купила «Горе от ума». Алексею уже понадобился «Обломов», а он у нее был. «Боже мой! – сказал ей он после уроков. – Как эту глыбу положить в их запопсованные головенки? Как им рассказать о мощи и слабости, которые естественно живут в русском народе? Им это неинтересно. Они втыкают на уроке в уши наушники и слушают свою музыку. Обломов проскочит мимо. Война убивает не просто людей, она убивает суть жизни – любовь, раздумье, сомнения. Если б ты знала, как мне их жалко».
Она тогда подумала: а верный ли путь – школа через опыт войны? Может, надо карабкаться к их душам по их кочкам? Молодость – ведь это боль и страх взрослости. Не опыт войны им нужен. Опыт сочувствия, понимания. Но сказать это Алексею она не решилась. Боялась.
Вот и книга Арсена совсем с другого боку, но была и об этом русском страхе. Она не была готова свести его и свои мысли воедино. Что-то в ней восставало: может ли плохой человек написать хорошую книгу? Еще как может! Но лучше об этом не думать. Не думать об Элизабет.
Вот сдаст днями рукопись и пригласит на кофе с коньяком Нину Павловну. И выпившая старенькая подруга оттянется на любимой теме – женщинах-спартанках, которым в голову бы не пришло ставить свое счастье только в зависимость от мужчины. И они с Алексеем будут ее слушать, сжимая под столом руки, как влюбленные подростки. И она будет думать, что ей уже жалко спартанок, не страдавших от измен, от разлук, от нелюбви. Если, конечно, правда, что они такие. Ведь эти страдания – единственный тигль, через который должна пройти настоящая женщина к главному своему мужчине. Но она не скажет это Нине Павловне. Она нальет в крохотные рюмочки коньяку и скажет:
– Давайте выпьем за спартанок! – и Нина Павловна порозовеет от удовольствия.
Так все и было.
Они проводили Нину Павловну домой до самой двери. И Марина прислушалась к щелканью замка. Нина Павловна становилась забывчивой.
При выходе из подъезда случилось странное: она развернулась в ту сторону, куда всегда шла, возвращаясь, до переезда в этот район. До Алексея. И этот инстинктивный поворот плеча отдается в ней болью и мыслью, насколько вчера стоит рядом. Вот тело помнит вчера и тянет за собой. И как ей это понимать?
– Ты куда? – спросил Алексей, разворачивая ее.
– О Господи, – сказала она, – я направилась в старую квартиру.
– У меня так было в Грозном, – ответил он. – Я каждый раз шел к разрушенному дому, даже когда напрочь разбомбили дорогу к нему.
«Разве это можно сравнивать? – подумала Марина. – У меня за спиной просто знакомая тропинка, а у него взорванная дорога». И она обняла его и стала рассказывать о спартанских маниях Нины Павловны, которая хотела бы видеть в современных женщинах их черты. «Но, – засмеялась Марина, – когда я начинаю рядить нас в их одежды, у меня получаются такие спартанки, блин…» И они смеялись, потому что смешно же: «спартанки, блин».
У подъезда уже их дома случилась еще одна странная вещь. Алексей остановился и спросил: «Мне не кажется? Это действительно наш с тобой дом? Можно я его поцелую?» И поцеловал дверь, а у Марины сжалось сердце от такого длительного и неправедного бездомства, в котором колошматятся тысячи и тысячи ни в чем не повинных людей, и нет этому конца.
И при чем тут спартанки, за которых они пили? Хотя, если подумать, за что только не пьет русский человек, пия, в сущности, за спасение души.
– Ну, блин, ты даешь! По какому разу пошел?
– Я такой, блин… Места во мне много.
А потом была ночь любви. И не было в ней места ни спартанкам, ни блин-спартанкам, ни вечному русскому выпивохе.
Сладко уснула Нина Павловна, и ей приснилась девочка, старательно сдувающая огромный одуванчик. «Фу-фу!» – говорила девочка, но несколько пушинок сидели крепко и смеялись над нею.
Никонова же считала деньги. Их оказалась половина от той удачи. Это расстроило, ведь казалось, их очень много и не будет им конца…
– Дура, – сказала она. – Надо было брать все.
Маша не могла дозвониться до сына. Они взяли манеру отключать телефон. Пришлось позвонить соседке, чтобы та позвонила в дверь Ваське. Получила на сон грядущий два скандала – от соседки и от Васьки.
– Не сходи с ума! – кричала соседка. – Люди уже спят!
– Не сходи с ума, мать! – кричал Васька. – И не звони ночью. Тем более, чужим. Стыдно же!
Ничего ему не стыдно. Она же видела пятки на его спине. При ней, матери…
И Маша заплакала. Она нашла в аптечке Элизабет фенозепам. Целая пластиночка и еще восемь штук. Если бы была гарантия, что выпьет – и все получится. Но это малая доза для окончательного ухода. Она представила себе трубки изо рта, блевотину, мокрые трусы. Некрасивая несмерть. Нельзя оставаться такой в памяти Васьки. И она осторожно взяла одну таблетку и запила ее теплой кипяченой водой. И сон сморил ее.
Лелька встретила вечером новую соседку Никонову и на голубом глазу спросила, как дела у Марины и где та живет. Ушлая Никонова сказала ей, что не знает, кто такая Марина, у них был сложный многоступенчатый обмен. Ее просила соврать Марина. Но даже если бы не просила. Она под пытками не сказала бы правду наглой девчонке с вылезающими из-под юбки ягодицами.
– Как она нас обосрала! – сказала Лелька матери.
– Кто? – спросила Варвара.
– Да соседка наша. Я уверена, что это она увела мужика из нашего стойла на раз-два.
– Ну и хрен с ним! – ответила мать. Опытная, битая жизнью, она твердо знала: что с возу упало, то пропало. Живи и не оглядывайся.
И уснула крепко, без угрызений и сожалений. Лелька же вертелась в жаркой постели. Ее, молоденькую и складненькую, победила тетка-сороковка. Это ж надо! Встретила бы – убила! Надо найти, в какой норе забилась эта мышь, и устроить ей пакость.
Ночь же набирала силу. Она принимала роды и останавливала пульс, она прятала в себе и преступников, и спасающихся, она слушала выстрелы, взрывы, равно как и стоны любви. Ей, вечной и неизменной, все это было, как сказал бы русский человек, до лампочки.
Но все дело в том, что ночь над Россией становилась женщиной. Ну как-то так случилось… Черная дама именно здесь играла против дня – мужчины. Ночь слушала и слушала женские голоса этой земли.
Она не могла забыть крик юной княжны, брошенной за борт. Как и слепок этого крика – комок в горле другой «Мой милый, что тебе я сделала?» Сейчас ночь слышит глупый разговор о Спарте и спартанках. Ей это удивительно. Не сразу все поймешь в этой медвежьей шкуре, что зовется Россией. И ночь-женщина торопится покинуть эти края вопросов. Пусть разбирается день, этот малый любит здесь покуролесить. Он стреляет в упор. Это его ответ на все вопросы. С него взятки гладки.
Внизу уже проплывает Пелопоннес, и на нем крохотуля Спарта. Давно умершая старушка, а поди ж ты! За нее тут выпивают. Смешно. Скорее бы океан, чтобы выдохнуть все эти вздохи ночи над Россией.



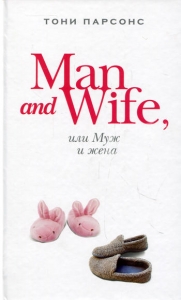
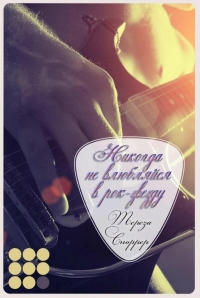

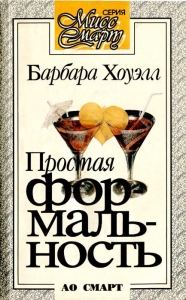



Комментарии к книге «Спартанки... блин...», Галина Николаевна Щербакова
Всего 0 комментариев